Сборник "Лучшее". Компиляция. Книги 1-9 [Александр Петрович Казанцев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Александр Казанцев СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ


Книга первая ВИЛЕНА
Ничто великое в мире не совершалось без страсти.Гегель

Часть первая ГОЛОС ЗВЕЗД
Уста премудрых нам гласят: Там разных множество светов; Несчетны солнца там горят, Народы там и круг веков.М.В. Ломоносов

Глава первая ВЕЧНЫЙ РЕЙС
Памятник Роману Ратову был поставлен при жизни, но уже без него: мраморный пилот, пристегнутый мраморным ремнем к мраморному креслу, в горькой задумчивости смотрел как бы из невообразимой дали Вечного рейса. Массивный монумент высился над улицей. Он разделял встречные потоки машин и будто хотел остановить мчащихся людей, предупредить их, что нет в мире сил, которые позволили бы человечеству, наперекор природе, вырваться из своей земной колыбели в просторы Вселенной… Роман Ратов возглавлял экспедицию к Марсу. В пути у корабля оторвался один из реактивных двигателей управления. Без него корабль не мог вернуться на Землю. Однако экипажу предстояло жить долго — установка для получения искусственной пищи способна действовать много лет. Все это время космонавты, сознавая свою обреченность, будут лететь к звездам, достичь которых при жизни не смогут… Экипаж Романа Ратова до последней возможности поддерживал связь с Землей. По мере удаления от нее улавливать затухающие сигналы далекого передатчика становилось все труднее даже чуткими радиотелескопами. В числе тех, кто принял последнюю радиограмму Ратова, был его сын, Арсений, — он не покидал радиообсерватории, чтобы при появлении желанных сигналов оказаться на месте. На этот раз прием происходил на пределе чувствительности радиотелескопа. Поднявшись со стула, Арсений с замиранием сердца слушал исчезающий родной голос, усилить который не удавалось из-за радиошумов. Роман Ратов, против воли своей покидая на неуправляемом корабле Солнечную систему, пересекал пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера. И он сообщил о своих наблюдениях малой планеты Веста, крупном осколке когда-то существовавшей планеты Фаэтон. Как и другие планетные обломки, она двигалась в кольце астероидов, на прежней планетной орбите. Роман Ратов спешил передать, что рассмотрел на Весте песчаную пустыню, четкую линию исчезнувшего моря и геометрически правильную россыпь скал. — Очень похоже… на руины города, — доносился сквозь треск помех еле слышный голос. Как завещание отца, сжав кулаки и став по стойке «смирно», выслушал Арсений Ратов предупреждение человечеству о том, что взрыв сверхмощного ядерного устройства в состоянии вызвать цепную реакцию превращения всего водорода морей в гелий, вызвать термоядерный взрыв океанов планеты. Именно так объяснил Роман Ратов, почему не разлетелись обломки планеты, которая, как он предположил, сначала лишь треснула под влиянием сил взрыва наружной водяной оболочки, а уже потом развалилась на части из-за тяготения Юпитера и Марса. Говоря все это, он думал о Земле, он не хотел ей подобной судьбы… Ратова не могли успокоить сообщением о том, что земная цивилизация вскоре после отлета его корабля миновала опасный период развития — за океаном трудящиеся массы уничтожили последний оплот капитализма в Америке и вошли в Объединенный мир. Все время, пока звучал далекий голос, Арсений Ратов окаменело стоял возле аппарата и неотрывно смотрел в окно на гигантскую чашу радиотелескопа. Он мысленно представлял себе бездействующую кабину управления и в ней — отца, продолжавшего жить тревогами Земли. Рядом с Арсением стоял его друг Костя Званцев, тоже радиоастроном. Оба они давно поняли, что нельзя послать вдогонку за Романом Ратовым спасательную экспедицию. По старинной поговорке, легче было попасть через море в летящую пулю пулей, чем найти пылинку в безмерных просторах Вселенной.Арсений тяжело переживал свое несчастье. Он не мог оплакивать живого отца, но и не мог надеяться на встречу с ним когда-либо. Постоянная дума о Вечном рейсе сделала Арсения самоуглубленным, замкнутым. Даже говорить он стал кратко и скупо. Он знал мечту отца — отправиться в звездный рейс — и поклялся выполнить то, что не привелось осуществить Роману Ратову. Костя понимал это и был уверен, что Арсений не способен бесплодно горевать. Он сразу почувствовал, что после радиограммы отца о Весте друг его что-то задумал. В комнату вошел профессор Игнатий Семенович Шилов, руководитель радиообсерватории. Он был прям и высок, хотя и не так широк в плечах, как Арсений. Седую голову профессор слегка откидывал назад, словно пытался рассмотреть что-то выше собеседников. Костя Званцев, неистощимый остряк, подшучивал над ним, припоминая из истории Древней Руси надменного князя Андрея Первозванного, который, оказывается, не мог сгибать шеи из-за сросшихся позвонков. — Арсений Романович, — печально начал Шилов глубоким, грудным голосом. — Снова приняли сигнал отца? Глубочайшее соболезнование. Имя его не будет забыто. Костя сверкнул черными цыганскими глазами на шефа, но тот продолжал: — Неужели же только такими жертвами можно убедить человечество, что нет нужды людям достигать небесных тел? Если бы на нас, радиоастрономов, тратили те средства, которые пожирают космические ракеты, мы сообщили бы миру о Вселенной куда больше, чем это могут сделать космонавты. — Простите, — глухо отозвался Арсений. — В радиоастрономию верю. Но отец сообщил о Фаэтоне. Разумные существа, должно быть, погубили его ядерной войной. — Погибшая братская цивилизация! — вздохнул Шилов. — Старая песня. Однако пора получать подобные сведения без риска оказаться в Вечном рейсе. — Согласен. Лучше увеличить чуткость радиотелескопов в миллиарды раз. Есть идея. — Вот как! — насторожился Шилов и, усмехнувшись, добавил: — Рад, что горе не мешает вам. Поговорим на семинаре. Шилов был известным ученым, выдвинувшим немало гипотез. Однако чужих гипотез не терпел. Методично занимаясь приемом возможных радиосигналов других миров, он вместе с тем не допускал мысли, что высокоразвитые цивилизации могут, как это предполагал кое-кто, посылать сигналы не направленными лучами, а во все стороны, изотропно. Для этого требовалась сказочно большая энергия. Приходилось допускать, что цивилизации могут быть трех типов: достигшие земного уровня, овладевшие энергией своей звезды и, наконец, использующие энергию всех звезд галактики. Шилова коробили подобные нелепости. Он не уставал говорить, что цивилизации «разумян» разделены непреодолимыми расстояниями, поскольку кораблям достигнуть скоростей, близких к скорости света, невозможно. Когда обсуждался вопрос о том, сколько энергии может тратить звездная цивилизация на свои нужды и на общение с братьями по разуму, он отрезал: «Не больше, чем есть в звезде!» — и вспоминал слова древнего поэта Грузии Шота Руставели: «Из кувшина можно выпить только то, что было в нем».
Шилова заинтересовала идея Ратова. — Мысль пока сырая, — скромно начал Арсений, рисуя на матовом стекле кафедры схему. Увеличенный рисунок сразу же появлялся на экране сзади него. — Самый большой земной телескоп — в кратере вулкана Аресибо на Коста-Рике. Диаметр — триста метров. Расходящимся пучком принимаемых лучей он захватывает часть неба. А если замахнуться на большее? Игнатий Семенович против космонавтов. А если им поработать на нас? Шилов будто с усилием кивнул седой головой. Арсений Ратов кратко рассказал о своей идее создания в околоземном космическом пространстве глобальной радиоантенны в виде обращенной к звездам чаши, сплетенной из металлических нитей. Невесомая, распростершись над целым полушарием, радиоантенна будет делать вместе с Землей один оборот за сутки, поскольку расположат ее таким образом, что она всегда будет находиться над одним и тем же местом земного шара. Вращаясь вместе с ним, она станет «осматривать» все небо. В фокусе параболического зеркала антенны поместят кабину, куда сойдутся отраженные радиосигналы Вселенной. — Астролюбия, — важно заметил Костя Званцев, тряхнув иссиня-черными волосами, вьющимися из кольца в кольцо. Он любил выражаться, как говорили про него, «клинописным языком» и часто ввертывал подобные, придуманные им словечки. Арсения засыпали вопросами. И он объяснял, опять рисуя на матовом стекле кафедры одну за другой схемы, которые тут же, увеличенные, возникали на экране. Металлические нити антенны будут натянуты ракетами — они полетят по спиралям, обегая контур чаши, за ними останется тончайший след в виде струйки расплавленного серебра. Эти металлические нити, невесомо застыв над целым полушарием планеты, составят все вместе исполинское зеркало антенны. Глобальная по размерам, она окажется в десятки миллиардов раз чувствительнее стометрового радиотелескопа… Шилов удовлетворенно кивал головой, опровергая легенду о своих шейных позвонках, — все-таки эта грандиозная идея исходила из руководимой им радиообсерватории, и он был доволен. — Если разумяне шлют сигналы, то, наверняка, взрывоподобными всплесками, импульсами, — продолжал Арсений Ратов. — Сжимают информацию в миллион, скажем, раз. Накапливают энергию на всплеск долгое время. И не нужно тогда мощности целых галактик. Глобальная антенна примет сигналы даже обычных для Земли передатчиков. Замысел Арсения Ратова был грандиозен. Шилов всем своим авторитетом поддержал его. Когда Арсений шел после семинара к себе в лабораторию, его догнал кибернетик Ваня Болев, грешивший стихами. Худенький, чуть женственный, с вьющимися и отпущенными сзади волосами (Костя дразнил его принцем), он остановил Арсения: — Глобальная антенна! Это не только грандиозно, это поэтично! Услышать мир, — и он перешел на стихи, -
Так появилась идея глобальной радиоантенны близ земного шара, определившая судьбы Арсения Ратова и многих других…
Глава вторая ГОЛОС ЗВЕЗД
Профессор Шилов снова привез на космодром свою молоденькую знакомую Вилену Ланскую, стремясь поразить ее размахом личной деятельности. Стало традицией, что руководитель радиообсерватории встречает «своих учеников», как говорил он Вилене, возвращавшихся с дежурства на глобальной антенне. Вилена по какой-то причине, которую Шилов вначале понимал превратно, охотно приезжала с ним на космодром… всякий раз, когда на Землю возвращалась смена Ратова, с которым она познакомилась однажды при Шилове же в гимнастическом зале. Она аккомпанировала тогда на рояле своей сестренке Авеноль во время художественной гимнастики, а Ратов поднимал в соседнем зале тяжести. Он взял на грудь тяжеленную штангу, которую собирался поднять «в толчке», но, услышав музыку, «выжал», «показав рекордный вес». Считая, что музыка помогла ему, он побежал в соседний зал познакомиться с пианистом, уговорить его помогать развитию тяжелой атлетики. Музыкантом оказалась Вилена. Была она статной, ходила всегда, как балерина, «по струнке», расправив плечи, чтобы лопатки чувствовали одна другую, вскинув острый подбородок. У нее был выпуклый лоб и смущающе-пристальный взгляд спокойных зеленоватых глаз, лишивший в первый миг Арсения Ратова дара слова. Профессор Шилов был знаком с Ланскими семьями. За их старшей дочерью он ухаживал долго, расчетливо заинтересовывая Вилену своей деятельностью, а через это и собой. На правах старого знакомого профессор зашел тогда в зал за сестрами, чтобы проводить их домой. Он был недоволен, что вместе с ним провожать девушек увязался и этот тяжеловес Ратов. Арсений отстал с Виленой, и они шли, взявшись за руки! Профессора покоробило столь «скоростное сближение», и ему хотелось сделать своему ученику замечание, но он сдержался. Шилов часто видел Вилену еще девочкой. Став девушкой, она все больше нравилась ему, и, когда полтора года назад скончалась его жена, он решил, что мог бы жениться на подросшей Вилене. Ему нравилось в ней все: и яркая внешность, которая выгодно оттеняла бы и его самого в любом обществе, и то, что Вилена, получив обычное широкое образование, не мучилась, как большинство сверстниц, выбором направления специализации, а посвятила себя роялю. Шилов знал, какого упорства и неустанных многочасовых упражнений требовал этот старинный инструмент, но ценил его за сказочное воздействие на слушателей, особенно когда мастерски играют гениальные произведения старинных композиторов. Однако не один Шилов любил слушать Вилену за роялем. Ее музыка оказалась нужной не только тяжелой атлетике, но и тяжелоатлету Арсению Ратову. Он зачастил в дом к Ланским и, грузный и тихий, подолгу просиживал в комнате возле рояля, потом поднимался и молча уходил, боясь заглянуть в пристальные зеленоватые глаза, искавшие его взгляда. Вилена бежала за ним. У двери он смущенно останавливался, брал в свои ручищи ее тонкие руки с сильными и нежными пальцами и подолгу держал их, не произнося ни слова… Потому-то Арсений, начав летать в космос после завершения строительства глобальной радиоантенны, и был особенно рад встретить на космодроме Вилену. Вилена всегда всматривалась в лицо прилетевшего Арсения, пока он делал разминку, чтобы приучить к земной тяжести отвыкшие мышцы. Увидев Ратова в этот раз, Вилена сразу заметила, что он чем-то озабочен. Так однажды уже было. Но тогда Арсений сам отвел Вилену в сторону и взволновал ее тем, что именно ей первой рассказал об услышанном с помощью антенны голосе отца. Отец не радировал на Землю, а говорил с кем-то в космосе: «Кто вы? Отвечайте! Идите на сближение. Мой корабль неуправляем». И так на многих языках. С тех пор его уже никто не слышал. «Может быть, сейчас удалось?…» — так подумала Вилена. Но Арсении, закончив разминку, сразу подошел к Шилову, и они стали говорить на своем языке, пересыпанном научными терминами и потому малопонятном для гостьи. К Вилене, раскачиваясь, будто с непривычки, подошел Костя. Она спросила: — Отец? — имея в виду радиограмму из Вечного рейса. Костя замотал головой, потом сказал полушепотом: — Кажется… разумяне! — и сделал круглые глаза. Вилена не знала, верить или нет? Костя такой шутник! Кроме того, голос отца Арсения — пусть из непостижимой дали — все же был ей ближе и понятнее, чем межзвездные сигналы разума. — Удалось записать, — с нарочитой хрипотцой шептал Костя, косясь на Шилова. — Теперь растянем запись, как резину, в миллион раз. Замедлим сигнал «до мычания». Вилена уже знала со слов профессора Шилова, что его ученики на этот раз брали с собой новую машину, записывавшую на «молекулярном уровне». Если на обычной магнитной ленте запись — намагничивание крупинок, то на новой машине — смещение молекул. Как это происходит, Вилена не очень поняла и постеснялась расспросить. Оказывается, симфонию Бетховена можно уложить в доли секунды и записать на этой машине. Профессор Шилов даже вспомнил слова крупного ученого и музыканта конца двадцатого века о том, что если бы на Земле появились представители других планет и их в течение часа надо было бы познакомить с человечеством, то лучше всего было бы исполнить им девятую симфонию Бетховена. Вилена, едва Арсений, закончив разговор с Шиловым, подошел к ней, спросила: — А если вы записали в космосе какую-нибудь девятую симфонию их Бетховена? Арсений улыбнулся, крепко сжав обе руки Вилены: — А что? Может быть. Стоит послушать… — И обернулся к Шилову: — Игнатий Семенович, а не взять ли нам в обсерваторию для прослушивания музыкального консультанта? Шилов замялся. Ему было неприятно, что к нему в обсерваторию Вилену пригласил не он, а Ратов. Вежливо улыбаясь, он сказал: — Если у Вилены Юльевны пробудился интерес к нашим исследованиям, то милости просим. Я всячески стараюсь приобщить ее к нашим тайнам. Лишь бы ей не стало скучно. Придется без счету раз, до полного изнеможения прослушивать записанный импульс сигнала, чтобы найти подходящую скорость воспроизведения. — Так мы уже сто раз пробовали, — вмешался Костя. — Слушали, слушали и нащупали. Шилов колебался недолго. Ему и самому не терпелось познакомиться с этими сигналами. Он согласился ехать с радиоастрономами-космонавтами и Виленой прямо в обсерваторию. Ехали на турбобиле, который вел Шилов, охватив лоб обручем управления. Биотоки его мозга воспринимались послушной машиной, и она набирала скорость и поворачивала в нужную сторону, тормозила, останавливалась и вновь пускалась в путь без участия каких-либо рычагов. Всю дорогу Костя без умолку болтал о том, как в различных фантастических романах прошлого представляли инопланетян: и вроде людей, и похожих на осьминогов, в виде жидкости и даже плесени на скалах… Турбобиль подъехал к трехэтажному зданию обсерватории с колоннами, как в старинных помещичьих усадьбах на полотнах художников, и с чудесным парком, очень понравившимся Вилене. Ученые и Видена не пошли по парадной лестнице, а сразу спустились вниз, войдя через боковой вход в «лабораторию тишины». Она была отгорожена звуконепроницаемыми перегородками от всего мира. Чувствительные приборы могли улавливать здесь звуки, недоступные им снаружи. Профессор Шилов за напускной торжественностью скрывал волнение, чего-то стыдился, бросал ревнивые взгляды на Вилену с Арсением. Держа свою седую голову даже выше обычного, он подошел к шкафу, смотревшему на него глазами-циферблатами, как звездный житель из рассказов Кости, осторожно поместил внутрь катушку. Пригласил всех сесть. Вилена опустилась на удобный диван, но, по привычке пианистки, не коснулась его спинки. Поэтому она выглядела настороженной, что совсем не вязалось с ее полузакрытыми глазами. Она ждала музыки, хотя Шилов предупредил ее, что звуков в обычном понимании не будет. — То, что вы услышите здесь, — сказал он ей негромко, — все-таки всего лишь условный прием изучения радиосигналов, замедленных до звуковых частот. И тем не менее, когда шкаф зазвучал, для Вилены «лаборатория тишины» наполнилась именно звуками! Она не могла их иначе воспринимать. Ей представилось, что звучит орган. Только звуки, в противовес обычным, как бы собирались отовсюду и обрывались в источнике звучания. Вилена не могла избавиться от ощущения потусторонности того, что слышит. Она покосилась на Арсения. Тот слышал эти звуки не в первый раз, но сидел, как и она, напряженно, не касаясь мягкой спинки, чуть наклонив массивную голову и уставившись взглядом в звуконепроницаемую панель бетонной стены. Вилена зажмурилась, слушая одновременно и звуки и незвуки. Она чувствовала чье-то настроение, угадывала непонятную печаль, старалась проникнуть в причудливую вязь чуждой гармонии. Необыкновенная «музыка» захватывала ее, подчиняла себе, внушала нечто чужое и далекое… И вдруг с поразительной отчетливостью защелкал соловей. Вилена даже вздрогнула, открыла глаза: те же стены, тот же напряженный Арсений, рядом Костя, развалившийся в мягком кресле, Шилов со взглядом, устремленным в потолок из пористого материала, чем-то похожего на клубящиеся кучевые облака. Соловью ответил другой, потом третий. И сразу целый хор несуществующих пичуг залился на разные голоса. Они то собирались вместе в могучем звучании, то рассыпались бисерными трелями. А орган, вбирающий в себя звуки, продолжал греметь. Наконец, звуки, не бывшие звуками, смолкли. Запись кончилась. — Все-таки ради чего сооружена в космосе глобальная радиоантенна, как не для этого! — патетически возвестил профессор Шилов. — Звучная клинопись, — определил Костя. — И все-таки надо пока воздержаться от выводов, — внушительно сказал Игнатий Семенович, выключая аппаратуру. — Не следует обольщать себя надеждой на разумность того, что мы услышали. Как известно, солнце тоже «поет». От него к Земле летят мириады частиц. В этой самой комнате наши приборы «щелканьем соловьев» не раз воспроизводили полет солнечных корпускул. Звуки в этих случаях вполне условны, как я и предупреждал нашу гостью. Все-таки я надеюсь, ей было интересно познакомиться с нашей будничной работой. — И он поклонился Вилене. — Что вы! — воскликнула она. — Разве будни? Праздник! Вилена, не желая мешать ученым, собралась уходить. Арсений хотел проводить ее, но она воспротивилась. Даже Шилов остался с учениками, увлеченный их «добычей».Лишь через несколько дней Арсений появился у Ланских. Его приветливо встретила бабушка Вилены, Софья Николаевна, бывшая актриса, очень гордившаяся, что в ее роду была знаменитая артистка Иловина. Как и она, Софья Николаевна не осталась на сцене играть старух, следила за собой; была подтянута и стройна, всякий раз радуясь, когда ее со спины принимали за молодую. — Вот остаток твоего звездного богатыря, — объявила она Вилене, вводя к ней гостя. — Останься, бабуля, — попросила Вилена. — Я сейчас позову всех. — Аншлаг! — улыбнулась бабушка. — У нее для вас сюрприз. Арсений поднял брови. Вилена не ахала по поводу его изможденного вида и не объясняла своего замысла. Она вышла из комнаты. — Что это вы так загримировались под голодающего тысячелетней давности? — продолжала шутить Софья Николаевна. — Или для полета ваш вес слишком велик? — Признали так в свое время. Когда просился в космонавты. Как радиоастронома теперь терпят. Похудеть есть отчего. — Да уж знаю. Вилена проболталась. — Секрета нет. Напротив. Чтобы разгадать смысл звучания, его всем надо знать. Вошла Вилена с отцом, матерью и Авеноль. Юлий Сергеевич Ланской, профессор математики и руководитель Кибернетического центра, брил голову, ростом был ниже Вилены, мелкими чертами лица удивительно походил на дочь. Мать Вилены, Анна Андреевна, казалась большой и рыхлой. Но головка у нее была словно от другой, прелестной женщины. Младшая дочь, Авеноль, голова у которой была, как у матери, казалась по сравнению с ней тростинкой. Девочка обрадовалась Арсению. Вилена усадила всех и села за рояль. Арсений подумал, что будет показано что-нибудь, подготовленное к музыкальному конкурсу. Вилена заиграла. Арсению трудно было даже представить себе, каких титанических трудов и вдохновения стоила Вилене ее фантазия на «музыку небесных сфер», которую он принял на глобальной антенне и теперь узнал. Конечно, на рояле было невозможно воспроизвести услышанное в «лаборатории тишины», но Вилена стремилась лишь передать свое настроение, вызванное чуждыми людям звуками. И это удалось ей. Арсений удивленно смотрел на Вилену, словно видел ее с какой-то новой стороны. — Ты играла просто чудесно, — вытирая платочком глаза, сказала Анна Андреевна. — Не знаю, — глядя в пол, сказал Арсений. — Лингвисты, кибернетические машины, уловят ли они в чужой музыке то, что передано на земном инструменте? Восторженная Авеноль расцеловала сестру. — Во всяком случае, это любопытно, — сказал профессор Ланской. — Ко мне уже обращался профессор Шилов с просьбой подумать о методах перевода. — И пошутил: — Признаться, я не предвидел, что мне придется расшифровывать игру собственной дочери. — Не совсем так, — не понял его Арсений. — Игра — восприятие эмоциональное. Требуется — логическое. Порывался прийти к вам в Кибернетический центр. Неудобно заставлять вас еще и дома… Юлий Сергеевич рассмеялся: — Можно подумать, что вы о делах вспоминаете только на работе! — Не знаю, не знаю, — вмешалась бабушка. — В наше время, конечно, тоже спорили о чужепланетных мирах, но… я только «баба» и всю жизнь играла «баб», показывала их любовь, ненависть, горе. Ваших «соловьистых разумян» сыграть не берусь. — Бабушка, а если бы надо было показать на сцене, как кружат голову разумному головоногому осьминогу? — озорно спросила Авеноль. — Молчи ты, стрекозунья! — отмахнулась бабушка. — В древности до шестнадцати лет рассуждать не полагалось. — А я слушала Вилену и представляла себе любовные песни осьминогов. Уходя, Ратов шепнул Вилене: — Спасибо… — и добавил, смущаясь: — родная. Вилена, удивленно вскинув брови, проницательно взглянула на него, а потом долго, не прикрывая входную дверь, смотрела ему вслед. Она не подозревала, что у Арсения это слово было самым ласковым.
На следующий день Арсения в Кибернетическом центре профессор Ланской познакомил с лингвистом Каспаряном, которому поручалось исследование записи. Это был маленький, поразительно черный человек с синими после бритья щеками и тонкими подбритыми усиками. Вместе с Ланским они внимательно прослушали запись, посмотрели ее на осциллограмме, наблюдая, как световой зайчик выписывал загадочные ломаные кривые. Потом снова слушали, качали головами и опять переходили на осциллограф. — Сомневаюсь, — резюмировал первое впечатление Каспарян. — Почему? — спросил Арсений. — Почему, почему! — сверкнул Каспарян жгучими глазами. — Да потому, что не оказалось здесь ничего, что ждали в инопланетных сигналах: ни простого ряда чисел, ни теоремы Пифагора. — Не считают нас за дураков, — усмехнулся Арсений. Каспарян пронизывающе уставился на него из-под сросшихся бровей: — Недурной вывод. А еще? — Рассчитывали, что сигнал примут только на приемных устройствах, вынесенных в космос. Каспарян наклонил набок черную лохматую голову: — Избирательный адрес? Так, скажешь? Арсений кивнул. — Это уже в некоторой степени определяет подход к расшифровке. — Удастся? — спросил Арсений. Ответил Ланской: — В принципе здесь ничего невозможного нет. Познакомьтесь поближе с Генрихом. Это — сомнение во всем… и цифры. Каспарян, неторопливо идя впереди, повел Арсения к себе в маленькую комнатку: — Я знаю пятьдесят восемь земных языков. Даже с нашей точки зрения передача информации с помощью интонаций не нова. Есть языки, где понижение и повышение голоса имеет смысловое значение. Арсений указал на принесенную запись: — Целая симфония. — Согласен. Лингвистическая симфония. Тем ценнее. Но и тем сомнительнее. — Услышал в первый раз — испугался, — признался Арсений. — Не понять. Волнует, жжет внутри, а что — неизвестно. — Это уже немало. Слушан, Арсен. Прости, в деловых разговорах предпочитаю простоту. Современная кибернетическая машина — десятки миллионов попыток в секунду. — И он, склонясь над столом, стал сыпать цифрами. Потом поднял лохматую голову с горящими глазами и возвестил:- В течение года каждый символ можно попробовать больше раз, чем светит звезд на небе. В шахматы играешь? — Немного. — Кибернетические машины тоже играют. Прекрасный метод проверки программирования! Машине, казалось бы, перед каждым ходом надо перебирать все возможные ответы, но она рассматривает только логические, резонные. В твоем случае надо перебрать возможные, но не бессмысленные значения символа. Как в шахматной игре. Только посложнее. Вот почему шахматная игра — хорошая модель. Но там всего несколько часов игры. Это главное затруднение. А для тебя… Год подождешь? — Подожду.
Целый год, пока Арсений участвовал в расшифровке, Вилена терпеливо ждала его — чтобы он пришел к ней по-настоящему, не при людях, и признался в любви не одним только словом «родная», а как-то по-другому, еще ласковее… яснее. Арсений забегал к Вилене, но всегда ненадолго — спешил если не к Каспаряну, так на дежурство в космосе. Эти короткие свидания создавали загадочность в отношениях между Арсением и Виленой. Он стал еще скупее на слова, а она — крепко сжимала губы…
Глава третья ПАРАДОКС ВРЕМЕНИ
Арсений избегал Вилену потому, что мечтал лететь на звездолете. А это означало разлуку практически навсегда, если не хуже. Согласно парадоксу времени теории относительности, он бы вернулся из рейса прежним, еще молодым, но Вилена стала бы уже глубокой старухой. Имел ли он право сделать любимую девушку столь несчастной? И он сдерживал себя. Костя Званцев считался глубоким психологом и прекрасно понимал поведение, друга. Однажды в свободную минуту, когда они вместе находились в космосе, он сказал, стоя с ним рядом перед пультом глобальной радиоантенны: — Что там парадокс времени Эйнштейна! Проверка его экспериментальным рейсом звездолета! Стрекотанье! Ты — живой биопарадокс современности. — Почему? — Влюблен в Вилену, а страдаешь оттого, что и она тебя любит. — Надо бы кончить с ней. Разом! — вздохнул Арсений. — Микродушие? — Верно. Говорить могу. Сделать — нет. — Средневековый обет безбрачия на новый лад? — Хуже. Думаешь, почему рядом с тобой? — Дабы благолепием скрасить мое существование. — Сейчас скрашу! — угрожающе произнес Арсений. — Э-э! У тебя преимущество в весе. Даже в условиях невесомости. Масса, как мера инерции, неизменна, — и Костя на всякий случай, оторвавшись магнитными подошвами от пола, взлетел к сферическому потолку, который можно было отличить только потому, что он находился над креслами наблюдателей. — Ладно, — примирительно буркнул Арсений. — Тайна древней исповеди, — шептал с потолка Костя. — Хочешь, признаюсь тебе, как на доисторической дыбе, во всех твоих чувствах. Взамен рыцарских гарантии с твоей стороны. — Выкладывай. Костя, хватаясь за скобы, перебрался по стенке до кресла и устроился рядом с Арсением. Несмотря на необычную обстановку, он не мог не дурачиться. Но вдруг он настроился на серьезный лад: — Думаешь, мне неизвестно, почему ты выдумал глобальную антенну? Вещаю: дабы не только услышать голос отца, но и заменить его самого. — Как так? — Арсений сделал вид, что не понял Костю. — Кто должен был стать руководителем экспедиции на экспериментальном звездолете? Кто? Роман Ратов! — Не привелось ему, — вздохнул Арсении. — И тебе не привелось полететь вместе с ним. Излишний вес тебя спас. — Допустим. — Но ты святотатственно упрям. Глобальная антенна тебе нужна, чтобы услышать голос внеземной цивилизации, определить местонахождение населенной планеты, что мы с тобой сейчас и сделали. Расстояние двадцать три световых года! Для звездолета достижимо. Планета может стать целью звездного путешествия. И в нем примет участие Ратов. Если не Роман, то Арсений. Так? Верно? — Костя заглянул в глаза Арсению. — И что? Арсений насупился. — А то, что ты мучаешься любовью! И звезды тебе мешают. А в древности, в доброе старое время, они покровительствовали влюбленным. Небось выбирать приходится? Между Виленой и звездным рейсом? Так? — Между Землей и Звездой. — Выберешь Звезду — и не будет тебе прощения у многих женщин на Земле. Но я не женщина, я пойму твой «бульдозерный парадокс». Костя знал своего друга. Арсений стремился к поставленной цели — полететь к звездам, шел к этому не отклоняясь, уверенно и неотступно, подобно бульдозеру, стародавней строительной машине, сдвигавшей все на своем пути. Никакие препятствия не смутили бы Арсения… если бы не Вилена! Сейчас Арсению требовалось победить самого себя. Отказаться от участия в звездном рейсе для него означало предать и свою мечту, и память отца. Не раз вспоминались Ратову долгие беседы с отцом, который держал сына в курсе начатой борьбы за звездолет. Главным противником Ратова был видный конструктор и ученый Вольдемар Павлович Архис. Основным возражением скептиков было то, что звездолет вместе с необходимым для разгона и торможения топливом будет весить непомерно много и его не поднять с Земли. Сторонники звездного рейса шли на то, чтобы строить рейсовый корабль в космосе на орбите искусственного спутника Земли. Однако даже при невесомости разгон инерционной массы корабля казался невозможным — так велика она была. Тогда Виев, близкий друг Романа Ратова, предложил засылать горючее в космос заблаговременно в танкерах-звездолетах. График запуска их строить с учетом вращения Солнечной системы вместе со своей Галактикой вокруг ее ядра и больших ускорений разгона, чем допустимо для людей. Автоматические астронавигационные устройства, прообраз которых вывел когда-то первые искусственные спутники Марса, расположат танкеры-заправщики, летящие каждый со все большей скоростью, на трассе рейсового корабля. Он будет последовательно догонять их, этих «заброшенных в космос бензозаправщиков», и забирать из них горючее. Для заправки корабля на обратном пути танкеры требовалось послать в нужное время по удлиненным «кометным» орбитам, чтобы при возвращении к Солнцу их направление движения и скорость были точно такими же, как и у рейсового корабля, и перегрузка топлива была бы возможной. Неудача с кораблем Ратова тяжело отразилась на Вольдемаре Павловиче Архисе. Он, конструктор этого корабля, не захотел уклониться от ответственности за несчастье и, уступив по своей воле пост Главного конструктора Виеву, перестал сопротивляться сооружению «звездолета с заправщиками». С этого времени началась деятельная подготовка к звездному рейсу. Сооружались космические танкеры. Звездолет сначала собирался на Земле, потом, вновь разобранный, по частям доставлялся в космос, где опять монтировался в состоянии невесомости. Десятки тысяч людей претендовали на участие в звездном рейсе, а мест было всего шесть. И все же Арсений Ратов упорно готовил себя к полету. Надежда, что его возьмут на звездолет, укрепилась, когда Петр Иванович Туча, руководивший подготовкой этой экспедиции, предупредил его, что Арсения в память отца и в признание собственных заслуг, как открывателя внеземной цивилизации, несомненно, включат в звездный экипаж. Первоначально звездолет предназначался только для проверки парадокса времени теории относительности. Будут ли часы на звездолете идти медленнее, чем на Земле? Шесть добровольцев, вернувшись на Землю, рисковали застать на ней уже грядущее поколение. Звездолетчики таким образом лишались прошлого, друзей, знакомых, всего привычного и близкого, но могли увидеть своими глазами будущее. Арсений готовил себя к этому. Но Вилена путала ему все мысли и желания. Бывали минуты, когда он не знал, как поступит. Однако мужественность, сознание долга и страсть исследователя брали в нем верх над любовью к Вилене. Но тогда надо было рассчитывать на разлуку и с современниками и с Виленой. Вот почему он не позволял себе заговорить с ней о своем чувстве, на которое, как он считал, не имеет права. Однако все было не так просто. Он сам искушал себя тем, что сигнал со звезд пока еще не был признан разумным. Следовательно, пока он мог не лишать себя общества Вилены. И он встречался с ней, но нечасто, никогда не позволял себе оставаться с ней наедине. И эта аскетическая сдержанность еще больше разжигала Арсения, а Вилена недоумевала.Прошел год, назначенный Каспаряном для расшифровки «музыки небесных сфер». Было бесспорно установлено, что голос звезд — это послание инопланетян. У звездолета помимо проверки теории относительности появлялась реальная цель. Теперь было, куда лететь! Вилена, увлеченная открытием века, не подозревала, как оно трагически скажется на ее собственной судьбе. Со дня первого полета в космос — полета Юрия Гагарина — мир не знал еще такой сенсации. Видео- и радиопередачи прерывались на полуслове. Газеты переверстывались заново. Крупнейшие ученые выступали с комментариями. Мы не одни в космосе! Внеземная цивилизация сообщает основные законы мироздания! Первым из них оказался «Великий закон повторения и многообразия», которому подчинялись все живые и неживые формы материи. Астрономы восприняли его с сомнением, а биологи, напротив, видели в нем главную закономерность всеобщего развития. Английский биофизик сэр Ричард Райт сказал с экрана: — Природа упорядочена. Это надо понять. Давно известно, что живые клетки организмов как бы «штампуются по чертежу». Из атомов, из химических элементов, всюду одинаковых, состоит вся неживая природа. Наши астрономы не должны удивляться, что закон повторяемости может проявиться в космосе: звезды определенного класса, как клетки или атомы, вместе с планетами как бы «штампуются» по единому космическому чертежу. «Штампуются» в процессе развития звезды суммой всех магнитных и гравитационных сил Вселенной. Потому мы и не одиноки в космосе. Но особенно заинтересованы были люди частью послания, говорившей о самих братьях по разуму. Не было человека на Земле, который не слышал бы о двух группах инопланетян и о том, что «удел и назначение одной группы — труд, знание, создание, а другой — высшее счастье, полеты, наслаждение, блаженство». Многие сомневались в точности перевода, большинство ломало себе голову над объяснением странной структуры инопланетного общества, выдвигая различные гипотезы: и о существовании там строя угнетения, до конца изжитого на Земле, или религиозных догм, сходных с когда-то бытовавшими на нашей планете. Тогда люди верили, что есть загробная жизнь, райское блаженство, идущее на смену труду и лишениям бренной жизни. И уж совсем неожиданно истолковал послание инопланетян молодой астробиолог Анатолий Кузнецов. Он предположил, что речь идет не об отдельных группах внеземных разумян, угнетающих одна другую, а об одних и тех же животных. Они лишь проходят разные формы существования, подобно насекомым, у которых личинки так отличаются от взрослых особей. — Может быть, — рассуждал он, — инопланетные существа личиночной стадии развития столь разумны, что, накапливая опыт, умножая и применяя знания, создали цивилизацию, а в последующем, «постэмбриональном» превращении служат только продолжению рода. И тогда летают, наслаждаются любовью, блаженствуют. Многие яростно отвергали этот бред, другие считали его милой шуткой или пародией на научную гипотезу. Посмеивались, что «инопланетяне сначала как следует поработают на личиночной стадии, а уже потом влюбляются».
Арсению привелось услышать Анатолия Кузнецова в звездном городке в решающий для них обоих день. — Метаморфозы-превращения присущи не только насекомым, — убежденно говорил Анатолий Кузнецов. — Во время своего развития каждое существо изменяется, повторяя при этом историю своего вида. Даже человеческий зародыш первоначально имеет жабры, как его рыбоподобные предки. Но он проходит превращения еще до рождения. Однако есть животные, и даже подозрительно похожие чем-то на «гомо сапиенса», которые подвержены превращению уже после рождения. — Когда не хватает аргументов, обычно обращаются к лягушкам, — с улыбкой подсказал бывший Главный конструктор, ныне звездный инспектор, Вольдемар Павлович Архис. Был он человеком острым и насмешливым и обладал, по словам Кости Званцева, не только тонкими губами и светлой лысиной, но и тонким светлым умом. — Хотя бы, — провел огромной ручищей по нежным вьющимся волосам Кузнецов и убежденно продолжил: — Да! Из лягушачьих икринок появляются рыбоподобные головастики с хвостом, плавниками, жабрами. В отличие от человеческого зародыша, они ведут вполне самостоятельное и приспособленное существование. Даже «мыслят» во время охоты — рассчитывают, координируют свои действия, по крайней мере, в тех пределах, которые присущи животным. И уже только потом у них отпадают хвосты, отрастают четыре конечности, жабры исчезают и заменяются легкими, и эти новые существа уже отдаленно начинают напоминать человека, плывущего стилем «ля брас». Но вспомним аксолотля, который водится в Мексиканском заливе. Как известно, он достигает своего высшего развития, умело охотится, проявляя тем задатки «разума» (если мы не станем предвзято подменять его инстинктом). И, что очень важно, аксолотль способен передавать свои навыки (если хотите, «инстинкты») потомству, порождая таких же аксолотлей, но… он может превращаться и в саламандру. — Амблистому, — подсказал со своего места внимательно слушавший астробиолога Петр Иванович Туча. — Да, во взрослую саламандру, совсем на аксолотля непохожую. — Еще немного — и будет помянут пресловутый Шейхцер и даже Карел Чапек, — ехидным тенорком заметил Архис. Молодой, но грузный биолог тряхнул кудрями, словно принимая вызов: — Что ж, можно вспомнить, что в конце семнадцатого века известный ученый Шейхцер обнаружил в пресноводных известняках Баденского озера окаменелый скелет доисторического четырехлетнего ребенка. И только в следующем веке знаменитый Кювье доказал, что этот «хоми делювии тестис» не человек, а гигантская саламандра. — Великолепно! — воскликнул звездный инспектор. — «Война с саламандрами» Чапека в космическом варианте. — Почему война? — серьезно спросил Каспарян, тоже оказавшийся здесь. — Высший разум гуманен. Перед войной никто не посылает противнику научной информации. — Я в восторге! — продолжал Архис. — Итак, вся культура внеземной цивилизации приписывается мудрым личинкам. А тамошние бабочки летают в поисках оплодотворения. — Почему бабочки? Не обязательно насекомые. — Да, да! Простите. Тогда «летающие саламандры», — с прежней иронией продолжал Архис. — Во всяком случае, населенную планету, открытую радиоастрономомРатовым, к которой мы намереваемся направить звездолет, стоит назвать «РЛ» по первым буквам слов «разумные личинки»- «Релой». Однако, оставляя в стороне остроумие, перед серьезным актом, ради которого мы здесь собрались, считаю долгом предупредить, что полет к Реле будет не экскурсией любознательных. Скорее всего, звездолетчики встретятся там с уродливой формой общества, не изжившего угнетения, имеющего привилегированных бездельников. Рела может оказаться общественным антиподом Земли. Присутствующие переглянулись. — Пусть Рела, — согласился сидевший во главе стола Виев. — Это ничем не хуже Скорпиона, в созвездии которого она находится. Что же касается гуманности, уродливости или угнетения, которое наши звездолетчики там встретят, то об этом будут судить те, кто заслушает их доклад после возвращения. Тут Каспарян, сегодня не лохматый, а тщательно прилизанный, попросил Ратова напомнить всем о Реле — ее координаты и прочие данные о полете. Арсений поднялся для ответа, а Костя шепнул ему: — Он что? Думаешь, он не знает? — Рела так Рела, — не слушая Костю, заговорил Ратов. — Планета находится близ сорок седьмой звезды в созвездии Скорпиона. Расстояние — около двадцати трех световых лет. Если ускорение земное, разгон — год, торможение тоже. Полет с субсветовой скоростью — четыре месяца. Пребывание на планете не дольше. Рейс займет пять лет по часам звездолета. Новых сигналов глобальной радиоантенной не принято. У меня все, — с присущей ему лаконичностью закончил он и сел. — Радиоастроном сразу проявил себя и звездонавигатором, — сказал Виев. — Мы проверили его подсчеты. Очевидно, реален непосредственный контакт с инопланетянами, какими бы они ни оказались. Попросим лингвиста и кибернетика Каспаряна сказать о возможной форме такого контакта. Поднялся Каспарян: — Как меня доставят к ним, не берусь судить. Но из слов Ратова можно представить эту процедуру. А если доставят, то побеседовать с ними удастся. На основе найденного кода расшифровки можно построить портативную кибернетическую машину-переводчика для общения с разумянами. — Вы отдаете себе отчет в том, что такое двадцать три световых года? — строго спросил Архис. — Теория относительности? Так скажете? — очень вежливо обратился Каспарян к Архису. — Прекрасно понимаю. Двадцать три года расстояния — это и есть двадцать три года земного времени на протяжении полета корабля. Туда — обратно, немножко там. Вот и пятьдесят земных лет. Правильно? — Вполне, — согласился Архис. — Однако и через пятьдесят лет неведомым разумянам отнюдь не надо давать обратного земного адреса. — Его не так трудно определить, — заметил Туча. — Не так много уж звезд типа Солнца с планетами на расстоянии двадцати-тридцати световых лет от Релы. Судя по всему, они там не дураки, сообразят. — Лучше бы туда не лететь! — пробурчал Архис. Виев встал и предложил перейти в актовый зал звездного городка. Был вечер, садилось солнце, и его красноватые лучи мягко освещали полупустой зал с белыми колоннами, и он казался розовым. Виев остановился под портретом основоположника современного общества и громко произнес: — Слово космонавту Туче, другу ушедшего от нас Романа Ратова. Медленной, тяжеловатой походкой поднялся на трибуну Петр Иванович Туча. Коренастый, с квадратными плечами, с крупными чертами лица, словно вырубленный из камня, он просто и твердо сказал, как в давние времена произносили клятву или воинскую присягу: — На пороге эры звездных полетов буду счастлив отдать все свои знания, опыт, а если понадобится, то и жизнь, чтобы вместо Романа Ратова возглавить звездную экспедицию, если мне это будет поручено. Отдаю себе отчет, что, даже преодолев все опасности звездного рейса, в случае его полного успеха, я могу вернуться на Землю не через пять лет, которые протекут на корабле, а через пятьдесят земных, но этим докажу правильность парадокса времени теории относительности. Оставляя на Земле своих современников, друзей, родных и знакомых, клянусь с честью представить их среди наших потомков, передав им наше преклонение перед предками, завещавшими нам основы коммунистического общества и великие достижения науки и техники. Сделаю все возможное, чтобы перенять у инопланетян все полезное для земной науки, сохранив, если это понадобится, в тайне местоположение Земли, в случае обнаружения на планете Рела агрессивного и несправедливого общества. Следующим на трибуну поднялся Каспарян и, поразив всех феноменальной памятью, почти точно повторил то, что говорил Туча. Костя, сидевший рядом с Арсением Ратовым, чувствовал, как тот напрягся, словно хотел взять штангу рекордного веса. Виев пригласил на трибуну биолога Кузнецова. Тот тоже торжественно провозгласил готовность лететь на пятьдесят лет к чужой звезде во имя интересов родной Земли. Виев не вызывал Арсения Ратова, он только посмотрел в его сторону. Костя было вскочил, но Арсений тяжелой рукой усадил его на место и поднялся сам: — Готов на все, — кратко сказал он, взойдя на трибуну. Потом не спеша сошел с нее. Теперь туда один за другим поднялись гости Москвы: нейтринный доктор-инженер Франсуа Лейе из Парижа и профессор Карл Шварц из Берлина, геолог, исследовавший сначала с помощью автоматов, а потом и сам лично лунные кратеры. Так же торжественно дали свое согласие и возможные дублеры намеченных членов звездного экипажа, а среди них и Костя. Когда выходили из зала, солнце уже зашло и под потолком зажглась люстра. Костя, подтолкнув Арсения, с усмешкой шепнул: — Грубая эта наука — арифметика. Никакой вежливости. Вернешься — тебе тридцать… — А ей за семьдесят, — добавил Арсений.
Глава четвертая ГОРЕ И РАДОСТЬ
На серебристо-черном от звезд космическом небе можно было рассмотреть новую, сверкающую на солнце полосу. Это на многие километры протянулись заброшенные сюда ракетами части огромных труб и другие замысловатые предметы, которые, словно нехотя, медленно вращались вокруг собственных осей. Крохотные серебристые фигурки в скафандрах с помощью ракетных движков шныряли между ними, подцепляли их и стаскивали вместе, чтобы соединить одна с другой детали гигантского звездолета. Цепочкой вытянулись уже готовые к старту космические танкеры с горючим, которым будет в пути пополняться звездолет. В космосе над просторами полускрытой облаками Земли готовился беспримерный рейс к другой звезде, в котором примут участие шесть избранников человечества. А далеко внизу, под океаном облаков, жизнь шла своим чередом.Вилена близко к сердцу приняла непонятное охлаждение к ней Арсения, но женская гордость и «мужская» воля позволили ей побороть себя и не отказаться от музыкального конкурса. В концертном платье она показалась профессору Шилову особенно красивой — он зашел за кулисы подбодрить ее перед вторым туром конкурса. Вилена ходила по коридору за сценой, прижав к подбородку сцепленные пальцы, и сердитым шепотом повторяла слова из записки Арсения, словно хотела заучить их наизусть: — «Очень занят. Желаю успеха. Вряд ли вырвусь к экрану. Арсений…» «Вот как? — подумала вдруг она о Ратове. — Вряд ли вырвусь к экрану…» — И что-то сдавило у нее горло. Да, она была не просто обижена — больно уязвлена! Ну, хорошо, они перестали видеться, как бывало во время работы Арсения на глобальной радиоантенне. Сейчас он занят чем-то другим. Но разве по-человечески нельзя быть чуть внимательнее? И она с горечью повторяла вслух: — Вряд ли вырвусь к экрану!.. Волнение Вилены перед концертом показалось Шилову естественным. Он даже вздохнул: «Как все-таки тяжела всякая система соревнований! Впрочем, устранение основных социальных конфликтов сделало соревнование во всех проявлениях жизни, будь то наука или производство, искусство или спорт, основным стимулом движения вперед». И, довольный своим «открытием», он снова вздохнул. Анна Андреевна, оказавшаяся здесь с Авеноль, увидев его, обрадовалась: — Наконец-то вы опять нас вспомнили, Игнатий Семенович! Нашей бедняжечке так нужна сейчас поддержка, сильная рука… Авеноль, тоненькая, но упругая, решительно встала перед Шиловым: — Сейчас нельзя. Она — в музыке. И Шилов не решился подойти к Вилене. А та, не оглядываясь, смотрела в окно и крепче натягивала перчатку, которая должна была сохранить перед выходом на сцену тепло ее руки. Публика в концертном зале тоже не догадывалась о состоянии молодой пианистки в длинном платье, прошедшей к роялю, чуть замедляя шаг. Шилов, сидя в первых рядах партера, старался поймать взгляд Вилены, когда она кланялась перед тем, как сесть за инструмент, но она даже не посмотрела в его сторону. Ему стало досадно. Потом Вилена заиграла. Шилов припомнил из истории литературы, что даже сам Лев Николаевич Толстой плакал, слушая сонату Бетховена. Шилов не плакал, но ему все-таки стало жалко самого себя. Того, что Вилена выражала в музыке, нельзя было добиться никаким умением — настроение позволило ей перешагнуть через мастерство и просто чувствовать вслух. Наконец, Вилена встала, бессильно опустив руки. Ее всегда подтянутая фигура казалась расслабленной. Зал некоторое время молчал. И только когда она нетвердыми шагами отошла от рояля, раздались сначала редкие, а потом всеобщие аплодисменты.

Арсений все же слушал Вилену по видео: в «лаборатории тишины», где они вместе узнали «голос звезд», были для этого идеальные условия. Его заворожили ее выразительные пальцы и отрешенное, светящееся внутренним светом лицо. Арсений смотрел на Вилену и прощался со своим счастьем, которого не познал, со своей жизнью среди современников, со всем тем, от чего без колебания отказался во имя долга и неукротимой страсти исследователя. Игра Вилены потрясла его. Может быть, другого человека она заставила бы усомниться в выбранном пути, но только не Арсения. Он один из всех, слушавших Вилену, понимал, что настроение, переданное ее игрой, вызвано горечью и страданием, в которых повинен он, Арсений! Только он! Но лучше так, чем обнадежить ее и причинить ей еще большие страдания! Другие слушатели не подозревали всего этого. Но они воспринимали чувства артистки, которые она сумела передать. На экране хорошо было видно, как Вилену окружили, поздравляли, тянулись к ней. А она настороженно смотрела вокруг. Единственная из всех, она не знала, как сыграла…
Жюри высоко оценило игру Вилены, и она прошла на третий, заключительный тур конкурса. Шилов, знавший о включении Арсения в звездный экипаж, уходил с концерта с твердым намерением в ближайшие дни открыть Вилене глаза на Ратова. Уж профессор-то Шилов совсем иной! На концерт Вилены примчался бы даже из зарубежной научной командировки, ценя ее недюжинный талант! Истинная женщина всегда ответит мужчине тем же! Вообще, профессор хоть и почтенен, но не так уж стар! Соединись они с Виленой, он сохранил бы над нею преимущество — свое глубокое понимание музыки, наряду с ее полным неведением научных основ. Можно добиться (с известным тактом!) ее бездумного преклонения перед его наукой, а значит, перед ним. Так Шилов заранее «планировал» отношения будущих супругов. Теперь дело было лишь за решающим объяснением. Он слышал, что Вилена перед выступлениями не садится за инструмент, предпочитая отвлечься, отправиться в театр, на стадион, на прогулку в лес. И с помощью Анны Андреевны Шилов так подстроил, что Вилена сама пожелала провести день перед третьим туром на природе, на воде. А Шилов в молодости был страстным яхтсменом. Вилена колебалась, согласиться ли ей. Но мать и бабушка обе советовали. Да и Арсения не было…
Старинная, романтическая яхта беззвучно скользила вдоль берега. Круглое озеро, прикрытое тонким туманом, поблескивало. Шилов настоял приехать сюда рано, уверяя, что нет ничего на свете прекраснее утра. Вода у самого берега под корягами была такая чистая, что в ней виднелись серебристые рыбки. Чуть шевелили хвостиками и сонно стояли на месте. Казалось, будто они висят среди опрокинутых берез. Скоро туман исчез. Появились другие яхты. Их паруса, порой клонящиеся к самой воде, вместе с отражениями издали напоминали белых птиц со сложенными и расправленными крыльями. Вилена думала все о своем: почему Арсений даже не поздравил ее с победой на втором туре? Что же произошло между ними? Казалось, все скоро решится, едва только он признается, а теперь… Ветер почти совсем стих. Шилов, извинившись перед Виленой, попросил ее нагнуться, чтобы можно было перебросить парус на другую сторону. Парус перебросили, но он все равно висел, не хотел надуваться. Яхта замерла на месте. Вилена опустила руку за борт, потом вынула ее и стала рассматривать стекавшие с пальцев капли. Падая, они рождали в воде разбегавшиеся кружочки, пересекавшиеся замысловатой вязью. Вот если бы прочесть ее? Может быть, она бы сказала ей… Шилов откашлялся: — Я не должен был бы касаться музыки, но вынужден нарушить данный самому себе обет. — Отчего же? — рассеянно отозвалась Вилена. — Музыка не перестала существовать для меня. — Помните слова давнего корифея о девятой симфонии Бетховена для инопланетян? — Еще бы! — Давно ли мы с вами только слушали голос неведомых, а теперь непосредственный контакт с ними — это уже не предположительное событие. — Думаете, к нам в самом деле могут прилететь? Я что-то читала: след на камне в пустыне Гоби миллионолетней давности, простреленные черепа неандертальца и бизона, найденные в Африке и Якутии… Неужели бывали у нас инопланетяне и еще могут побывать? — Скорее дело за нами. Мы полетим к ним первыми. — Как? На ту самую Релу, о которой столько говорят? — Да. Экипаж звездолета уже намечен. Шесть представителей современного человечества добровольно отказываются от нашего времени, от нас с вами, от всех своих родных и знакомых ради того, чтобы увидеться с обитателями странного мира, где «одни работают и созидают», а другие «летают и наслаждаются». — Это, наверное, захватывающе интересно. Если там другая культура, какие у них мысли, какие идеи? Может быть, недоступные нашему разуму? Вдруг мы только жалкие пигмеи по сравнению с ними? А может быть, они тоже сыграют нашим разведчикам девятую симфонию своего Бетховена? — Их «симфонию» мы уже слышали. Кибернетики сделали ее, как могли, ясной. И все-таки «великие мысли» не вполне понятны. Но, надо думать, наши посланцы, а в их числе и один наш общий знакомый, там на месте поймут все: добро и зло Вселенной. — Кого вы имеете в виду? — Арсения Ратова. Разве он не признался вам, что намечен в состав звездного экипажа? Я горжусь своим учеником. Надо думать, все-таки он не откажется. Вилена пристально посмотрела на Шилова, как умела это делать, и облегченно вздохнула. Шилов ждал вспышки, но никак не этого, и потому поспешил добавить, понизив голос: — Верьте, я не мог бы так легко отказаться от всего земного, от того, с чем связаны все мои земные надежды на счастье… Вилена принялась разглядывать косое крыло далекого паруса и загадочно улыбалась. — Так вот в чем отгадка! — вслух сказала она. — О какой загадке вы говорите? — обиженно поинтересовался Игнатий Семенович. — Нет, нет, ничего, — словно очнулась Вилена. — Вам помочь с парусом? Кажется, подул ветерок. Шилов умело поднял парус — он затрепетал, и яхта двинулась. Шилов пытался о чем-то говорить с Виленой, занимать ее, перечислял следы пришельцев из космоса, возможно, когда-то посетивших Землю, но Вилену это не заинтересовало. Тогда профессор заговорил о людях. — Я часто задумываюсь над сущностью людей нашего времени, — глубокомысленно изрек он. — В мире произошли огромные изменения. Давно нет больше угнетения, социальной несправедливости, но в личной жизни несправедливость, увы! сохраняется. Пока что люди страдают так же глубоко, как и во времена египетских фараонов, то есть при рабстве, при эксплуатации одного человека другим. — Надеюсь, человечество скоро изживет и личные страдания? — не без иронии спросила Вилена. — Разумеется. Но я все-таки пока не могу себе представить такого поступка нынешнего человека, который был бы недоступен человеку прежнего времени. — Не знаю. Никогда не думала об этом. Может быть, и я такая, как и все мои прабабки, — чему-то своему, только ей известному, улыбнулась Вилена. — Разве вот на Реле… — И вы такая же, — заверил Шилов. — Есть могучий фактор. Время! Световые годы! Нет ничего, что времени сильней! Время разлучает наш мир с первыми звездолетчиками. Не знаю, с кем повстречаются они на Реле, но с нами они уже не повстречаются. — То есть как? — Школьная истина! Парадокс времени. Они вернутся на Землю, став старше лет на пять, но нас с вами здесь уже не будет. Или мы станем глубокими стариками, глухими, шамкающими… Вилена промолчала, крепко сжав губы. Шилов провожал ее домой, разговаривая о всяких пустяках. На пороге своего дома Вилена поблагодарила его «за все, за все» и улыбнулась. Эта улыбка вселила в Шилова надежду. Во время прогулки Шилов ни о чем не спросил Вилену, но почему-то ждал, что получит ответ на свой незаданный вопрос в музыке во время третьего тура соревнования. Ему казалось, что Вилена теперь поняла его, оценила и, отказавшись от отвергнувшего ее Арсения, играть будет для него одного, для Шилова. Перед самым началом концерта он опять зашел за кулисы, снова говорил с Анной Андреевной и даже с появившейся здесь Софьей Николаевной, бабушкой Вилены, которая относилась к нему не очень приветливо. Он опять не подошел к Вилене — в натянутых перчатках, со странным выражением лица она стояла перед открытым окном и о чем-то думала. Он мысленно пожелал ей успеха и, растроганный своей тактичностью, отправился в партер. Удобно устроившись в кресле, он стал слушать игру музыкантов. Ждал, когда выйдет Вилена. Надеялся услышать то же, что играла она на втором туре. Это придавало ему уверенность, что он на пороге свершения всего им задуманного. Шилов готовился особенно остро воспринять ее настроение, мысленно считая Вилену своей женой. И он размечтался, воображая себя мужем, умным, тактичным, который какое-то приличное время позволит себе посочувствовать горю покинутой, холодно, расчетливо покинутой!.. Но потом… Вилена неожиданно переменила репертуар, играла произведение современного композитора, переложенное ею самой для рояля. К изумлению Шилова, музыка покинутой Видены оказалась безудержно радостной, яркой и заразительной, как детский смех. Вихрь звуков пронесся над рядами, разглаживая морщины на лицах слушателей, зажигая глаза, заставляя улыбаться. Только Шилов был мрачен. «Как странно! — почти возмутился мысленно Шилов. — Неужели ее чувства так мелки? Неужели она не понимает, чего я хочу? Она или празднует нашу общую с ней радость, или… артистизм заслоняет в ней искренность. Что же в таком случае ждет меня с ней впереди?» Когда Вилена убрала с клавишей и опустила руки, в зале словно рухнул потолок. Люди вскочили и ринулись к эстраде. Шилов тоже встал. Он не мог не оценить блеск и мастерство исполнения артистки. К ее ногам летели букеты цветов и записки. Ее просили сыграть еще, еще… Дирижер взмахом руки поднял оркестрантов. Они стучали о пюпитры смычками и пальцами. Шилову нужно было взять свой букет, оставленный в гардеробной. И он раздраженно протискивался через восторженную толпу. Раскрасневшаяся, счастливая Вилена после многих вызовов вернулась за кулисы. Там ее ждал Шилов с цветами. — Еще цветы? Так много? — рассеянно сказала она и улыбнулась, глядя мимо Шилова.
Арсений Ратов, слушавший ее по видео, этого, конечно, не видел. Но ее игра взволновала и обескуражила его. Ему показалось, что Вилена играла специально для него и передавала через музыку что-то важное… Так неужели этой искрометной радостью она хотела сказать, что он все-таки добился своего: она охладела к нему, и он может спокойно улетать… Арсения покоробило, и он рассердился на себя.
Глава пятая ПРАВО НА СЧАСТЬЕ
Вилена наконец встретилась с Арсением. Назначили свидание на площадке напротив многоэтажного здания университета, откуда открывался чудесный вид на излучину реки и город. За башнями более поздних зданий, словно в дымке времени, виднелись золоченые купола древних храмов. Они пошли вниз сначала по аллее, потом сбежали по зеленой крутизне на полянку и едва не столкнулись с вереницей спортсменов-бегунов, участников кросса. С лужайки была видна река. Вилена с Арсением сели и смотрели, как по ней скользили скоростные суда, почти отрываясь от воды. Вилена покосилась на Арсения. Никто из них не начинал «главного разговора». — Значит, ты все же слушал третий тур? — Слушал. Тебя. — И не удивился? — Обрадовался. — Вот как? — почти обиженно протянула Вилена. — Тебе не показалось, что я слишком радуюсь? — Хотел этого. — Ну знаешь! — возмущенно произнесла Вилена и сжала губы. Арсений пожал плечами. Вилена заглянула ему в лицо, объяснила: — Узнав, что ты включен в экипаж звездолета, я просто поняла, почему ты избегаешь меня. — Спасибо, что обрадовалась. — Ты понятлив, как… штанга. Неужели не ясно, почему я обрадовалась? — Штанге не додуматься. — Ну поняла я, что ты избегаешь меня, чтобы… чтобы я не страдала, не любила бы тебя. — Видно, хитрить не умею. — Не умеешь, — подтвердила Вилена. — Хотел признаться. — Да опоздал! Постой! А в чем ты хотел признаться? — Улетаю. — Только-то! Вилена стала срывать былинки и сплетать из них веночек. Она ждала, но Арсений молчал. Тогда она пошла напрямик: — А в том, что любишь, не хотел признаться? Арсений опустил голову, смотрел на траву между колен. — Или это неправда? — настаивала Вилена. — Правда. Запретная, — тяжело вздохнул Арсений. Вилена вскочила на колени, снова стараясь заглянуть в лицо Арсению: — Ну, посмотри же на меня. Любовь никогда не может быть запретной! Нет! Пусть осталось у тебя полгода, год… Но они будут мои, наши… Мы поженимся. Арсений испуганно отодвинулся. Вилена подумала, что ему не понравилась ее настойчивость, бесцеремонность, и она, краснея, произнесла: — Это предрассудок, что о любви первым должен говорить мужчина! Если мне ждать твоего признания, то на это вся наша жизнь уйдет. — Жизнь уйдет, если жениться и сразу расстаться, — горько сказал Арсений и решительно добавил: — Нет. Не бывать тому. Или ты не знаешь, что такое парадокс времени? — Бабушка сказала, что никакого парадокса времени нет, — нашлась Вилена, еще не понимая, что к чему. Потом вдруг угадала его затаенную мысль и стала горячо возражать: — Ты вернешься через столько лет, сколько проживешь в звездолете. Пять лет не так уж много. Меньше, чем прежде морячки ждали своих мужей из кругосветного плавания. — Веришь бабушке? — с укором сказал Арсений. Вилена немного лукавила. Со слов отца да и со школьной скамьи она прекрасно знала, что такое теория относительности и парадокс времени. Поэтому, поняв истинную причину «охлаждения» к ней Арсения, она словно прозрела: Арсений показался ей благородным, героическим, и она для самой себя решила, что ради любви можно пожертвовать и остатком жизни. С женской «нелогичностью» она сказала о парадоксе времени: — Это не имеет значения, — и добавила: — Я от тебя все равно не отступлюсь. — Я отступлюсь, — в свою очередь, твердо сказал Арсений. — Почему? — нахмурилась Вилена. — Не вернусь ведь в «ваше время»! Он сказал в «ваше время», и это больно задело Вилену: — Нет! Вернешься еще в наше время. Пусть я стану старухой. Не бойся, не приду тебя встречать на космодром. Но Вилена встретит. Совсем такая же, как я. Наша внучка. Не улыбайся. Ей будет столько же лет, сколько мне сейчас. И еще, конечно, тебя встретит ее отец, наш с тобой сын. У него будут седые виски. Думаешь, не пристало так говорить девушке? А я вот могу. Арсений привлек к себе Вилену и посмотрел ей в лицо долгим ласковым взглядом. Он любовался Виленой и мысленно благодарил ее за все, что она сказала. Вилена зажмурилась, потянулась к нему, ожидая, что он ее поцелует. Но он встал и подал ей руку. Они молча пошли, держась за руки. Пошли в гору. Всю дорогу Вилена думала, что Арсений уходит от нее навсегда. Когда они прощались, Вилена вдруг спохватилась, что поступила дерзко, признавшись ему в любви первая. — Ты прости меня за… ну, за прямоту… — виновато сказала она. — Понимаешь, я хотела… чтобы и ты… Если любишь… Ведь ты же признался все же, что это правда. Если любишь, то нечего рассчитывать, каково будет мне или тебе в будущем. — Может быть, может быть, — пробормотал Арсений, стискивая руку Видены. — Но… только мы с тобой больше не увидимся. Расчет не расчет. Но так лучше. Пусть все перегорит в нас. Он посмотрел Вилене в зеленоватые влажные глаза и, не попрощавшись, побежал к электробусу. Вилена, глядя вслед увозящей его машине, думала: «Вот неощутимыми нитями связаны моторы электробуса с кабелем высокой частоты, зарытым в мостовую на его маршруте». А не так ли связаны и они с Арсением? И она решила, что может овладеть Арсением только с помощью тех, кто разлучит ее с ним, — через руководителей звездного рейса. «Надо добиться разрешения на наш брак!» — уже возле своего дома придумала она.Вскоре Вилена отправилась в звездный городок. Считая Главного конструктора звездных кораблей человеком умным и чутким, она попросила его принять ее. Иван Семенович Виев не знал, зачем пришла к нему дочь профессора Ланского, в Кибернетическом центре которого было расшифровано инопланетное послание. Он принял ее в своем огромном рабочем кабинете. Коренастый, с сухим, аскетическим лицом, Виев поднялся из-за старомодного письменного стола, заваленного чертежами, и пошел ей навстречу. Всматриваясь в него, Вилена почему-то подумала о древних индийских йогах, достигавших высшей степени владения собой. — Рад познакомиться, — сказал Виев. — Слушал вашу игру по видео. Заставили не только поволноваться, но и подумать… — О чем, Иван Семенович? — О жизни. — И я потому к вам пришла. Говорить о жизни. — Ну раз пришли с тем же, — улыбнулся он, — присаживайтесь. Но я прежде всего познакомлю вас с нашей «Жизнью». Вот она стоит на большом столе. Модель звездолета «Жизнь». Вилена, еще войдя, сразу заметила это сооружение. Оно напоминало каток на длинной решетчатой рукоятке. Виев стал объяснять. Рукоятка оказалась совсем не рукояткой, а хвостовой фермой. На конце ее находится нейтринный двигатель, более перспективный, чем устаревший фотонный. Если в фотонном тяга возникала в результате слияния зеркальных частичек вещества и антивещества, то здесь в реакции участвовали так долго бывшие загадочными частички «нейтрино», пронизывающие все тела Вселенной. Ажурная ферма чем-то напоминала старинную Эйфелеву башню в Париже, но только неимоверно удлиненную. Она передавала усилия разгона на перпендикулярную ей ось звездолета, вокруг которой вращались два как бы маховых колеса со спицами. Они соединялись по ободам трубами, образуя центральный барабан звездолета. Он и казался «катком». Иван Семенович, искоса глядя на гостью и думая о причине ее прихода, положил на «каток» руку и сказал: — Размер его, как видите, неимоверен. Космические корабли прошлого по сравнению с ним вроде наперстков, что ли. И всего лишь для шести человек. В этих цилиндрах, — он провел рукой по трубам, соединяющим ободы маховиков, — расположены служебные помещения. В спицах — лифты. При разгоне барабан неподвижен и пол в каждой трубе расположен со стороны покинутой Земли. Ускорение разгона придавит звездолетчиков к этому полу с силон, равной нормальной земной тяжести. Когда звездолет достигнет субсветовой скорости, барабан начнет сам вращаться, центробежная сила, действующая на пол каждой трубы, ориентированной теперь к центру маховика, опять же будет действовать как сила, равная земному притяжению. Ну а потом — годичное торможение с неподвижным барабаном. Пол труб тогда повернется так, чтобы звезда, цель полета, оказалась под ним. И звездолетчики воспримут силу торможения, как привычную тяжесть на Земле. — Как на Земле, — с горечью повторила Вилена. Виев уловил боль в интонации гостьи и внимательно посмотрел на нее. — Да, как на Земле, — утверждающе повторил он. — Но без Земли. Вы правы. — А на Земле у звездолетчиков останутся близкие, родные, любимые… — Так вот что привело вас ко мне! — весело усмехнулся, поняв все, Виев. — А если ваш звездолетчик любит земную девушку? Разве он лишен права на любовь? Как это жестоко, несправедливо! Даже в древности так не поступали. Цари и тираны не запрещали своим воинам жениться и иметь детей, даже когда отправляли солдат на верную смерть. Вам, конечно, легче отослать в будущее холостяков! Спокойнее. Не останется на Земле страдающих семей. — Хотите сказать, какая похвальная формальная забота? — Да, формальная, — разгорячилась Вилена. — Разве человек страдает, только когда он женат? А если он оставляет любимую, не женившись на ней? Тогда он не затоскует? Вот вы сами, вы же семейный? — Да. И дети и внуки есть. — Вот видите! А если бы вам пришлось лететь? Вы что? Развелись бы с женой? А с детьми как? Виев улыбнулся. Его невозмутимое лицо помолодело: — Насколько я понимаю, речь идет об Арсении Ратове? — Откуда вы знаете? — насторожилась Вилена. Виев еще шире улыбнулся и стал похож уже не на индийского йога, а на давнего хорошего знакомого: — Дело в том, что из всех отобранных звездолетчиков он единственный холостой. Вилена задержала дыхание. Мгновение она стояла перед Виевым в нерешительности, потом бросилась к нему и расцеловала его в обе щеки, как отца, как деда, как самого близкого человека. Он ласково положил ей на плечо руку и сказал: — Могу напомнить, что первые космонавты, рискуя всем в первых космических полетах, были семейными. Их ждали на Земле и родители, и жены, и дети. — И я буду ждать! — сквозь прорвавшиеся слезы прошептала Вилена. Он не снимал руки с ее плеча: — Как же вы могли вообразить, хорошая вы моя, будто в наше время кто-то станет диктовать вашему Арсению свои условия? — Значит, он сам! Потому что любит меня и хочет сберечь! Теперь-то я знаю, все поняла! — говорила Вилена, сияя от радости. Виев мудрым взглядом наблюдал за ней, потом лукаво сказал: — Все-таки вы поосторожнее с ним. Он нам еще нужен. Главный конструктор проводил гостью на липовую аллею и пожелал ей на прощанье счастья.
Вилена сама не помнила, как домчалась до дому в турбобиле, который, к ее удаче, стоял у парка звездного городка и был свободен. Всю дорогу из ее головы не выходило: «Звездолет!.. Разгон с земным ускорением!.. Торможение!.. Но это потом! Сначала — я!» «Я! Я! Я!» — торжествующе кричало все в ней. В дом она влетела как на крыльях. Бросилась бабушке на шею. Бабушка вытирала ей слезы и говорила: — С утра ждет тебя. Иди уж. — Кто ждет? — не поняла Вилена, сразу став строгой. — Кто же еще? Твой Арсений Романович, конечно. Вилена удовлетворенно вздохнула. «Ну вот! Оказывается, он сам пришел, а я… И все время сидел здесь. И ничего не знает!» — И Вилена решительно направилась в комнаты. Маленькая Авеноль важно занимала гостя, сидевшего подле рояля. Она старалась изо всех сил и говорила за двоих, не смущаясь односложными ответами Арсения. Увидев сестру, Авеноль шутливо сделала реверанс и со смехом убежала. Родителей дома не было. Не вернулись с работы. Юлий Сергеевич, очевидно, находился все еще в своем Кибернетическом центре, Анна Андреевна — художница по внутреннему устройству квартир — где-нибудь увлеченно отстаивала свой прославленный вкус. Арсений, поднявшись, стоял среди изысканно, с редким вкусом обставленной комнаты — огромный, неуклюжий, словно из другого мира, — и виновато смотрел на Вилену. — Почему же ты все-таки пришел? — вскинув острый подбородок, с радостным вызовом спросила она. — Ведь не хотел видеться до самого отлета? — Не смог, — опустив голову, сказал он. — Ну вот, теперь не смог. А тогда? — Хотел… уберечь. — И что же? — Косте первому признался. — Косте? И в чем же? Вилена, ликующая, счастливая, смотрела на Арсения, будто навсегда старалась запомнить каждую линию его громоздкой фигуры, склоненную голову, крупные черты лица, так похожие на мраморный памятник Вечному рейсу. Видя, что он что-то хочет сказать и не решается, она требовательно спросила: — Так в чем же признался… хоть Косте? — Что женюсь… перед самым отлетом, — через силу, даже побледнев лицом, выдавил из себя Арсений. — И что же этот Костя? — звенящим, уже почти смеющимся голосом допрашивала Вилена. — Предложил заменить… меня. — На звездолете, надеюсь! — с шутливым возмущением воскликнула Вилена. — Что же ты ответил? — В полете заменить сможет. Но вот сыном моего отца не станет. — И, помолчав, добавил: — Ратов должен лететь. Клятва была дана. — И что же Костя? Понял он это? — Еще как! Рассвирепел. — Конечно, на меня? — игриво спросила Вилена, привлекая к себе Арсения. Теперь рассмеялся и Арсений: — Назвал тебя «приемной бабушкой». Грозился непременно прийти с клюкой смотреть, как мы встретимся: бабушка с мужем-внучком. — Это меня не остановит, — весело тряхнула головой Вилена, потянулась губами к губам Арсения. На этот раз она дождалась его поцелуя. И с удивлением она поняла, что Арсений совсем не такой сдержанный, как кажется. Все кончилось просто. Молодые люди подчинились чувству, которое отодвинуло даже страх перед будущей разлукой. Они поженились. Причем сделали это так непринужденно, что никому и в голову не пришло увидеть в этом нечто особенное. Правда, родители Видены в первый миг были ошеломлены. Бабушка же, имея что-то на уме, радовалась. Сестренка Авеноль словно с ума сошла от счастья. Вилена, обычно чуть сдержанная и даже строгая, радости своей не скрывала. Чтобы выразить свои чувства, она все чаще садилась за рояль и играла, играла…
Часть вторая СЕРДЦЕ СТЫНЕТ
Окаменел огонь в камине. Застыл стеной хрустальной дождь…И. Болев. «Старая сказка»

Глава первая В СВЕРКАЮЩИХ БРЫЗГАХ
— Смотри, здесь даже сохранились еще деньги! «Вождь ирокезов» берет их за проезд! — показала Вилена Арсению на полицейского в трусиках и широкополой шляпе, который взимал плату со стоящей впереди машины. Похожая на дельфина, она вскоре ринулась в туннель, а полицейский подошел к Ратовым. Высокий, с гордо посаженной головой, горбоносый, сбоку он походил на древнего индейца. Но его широкое, словно чрезмерно загорелое скуластое лицо, с прищуренными глазами, напоминало Ратовым знакомые черты восточных народов. Арсений молча расплатился. — Очень прошу вас, — вежливо сказал индеец, — на воздушную подушку переходите после выезда на надземное шоссе. Иначе в туннель засосет всю городскую пыль. В дальнейшем слушайте указания автоматов. Скорость не снижайте. Счастливых гастролей. — И он приветливо улыбнулся, намекнув, что знает проезжих по фотографиям в газетах. Электрические лампочки в туннеле слились в яркие полосы. Путешествие под мореподобным Гудзоном, как назвала его Вилена вверху, занимало считанные минуты. Скоро нестерпимо яркий солнечный свет ударил в глаза. — Город внизу! — обрадовалась Вилена. Шоссе взлетело на эстакаду. По обе стороны раскинулся старинный город Джерсей-сити, позади виднелись неровными столбиками полуразрушенные нью-йоркские небоскребы — символ свергнутого строя. Вот он, незалеченный след минувшей гражданской войны, последней в истории войн против угнетения! — Воздушная подушка, — предупредил Арсений, включая автомат вождения. Колеса машины ослабли, и она мягко осела, почти коснувшись шоссе. От скорости захватывало дух. Концертов Вилены и лекций Арсения о звездном полете ждали повсюду. Молодые супруги испытывали такую остроту от новых впечатлений, словно перед ними был не земной мир. Они нигде подолгу не задерживались, все мчались и мчались навстречу новым пейзажам, новым людям… — Смотри, смотри! Стена! И прямо чуть ли не до неба, — поразилась Вилена, увидев перед собой дом-город. — Символ нового времени. Четыреста этажей, — отозвался о необыкновенном сооружении Арсений. — Вот где не хотела бы жить! — Построен кольцом. Внутри заповедные парки. — Люди должны жить в парках, а не над ними. — Кто к чему стремится. У каждой семьи — балкон-сад. Фасад уступами, как пирамида майя. — Нет, не так должны жить люди в будущем, — начала Вилена и осеклась: они с Арсением договорились никогда не говорить о будущем. На Ниагаре Вилена почувствовала себя плохо и подумала, что виной тому ресторанчик, куда они с Арсением забрели в день приезда. Маленький домик коробочкой с высокой односкатной крышей. Вместо вывески надпись: «Открыто для всех». Обстановка внутри показалась чем-то знакомой. Во всю стену длинная стойка с бутылочками разных соков и соусов и с зажимами для бумажных салфеток, с уморительным и совсем разным рисунком на каждой из них. Позади стойки — черная доска с меню: сандвичи, горячие «собаки» (сосиски), супы острые и обыкновенные, говядина натуральная или искусственная с самым лучшим набором аминокислот — чудесный вкус, приятный запах, очень полезно для больных диабетом… С больших плакатов на Вилену с Арсением смотрели… они сами, то есть Ратовы, улыбающиеся, счастливые, держащиеся за руки. Под изображением красовалась надпись: «Самая счастливая пара века». Вилена расхохоталась. Ей хотелось сказать бармену, что он напрасно завесил этим плакатом бутылки с тонизирующими напитками, но его в ресторанчике не было. Арсений забрался на высокий табурет у стойки и показал на кнопки, которые соответствовали номерам блюд в меню. Вилена уже привыкла к «инерции американских пережитков». Так она и восприняла отделанные деревом стены «салуна», тяжелые дубовые столы, топорные стулья. Она не удивилась бы, услышав у подъезда цокот копыт, увидев вваливающихся с улицы ковбоев, увешанных кобурами… Было обидно, что все это носило прежний, рекламный характер, а дорогие народу обычаи и нравы не раскрывались. На улице было тихо. Музыка, привлекшая их в ресторанчик, играла внутри. Откуда-то вкусно запахло жареным бифштексом. Вилена призналась, что умрет на месте, если сейчас же не съест бифштекс. — Искусственный? — кивнул Арсений на доску с меню. Вилена нажала кнопку с номером бифштекса. Дверь в кухню открылась, оттуда донесся аромат кофе. Но никто в двери не показался. И вдруг по полированной стойке, словно пущенная натренированной рукой бармена, пролетела алюминиевая тарелка и остановилась прямо перед Виленой. Арсений не хотел есть. Он нажал кнопку с номером кофе, и чашка с пахучей жидкостью, распространяя вокруг аромат, так же, каким-то чудом не расплескавшись, пролетела по стойке и остановилась напротив табурета, с которого Арсений встал. Вилена нашла бифштекс восхитительным и посмеялась над тем, что дома мама с бабушкой до сих пор наотрез отказываются есть искусственную пищу. Морщатся от одной только мысли, что белки получены из дрожжей, выросших на нефти. Озорница Авеноль не уставала дразнить их тем, что они любят клубнику (с унавоженных гряд) и обыкновенными дрожжами пользуются без всяких предрассудков, хотя принципиальной разницы между этими одноклеточными организмами и дрожжами «Кандид», из которых приготовляется искусственная пища, никакой нет. Арсений только улыбался — сам он соблюдал строгую диету, так как берег спортивную форму. Ратовы оставили на стойке плату, указанную в меню (в этой стране приходилось поступать соответственно сохранившимся в ней традициям). Для очистки совести заглянули на кухню — хотелось увидеть чью-либо улыбку! Но там тоже никого не было. Продолжала играть только музыка. Это играла… Вилена Ланская-Ратова. Очевидно, сюда попала запись одного из ее концертов. Они ушли из автоматизированного ресторанчика довольные, в самом лучшем настроении. А наутро Вилена почувствовала себя плохо. Сразу припомнились гримасы и мамы и бабушки. Искусственная пища! Теперь и ей она казалась противной. Вилене хотелось посмотреть Ниагарский водопад, но она не знала, как подняться с постели. Спазмы мучили ее. Арсений решил обратиться к врачу. Портье отеля, очаровательная негритянка с вьющимися волосами, живая и веселая, одарив Вилену ослепительной улыбкой, взялась проводить ее к одному «очень замечательному врачу». Она попросила дюжего англосакса, вполне годившегося в древние ковбои, посидеть вместо нее за конторкой. Когда тот согласился, негритянка с милой непосредственностью при всех расцеловала его. Арсения узнали. И несколько посетителей тотчас окружили его. Вилена попросила ждать ее в отеле и ушла. Негритянка, гибкая, как лиана, выслушав сетования Вилены на бифштекс из искусственного мяса в автоматизированном ресторане, понимающе кивнула, догадавшись, в ком нуждается больная. Так Вилена познакомилась еще с одним индейцем, местным врачом. Ей понравился доктор, серьезный, внимательный. Он сразу определил причину недомогания, чем привел Вилену в неописуемый восторг. Ей захотелось скорее к Арсению. О ресторанчике она вспоминала уже с благодарностью. — Вы не откажетесь посмотреть Ниагару, мэм? — спросил врач. — Я вместе со своей девушкой мог бы показать ее вам. Он был строен и элегантен. Его профильнапоминал романтического вождя ирокезов или могикан. Но лицо казалось менее широким, чем у нью-йоркского полисмена. Движения неторопливы и мягки, взгляд темных глаз проницателен. Вилена не сразу догадалась, что вместо левой руки, потерянной в гражданскую войну, у него протез, управляемый биотоками мозга. Вилена поняла это, только когда во время прогулки он заботливо поддержал ее под локоть уж слишком жесткой рукой. Добровольными гидами Ратовых на Ниагаре стали молодой доктор-индеец и его белая девушка — американка Мод с тоненькой мальчишеской фигуркой, стоившей, по-видимому, особой диеты и немалых забот. Она была смешлива и обожала своего однорукого индейца. Сначала приезжих гостей повели в самый обыкновенный парк. Там гуляло множество приехавших сюда со всего света людей: и белых, и черных, и смуглых, даже в чалмах. В парке Вилене все время слышался какой-то странный шум. Когда свернули в одну из аллей, она сразу поняла, что так шумело. Перед нею неожиданно открылась падающая водяная стена, пенная, пугающе близкая, вся словно закрученная спиральными шнурами. Недвижная, она тем не менее воплощала в себе яростное движение низвергающихся капель, брызг, струй и пены. Люди находились перед падающей рекой. Ощущалась свежесть. Водяные струи, близкие, будто стеклянные, перекрученные винтами, до которых можно было дотянуться рукой, играли на солнце. В глубине же каньона, где воды словно взрывались, вздымаясь облаками брызг, трепетала нежная радуга. Это зачаровало Вилену. Но основная часть водопада создавалась другим рукавом реки, за которым начиналась Канада. Река, тихая и гладкая, напоминала отсюда вытянутое в одном направлении озеро. И эта тишь вдруг превращалась в ревущий подковообразный обрыв, высотой со старинный нью-йоркский небоскреб. Доктор стал рассказывать древнюю индейскую легенду. По этой тихой заводи, какой выглядела здесь Ниагара, плыл когда-то челн с девушкой-индианкой, которую вынуждали выйти замуж за вождя соседнего племени. Беглянка отчаянно гребла, стремясь уйти от преследователей. Скоро она поняла, что многовесельные лодки перехватят ее раньше, чем она достигнет того берега, где можно найти приют у чужого племени индейцев. Нужно или сдаться, или… Она повернула к водопаду. Люди с обоих берегов с замиранием сердца следили за этой необыкновенной гонкой. Преследователи упорно плыли за беглянкой. И все же не выдержали, повернули в испуге обратно, изо всех сил выгребая из уже опасной в том месте быстрины. А безумная девушка продолжала грести по течению, все с большей скоростью приближаясь к роковому рубежу, где река срывалась в бездну… Вилена отчетливо представила себе эту девушку, с развевающимися волосами, гребущую, стоя, веслом. Тело ее изгибалось, помогая всем корпусом в неистовом усилии. Лицо, напряженное в непреклонной решимости, передавало волю и страсть. — Течение подхватило челн, — продолжал доктор, — и индейцы, выбравшиеся на берег, видели, как лодка индианки высоко задрала корму. Девушка отклонилась назад, чтобы погибнуть, стоя на ногах. — Разбилась? — спросил Арсений. — В том и красота нашей легенды, что случилось невероятное. Лодка отчаянной девушки словно проплыла по отвесной, вставшей дыбом реке и нырнула в облако пены. Девушка выпрыгнула уже внизу и поплыла среди бурунов. Она выбралась еле живая на другой берег, пройдя путь, которым может пройти только гордость и любовь. — Она любила другого юношу, — пояснила Мод. — И ее больше не преследовали? — Нет, — сказал индеец. — Древние вожди преклонились перед ее отвагой. Они сочли, что она заслужила право распоряжаться собой и быть свободной. — Какие у вас замечательные предки! — задумчиво сказала Вилена. — Наш народ прошел через «Ниагару унижения и горечи» и лишь теперь обрел полную свободу. Вилена подумала, что у ниагарской девушки был настоящий индейский характер. Она невольно сравнила ее с собой и постаралась расправить плечи. — Это не все, еще не все! — защебетала Мод. — Вы обязательно должны увидеть место, где выплыла индианка. — Это возможно? — спросила Вилена. — О да! — чему-то засмеялся доктор. — Если ваш муж позволит вам в вашем состоянии путешествие в лифте. — В лифте? — удивилась Вилена. — Здесь все устроено для удобства туристов. Туристская индустрия была столь значительна, что все проекты уничтожения Ниагарских водопадов, ради сооружения здесь гидроэлектростанций, были отвергнуты. Доктор и Мод повели своих гостей по мосту, переброшенному через американский рукав Ниагары на остров. Отсюда предстояло спуститься в лифте к самому основанию главного водопада. Арсении уже знал о причине недомогания жены и был так же счастлив, как и она. Вилене теперь все казалось возможным, и она стойко вынесла даже «спуск с ветерком», хотя ее и замутило. Когда вышли из лифта, то будто очутились в другом мире. Говорить стало невозможно. Грохот и водяные брызги висели в воздухе. Непромокаемые комбинезоны с капюшонами, надетые еще вверху, делали всех неузнаваемыми. У Видены было впечатление, что они с Арсением на подводной прогулке. Черные камни под ногами были скользкими. Было страшно упасть, но Арсений заботливо держал ее за локоть. Перебрались через скалы. Отсюда начинались деревянные мостки. Вилена вцепилась в перила, с трудом передвигаясь вперед. Мод тянула ее за собой. Ее губы шевелились, но слов разобрать не удавалось. Вокруг в несмолкаемом гуле громыхали раскаты грома — будто скалы срывались сверху и, увлекая за собой лавину камней, сталкиваясь и дробясь, летели вниз. Облако пены становилось все плотнее, впору было бы надеть хоть акваланги! Мод шагала впереди, доктор замыкал шествие. Мод остановилась. Видена подумала, что, должно быть, здесь легендарная индианка выпрыгнула из разбившейся лодки. С трудом дыша, Вилена огляделась. Вода вокруг кипела и клокотала, несясь, как из пожарных брандспойтов, взрываясь фонтанами у каждого камня, взлетая пенными смерчами. Тихая и глубокая вверху река превратилась здесь в стремительный горный поток, прыгавший по полузатопленным камням. «Каким искусством, силой и волей нужно было обладать, чтобы выплыть здесь?» — подумала Вилена. Ее тормошила Мод, указывая в сторону. В туманном облаке виднелась надпись: «No smoking» — не курить. — Запрет курить в таком мокром месте! Вот смешно! — Мод заливалась хохотом, в восторге от доставленного всем удовольствия. Это был ее главный сюрприз. Вилена радовалась, глядя на нее. Ей хотелось спросить доктора: здесь ли выбралась индианка? Он понял и кивнул. Вилена оперлась на руку Арсения и заглянула ему в глаза: «Нужно быть такой, как эта индианка?» Он взял ее руку и пожал. Они повернули обратно. Вверху все переоделись и, веселые, вернулись в парк. Это был один из самых счастливых дней в жизни Вилены.Глава вторая КАМНЕМ СТЫНЕТ
Видно, наряду с парадоксом времени существовал и некий «парадокс радости», ускорявший мелькание дней! И настал наконец час, о котором избегали говорить Вилена и Арсений, но думали всегда. В давние времена толпились в гаванях жены и невесты моряков, высматривая на палубах каравелл или других кораблей своих любимых, уплывавших с Христофором Колумбом или Магелланом, с Лазаревым или Георгием Седовым. Впереди у моряков — неведомые просторы, мертвые штили или штормовые волны выше мачт, спасательные шлюпки, плоты, обломки палубы… или, в случае благополучного плавания, загадочные богатые страны, незнакомые народы, нехоженые материки. И, наконец, возвращение… Надежда помогала жить и морякам, и их близким. Была такая надежда и у семей первых космонавтов. Гагарин, а потом его товарищи-исследователи, как правило, выходили невредимыми из спущенной на парашюте головной оплавленной кабины первых космических кораблей. У Вилены не было никакой надежды. Если она и увидит Арсения, то подслеповатой старухой. Это отличало ее от всех, кто прежде тосковал по тем, кто в море… И все же лучик солнца оставался с Виленой. Именно по этой причине Арсений, поддержанный матерью и бабушкой Вилены, настоял, чтобы она, в ее состоянии, не провожала его на космодром. Ракеты ближнего полета, подобно морским шлюпкам, доставляли экипаж к кораблю, стоящему на космическом рейде — на орбите искусственного спутника Земли. — Береги малыша, — твердил Арсений напоследок. Вилена смотрела ему в глаза, такие ясные, голубые, с лучиками на радужных оболочках, и старалась улыбаться. Только мать да бабушка знали, чего ей это стоило. Врачи давно определили, что у Вилены будет мальчик. Вилене хотелось оставить мальчика в семье, где мама, бабушка да и Авеноль помогут. Но Арсений возражал. Он мечтал, чтобы сын еще крошкой попал в «школу мужества», где воспитывался сам. «Воспитание — искусство! — говорил он. — Квартира не пронизана излучением, делающим мозг ребенка восприимчивым к внушению основ морали и изучению наук. Да и смогут ли домашние заменить специалистов, рассказать о героических примерах взрослых, пробудить в малыше нужные качества характера?» Где и как лучше воспитывать детей? Так спорили во многих семьях. Поведение человека в жизни важнее, чем даже глубокие знания. «Подлинная мудрость — не только в проникновении в суть наук, но и в понимании своего долга перед всеми» — так утверждал Арсений, и Вилена согласно кивала. Он взял с нее слово поступить в школу «педагогов разума». Убедить Арсения, что мальчику будет хорошо в семье, Вилена и не пыталась. Арсений составил себе ясное представление о родных Вилены. Профессор Ланской, человек мягкий, добрый, но «не от мира сего». Вечно погружен в свои формулы и заботы о мыслящих машинах. Где ему заниматься внуком! Анна Андреевна — художница. У нее бездна вкуса, но нисколько не меньше безалаберности. Хлопотлива, суматошна, балует дочерей и, конечно, испортит малыша. Авеноль сама еще ребенок. А бабушка Софья Николаевна, бывшая актриса, слишком уж иронично и несерьезно, как казалось Арсению, смотрит на мир. С нею он схватился однажды. Она утверждала, что лучше, чем по старинке, воспитывать детей нельзя и новые искания — просто модные фокусы. Арсений напомнил ей, что учитель, преподающий предмет, много лет изучает его. Неужели же «педагогу души» нужна меньшая подготовка и совсем не требуется талант? За трепанацию черепа и воздействие на больной мозг берется лишь очень хороший хирург. А воспитатель должен сформировать мозг ребенка, целиком! Он должен быть и психологом, и сам сильным человеком, способным стать примером для своего воспитанника. Почему же взрослый, не подготовленный к воспитанию и не имеющий дара к этому, все же должен брать на себя воспитание ребенка? Он же может искалечить его, подобно неумелому врачу!..Прощаясь, Вилене хотелось броситься Арсению на шею и, по-бабьи рыдая, уговорить его остаться, отказаться от полета. При одной мысли о разлуке у Вилены холодела спина. Как бы ни велико было ее собственное горе, она ни на секунду не забывала о величии подвига, на который во имя долга шел Арсений. Но слово «подвиг» никто из них никогда не произнес. К полету Арсений относился буднично, как к шагу, столь же неизбежному, сколь и естественному. И Вилена, подавляя страх, старалась поддержать взятый им тон, хотя давно поняла, что без мужа жизнь ее станет совсем другой, пустой и холодной… пока не появится мальчик. Бабушка и мама по-разному представляли себе будущую жизнь Вилены. Софья Николаевна загадочно улыбалась. Она была уверена, что никакого парадокса времени нет и Арсений вернется ровно через пять лет, и она, Софья Николаевна, еще вдоволь нарадуется на Виленино счастье. Анна Андреевна размышляла иначе. Если Арсения полвека не будет, то Вилене надо просто выйти замуж за хорошего человека, хоть за того же профессора Игнатия Семеновича Шилова. Ничего, что он старше ее и вдовец. Зато он любит по-серьезному. Такой мужчина не променял бы жену на звездный полет. Конечно, спохватывалась она, звездолетчикам, в том числе и зятю, — уважение человечества и ее, Анны Андреевны, любовь, но зачем же бросать жену с ребенком? Едва Арсений грузным шагом, не оборачиваясь, вышел из дома, Вилена стала собираться: натянула перчатки, поправила на руке браслет личной связи — никогда не снимаемое изящное украшение с вкрапленным в него в виде цветного камня микрорадиотелефоном. Мама и бабушка с тревогой смотрели на нее, из деликатности ни о чем не спрашивали. Торопясь и тяжело переваливаясь с ноги на ногу, бежала Вилена по галерейному тротуару, пока не увидела стоящий внизу у парапета турбобиль, очевидно свободный. Она неловко спустилась к нему по нескольким ступенькам. Свободен! Села на переднее сиденье. Надев обруч управления на голову, откинулась на спинку. Турбобиль помчался по мокрому, совершенно синему асфальту. Вилена вовсе не была идеальной женщиной, какой казалась Арсению. Она была способна, как выяснилось, даже на безрассудство. Турбобиль, как бы сам собой, поворачивал на нужные улицы. Мелькали городские кварталы, парки, пруды. Нет! Она не собиралась догонять Арсения! Тем более — задержать, вернуть… Влекомая безотчетным чувством, быть может, просто женским капризом, естественным в ее состоянии, она мчалась к космодрому… хотя уже не могла успеть к отлету корабля. Но ей казалось крайне важным увидеть хоть в небе корабль с Арсением. Промелькнули последние дома города. Начался поздний осенний дождь. Белоствольные голые березы и потемневшие, сырые безлиственные осины казались печальными. Возле холма, граничащего с другой стороны с обрывистым карьером каменоломни, Вилена остановила турбобиль, сняла с волос металлический обруч и выбралась на влажную траву. С трудом поднялась она по раскисшей тропинке на холм. Мутная пелена дождя скрывала и небо, и строения космодрома. Тяжелые тучи, как дым, стелились низко над лесом. Деревья гнулись в мутных космах дождя и протягивали голые мокрые ветки, словно пытаясь кого-то удержать. Вилена подумала: «Земля плачет, провожая своих питомцев. А вот я не плачу, оттого и тяжко мне». И ей припомнилась старинная голландская песня о морячке, окаменевшей на берегу Северного моря:
Софья Николаевна выбежала на галерейный тротуар. Анна Андреевна, слишком полная для такого бега, отстала. Как нарочно, ни одного свободного турбобиля! Побежали дальше. Может быть, вон тот, впереди? Глаза ослабели, не видно таблички «Свободен». Только бы кто-нибудь не опередил! Прохожие удивленно смотрели на пожилую женщину. Какой-то мужчина, начавший спускаться к турбобилю, остановился и, увидев, что старая женщина спешит к машине же, тотчас открыл перед ней дверку. Софья Николаевна поблагодарила, усаживаясь на переднее сиденье. Подбежала Анна Андреевна. Почти валясь от изнеможения в кабину, она только и сказала: — На космодром, куда же еще! Софья Николаевна уже сидела с обручем управления на голове, и машина тронулась. Анна Андреевна следила за указанием прибора, подсказывая повороты, и твердила: — На космодром, через каменоломню… Такой пеленг дал браслет… Софья Николаевна хмурилась и прибавляла скорость, включив радиосигнал предупреждения всем движущимся экипажам, чтобы ехать без задержки, — все уступали турбобилю дорогу. В юности Софья Николаевна брала призы в автомобильных гонках и славилась лихостью езды. Но, пожалуй, даже в девичьи годы не рискнула бы она ехать, как сейчас. Асфальт от начавшегося дождя стал скользким, и машину несколько раз занесло на крутых виражах. Анна Андреевна даже вскрикивала, а Софья Николаевна лишь закусывала губу. У Вилены привычка от нее пошла. Чтобы сократить путь, поехали по старинной проселочной дороге, разбрызгивая столь непривычную теперь дорожную грязь. Выемки дороги наполнились водой. Ливень хлестал косыми струями. Вверху гремело. То ли гром, то ли ракета поднимается!.. Вдруг обе заметили турбобиль у дороги и сразу решили почему-то, что это машина Вилены. К обрыву каменоломни женщины бежали, скользя по липкой глине. Вилену они нашли внизу, на камнях… Бабушка стала причитать. Анна Андреевна же вызвала по браслету личной связи мужа и передала ему о случившемся. Через минуту в ее радиотелефоне зазвучал голос пилота санитарного вертолета, вылетевшего на помощь. Анна Андреевна сидела на камне, положив на свои колени голову Вилены, а Софья Николаевна гладила ей ушибленную руку. Вилена окончательно пришла в себя через несколько часов. Она увидела над собой пластиковый потолок под слоновую кость, ощутила запах больницы. Превозмогая боль, Вилена повернула голову и, узнав сидевших подле кровати маму с бабушкой, заплакала. Ей нельзя было шевелиться. Она получила сотрясение мозга. Анна Андреевна положила свою мягкую руку на лоб Вилены. И тут Вилена схватилась за одеяло, ощупала себя в ужасе. Расширенными, вопрошающими глазами смотрела на маму и бабушку. Даже тупая головная боль отодвинулась куда-то в затылок. Софья Николаевна поджала губы, по морщинистым щекам ее текли слезы: — Мальчик был… мальчик, — глухо сказала она. Анна Андреевна с укором посмотрела на старуху и прижала к себе голову рыдающей дочери.
Глава третья ВИДЕОСВИДАНИЕ
Профессор Шилов был удивлен и обрадован, узнав, что в радиообсерваторию приехала Вилена Ланская-Ратова. Корректный, приветливый, он вышел из своего кабинета и даже спустился на первые три ступеньки лестницы. — Я очень рад видеть вас у себя, — проговорил Шилов. Вилена смутилась и молча протянула ему руку. Он поцеловал «волшебные», как не преминул сказать, пальцы, потом повел ее к двери с красивой дощечкой, перечислявшей все его ученые звания и посты. Диван для посетителей в кабинете профессора был неудобный и жесткий — напоминал, что здесь не следует задерживаться, отнимая бесценное время ученого. Это чувство охватило и Вилену, едва она села. Шилов занял удобное кресло напротив: — Итак, как вам здесь нравится? Вопрос был пустым и холодным. Шилов сам почувствовал это и добавил: — Мне бы хотелось услышать от вас, что вы возвращаетесь к музыке… — Нет, нет… Совсем не то… Я верю в необыкновенную чуткость… — Мою? — оживился Шилов. — …вашей глобальной антенны, — сухо закончила Вилена. Лицо Шилова вытянулось, но сразу же отразило учтивый интерес. — Я знаю, — продолжала Вилена, — что только ваша радиообсерватория имеет канал связи с глобальной антенной. И только с ее помощью можно провести теперь видеосеанс с улетевшим так далеко звездолетом. — Вы прекрасно информированы. — После отлета «Жизни» я оказалась в больнице. И не могла увидеть мужа, когда проводились сеансы видеосвязи из звездного городка. Теперь их аппаратура уже бессильна, и вся надежда на вас. Мне необходимо его увидеть. Он не знает, что и думать!.. Шилов прокашлялся: — Я уважаю ваше отношение к покинувшему вас супругу, восхищаюсь вашим пониманием своего долга перед ним, но клянусь, не могу понять, зачем вам непременно нужно видеосвидание? Если все-таки хотите обменяться со звездолетом радиограммами, мы вам поможем. Вилену больно резанули слова о том, что Арсений покинул жену, но она сдержалась, напряженно смотря на Шилова. А тот солидно продолжал: — Так вот. Другому моему ученику, Константину Георгиевичу Званцеву, удалось способом Арсения Романовича принять на глобальной радиоантенне еще один сигнал внеземной цивилизации — на планете Этана. Помните древнего царя Этана, который приказал запрячь в колесницу стаю птиц, чтобы подняться к звездам? Сказание о нем запечатлено на клинописных табличках, хранившихся в библиотеке царя Асурбанипала. Оно древнее мифа об Икаре. К радиограмме об этом открытии, надо полагать, вполне закономерном, если учесть возможную плотность заселения разумными мирами Вселенной, вы могли бы добавить и несколько своих слов. — Неужели вы не делаете разницы между телеграммой и личной встречей? — Ну, я понимаю, конечно… Однако вряд ли изображение в полной мере воссоздаст иллюзию встречи, а главное, видеосвязь с кораблем уже была. — Игнатий Семенович! Разве у вас нет сердца? — Именно вам не следовало бы меня об этом спрашивать. Я так часто стремлюсь снова пойти на ваш концерт… и в гимнастический зал. Вилена плотно сжала губы, потом сказала: — Обещаю вам, Игнатий Семенович. Вы придете, как только я сама позову вас, — и она твердо посмотрела на него. — Только я умоляю, сделайте для меня, что прошу. Шилов смутился было под ее взглядом, но с присущей ему самоуверенностью подумал: «Уступая женщине, рассчитывай, что когда-нибудь она оценит твою чуткость». И он вкрадчиво сказал: — По-человечески, сердцем своим я понимаю вас, Вилена Юльевна. Я сделаю все, чтобы все-таки устроить вам желанное видеосвидание с Арсением Романовичем. Правда, придется обождать часа два, пока видеосвязь с «Жизнью» станет возможной — глобальная радиоантенна еще не повернулась к кораблю. Вилена благодарно кивнула. Провожая ее до двери, профессор говорил: — Мне не хотелось бы, чтобы вы скучали у нас. Я дам лишь необходимые указания — не во всем еще мои ученики способны заменить меня — и предоставлю себя в ваше распоряжение. — Нет, нет, — холодно сказала Вилена. — Вы так заняты! Имею ли я право?… — Ради вас… — картинно поднял руки Шилов. — Извините меня, Игнатий Семенович. За вашим радиотелескопом чудесный лес. Если вы не против, я поброжу там. Он не стал противиться.Вилена обошла кажущееся здесь огромным зеркало радиотелескопа. Оно походило на исполинскую решетчатую тарелку, но антенна ее Арсения в десять миллиардов раз больше! Сначала она считала шаги, потом решила сосчитать, на какое расстояние улетел за четыре дня звездолет и сколько времени будет догонять его радиосигнал. При равноускоренном движении путь его равен половине ускорения разгона, помноженной на квадрат времени (в секундах). Сколько же секунд в сутках? Она сосчитала в уме. Получилось 86 400. В четырех сутках- 345 600 секунд! Как же возвести в квадрат такую страшную цифру? Ах да! Представить ее, как 3,5, помноженное на десять в пятой степени. Три с лишним в квадрате равно 10, значит, время в квадрате будет десять в одиннадцатой степени секунд. А пройденный путь при ускорении 10 метров в секунду равен пяти на десять в одиннадцатой степени. А в километрах… полмиллиарда километров! Ужас какой! Радиосигнал летит со скоростью 300 000 километров в секунду. Значит, ему понадобится времени целых полчаса! Как же теперь разговаривать с Арсением? Вилена не могла больше думать об этом. Она уже перешла поле и вошла в лес, знакомый лес! Осенний, он был голым, пустым. А когда они с Арсением гуляли в нем летом, тени здесь были не черные, а цветные: зеленые, коричневые, даже желтые… Она сказала об этом Арсению, а он засмеялся и пошутил, что то ли еще будет бабьим летом. От солнечных пятен лес тогда был пестрым, ярким. Зелень на солнце сияла, просвеченные лучами листья казались золотистыми. Припомнилось Вилене и как шли они с Арсением в тот июньский день по «живому снегу». Прозрачный ковер легкой дымкой покрывал сухую прошлогоднюю траву и пробившиеся ростки новой. Начало лета, а на елочках белый пух хлопьями, как зимой! Вспомнилась ей даже такая мелочь — нагнувшись, сняла она ладонью с ветки нежную вату и шутливо бросила ею в Арсения. И словно множество елок разом встряхнуло ветвями — пух понесся отовсюду. Попадая в солнечный луч, пушинки вспыхивали белыми звездочками, застревали в невидимой, протянутой между деревьями паутине, осторожно опускались на землю. Они с Арсением сели на пушистый ковер. Арсений, взяв пригоршню пуха, сказал, что это семена всепобеждающей жизни. Они и делают природу бессмертной. Как щедра природа! Миллионы семян летят по лесу, чтобы одно из них дало жизнь новому растению. Пушинки жизни!.. Вилена оглядела голый осенний лес, тяжело вздохнула, опустилась на почти черный от сырости пень. «Пушинки жизни!» — с тоской мысленно повторила Вилена и заплакала. «Как же я не смогла уберечь свою пушинку? Что скажу Арсению?» Вилена пересилила себя, взяла в руки. Что это с ней? То занималась ужаснувшими ее подсчетами. Теперь припомнила пух… Чтобы вконец разбередить себя? Она встала и твердым шагом отправилась обратно в радиообсерваторию.
Шилов опять встретил Вилену, спустившись на несколько ступенек лестницы. Он провел ее в лабораторию, где работали сейчас друзья Арсения — Костя Званцев и Ваня Болев. Они налаживали связь с звездолетом. У Вилены был утомленный вид. Под глазами залегли темные круги, решительная морщинка разделила брови. Шилов подвинул самое удобное кресло к экрану: — Должен предупредить вас, Вилена Юльевна, что сеанс будет весьма утомительным, поскольку программой связи не предусмотрен. На экране появились дрожащие полосы, потом понеслись неуловимые тени, наконец, мелькание прекратилось, и перед Виленой, словно из тумана, выплыл пульт с несчетными приборами, напоминавший аппаратную автоматизированного завода. Сердце защемило у нее, когда она увидела строгое, сосредоточенное лицо командира корабля Тучи — он бывал у них с Арсением. Вилена радостно улыбнулась ему, но он даже бровью не повел, смотря на Вилену, как в пустоту. Ей стало не по себе. Ваня Болев наклонился к ней, коснувшись ее своими локонами: — Он увидит вас через полчаса. Вилена улыбкой поблагодарила Болева. Уж она-то после прогулки в лес знала об этом! Напустив на себя веселую непринужденность, Вилена обратилась к экрану: — Здравствуйте, Петр Иванович! Как там у вас мой Арсений? Вы не позовете его к экрану? Надеюсь, все ладно под нейтринными парусами? Слова Вилены, превращенные в радиоколебания, будут электромагнитным вихрем целых полчаса лететь к звездолету. Столько же времени понадобится радиоволнам, чтобы донести оттуда ответ. Костя и Шилов, заполняя паузу, стали передавать Туче служебную информацию, а также рассказали о принятых сигналах еще одной внеземной цивилизации. Час, в течение которого Вилена наблюдала озабоченное лицо Тучи, показался ей сутками. И вдруг Петр Иванович расцвел: — Вот это сюрприз! — донесся до Вилены его сипловатый голос. — Вот это лады! Даю сигнал «Свистать всех наверх!» Потом он поздоровался с Виленой, с Шиловым, с Костей, хотя тот на минуту вышел из лаборатории и вместо него был Болев. Туча раскрыл перед собой тетрадь и слушал, что ему передавали час назад Шилов и Костя. Вероятно, услышав о вновь открытой цивилизации на Этане, оживился: — Лады! Ну, Константин Званцев, поздравляю! Готовься лететь на втором звездолете по примеру друга своего. Кабина звездолета заполнилась космонавтами. Вилена узнавала их всех, приветливо кивала каждому, хотя никто из них пока не мог заметить ее сигналов. Но они все улыбались ей. А вот и шестой звездолетчик, Арсений, запыхался… Вилена ухватилась за ручки кресла. — Арсений, — сказала она и замолчала. Сидевший сзади Вилены Шилов нахмурился. — Я подарила свой акваланг Авеноль. Она такая смешная! Надела ласты и перепугала бабушку, бегая по квартире. Шилов возмущенно пожал плечами. Ради такой, с позволения сказать, «информации» используется величайшее радиосооружение эпохи! Но Шилов не видел глаз Вилены. Он, конечно, знал, что люди могут взглядами говорить друг с другом — якобы с помощью какого-то излучения. Но оно никак не может возникнуть на видеоизображении! Однако видеосвидание лишний раз доказало, что чувства человека передаются выражением глаз, которое запечатлевается на фотографиях и на полотнах художников. Достаточно вспомнить глаза Иоанна Грозного, убившего своего сына, царевны Софьи или Меньшикова в изгнании, запечатленных Репиным, или взгляд боярыни Морозовой на картине Сурикова, наконец, «Незнакомки» с полотна Крамского, или глаза на портретах Рембрандта или Веласкеса! Художники знали, как передать глазами гнев или страсть, страх или нежность, веселье, горе. Видеоизображение, более совершенное, чем былая фотография, цветное и объемное, передавало всю силу взгляда Вилены, чего не учитывал Шилов. Об этом спустя полвека ему мог бы рассказать Ратов. Арсений не столько слушал Вилену, сколько смотрел на нее. Он видел ее через полторы тысячи секунд после того, как это происходило, ощущал искорки зеленоватых глаз, их ласковый прищур, голубизну белков. Многое ему говорили и румянец ее щек, и улыбка губ. Он читал по этой живой радиограмме ее лица все то, чего нельзя было выразить никакими письменами. А Шилов с неудовольствием слушал неуместную, как ему казалось, болтовню. Вилена рассказывала, как упала, заглядевшись на ракету, — не удержалась все-таки, поехала на космодром — и просила простить за это. Ведь все обошлось благополучно! Потом вспомнила про какие-то пушинки в лесу и почему-то о ребенке и даже о внучке, «встречающей своего деда-ровесника»… Наконец Шилов многозначительно покашлял. Вилена оглянулась и свела брови: — Я истратила слишком много энергии? — Ждите ответа пятьдесят девять минут тринадцать секунд, — сухо ответил Шилов. — Попрощайтесь. Сеанс заканчивается. Вилена встала и подошла к самому экрану. Она молча смотрела перед собой, окончательно выведя этим из себя Шилова, и прощалась с Арсением одним только взглядом, изображение которого со скоростью света настигало разбегающийся звездолет. — Лети, — сказала она шепотом. Костя произнес несколько служебных фраз об окончании сеанса и оставил включенной только приемную аппаратуру. Теперь надо было ждать… и целый час видеть Арсения. Он стоял, жадно всматриваясь в экран, где видел Вилену до того, как она обратилась к нему. Но вот он встрепенулся и стал вести с Виленой немой разговор, отзываясь на каждое произнесенное ею час назад слово. Наконец сказал: — Прощай, родная. Понял все. Мне легче, чем тебе. Вилена плакала, зная, что ее видят теперь только в обсерватории, а не на звездолете. Этого Шилов вынести уже не мог. Он сухо раскланялся с Виленой и поручил Ване Болеву проводить ее до станции монорельсовой дороги. Болев молча шел за Виленой, почтительно отстав от нее на шаг. Они ни о чем не говорили. Только на перроне, когда бесшумно подошел подвесной вагон, она сказала: — Спасибо, Ваня, за молчание. Я ведь неправду ему сказала. Ребенка после моего падения сохранить не удалось. — Это была святая ложь! Так поступают только сильные сердцем. Будь я настоящим поэтом, я воспел бы вас не в ученических стихах. Вы дали ему возможность спокойно лететь. Он верно сказал, что вам труднее, чем ему. Вагон тронулся. Болев несколько шагов шел следом за ним. Волосы локонами рассыпались у него по плечам. Он долго смотрел на уходящие вдаль столбы с монорельсом, который вдали казался тонким натянутым проводком на телеграфных столбах со старой картинки — Ваня Болев любил старину.
Глава четвертая СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
На этой станции монорельсовой дороги, но уже зимой, Вилена очутилась еще раз. Привела ее сюда тоска, тоска по Арсению, которую она никак не могла побороть. И вот, сама не зная как, Вилена приехала к обсерватории. Приехала потому, что здесь работал Арсений и она могла посмотреть на стены, видевшие его. Приехала потому, что здесь был лес, в котором она поджидала Арсения после работы, и еще потому, что решетчатое зеркало радиотелескопа, видимое уже со станции, напоминало ей исполинскую глобальную антенну, с помощью которой в последний раз видела Арсения, говорила с ним… Вилена шла по тропинке между сугробами, стройная, подтянутая, словно знающая, куда и зачем она идет. Вдруг, вспомнив, что может встретить в обсерватории Шилова, она круто свернула к лесу. В лесу ей повстречался Ваня Болев. Ваня робко и радостно смотрел на Вилену. Из-за своих длинных локонов и девичьих ресниц он выглядел не лыжником, а лыжницей. Сняв лыжи, он молча пошел рядом с Виленой. Снег был еще неглубоким, можно было идти и без тропинки. — Зима, — наконец сказал он. — Смотрите, все заснуло. Хотите, прочту вам свои стихи про «Старую сказку»? — И, не ожидая согласия, стал читать:Глава пятая ХУЖЕ СМЕРТИ
Вилена вернулась домой полная надежд и все без утайки поведала, но… одной только бабушке. Та очень рассердилась, стала упрекать ее в эгоизме и легкомыслии, но тоже никому об этом не сказала. На следующий день бабушка повела Вилену в Институт жизни за ручку, как когда-то в первый класс школы. В лабораторию академика Софья Николаевна не пошла. Осталась ждать результатов опыта на улице и все бормотала себе под нос, что вот-де, дожила, что вместо собаки внучку на опыт положат. А внучка ее, Вилена, вместе с академиком Руденко, добродушным толстым профессором Лебедевым из Института мозга и синеглазой лаборанткой Наташей стояла перед прозрачной камерой. За ночь куб подняли из подвала в лабораторию с пластиковыми стенами. Наташа испуганно косилась на Вилену. Режим подогрева был задан автоматам еще с вечера. — Пожалуй, наша спящая из стеклянной стала каменной, — сказал Лебедев и, заметив удивление Вилены, пояснил свою мысль: — Хрупкими, как стекло, мышцы становятся при глубоком замораживании. Сейчас они уже отошли. Лишь бы целы остались нейроны мозга. — Мы усыпляли до Лады предостаточно мелких животных, — заметил академик. — По прежним вашим опытам, Владимир Лаврентьевич, нельзя было судить о сохранении сознания у подопытных животных. — Вот теперь будем судить, — сказал академик и выразительно посмотрел на Вилену. — Атмосфера, давление внутри камеры нормальные, — доложила Наташа. — Ну что ж… приступим, — вздохнул Руденко. — Придется мне на старости лет быть бородатым принцем. Сейчас мы разбудим нашу красавицу электрическим поцелуем в сердце. Дадим ему импульс, дабы оно начало сжиматься. Руденко подошел к пульту. Вилене кольнуло сердце, словно электрод был введен в ее грудь, а не в грудь собаки еще до усыпления. Тело Лады дернулось, лапы вытянулись, глаза открылись. — Владимир Лаврентьевич, да она смотрит, как живая! — Она и должна жить, Наточка. — Взгляд мутный, — отметил Лебедев. — Пульс учащается, — доложила Наташа. — Дыхание двадцать. Грудь у лаборантки порывисто вздымалась, словно опыт происходил с нею. — Живет! Живет! — радостно воскликнула она. — Будто сама просыпаюсь, — как зачарованная произнесла и Вилена. — Покуда еще мы вас не усыпили, — проворчал академик. — Проснулась! Как я рада за вас, Владимир Лаврентьевич! И за вас, Вилена Юльевна! Только… — начала было Наташа и замолчала. — Надобно скорее ее освободить, — распорядился академик. — Эка опутана, бедняжка, ремнями и пошевелиться не может, — и он направился к двери камеры. — Признаться вам, боюсь я первого собачьего вопроса. — Он посмотрел на шлем, который держал в руках. — Непременно спросит о Мэри… Не всех пробудишь, как Ладу. Академик, вздохнув, вошел в прозрачную камеру. Спирали проводов от шлема тянулись за ним. Снаружи было видно, как он подошел к постаменту, как стал ослаблять ремни, отключать провода измерительных датчиков, готовясь надеть шлем на голову собаки. Профессор Лебедев запечатлевал происходящее портативной видеокамерой. Освобожденная от ремней собака поднялась, потянулась и сладко зевнула, потом оглянулась на академика и зарычала. Руденко хотел погладить ее, но она спрыгнула с постамента и отскочила в угол. — Лада, Ладушка! Да что ты? — ласково говорил ее хозяин. — Поди сюда, хорошая моя, поди. Сейчас поболтаем с тобой. Хочешь?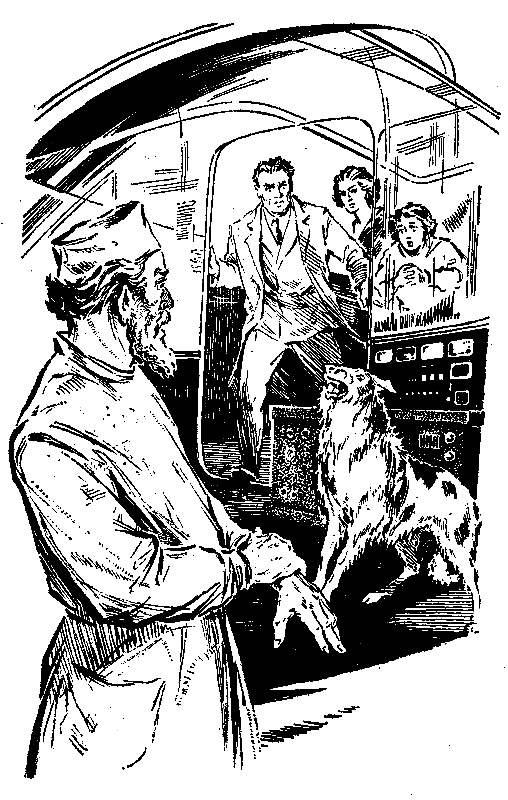
Собака оскалилась. Академик потянулся к ней, а она цапнула его за руку. Он выронил шлем, держась за укушенную кисть. — Назад! — крикнул Лебедев, бросаясь в прозрачную дверь и размахивая видеокамерой. — Тубо! Фу! Владимир Лаврентьевич, дорогой, скорее выходите. Типичный случай потери памяти. Она вас не узнала. — Как так не узнала? Это же Лада! — бормотал академик. Собака рычала, бросаясь на Руденко. — У вас кровь, — сказал Лебедев, загораживая академика своим крупным телом и защищаясь от собаки видеокамерой. — Какой ужас! — воскликнула Наташа. — Нужна перевязка? Где тут у вас аптечка? — спросила Вилена. Наташа удивленно посмотрела на нее и выбежала из лаборатории. Тем временем Руденко выбрался из камеры, а за ним и Лебедев. Пиная невменяемую собаку и отбиваясь от нее, он еле протиснулся через дверь камеры наружу и захлопнул ее за собой. Наташа вернулась с аптечкой. Вилена уверенно достала бинт и раствор мумие, древнего сказочного заживляющего средства, изготовлявшегося теперь синтетически. — Уколов против бешенства можно не делать, — бодрился академик. — Анализ ее организма известен во всех подробностях. Вирусов бешенства, безусловно, нет. Она просто меня не узнала спросонья. Вот не думал, что забудет. — Не узнала? Забыла? Самого близкого, самого любимого человека? — причитала Наташа, вопросительно глядя на Вилену. — Увы… симптомы ясны. Необратимые процессы в мозгу. Ожило не то существо, что уснуло, — заключил профессор Лебедев. Вилена бинтовала руку. Вертикальная складка залегла у нее между бровями. — Ожить и не узнать, — сухим, чужим голосом произнесла она. — Это же хуже смерти. — Хуже смерти, — подтвердил академик. Собака опрокинулась на спину и стала корчиться в конвульсиях. — Наташенька, проследите, что с бедняжкой произойдет, — сказал академик. — Пойдемте в мой кабинет. Надобно поразмыслить… о будущем. — О будущем?! — протестующе воскликнула Наташа. — Разве не ясно? Вы же сами сказали: хуже смерти. Заснуть ради него, а проснувшись — не узнать! Как же можно? — Наточка, голубушка! Прения сторон еще не начаты. В кабинете Вилена села на стул, не касаясь его спинки. В висках у нее стучало, мысль лихорадочно работала. Она чувствовала себя так, будто на нее легла вся тяжесть опыта. Крепко сжатые губы, напряженный взгляд говорили об ожесточенном упорстве. Академик сидел за громоздким письменным столом. А профессор Лебедев грузно шагал по кабинету, разглядывая коллекцию черепов между книжными полками. Дверь из кабинета вела на веранду, а оттуда в парк. — Вы же сами все видели. Я готов был помочь вам. — Бедная Лада, — сказала Вилена и еще плотнее сжала губы. — Признаться, надеялся я пожить с ней, поговорить у камелька. — Такая неудача! Такая неудача! — горевал Лебедев. — Не скажите. Как бы ни было жаль Лады, но отрицательный результат опыта — это тоже результат. И весьма важный, весьма важный. Вот Вилена Юльевна поймет это. — Прекрасно понимаю, — согласилась Вилена и, пристально глядя на Руденко, спросила: — Но ведь вы не отступите? Будете продолжать опыты? — Непременно будем. Вошла печальная Наташа: — Подопытная собака погибла. Руденко развел руками, повернулся к Вилене. — Вы сказали, что продолжите опыты. Я готова. Академик нахмурился: — Еще себя я бы мог усыпить после неудачи с Ладой, но вас… Простите, я все-таки врач по специальности, — и отвел глаза. Вилена не успела ответить. Вошел с веранды Виев: — Прошу простить. Я хоть и не обещал приехать, но, узнав о вашем решении, не удержался. — Занавес уже опущен, — горестно усмехнулся Руденко. — Догадываюсь. Рад видеть у вас Вилену. — А это профессор Лебедев из Института мозга. Знакомьтесь. — Очень рад. — Поздоровавшись, Виев тотчас обратился к академику деловым тоном: — Не знаю, как вас, Владимир Лаврентьевич, но меня всегда интересует не то, что уже сделано, а то, что надо сделать. Вот об этом мне и хотелось бы побеседовать с вами в любое время, которое назначите. — Вы человек занятой. Раз приехали, не будем откладывать. Здесь все заинтересованные лица: и профессор Лебедев, и Вилена Юльевна… — Вот как? — отозвался невозмутимый Виев, совсем не удивившись. — Я, как вы знаете, ставлю вопрос о пополнении вашего спящего царства. Есть добровольцы. — Да, добровольцы есть, — и академик кивнул на Вилену. Виев повернулся к ней. Вилена прямо встретила его испытующий взгляд. — Отрицательный результат — тоже результат, — повторила она слова академика. — Новый опыт необходим, и я готова помочь его провести. Вы знаете, почему мне это очень нужно. — Это мы знаем, — прервал Руденко. — Но знаем также, что о том, чтобы заглянуть в будущее и остаться в нем, можно пока мечтать. Я тоже не прочь бы. На правах медведя в берлоге. — Но ведь может оказаться хуже смерти! — напомнила Наташа. Виев обернулся к ней, все такой же невозмутимый, и, по-видимому, все понял, хотя никто ничего ему не объяснял. Вилена тоже все поняла. Она не может рассчитывать на этот путь в будущее, к ее Арсению. Тогда… И словно в озарении она вдруг поняла, как могла бы поступить: «Если в принципе скачок во времени возможен, если его совершают люди на звездолете, а в биованнах совершать пока не берутся, значит…» И она сказала: — Парадокс времени можно победить парадоксом времени! — И обратилась к Виеву, который смотрел на нее: — Иван Семенович, если не секрет, скажите: возможен ли второй звездный рейс в ближайшее время? Ведь у вас, я знаю, готовился и второй звездолет? Виев был невозмутим: — Второй звездный рейс планируется. — И когда? — В ближайшие дни будет опубликован план рейса на Этану. — Этана? Костя говорил, что это в созвездии Гончих Псов. Рела, к которой улетели наши, — в созвездии Скорпиона. Когда оба экипажа вернутся на Землю, они будут сверстниками? Я так понимаю теорию относительности? — Вы делаете успехи, — пошутил Виев и добавил: — Вернувшиеся, будут друг другу современниками, пробыв в разлуке шесть с половиной лет, поскольку до Этаны двадцать два световых года и срок рейса тоже около пяти лет. — Шесть с половиной лет? — задумчиво повторила Вилена. — Жены моряков прежде ждали мужей из кругосветного плавания семь лет! И пусть мне будет больше тридцати… — Больше. И намного, — улыбнулся Виев. — Если бы я ждала на Земле. А если бы я летела? — Вы? Летели бы? — покосился на Вилену Виев. И опять не удивился. А вот Руденко, Лебедев и Наташа — те удивились. Впоследствии Вилена много думала о своем быстром и решительном ответе. Очевидно, сказался и ее характер, и то, что, по существу, у нее оставался последний и единственный путь. — Поскольку Владимир Лаврентьевич не берется меня заморозить, мне остается лететь, — с наружным спокойствием сказала Вилена. Виев откровенно любовался ею: — Знаете ли вы, что значит лишний пассажир на звездолете? — Конечно. Тысячи тонн горючего и конструкции. — Да. По этой причине в звездные рейсы пассажиров пока не берут. Пассажиром, увы, вам не стать. — А если не пассажиром? — с задором, но без вызова спросила Вилена. — Я ждал этого вопроса. Требуются два условия. Вам пришлось бы стать иной, Вилена. Первое — это идти не на подвиг ради своей любви, а на беспримерный риск во имя цивилизации. — И смолк. — А что второе? — уже взволнованно спросила Вилена. — Второе — нужно быть столь же необходимой экипажу звездолета, как необходим был ему ваш Арсений. Он и космонавт, и звездный штурман, не говоря уже о его заслугах как ученого. — Значит, лететь могут только люди, незаменимые в полете, — с обретенным вдруг спокойствием произнесла Вилена. — Незаменимые, — подтвердил Виев. — Вот если бы вы были математиком, как ваш отец, нейтринным инженером, как француз Лейе, или астронавигатором, как Арсении Ратов, то… — Сколько времени осталось? — поинтересовался академик Руденко. — Полтора года. — Разве этого мало? — Чтобы стать полезной для рейса? — спросил Виев, рассматривая выразительное лицо Вилены, которое отражало, как спокойствие борется в ней с волнением. — Необходимой, — по-ратовски кратко сказала Вилена и крепко сжала губы. — Пожалуй, легче горы сдвинуть, — заметил молчавший до сих пор профессор Лебедев. — Значит, надо сдвинуть, — убежденно, как умел говорить Арсений, сказала Вилена. — Клин клином вышибают. Старый академик, откинувшись на спинку кресла, слушал, потом, не выдержав, сказал: — Ах, доктор, доктор Фауст! Что твой жалкий черт, возвращающий юность, по сравнению… — С женщиной, — тихо подсказала Наташа. В этот час родилась новая Вилена.
Часть третья ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ
Ила ве ту ла ерасе, Астранес зила как селе Итала. (Сияющему свету ласковому этрусков, Астарте могущественной, Всюду сущей в Италии.)Из письма любителя-этрусковеда П. Н. Аркатова автору о «Русинском прочтении золотых пластинок на жертвеннике в Пирге близ Рима» (по материалам профессора М. Паллотино, Италия).

Глава первая ПРОТЕЗ
Вилена понимала, какой тяжкий труд — в баснословно короткий срок усвоить программу, которую звездолетчики проходили за много лет. Еще в пору занятий музыкой Вилена проявляла завидное упорство в труде. Но то, что она взялась сделать, по общему мнению, превосходило все возможное. Но она твердо стояла на своем. Домашние были в отчаянии от ее исступленных занятий. Мать даже слегла. Вилена дежурила у ее постели с книгой по астрономии или по физике в руках. По выражению ее лица Анна Андреевна поняла, что науки даются ей не легко. И это оказалось для матери лучшим лекарством. Поверив, что дочь не улетит, она поднялась на ноги. Мудрая бабушка советовала не вмешиваться. Все устроится само собой. Вилене мало было дня. Она вспомнила о гипнопедии (запоминании во сне) и как-то вечером принесла записанный на ленту курс лекций по физике, чтобы за ночь усвоить несколько глав. Не желая мешать Авеноль, с которой жила в одной комнате, она ушла ночевать в кабинет отца. Бабушка вызвалась посидеть с ней. И обе уснули. Анна Андреевна слышала из-за двери, как бубнил аппарат: — Термоядерные реакции в звездолете могут быть основаны на превращении четырех атомов водорода в один атом гелия. При слиянии ядер водорода будет наблюдаться дефект массы, соответствующий выделению энергии по формуле Эйнштейна: Е равно М, помноженному на С в квадрате, где Е — энергия, М — дефект массы, а С — скорость. — Пусть хоть выспится! — вздохнула Анна Андреевна. Утром Авеноль в тренировочном костюмчике распахнула дверь в отцовский кабинет. — На зарядку! Ста-но-вись! — И, вбежав в комнату, включила видеофон. На экране появилась дикторша, любимица семьи: — С добрым утром! Авеноль нажала кнопку, и шторы раздвинулись. Солнце ударило Вилене в глаза, она стала протирать их: — Что такое? Почему я на папином диване? И ты, бабушка, здесь? Тебе неудобно было сидя спать? Софья Николаевна потянулась в кресле: — Как? И я уснула? Вот не гадала! На экране появилась стройная гимнастка — казалось, будто она рядом с сестрами. Вилена уже выпрямилась, привычно развела плечи. — Ай да бабушка! — воскликнула Авеноль, заметив, что Софья Николаевна принялась, как и внучки, повторять под музыку движения гимнастки. — Девочки! Завтракать! — послышался мягкий голос матери. Уже за столом, когда Анна Андреевна разливала кофе, Юлий Сергеевич спросил: — Так что же ты помнишь из ночного урока? — Выдохлась. Не занималась ночью, — призналась Вилена, совершенно забыв о попытке учиться во сне. — Может быть, и к лучшему, — облегченно вздохнул отец. — Во всяком случае, все же проверим. Ты ничего не знаешь о дефекте массы? — Он соответствует освобождающейся энергии при термоядерной реакции, — вдруг ответила старая актриса. — Бабушка! Ты выучила! — всплеснула руками Авеноль. — Ничего я не выучила, — заворчала бабушка. — Тьфу ты пропасть!.. Сама не знаю, откуда знаю. Правда, роли когда-то на лету запоминала. — Постойте, постойте! — изумилась Вилена. — А почему я знаю? Я думала, что физику давно забыла. Формула Эйнштейна: Е равно М, помноженному на С в квадрате. — А кофе ты будешь пить «Це в квадрате»? — хмурясь, спросила Анна Андреевна. — Где Эм — дефект массы, — продолжала Вилена, — а Эс… — Скорость света, — подсказала бабушка. — Поздравляю! — поднял чашку, как бокал, Ланской. — У Вилены новый конкурент. В звездный рейс полетит Софья Николаевна!.. — Ой как здорово, — хохоча, воскликнула Авеноль. — Почему у нас в школе так старомодно? Даже не позволяют спать на уроках! — Все это значительно серьезнее, — сказал Юлий Сергеевич. — Во всяком случае, Вилена, после завтрака я с тобой займусь. И Юлий Сергеевич проверил свою дочь. Ему стоило большого труда сдержать себя и говорить мягко: — Видишь ли, Вилена. Гипнопедия — метод, конечно, известный еще с двадцатого века. В сочетании с дневными занятиями он помогает изучению иностранных языков, способствуя запоминанию многих новых слов. Но твоя задача значительно сложнее. Мало запомнить, как невольно получилось с бабушкой, надо понять, скажем вот, теорию относительности Эйнштейна. — Я старалась еще в школе. Но такая теория противоречит здравому рассудку. Почему скорости, складываясь, все же не могут быть выше предела? Я еще девчонкой бунтовала. Может быть, я просто неспособная? — Дело не в способностях, а в сроке. Но Вилена и слышать не хотела, что срок мал. Отец скрепя сердце стал руководить ее занятиями, утешая жену, что выполнить замысел Вилене все равно не удастся и никуда она не улетит.Для Вилены не существовало ничего на свете, кроме ее книг. Напрасно Авеноль уговаривала ее зимой пройтись на лыжах, тщетно заманивала ее уже летом поплавать с аквалангом. Время шло. Надежд у Вилены оставалось все меньше, спокойнее становились ее родные. Каждое утро контейнер электромагнитной почты доставлял Вилене букет красных гвоздик. Несколько раз с помощью видео появлялся Шилов. Но Авеноль сумела разузнать, что цветы не от него. Он не любит красный цвет, он его раздражает. Вилена отказывалась от любых развлечений, которые предлагал ей Шилов. Анна Андреевна хваталась за голову. Авеноль была довольна. Она объявила сестре: — Ты хочешь улететь к звездам? А я стану русалкой. Пожалуйста, не улыбайся. Я нашла себя. И поняла, в чем будущее человечества. На Земле рождается столько детей! А семьдесят процентов земной поверхности заняты океанами. Надо сделать водную среду обитаемой для человека. Буду сидеть под водой и месяц, и два, и делать все самое невозможное, пока не докажу вместе с друзьями, что можно целым народам жить в океане! Но Вилена могла думать только о подготовке к звездному рейсу. Она уже давно не относилась к нему как к средству догнать Арсения во времени. Чтобы стать достойной звездного подвига, оказывается требовалось совершить подвиг земной. И не для себя, а для всего человечества. В осенний хмурый день к Вилене пришел посетитель. Бабушка осторожно вошла в ее комнату и многозначительно сказала: — К тебе, Вилена. Один молодой человек. Волосы до плеч, как у принца. И давно ждет. Просил не беспокоить тебя, если ты занимаешься. Только я сказала, что ты всегда занимаешься. Ты уж обойдись с ним… по-хорошему. Вилена вышла из своей комнаты. Несмотря на усердные занятия, она выглядела такой же подтянутой, строгой. Ваня Болев смущенно вскочил под ее пристальным взглядом. В руке у него был небольшой чемоданчик. — Здравствуйте, Ваня! — Простите меня… я помешал занятиям. — Разве можно помешать? Мне мешает собственная голова, — усмехнулась Вилена. — Собственная голова? — почему-то обрадовался Болев. Вилена удивленно посмотрела на него. — Простите, — сухо сказала она. — Надо сегодня еще так много сделать. Готовлюсь к экзаменам, — и Вилена опять усмехнулась. — Так я потому и пришел! — оживился Ваня. — По поводу моих занятий? — удивилась Вилена. — Что тут можно придумать! Мало запоминать — надо понимать. Не годится голова. — Вот, вот! — снова обрадовался Болев. — Потому я и пришел. Они сели. — Я все время узнавал, как у вас идут дела. — Вы узнавали? У кого? — Я и Костя. Помните его? Мы поочередно звонили вашему папе. — Он ничего мне не говорил. — Мы просили его об этом. Мы следили за вашими успехами. И пришли к выводу. Запомнить в такой срок все, что требуется, вам невозможно. Я просчитал это на электронной машине. Астрономические цифры. Превосходит человеческие возможности. — Ну вот! Благодарю вас за помощь и ободрение, — с горькой иронией сказала Вилена. — Зачем эти слова, пустые и лживые? — Поверьте, сейчас меня никакие слова не интересуют… — Нет, это вас заинтересует, если… Вилена устало повернулась к Болеву: — Что если? — Если вы на все готовы. — Разве меня надо еще спрашивать? — Я потому и пришел к вам, — быстро заговорил Болев. — Вы можете меня выгнать. Можете объявить маньяком, но я вижу для вас один только выход. — Все-таки выход? — Да, вы сможете сдать экзамен на нейтринного физика, если… — Я и так перегрузила свой мозг… до отказа. — Я кое-что придумал и снова покушаюсь на ваш мозг. — Хорошо, что на мозг, — усмехнулась Вилена. Ваня Болев смутился, потупил глаза: — Я уже давно… понял. — Так что же мой мозг? Не выдержит, взорвется? — Только магнитная память электронной машины способна вместить все необходимые знания. — И что же? Мне теперь стать электронной машиной? — Я это и предлагаю, — обрадовался Ваня. Вилена встала прямая, упругая. Пронизывающе посмотрела на него. Ваня тоже вскочил: — Я работаю над проблемой машинной памяти. Можно использовать портативную кибернетическую машину, которая запомнит уйму необходимых знаний. — Машина, но не я!.. — Машину сделать частью вашего мозга. — Заменить мой мозг электроникой? — гневно спросила Вилена и опять пристально посмотрела на Болева. — Нет. Что вы!.. Только ввести в ваш мозг электроды, платино-иридиевые электроды… какую-нибудь сотню… Животным ведь вводят. — Животным? Ваня торопливо объяснял: — Портативная машина памяти всегда будет с вами. Ею станут управлять биотоки вашего мозга. Заключенные в ней знания непосредственно передаются ему… — Болев! — властно перебила Вилена… — Я воспользовался готовым комплексом памяти и только насытил его. Вот в этом чемоданчике или сумочке, называйте как хотите, заключены все нужные вам для экзамена познания. Считайте это электронной шпаргалкой или справочником… Только пользуйтесь! — и Ваня протянул Вилене небольшую кожаную сумку, которую она приняла за чемоданчик. Вилена взяла ее и приложила к уху: — Как же мне узнать, что здесь таится? — Согласиться. Я не знаю, как это делается. Вероятно, придется остричь волосы. Ну, и побрить голову… Я не нейрохирург. — Вы с ума сошли! — Вот этого я больше всего и боялся, — упавшим голосом сказал Болев. — Я, признаться, попробовал написать стихи про древнего царя Птолемея. Он, уходя на воину, оставил безутешную жену Веронику. Нет, не бойтесь, я не стану вам читать свои вирши, просто расскажу. Она поклялась богам принести им в жертву свою красоту, свои волосы, если муж вернется… — Милый, милый Ваня! В своих стихах вы уже предлагали мне стать Спящей Красавицей, дождаться принца в ледяном гробу. Теперь вы хотите… — Когда вернувшегося царя встретила жена… он был безутешен! Но звездочет Канон показал ему в небе пряди рассыпанных звездочек. Они походили на Волосы Вероники. — Вы, должно быть, все-таки станете поэтом. Не думайте, милый Ваня, что я испугалась. Рискуя жизнью, о волосах не плачут. Нет, я отказываюсь от вашей чудесной электронной шпаргалки совсем не поэтому. — Отказываетесь? — не веря ушам спросил Болев. — Подумайте, что вы мне предлагаете? Протез мозга? Разве я захотела бы заменить свои ноги самыми красивыми колесами? Ваня смущенно посмотрел вниз и покачал головой. — Почему же я должна перестать быть человеком в самом главном? Почему должна пойти на симбиоз женщины с машиной, дополнить свою голову протезом? Нет, Ваня, я хочу выиграть сражение, оставшись человеком, показать, на что способна, если иду на все… — Как жаль… Я думал… войдя в звездолет и вспомнив о Волосах Вероники, вы этим включили бы одну электронную ячейку… — Милый Ваня. Я и так обязательно, когда войду в звездолет, вспомню Волосы Вероники, а главное, вас. Я ведь давно все поняла… без всякой электроники, и я не знаю, как благодарить вас за подарок, который не смогу принять. — Простите меня… Я не знал, что вы такая. Я — глупец. Я… я искал…
Глава вторая ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ
— У нас в Нидерландах в старые времена говорили: «Бог создал мир, а Голландию — голландцы». Вилена пристально посмотрела на своего спутника, потом вокруг. Великолепное шоссе напоминало родную страну. Но здесь оно тянулось вдоль прямолинейного канала, рядом мелькали мачты монорельсовой дороги. Шоссе проходило ниже уровня воды в канале. Поэтому суда на подводных крыльях, казалось, мчались навстречу и готовы были перелететь через шоссе с цветником, отделявшим воду от дороги. У инженера тен-Кате, встретившего Вилену на аэродроме, машина была на воздушной подушке. В облике инженера было какое-то несоответствие, в котором Вилене хотелось разобраться. Был он еще молод, хотя и лысел, ростом невысок, рано пополневший, сидел сутулясь и сбоку казался унылым. Но стоило поймать его взгляд, как это впечатление исчезало: горящими глазами жадно смотрел он перед собой, словно старался все заметить, все впитать в себя. Говорил он тоже в полном противоречии со своим обликом, убежденно и с увлечением. Должно быть, где-то внутри, решила Вилена, он был столь же романтичен, сколь обыденен с виду. — Голландцы вот уже тысячу лет отвоевывают землю у моря, — снова говорил тен-Кате. — Мы едем по былому морскому дну. — По польдеру? — Вилена пристальным взглядом окинула поля, разделенные на аккуратные прямоугольники и возделанные с особой любовью. — В былые времена фермер передавал свое хозяйство старшему сыну, а младшие отправлялись искать счастья. За морем вырос город Нью-Амстердам, который зовется теперь Нью-Йорком. Голландцы основали Бурскую республику в Африке, наводнили Индонезию. Они или растворялись среди заморских народов, или возвращались обратно. В Голландии становилось тесно. — Какая удивительно ровная страна, — заметила Вилена. — И без гор, и без лесов, — подхватил ее спутник. — Нидерланды — в переводе «нижняя страна». У нас есть древняя поговорка: «Держи ноги сухими». Наши предки застали здесь болота и себшу, смесь грязи и соли. Они осушили страну, перерыв все сетью каналов и перекачав в них воду с помощью ветряных мельниц. Начали наступать на море, оградив страну дамбами. — Всегда восхищалась. — Я потому напомнил вам об этом, что мечтаю отодвинуть дамбы еще глубже в море, отвоевать у него плодородных земель не меньше, чем осушено за тысячу лет. До вступления Голландии в Объединенный мир этот проект считали невыполнимым… — Он встретился глазами со взглядом Видены, живым, пожалуй, даже выпытывающим. — Почему? — спросила она. — Но ведь вы пианистка, — сказал он, смотря уже в сторону. — Но теперь изучаю технику. И ради этого еду к вашему отцу, рассчитываю на его помощь. — Земляные работы — самые тяжелые. Нужно перебросить в море миллиарды кубометров камня, песка, цемента для плотин. Но без этого можно обойтись, если построить дамбы из морской воды. — Заморозить ее? Но сколько же надо холодильных устройств? — Если использовать давнюю дружбу голландцев с ветром, можно за его счет и заморозить дамбы, а потом и поддерживать их в замороженном состоянии. — И, увлекшись, он стал объяснять: — Опустить в морскую воду каркас из труб и пропустить по ним холодильный раствор. А когда вода замерзнет, трубы вытащить. Холодильный раствор заполнит отверстия во льду, не позволяя ему оттаять. И никакого цемента! Так сделали у вас в Арктике. Я тут ничего не изобрел. — Мне это нравится. Ледяные берега. Красиво. — Не сочтите меня назойливым, почему вы, знаменитая пианистка, интересуетесь техникой? — Мне это необходимо. — Для жизни? — Для счастья. Молодой инженер умолк, бросив смущенный взгляд на свою спутницу. Машина свернула с магистрали и перешла с воздушной подушки на колеса. Теперь они ехали уже более узкой дорогой между возделанными полями, поразившими Вилену своей расцветкой. — Тюльпаны! — сдерживая себя, сказала она. — Голландские тюльпаны! — Теперь голландские, но ввезены сюда из Турции в XVI веке. Как раз тогда Голландия покрывалась ветряными мельницами, сделавшими ее самой энерговооруженной и передовой страной Европы. Потому к нам и приезжал русский царь Петр. — Он любил трудолюбие. Говорят, у вас матери показывали своим малышам их ручонки, на которых линии складываются в букву М, а если смотреть наоборот, то в букву W. — Верно. Менс — человек. Верк — работа. Да, так в былые времена отгадывали судьбу, зная, что она неотделима от труда. Может быть, потому трудовая Голландия так легко вошла в семью народов Объединенного мира. По сторонам дороги мелькали каменные домики ферм. Часто их окружали рвы с водой, через них были переброшены мостики. За рвами расстилались поля выращенных цветов. — Почва в Голландии взлелеяна поколениями. Недаром в мрачные годы мировой войны двадцатого века эта почва вывозилась в гитлеровскую Германию как ценный военный трофей, — продолжал инженер занимать гостью. Вдали показался странный холм со срезанной макушкой. Словно огромный стол стоял среди равнины. На нем в листве деревьев проглядывали старинные черепичные крыши. На крутом склоне холма виднелись древние почерневшие деревянные сооружения — защита от морских волн. — Причуда отца, — указал на них тен-Кате. — Не позволяет убирать. Память предков! Даже старые причалы сохраняет. Видите вверху просмоленную лодку? Редкая древность. — Значит, остров не среди моря? — Среди поля — среди бывшего моря. Но зовется островом. На нем и помещается клиника отца. Мы приехали. Они поднимались по выбитым в скале ступеням, пока не оказались на поверхности бывшего острова. Вилена окинула пристальным взглядом поля и представила себе морскую даль и домотканый парус в синеве. Ветер дул ей в лицо, развевая платье. — Море прорывалось сюда дважды: в двенадцатом веке в небывалый шторм и потом в двадцатом, когда гитлеровцы, проиграв войну, взорвали дамбы. — Войны теперь невозможны, а против штормов вы воздвигнете надежные ледяные дамбы, увеличив территорию Голландии. — Может быть, не только Голландии, но и всего Объединенного мира. Осушить бы все материковые отмели! Это дало бы человечеству вторую Евразию! Он вел ее по парку. В аллеях встречались одинокие больные.Профессор Питер тен-Кате-старший ждал Вилену, но не вышел ее встречать. Невысокий, как и сын, но отяжелевший, с заметным брюшком, он не хотел поддаваться возрасту и довольно старомодно боролся с ним. На голове у него были тщательно уложены редкие крашеные волосы. Несовременные пышные усы его — тоже крашеные. — Очень рад вашему приезду, — сказал он Вилене звонким голосом. — Мой друг академик Руденко просил меня принять вас. Вилена, пристально всматриваясь в него, решила, что ему не дать его семидесяти пяти лет. Если бы он прочел мысли своей новой пациентки, то был бы очень доволен. Профессора срочно вызвали в операционную, и он, извинившись, ушел. Вилена осталась его ждать, вспоминая, как впервые услышала о нем.
Академик Руденко не забыл о Вилене после трагедии с Ладой. Однажды, выйдя в общую комнату, Вилена увидела за семейным столом профессора Лебедева из Института мозга. Авеноль суетилась около контейнера электромагнитной почты, очевидно заказав что-то в магазине. Софья Николаевна и Анна Андреевна хлопотали у стола. Папа занимал гостя. Вилена услышала слова отца: — Я сам хотел везти к вам Вилену. Губит свой мозг. — Начатый ею эксперимент беспримерен. Вот и она! — Профессор обратился к Вилене: — Надеюсь, вы не забыли меня и простите за вторжение? Владимир Лаврентьевич так заботится о вас! Вилена улыбнулась. Гостя усадили за стол. Вилена удивилась обилию блюд. В их спартанском доме не принято было много есть. Лебедев шутливо потирал руки. Интересовался, как у Вилены идут занятия. — Жаль, не научились еще прививать человеку нужные способности, — ответила она. — Вам ли не благодарить предков за гены музыканта? — Но мне нужны гены математика-отца или далекого предка по материнской линии — физика Ильина. Так зашел разговор о памяти предков. — Она существует, — решительно заявил Лебедев. — Есть знания, опыт жизни, передаваемые по наследству. Волчонок, лисенок играют в охоту. Мы это называем инстинктом, не понимая сущности. — Вы отрицаете инстинкт? — спросила Анна Андреевна. — Не отрицаю, а пытаюсь объяснить… без чванства гомо сапиенса. Птицы знают маршруты перелетов, рыбы — пути нереста. Бобры умеют строить инженерные сооружения, не заканчивая институтов. А человек… — Что человек? — подняла глаза Вилена. — Человек все-таки загадка, — вздохнул толстяк, вытирая губы салфеткой. — Возьмите его мозг. В нем нейронов что звезд в Галактике. А сколько мы используем? Весьма малый процент. — Как жаль, — отозвалась Вилена, хмуря брови. — Знаменитый голландский ученый Питер тен-Кате называет белые пятна на полушариях мозга материками сюрпризов. — Не там ли хранятся знания предков? — спросил Ланской. — А как иначе объяснить, что один человек, упав с лошади, заговорил вдруг на древнегреческом языке, которого не изучал? Или: почему в двадцатом веке английский пьяница-моряк Эдвард Смит, напиваясь, изъяснялся на арабском языке и отменно бранился на забытых средневековых диалектах? И, трезвея, сразу забывал. — Во всяком случае, естественно объяснить это памятью предков, — сказал Юлий Сергеевич. — Добавлю: многим приходилось испытывать странное ощущение: как будто это со мной уже было, хотя быть этого не могло! — Дежавю. Так в медицине зовут подобное нервное расстройство. — Расстройство? — переспросила Вилена. — А полеты во сне? Без крыльев, без всяких усилий взмываешь, как при невесомости. А летают во сне все. — Возможно, и не расстройство, а тоже проявление наследственной памяти, далекое воспоминание из чужой жизни. Голландский ученый тен-Кате делает дерзкие опыты, пробуждая у своих пациентов память предков. Вилена, сощурясь, пристально смотрела в окно на бегущие облака. Ею овладела мысль обратиться к этому профессору через академика Руденко. Если бы он попросил тен-Кате принять ее!
И вот она сидела теперь в старинном рыбачьем домике бывшего острова, снова готовая на опасный эксперимент. Было бы неверно думать, что она не боялась. А вдруг она станет идиоткой? И она невольно повела плечами, но, тотчас же овладев собой, расправила их. Профессор тен-Кате вернулся из операционной, довольно потирая руки. — Вы очень смелы. У меня еще не было полной удачи, — сказал он Вилене. Она твердо ответила, посмотрела ему в глаза: — Теперь будет. — Наши предки слишком мало знали по сравнению с теперешним временем. — А их способности можно во мне пробудить? Старый профессор улыбнулся: — Хотите заполучить частичку их «я»? Именно этим мы и занимаемся. Все ли вы взвесили? Имеете ли представление о механизме памяти? Вилена готовилась перед отъездом сюда. Она знала, что современные физиологи проводят аналогию между живым организмом и кибернетической машиной. Главная отличительная черта живого — способность принимать информацию извне и реагировать на нее… Даже у дождевого червя наблюдаются такие процессы. Ячейки памяти расположены у него в хвосте. У большинства животных — в центральном мозговом образовании. Впрочем, есть и память мышечная. Вилена слишком хорошо знала о ней — ее пальцы сами воспроизводили наизусть в строго определенном порядке тысячи движений с поразительно точными интервалами, записанными композиторами в нотах. С кибернетической точки зрения в мышцах существовали элементы логической памяти. Механизм памяти, как поняла Вилена, у живых существ в принципе не отличается от машинной памяти электронного устройства. Но если у кибернетиков элементы запоминающего устройства намагничиваются или заряжаются статическим электричеством, или, как в современной машине звукозаписи, в запоминающем элементе происходит смещение молекул, то у живых организмов все основывалось на химических реакциях в клетках, хранящих в результате химического соединения полученную информацию. Однакоможно было представить себе и клеточки, в которых запоминающие химические реакции уже произошли, и это отразилось в коде наследственности, по которому воспроизводится новое живое существо. Оно появится на свет вместе с клеточками, запомнившими информацию, полученную теми, кто дал в поколениях жизнь наследнику. Ученые разделили память на активную и пассивную. Активная обусловлена существованием клеточек, готовых запоминать. Пассивная же — образованием клеточек, уже как бы заранее измененных в результате давнего запоминания. Поэтому живые существа, будь то кит или комар, формируясь соответственно с расположением цепочек из молекул нуклеиновых кислот, получают не только плавники, крылья и ноги, но и какую-то часть мозга с уже «сработавшими во время жизни прародителей клеточками, носителями памяти». Эта наследственная память передает детенышам такие знания, которых те при короткой своей жизни никак не могли получить. Этот феномен назвали «инстинктом», передающимся из поколения в поколение. Особенно ярок пример из жизни таких «общественных» насекомых, как муравьи пли пчелы. Наследственная память помогала любым видам животных в их борьбе за существование. Очевидно, человек не мог быть исключением из общего правила. Но его пассивная память из-за активности мозга уступает памяти живой, отодвигается на далекий задний план и проявляется лишь в исключительных случаях. — Вы готовы на все? — спросил профессор тен-Кате. — Я тоже готов помочь вам, но… не скрою, боюсь, как бы пробужденные в вас древние комплексы не заслонили современность. Но я надеюсь на успех. Вам предстоит подготовиться. Вас проводит сестра ван Дейсс. — Последние слова он произнес, включив переговорное устройство. На пороге появилась высокая худая сестра ван Дейсс. У нее были тонкие губы и строгие глаза, а на голове — сложное белое сооружение. Она повела Вилену в отведенную ей комнату.
Операционная профессора тен-Кате ничем не напоминала хирургическую, если не считать того, что стены ее были выкрашены тоже в черный цвет, как и в операционной академика Руденко. Черными были и огромные щитовые панели, на них выделялись желтые циферблаты, по преимуществу прямоугольные. И Вилене сразу вспомнилась рубка управления звездолета, какой она увидела ее во время видеосвидания. Стало как-то легче. Если все будет удачно, то она войдет все-таки в такую же рубку. — Готовы ли вы, смелая женщина? — ласково спросил профессор, с улыбкой вставший из-за пульта ей навстречу. Вилена не видела, чтобы до этого он улыбался, — около глаз у него появились морщинки, похожие на трещинки. Усадив Вилену в кресло, тен-Кате пошутил: — Не сочтите это за такие древности, как зубоврачебное кресло или электрический стул, — и сам же засмеялся. Вилена осталась серьезной. Сестра ван Дейсс подошла к ней с огромным шлемом, от которого тянулись к черному пульту пружинки проводов. Вилена вспомнила о говорившей Ладе. Когда Ланской-Ратовой надевали на голову шлем, она зажмурилась, но заставила себя открыть глаза. И ей представилось, что на нее надели космический шлем.
Глава третья СВЕРХВОСПОМИНАНИЕ
Вернувшись после эксперимента тен-Кате домой, Вилена каждую ночь стала видеть страшные сны. …Маленькая гривастая лошаденка скачет под ней ровным махом. Высокие пахучие травы бьют ее по лицу. С бугров видна степь, вспененная ковыльной сединой, и волны холмов на горизонте. Все быстрее скачка. Ветер воет в ушах, и стрелы свищут у самого уха. Черной тучей высыпали из засады враги. Звенят клинки, сшибаются кони, встают на дыбы, падают вместе со свирепыми всадниками в траву. Как странно было Вилене чувствовать в себе бешеную ярость, кровь, свою и чужую, боль и опьянение битвой…
Проснувшись, Вилена долго не могла прийти в себя. Как могла она убивать? Ей казалось, что она живет странной, новой, совсем не ее, Вилены, но притягивающей к себе чьей-то жизнью…
Торжественно-печально опускают в открытую могилу тело вождя. Под руку ему кладут, чтобы удобнее было схватить, лук и колчан со стрелами. Удар кривого меча — и валится на край ямы мохноногий конь. Его стаскивают вниз за хвост и длинную гриву. Женщины покорно стоят на коленях. Лица их скрыты распущенными волосами, которые достают до комков рыжей, выброшенной снизу земли… Вилена проснулась в холодном поту.
Сверкает отраженным солнцем морской простор. Сияющая синева моря, неба и свежий ветер наполняют Вилену безотчетной радостью. Ее длинная одежда ниспадает крупными складками. На берег с корабля сходит загорелый горбоносый бородач. Рабы несут тюки привезенных товаров. Высятся стены, словно сложенные из скал. У ворот бородатые стражи в огненных шлемах, с огненными копьями. И вот Вилена на базаре, ярком, шумном, пестром… Разноречивый говор напоминает гомон птиц. На камнях у мощеной дороги с выбитой в ней колесницами колеей сидит купец. Он разложил перед собой браслеты, серьги, кольца. У Вилены (всегда равнодушной к украшениям) дух захватывает теперь от их красоты. Ее сжимают со всех сторон, толкают локтями молодые женщины со множеством косичек, спадающих на плечи. Вилене жаль просыпаться — она хочет снова и снова переживать непосредственность наивной покупательницы.
Золотая пластинка с письменами сверкает в лучах солнца. Нужно распластаться на жертвенном камне, повторяя: «Ила ве ту ла ерасе нак к иавил же урвар те си амеит еле илаквеала се как Астрансес зила ка селе Итала». Утром Вилена ловит себя на том, что повторяет эти странные слова. Юлий Сергеевич педантично записывает их. Профессор тен-Кате предупредил его, что наследственная память у Вилены будет просыпаться постепенно. Нужно обязательно отметить, какой период яснее всего всплывает в ее сознании. Может быть, потребуется еще один сеанс. Профессор Ланской, тщательно ведя дневник снов своей дочери, сокрушался: — Каспарян, тот сразу бы определил, что это за язык. Попробуй перевести хотя бы смысл. К величайшему изумлению Вилены, ей не составило это никакого труда. Она произнесла нечто вроде заклинания:
Глава четвертая ИСПЫТАНИЕ
Шаги гулко отдавались в огромном пустом зале. Вилена не могла отделаться от ощущения, будто вошла в древний языческий храм. Торжественная тишина, волнение, купол над головой, огромные панели с мистическим узором сигнальных ламп… Ей припомнилась фраза на снова забытом теперь ею этрусском языке: «Сияющему свету ласковому». Виев подвел ее к пульту: — Нажмите клавиши — и ваш экзаменатор приведен в действие. Считайте, что просто пользуетесь электронным словарем. Экзаменуйте себя сами. И Виев ободряюще обнял ее за плечи. Потом торопливо вышел. Вилена осталась одна против могучего электронного мозга, способного решать сложнейшие задачи космических полетов. Стало жутко. Неосвещенные циферблаты на пульте напоминали глаза притаившегося чудовища. Вилена встряхнулась. Если она рвется в полет на другую планету, то ей ли бояться безобидной машины, сделанной человеческими руками? С тем ли приведется ей встретиться в других мирах? Но все равно противник был серьезный. Вот если бы с нею была маленькая сумочка с магнитной памятью, которую приготовил милый Ваня Болев!.. Тогда против многоглазого чудовища у Вилены был бы верный защитник «той же электронной породы». «Возьми себя в руки, — приказала себе Вилена и, пересилив робость, твердыми шагами подошла к «противнику» вплотную. — Ни с одного из видеоэкранов не увидят наблюдатели растерянного лица! Ведь здесь проверяются не только знания, но и сила, выдержка, самообладание соискательницы. Не экзамен, а испытание!» Белые клавиши отражались в черной панели. Сходство их с роялем неожиданно помогло Вилене, знакомое чувство власти над слушателями сменило волнение. Она села, занесла руки над пультом, коснулась пальцами клавиатуры, словно взяла первый аккорд. И затаившееся чудовище ожило. С одного конца пульта до другого молнией сверкнули сигнальные лампочки…Радостная, возбужденная, выбежала Вилена из купольного зала. У дверей ее ждали отец с Авеноль — Виев позволил им приехать, чтобы ей было легче. — Выдержала! Выдержала! — обрадовано закричала Авеноль, словно прочла это на лице сестры. Юлий Сергеевич едва высвободил Вилену из ее объятий, чтобы обнять самому. — Было трудно? — спросил он. — Нет, не очень. Мне казалось, что я выступаю на концерте. Там руки сами играют, нужно только чувствовать. Так же и здесь. — Ты переживала? — допытывалась Авеноль. — Я? Я увлеклась… Может быть, даже слишком сильно увлеклась. Получилось само собой. — Все чудесно, что ладно кончается, — сказал Ланской и сокрушенно добавил: — Во всяком случае… матери ведь придется сказать. — Ну как? — послышался голос подошедшего Bиева. — Впрочем, все по вашему лицу видно. Какова оценка? — Оценка? — смутилась Вилена. — Простите. Иван Семенович… Разволновалась или увлеклась, не знаю, как и сказать… А разве вы меня не видели и не слушали? — Нет. Я этого не позволил себе. Вы были там одна. — А я не посмотрела на табло. — Не посмотрели? — удивился Виев. — Как же так? — Была уверена, Иван Семенович. Я-то ведь знаю, что на все вопросы ответила верно. И даже больше… — Даже больше? Обычно бесстрастное лицо Виева стало озабоченным: — Все же для опасности — так, наоборот, говорили встарь сибиряки — придется нам пойти в зал, посмотреть табло. И он пригласил с собой не только Вилену, но и ее отца с Авеноль. Девочка вошла в зал, сдерживая дыхание. Ей казалось, что она скорее умерла бы, чем решилась экзаменоваться, как сестра. Осторожные шаги отдавались под сводом. Не выключенное после экзамена «чудовище» не спало, а настороженно смотрело десятками подсвеченных глаз. На табло горело: неудовлетворительно. Виев удивленно оглянулся на Вилену, которая не спускала глаз с пульта и вслух растерянно повторяла: — Неудовлетворительно… — Что это? — мрачнея, спросил Юлий Сергеевич и потер бритый череп. — Во всяком случае… Виев развел руками: — Экзаменатор беспристрастен. Потом он посмотрел на Вилену. Лицо ее пылало, острый подбородок вздернулся, она выпрямилась, как струна, и гневно сказала: — Это неверно! — Что неверно? — У вашей машины, как говорится, не сдержали тормоза, вот и все! Может, она размагнитилась… Техническая неполадка… Я утверждаю, что все мои ответы были правильными. — Ого! — сказал Виев, невольно отводя взгляд от пристальных зеленоватых глаз. — Мне это начинает нравиться. — А мне нисколько! — запальчиво произнесла Вилена. — Надеюсь, беседа с вашей машиной записана? — Конечно. Запись можно продемонстрировать любой комиссии. — Я знаю, что экзамен выдержала, и хотела бы, чтобы и вы да и все остальные в этом убедились.
Виев первым прошел в конференц-зал, где заседала комиссия, потом туда пригласили Вилену с отцом. Здесь кроме членов комиссии, расположившихся за длинным столом, на стульях вдоль стен сидело много космонавтов и претендентов в звездолетчики. Заседания отборочной комиссии всегда бывали открытыми. — Я от всей души сожалею, — начал профессор Шилов, когда Вилена, войдя, садилась на краешек свободного стула рядом с отцом, — что оценка поистине сизифова труда соискательницы все-таки неблагоприятна. Нам приходится, склонив головы, согласиться с этим. — Нет, — сказал Виев, — у меня есть основания просить комиссию взять оценку под сомнение и самим прослушать запись экзамена. Шилов продолжал, глядя на свои ногти: — Все-таки я не вижу основания отказываться от принятых прежде решений. Мы одобрили мысль уважаемого Ивана Семеновича — поручить экзамен машине, которой ничто человеческое не мешает сделать беспристрастный вывод. Логично ли теперь предлагать людям со всеми им присущими слабостями решать судьбу Вилены Юльевны Ланской-Ратовой? Что касается меня, члена комиссии, то я… я все-таки не убежден в своей способности судить объективно. — Я не поставил бы этого вопроса перед комиссией, если бы не желал опровергнуть самого себя, — решительно заявил Виев, — и в части машинного экзамена, и относительно своих идей звездоплавания. Надеюсь, я имею право просить комиссию высказать свое мнение по такому важному для ее председателя вопросу? — Это право Ивана Семеновича, — сказал академик Руденко. — Если он желает, чтобы мы выслушали, в чем его опровергают, отказать ему в нашей защите неучтиво. Два члена комиссии поддержали академика. Шилов хотел было возразить, но, взглянув на Вилену, промолчал. Зал зашумел. Сидевшие у стен космонавты наклонялись друг к другу и откровенно и сочувственно смотрели на Вилену. Члены комиссии разложили перед собой блокноты. В зале зазвучал бесстрастный, металлический голос электронного экзаменатора. Вилена ощущала его как живое враждебное существо, хотя это было нелепо. Слышался и ее голос. Он звучал взволнованно, порой даже увлеченно. Члены комиссии кивали и переглядывались. У Вилены от возмущения электронной машиной внутри все клокотало, бурлило, она была вне себя, но ничем не выдала своего состояния, потому что была уверена в себе. Покончив со «школьными» вопросами по математике и физике, машина наконец перешла к главному — к принципам звездных рейсов… — Применение нейтринных двигателей взамен морально устаревших фотонных, — послышался голос Вилены, — прогрессивно и обещающе, однако малоэффективно. Шорох пронесся по залу. — По существу, вся система использующего такие двигатели звездолета «Жизнь» напоминает старинные «поставы», когда для курьера засылали вперед сменных лошадей. Посылка в космос вперед грузолетов с топливом для нейтринных двигателей сопряжена с огромными трудностями и риском. Звездолет должен нагонять их, перегружать с них топливо и лететь дальше, наращивая скорость, чтобы уже на еще большей скорости нагнать топливо, оставленное для него следующим кораблем-заправщиком. — Слышно было, как Вилена вздохнула, словно набирая в грудь воздуха для ныряния. Невольно вздохнули и все в зале. Вилена продолжала: — Если в первой части рейса все это с известной натяжкой выглядит осуществимым, то на обратном пути трудновообразимо. Недаром основную часть горючего на обратный путь кораблю все же приходится брать с собой. Однако на последнем этапе пути он должен догнать заблаговременно пущенные по замкнутой «кометной траектории» танкеры. Поэтому график такого рейса чрезмерно жесток. Кто знает, какие случайности встретятся в пути и на чужой планете! Сидевший среди членов комиссии Вольдемар Павлович Архис многозначительно посмотрел на Виева. Тот рассматривал потолок зала, где было изображено звездное небо. Его лицо индийского йога ничего не выражало. — Следовательно, метод Виева для звездных рейсов непригоден? — спросил холодный голос машины. — Малопригоден, — ответил звонкий голос Вилены. — Можно воспользоваться выводами недавно опубликованной теории микрочастиц Ильина, чтобы обеспечить корабль топливом в любом месте пространства, где он находится. — Я просил бы остановиться на этом вопросе подробнее, — попросил Вольдемар Павлович Архис, словно его замечание могло сказаться на записи. Все повернулись к Вилене. Но ей нечего было говорить. Получилось так, что ее голос отвечал именно на эту просьбу Архиса. — Физика ныне уже не пройдет мимо того, что каждая микрочастица представляет собой неизлучающую систему вращающихся на двух орбитах электрических зарядов. Можно представить себе, сколько энергии выделится, если разодрать эту систему, образно говоря, «разломать микролюстру» на два обода. Если силы связи будут преодолены, то энергия связи станет свободной. С освобождением этой энергии начнется новый этап в жизни человечества. Оно овладеет, как овладело химической, а потом атомной, и вакуумной энергией. Я говорю вакуумной, поскольку основная часть пространства занята вакуумом и вкрапления вещества в нем ничтожны. Однако такую же энергию можно получить и из любой микрочастицы вещества (или антивещества). Физики подсчитали, что вакуумная энергия (связи) в протоне в десять в шестнадцатой степени раз больше полной его ядерной энергии. Я не могу пока подсказать способ, как «разодрать» микрочастицу на составные части, но, принципиально говоря, «возбудить» вакуум возможно. При этом возникнут пары материальных частиц из ничего, то есть из субстанции, которую ошибочно считали ничем. Как только микрочастицы из вакуума будут получены, их станет возможным разламывать и извлекать из них вакуумную энергию. Для звездолетов это имеет практическое значение. Где бы они ни находились в пространстве, они всегда могут получить топливо из окружающего вакуума. Топливом станет само окружающее пространство. Мысль Виева — иметь в космосе запасы горючего для звездного рейса — верна. Но завозить его туда не будет нужды. — Ответ принят, — прозвучал металлический голос. — Я изучил эту запись, прежде чем прийти сюда, — сказал Виев. — Как видите, мои идеи убедительно опровергнуты. Электронный экзаменатор показал себя воплощением рутинного мышления — он не мог увидеть больше той программы, которая в него вложена. Ответ, не совпадающий с шаблонными представлениями и догмами, он вполне бесстрастно и последовательно (и бездумно!) оценил как неудовлетворительный! Но ведь это творческий ответ!.. Вилена Ланская, как нейтринный физик, вовсе не вспоминает чужих знаний, как можно было бы ожидать. Нет, лишь отталкиваясь от них, она сама выдвигает новый принцип звездоплавания: расщепление слипшихся микрочастиц вакуума с последующим использованием энергии и микросвязи. Честное слово! Здесь есть о чем подумать! Можно поблагодарить нашего нейтринного физика за столь перспективную идею. И такого физика я, не задумываясь, включил бы в состав звездного экипажа. И я предлагаю отборочной комиссии поступить так в отношении Вилены Юльевны Ланской-Ратовой. Вилена, плотно сжав губы, пристально смотрела перед собой. Члены комиссии переговаривались. Встал профессор Шилов. — Я ошеломлен! — сказал он. — Нет слов, чтобы выразить мое восхищение. Сам вакуум, само пространство становится горючим для звездных рейсов! Перспективный путь для науки и техники грядущего! Шилов смотрел Вилене в лицо, стараясь прочесть отзвук своих слов, и был удовлетворен. Она не смогла скрыть радости. Ведь это был первый член комиссии, поддержавший ее после Виева. — Но что предлагает уважаемый Главный конструктор! — патетически воскликнул Шилов. — У меня не укладывается в моей седой голове, как можно человека, сделавшего величайшее изобретение века, наградить… ссылкой в звездный рейс. Вправе ли мы отодвигать использование блестящей идеи Вилены Ланской-Ратовой на полстолетия? Я предлагаю считать Вилену Ланскую-Ратову не только выдержавшей экзамен, но и продемонстрировавшей недюжинный талант ученого. — Он сделал многозначительную паузу и совсем уже по-актерски закончил: — Но, увы, такие таланты в звездном экипаже все-таки не требуются. Подобным ученым место на Земле. Он сел, довольный своей речью. Но тут поднялся академик Руденко: — Я вовсе не собираюсь опровергать мнение уважаемого Игнатия Семеновича Шилова. Я присоединяюсь к его восторгам. Для меня лишь пренепонятно, почему реализация идеи Вилены Ланской-Ратовой, ежели она улетит, отложится на полвека? Обращу внимание, что в публикации и математическом оформлении теории микрочастиц Ильина профессор Юлий Сергеевич Ланской, который, безусловно, остается на Земле, принял самое живейшее участие. Для всех ясно, даже для машинного мозга, если он верно запрограммирован, что Вилена заслужила право лететь в звездный рейс. Мы знаем, что ею руководило. И поэтому ее стремлению лететь мы обязаны появлением новой животворящей научной идеи. Как видите, прав был старинный философ, восклицая, что ничто великое в мире не совершалось без страсти. Нет у меня сил ответить отказом такой женщине. Пусть летит. И пусть будущим поколениям людей расскажет после возвращения, что мы с вами, преданные науке, не чужды были и человеческих чувств. Звездный инспектор Архис и еще один член комиссии поддержали академика. По лицам остальных можно было догадаться, чью сторону они возьмут. Однако все повернулось совершенно неожиданно. Тот же Виев, который только что рекомендовал включить Вилену Ланскую-Ратову нейтринным физиком в состав укомплектованного экипажа, взял слово для личного заявления: — Считаю долгом поставить комиссию в известность, что, поскольку сама система запроектированного мною рейса взята Виленой Ланской под сомнение и риск для всех его участников становится очевидным, я не могу остаться в стороне. Прошу пересмотреть состав экипажа и включить в него меня, Главного конструктора звездолета, желающего разделить опасность полета, рискуя жизнью наравне со всеми отобранными звездолетчиками. Академик Руденко заметил: — Ивану Семеновичу нельзя отказать в справедливости и благородстве его просьбы. — Чего же проще! — вскочил профессор Шилов. — Все разом становится на свое место. Нейтринным физиком и будет сам Главный конструктор. Новое обстоятельство так осложнило работу отборочной комиссии, что она не смогла вынести окончательного решения в этот день.
Глава пятая ПОРОГ
Вилена попросила отца с Авеноль ехать вперед и успокоить хоть на один день маму. Ведь еще ничего не решено! А сама осталась в звездном городке. Ей хотелось поговорить с Шиловым. При одной только мысли об этом зеленоватые глаза ее суживались. Но Шилов все не шел. Вилена стояла на ветру в липовой аллее городка и наблюдала, как ветер гнал сухие листья. Наконец она увидела вдали Шилова, идущего с высоко поднятой головой в мягкой шляпе. Рядом с ним шагал Костя. Они о чем-то возбужденно говорили. — Это ваш долг, Званцев, — внушительно убеждал Шилов. — Вы, как член экипажа, должны все-таки понимать, в каком положении оказались все отобранные. Надо помочь комиссии. Кроме того, проверить, верно ли сделан выбор. Именно поэтому вы обязаны сказать… ей так, чтобы она поверила вам, и сказать немедля. В конце концов оберните это вашей обычной шуткой. Помните, от этого будет зависеть все. Костя некоторое время в непривычном для него молчании шел рядом, потом решительно зашагал вперед. Вилене было странно видеть, с каким сумрачным лицом подходил к ней весельчак Костя. — Ну вот… нейтринный физик, — сказал наконец он. — Поздравляю. Вопрос предрешен, если… — Что если? — насторожилась Вилена. — Виев? Шилов? Костя махнул рукой и покосился на аллею, по которой не спеша приближался Игнатий Семенович. — Разве в Шилове теперь дело? — сказал Костя, с видом заговорщика придвигаясь к Вилене. — Насчет «постав» — критика гильотинная. Ничего не скажешь. Рубила, словно сама была вчера на глобальной антенне. — А кто там был? Кто? — насторожилась Вилена. — Ну я был. И что? — улыбнулся Костя. Он, отобранный в экипаж звездолета, не мог быть там, но Вилена не способна была сейчас рассуждать. Она лишь вопросительно смотрела на Костю. — Я могу, конечно, сказать… — продолжал тот. — Вполне согласен с тобой, что корабли-заправщики и кометные орбиты — типичная ахинея! Вы правильно «изволили выразиться на людях». — Назад пятишься? — сощурилась Вилена. — Не я назад, а они. — Кто они? — Твой Арсений со товарищи. — Как Арсений? От него известие? — Только на глобальной антенне и можно было получить сообщение… — Какое сообщение? Не мучь ты, инквизитор! — Какой же я инквизитор? Кто же из святых отцов такое радостное известие преподносил, как возвращение «Жизни». Сама же критиковала систему рейса, предложенную Виевым. Торжествуй победу. — Какая там победа? Возвращаются? Летят к нам? — Они-то летят. А вот тебе решать — лететь или оставаться. Арсении в этом году будет дома. Вилена плотно сжала губы. Буря мыслей и чувств охватила ее, кровь прилила к ее лицу, лоб стал влажным. И вихрь листьев, взметнувшись с аллеи, словно поднят был ее взглядом. «Арсений возвращается! Лететь незачем! Как все просто! Остается только дождаться, когда подойдет Шилов, и согласиться с ним, уступая отвоеванное с таким трудом место в звездолете Виеву. Как все просто!» — эти мысли ошеломили Вилену. — Не нашли они очередного танкера на трассе, не заправились у летучей бензоколонки, ну и повернули назад, — буднично пояснил Костя, косясь на нее цыганскими глазами из-под пушистых ресниц. «Повернули назад? Как же можно повернуть?» — мелькнуло в мыслях Вилены. Но здравые рассуждения тотчас были вытеснены безудержной радостью: Арсений летит к ней! Снова вместе! И тут же Вилена взглянула на себя со стороны. Говорят, счастливые глупеют. Шилов будет присутствовать при отказе ее от места в звездолете. И она будет здорово выглядеть: не звездопроходчица, а всего лишь жена, гоняющаяся за своим мужем в безднах времени!.. Не так ли скажут о ней все те, кто вместе с Виевым готовы лететь на Этану во имя чего-то другого, чего она, как баба… да, ведущая себя, как баба! — недостойна… Ну нет! Вилена привычно сжала губы, потом сказала Косте чужим, холодным голосом: — Милый Костя. Опоздал ты на год. Раньше я была бы счастлива остаться… — Раньше? — недоуменно переспросил Костя. — А какая разница? — Раньше — не теперь. Если уж я решилась лететь, то не только ради себя, а так же, как и все вы. Вот ты… из-за чего ты летишь? — Ну как из-за чего? — смешался Костя, никак не ожидавший такого поворота в разговоре. — Мечта жизни — встреча с другой цивилизацией. — Так и для меня это стало целью жизни, если хочешь знать! Не сразу я к этому пришла. Видно, росла вместе со своим стремлением лететь. И вот… хотела сначала лететь из-за Арсения… А вот остаться из-за Арсения, должно быть, уже не смогу… хоть все внутри и разрывается. Пусть он станет на полвека старше к моему возвращению. Я буду с ним… около пего. Останусь верной ему женой. Но на звезду полечу. Шилов был уже близко. Вдруг Костя обнял Вилену, радостно заглянув ей в лицо. — Ну, молодец! Ай, молодец! — кричал он. — Говори, что простишь… — Кого простить? — Меня. Кого же еще? Сама же научила. Помнишь видеосвидание? Сказала тогда Арсению, будто ребенок ваш жив. Вот и я решил проверить, какова ты есть. Честное слово, это же святая ложь. У Вилены внутри словно что-то оборвалось и сразу же включилась способность аналитически мыслить. Да как же она могла хоть на мгновение допустить, будто звездолет «повернул обратно»? Что это, турбобиль на дороге? Затратить двойную энергию на торможение и снова разгон? За счет какого топлива? Значит, ей был устроен розыгрыш. Проверялись ее научные и человеческие качества. И что же? Нет! Приговор себе вынесет она сама. Вилена пронизывающе смотрела на Костю, и у нее был такой вид, словно она хочет влепить ему оплеуху. Он весь съежился. К ним подошел Шилов. Он сделал Косте повелительный знак, чтобы тот исчез. Костя с радостью мгновенно выполнил это. — Я пришел к вам объясниться, — сказал Шилов, снимая с головы шляпу. Вилена улыбнулась: — Объясниться? Право, не время. И так я сама не своя. Вилена пошла. Но Шилов не отставал от нее. — Все-таки я считаю необходимым объяснить… — говорил он. — Зачем объяснять? — Дабы вы поняли, почему я удерживаю вас. Шилов продолжал держать снятую шляпу в руках. Шел на шаг сзади. — Сильный ветер, — покосившись на него, сказала Вилена. — Вы простудитесь. — Вы даже не представляете все-таки, что значат для меня эти слова, исполненные заботы! — проникновенно произнес Шилов. Вилена поморщилась. — Вы все-таки, конечно, хотите знать, зачем я удерживаю вас на Земле? Я отвечу вам на этот незаданный вопрос. Потому что я люблю вас и буду бороться за вас, сколько хватит сил… — Зачем я вам? Я люблю другого. — Ревность — пережиток прошлого. Мне чужды нравы минувшего. Я уважаю ваше чувство к человеку, который ушел от вас в другой век. Но я хочу, чтобы вы все-таки остались с нами… со мной. Подумайте. Вы теперь не только знаменитая пианистка, но и великий ученый. Ваше имя назовут наряду с именами Марии Кюри-Складовской, Ирен Жолио-Кюри, Софьи Ковалевской, нашей современницы Татьяны Роговой. Я предвижу, как будет реализована сегодняшняя ваша идея. Тысячи научно-исследовательских институтов возьмут ее на вооружение. И недалек тот час, когда могучими средствами теперешней физики будут разломаны надвое частички мертвого пространства, которое вы оживили своей гениальной фантазией. Не знаю пока, как и вы сами, каким способом, но непременно и очень скоро у нас научатся разъединять любой квант вещества или вакуума, зажигая на его месте новые звезды — «звезды Вилены», как справедливо будет их назвать. Ужель все-таки вам не захочется видеть, как из лабораторий ваши звезды перекочуют в технику, изменив энергетику нашего времени, отепляя течения, расплавляя полярные льды? Имеете ли вы право покинуть человечество, путь которого сами же изменили? Ужель все-таки не позволите быть при вас верным оруженосцем в вашем триумфальном шествии по стезе науки? — Зачем вы так расточаете свое красноречие? Я люблю другого, но даже ради него не осталась бы сейчас на Земле. — Вот как! — Да, Костя только что до вашего прихода устроил мне возмутительный розыгрыш, проверял меня. — Какая пошлость! Постыдная пошлость! Об этом надо тотчас сообщить отборочной комиссии. — Зачем? Не надо! Его могут оставить… — Если хотите, я могу не сообщить, но… если вы добровольно отступитесь в пользу Виева. Поверьте, он стоит этого! Все равно кого-то надо оставлять. — Я полечу вместе с Виевым. И, надеюсь, вместе с Костей. — Это мы посмотрим, — хмуро сказал Шилов. Вилена тряхнула головой и, расправив плечи, четкой походкой пошла к турбобилю, ожидавшему ее в конце аллеи. Шилов понуро смотрел ей вслед. Голова его уже не откидывалась гордо назад. Он был раздавлен ее упорством и смотрел вокруг тусклым, помутневшим взглядом. Ветер вырвал у него из рук шляпу и погнал ее вслед за Виленой. Так, с непокрытой седой головой, он и побрел обратно в звездный городок.На следующий день в звездном городке было более оживленно, чем даже накануне. От одного к другому передавалась необычайная новость. Вилена ни о чем не подозревала, когдаторопливо шла к главному павильону, чтобы узнать свою судьбу. Ее встретил Костя. Никогда не видела она его таким понурым, убитым. — Что с тобой? — остановила она его. Он махнул рукой: — Выгнали. — Откуда? — Со звездолета. — За что? — Это подлость, говорить не хочется. Вчера Шилов подбил меня разыграть тебя. Проверка, говорит, нужна, самая последняя, чтобы Виеву место освободить. Если покачнется, значит, не подходит… Вот я и разыграл тебя, а после этого он перед членами комиссии обвинил меня в аморальности. — Какая низость! — воскликнула Вилена. — Пойдем, я буду просить за тебя. — Куда там! Еще ночью все решили. — Значит? — Значит, ты летишь. Ну и крепка ты, должен тебе сказать. Алмазная ты. А я… не последний это звездный рейс. Придется в дублерах походить. Лети! Я догоню… — Я? Лечу? — не веря себе, повторяла Вилена. Она бросилась к Косте, обхватила его, закружила на дорожке.
Отец и мать Вилены не решились провожать Вилену на космодроме. А бабушка Софья Николаевна пришла. Она-то была уверена, что не навечно расстается с внучкой, встретит ее здесь же на подмосковном поле через каких-нибудь пять лет. Приехала она вместе с Авеноль, которая рассуждала обо всем легко: не через пять лет, так через пятьдесят лет уж она-то Вилену встретит. Сегодня девушка выглядела особенно задорной. Так и лучилась вся юной свежестью и верой во все необычайно хорошее, что уготовлено ей в грядущем. Вместе с Ланскими стоял и старый академик Руденко. — А вам идет это серебристое одеяние, — говорил он Вилене в ожидании сигнала на посадку в малый космический корабль, который доставит звездолетчиков на звездолет, — «Жизиь-2» кружил вокруг Земли на орбите искусственного спутника. — Много бы я дал, чтобы еще раз лицезреть вас в этом наряде цвета Млечного Пути. — Увидите, помяните мое слово, Владимир Лаврентьевич, как пить дать увидите, — заверила Софья Николаевна. — Пожалеете только, что годы эти уж больно быстро пролетят. Старый академик хитровато улыбнулся в бороду. — А я жалею только о том, — вмешалась Авеноль, — что я не вместо тебя лечу, Вилена… то есть я хотела сказать, что не вместе с тобой лечу, — смущенно поправилась она. Вилена обняла сестренку. Руденко говорил: — По старинному русскому обычаю, надлежит всем перед дальним путем присесть, посидеть. И не суеверие это какое-то, а народная мудрость. Посидеть, дабы в молчании подумать в последний раз: тем, кто уезжает, — о предстоящем в дороге, тем, кто остается, — о делах домашних… Ну а мы просто постоим и помолчим последнюю минутку. Сесть-то ведь некуда, — и он ласково взглянул на Вилену. Труднее всего было молчать Авеноль. Поглядывавший на нее Костя подумал: «А ее глазенки не молчат. Из них, как из реактивных дюз, рвутся снопы искр…» Началась посадка. Шесть серебристых фигур направились к кораблю. Вилена шла последней, она жадно озиралась, но старалась не оглядываться. Ей хотелось запомнить и небо с бегущими облаками, такими высокими-высокими, и дальний лес, такой знакомый по проводам Арсения, и тех, кто остался у белого здания космодрома. Она нагнулась, сорвала пучок травы и, прижав ее к лицу, оглянулась. Через земную зелень увидела она группу провожающих и впереди всех седобородого академика рядом с бабулей, которая держала за руку Авеноль: как бы не рванулась следом за сестрой. С этим пучком земной травы Вилена и вошла в корабль.
Книга вторая РАЗУМЯНЕ
Все фазы развития живых существ можно видеть на разных планетах. Чем было человечество несколько тысяч лет назад и чем оно будет по истечении нескольких миллионов лет, все можно отыскать в планетном мире.К.Э. Циолковский

Часть первая НЕВЕДОМЫЕ
И тридцать витязей прекрасных Чредой из вод выходят ясных…А. С. Пушкин

Глава первая НА ЧУЖОМ БЕРЕГУ
Желтое светило Релы, числившееся в земных каталогах сорок седьмой звездой созвездия Скорпиона, принадлежало к тому же классу звезд, что и Солнце. Еще на расстоянии полумиллиарда километров до звезды удалось установить, что «закон повторяемости и многообразия», сообщенный в послании разумян, подтверждается планетной системой этой звезды. Для Арсения Ратова и его товарищей начиналась новая жизнь. И если долгий путь — год разгона, четыре месяца полета почти со световой скоростью и год торможения — подобен был некоей спячке, то теперь уже не требовалось убеждаться по точным приборам, что корабль движется. Едва Ратов, астроном звездолета, доложил командиру Туче, что у сорок седьмой звезды созвездия Скорпиона, по-видимому, столько же планет, как и у Солнца, жизнь, ничем не похожая на земную, захватила всех. Иной ее темп, иное восприятие требовали и иного описания. Арсений не вел дневника, он лишь с присущей ему лаконичностью диктовал молекулярной машине звукозаписи перечень событий, вихрем закрутивших его. Закон повторяемости сказался, по крайней мере, на существовании ближних планет около сорок седьмой звезды созвездия Скорпиона. Открыть у нее дальние планеты типа Плутона было не так просто. Но которая же из планет Рела? Наибольший интерес вызвали вторая и третья планеты, соответствующие Земле и Венере. Однако не следовало предполагать, что звездолетчики застанут эти планеты на том же периоде развития, как и в Солнечной системе. Планеты могут оказаться совсем иными, старше или моложе на миллиарды лет. — Ничего удивительного! — воскликнул по этому поводу биолог экспедиции Анатолий Кузнецов. — Ведь не поражаемся же мы тому, что атомы и молекулы всюду одинаковые. Очевидно, и планетные системы образуются в космосе по единому коду.Звездолет «Жизнь» кружил вокруг третьей планеты. За один оборот корабля она проходила как бы все фазы земной Луны. Планета становилась то тоненьким серпиком, то ясным месяцем, то круглым диском. Арсений Ратов не выходил из радиорубки. Один за другим он передавал на землеподобную планету мощные радиопризывы, составленные Каспаряном из отрывков «музыки небесных сфер», принятой на Земле глобальной радиоантенной. Разумяне Релы должны были понять, что если к ним обращаются с отрывками их собственного послания, то это могут сделать лишь принявшие его. Но все было напрасно. Если бы на загадочной планете действовали хоть какие-нибудь радиоустановки, на «Жизни» непременно услышали бы их сигналы. Туча решил лететь к «местной Венере». Может быть, она уже отличается от земной соседки и в силу местных условий годна для обитания! Но Арсений Ратов удержал командира. Он вдруг обнаружил интересное радиоизлучение третьей планеты. Казалось, что на ее поверхности рассеяны многие миллиарды действующих радиоточек, излучение которых складывалось в общий фон. Однако ни одна из них не пыталась связаться с прилетевшими сюда братьями по разуму. Туча собрал всех членов экипажа в кают-компании. — Пошлем космическую шлюпку с разведчиками. Полетят трое. Другая половина экипажа останется на рейде. Знаю, все хотели бы спуститься, потому объявляю имена: Арсений Ратов, командир разведывательной группы, Анатолий Кузнецов, биолог и врач. Ему изучать здешние формы жизни. И Генрих Каспарян вместе со своей кибернетической машиной-лингвистом. Может быть, свяжется с инопланетянами, найдет с ними «общий язык». — И он улыбнулся: — Лады? Как ни необыкновенно было задание, возложенное на разведчиков, все они восприняли его вполне буднично — ради этого они и летели сюда. Ни один из них не выказал никаких признаков волнения. События стали развертываться с неистовой быстротой. Арсений Ратов заблаговременно изучил карту планеты, сделанную на основе многих тысяч фотографий. Материки на ней располагались преимущественно в одном полушарии. Его назвали, по аналогии с Землей, северным. Опуститься было решено вблизи экватора, на берегу моря, где скорее всего могли оказаться поселения разумных существ. Прощание разведчиков с остальными членами экипажа было деловым и кратким. По давнему обычаю, все поочередно обнялись с остающимися. Каспарян при этом был подчеркнуто медлителен; Кузнецов, порывистый, не мог сдержать нетерпения и готов был раздавить друзей в объятиях; Ратов, спокойный и сдержанный, на прощанье улыбнулся каждому. С этой минуты у Арсения и двух его товарищей по разведке после двух лет «звездной спячки» началась жизнь, ничем не напоминавшая земную. Земля казалась далекой, размеренно обычной, привычной, а здесь… Спустилась ракета не на материк, как первоначально хотел Ратов, а на остров. У Ратова были свои соображения, он считал остров безопаснее. — Как при Колумбе! Остров рядом с Новым Светом! — радовался Толя Кузнецов. Выбранный для посадки кусочек инопланетной земли оказался покрытым диковинной растительностью. Для Толи Кузнецова это было сбывшейся сказкой, для Каспаряна — источником опасности, для Ратова — началом исследования. Контрольная проверка атмосферы показала, что в нижних слоях она состоит в основном из азота, богата углекислотой и парами воды, кислородом бедна, но ничего опасного, в том числе микробов, не содержит. Ратов решил выходить — жизнь существовала на этой планете, значит, ее надо было исследовать.
Первым ступил на чужезвездную, космическую, незнакомую почву нетерпеливый биолог и сразу же опустился на колени. Каспарян хотел съязвить по этому поводу, но раздумал, увидев в руке Толи портативный микроувеличитель, в который тот рассматривал каждую былинку. Арсений Ратов зорко вглядывался в гущу сочных местных растений, чем-то напоминавших земные папоротники или гигантские агавы. Из-за них могло появиться любое чудовище. Каспарян держал в руке лазерный пистолет. Толя Кузнецов ахал и охал. — Честное слово, — говорил он в шлемофон, — на любом шагу здесь каждый станет кандидатом биологических наук, а еще через шаг магистром или доктором. Вы только смотрите! Наваждение! Какое богатство форм! Если бы я не видел нечто подобное на Земле, то не поверил бы этому!.. Вот еще одно подтверждение закона повторяемости. — А я и теперь предпочитаю не особенно верить, — отозвался Каспарян. — Можешь отложить свои обязательные сомнения. Если растительный мир здесь так пышен, то и животный обязан быть не менее разнообразен. — Предпочитаю травоядных. — Ну еще бы! При таких-то травах! О них Гоголь еще писал в «Тарасе Бульбе». Помните? А папоротники? Фонтаны неистовой жизни. — К сожалению, в этом неистовом проявлении жизни пока некому общаться с нами… даже с помощью моей кибернетики. Арсений Ратов молчал и оглядывался. Он не расставался с радиоустройством, тщетно стараясь уловить хоть какую-нибудь радиопередачу разумных. Ведь слышались же ему на звездолете радиошорохи! Они не могли быть вызваны никакими процессами в атмосфере. Было установлено, что их источники находятся на поверхности планеты. «Неужели же мы не на Реле, и я зря отговорил Тучу от полета ко второй планете?» Закат местного солнца был удивительным. Благодаря ли особому составу атмосферы или своеобразным облакам, но первая вечерняя заря, которую они здесь увидели, была фиолетовой. У Толи Кузнецова, любившего на Земле писать акварели, дух захватило. Море казалось тоже фиолетовым, все в радужных бликах. Но Ратов больше интересовался химическим анализом воды, который удовлетворил его. — А на Земле все-таки красивее, — заявил Каспарян. — А вот и живность какая-то! — обрадовался Кузнецов и указал на золотистые гребни фиолетовых воли. Он первый заметил выпрыгивающих из воды рыб или животных. Они, пожалуй, напоминали чем-то дельфинов… Но эти существа не просто выскакивали из воды, как их земные родичи, а пролетали над золотисто-пенными гребнями значительные расстояния. — Вот вам и животный мир, — продолжал Толя Кузнецов. — Что я говорил! Такая планета не могла быть ненаселенной. — Скажешь, жизнь еще не выползла на сушу? — ехидно заметил Каспарян. — Неведомые! Хоть бы разглядеть поближе одного из этих «энов». Ведь можно их так назвать? И с легкой руки биолога первые увиденные на планете животные были названы «энами», по первой букве слова «неведомые». Познакомиться с ними разведчикам довелось при необыкновенных обстоятельствах.
Не обнаружив на острове ни одного из представителей животного мира, звездолетчики решили выйти на резиновой лодке в море, чтобы поймать сетью хоть что-нибудь живое. Когда Кузнецов и Каспарян, одетые в громоздкие скафандры, отгребая от берега, стали заводить сеть, небо вдруг потемнело, стало густо-фиолетовым, как в час заката, хотя местное солнце висело над головой. Лиловые, светящиеся по краям тучи закрыли обычно зеленоватое море. Ветер поднял сильную волну. Вдали полыхали совсем земные молнии. Арсений Ратов в тревоге стоял на скале и сквозь шум и треск атмосферных разрядов требовал, чтобы его товарищи скорее вернулись. — Подожди, — слышался в его шлемофоне голос Толи Кузнецова. — Только что вытащили первый улов. Представить себе не можешь, какая прелесть! Морских обитателей никак не отнесешь к древним земным! Вполне современные особи! На суше непременно должны быть высокоорганизованные существа! — Сомневаюсь, — отозвался Каспарян. — Слишком мало в атмосфере кислорода. А он нужен для высокой энергетики разумных существ. Должно быть, на сушу никто не выполз. Так, рыбки и рачки плавают в морском питательном бульоне. Надо было лететь к другой планете. — Ты говоришь несусветное! Тебя твоя собственная кибернетическая машина ни на один разумный язык перевести не сумеет.
Шторм крепчал. Легкий моторчик резиновой лодки не мог сладить с водоворотами у скал. Каспарян и Кузнецов помогали веслами, а Ратов в тяжелом скафандре, в непроницаемом шлеме, немного расставив ноги, стоял на камне, готовый бросить веревку. Скалы содрогались от грохота. Молнии ударяли почти рядом. А может, эти миллиарды разрядов и создавали радиофон планеты, ошибочно принятый Ратовым за искусственный? Однако думать об этом было некогда. Огромная волна перевернула лодочку, и оба друга Арсения оказались в воде. Будь они без тяжелых скафандров, они легко выплыли бы, но теперь облачение тянуло их ко дну.
Глава вторая НЕВЕДОМЫЕ
Тут-то и появились эны. К каждому тонущему подплыло по пять, по шесть животных. Ратов зажмурился. Как ни крепки были его нервы, он все же не в состоянии оказался следить за исходом борьбы, и без того ясным. Однако напряжением воли он все же заставил себя раскрыть глаза. И не поверил… Кто они? Кто эти существа? Вместо того чтобы рвать зубами скафандры своих жертв, странные животные подставили людям скользкие золотистые спины с коричневыми плавниками и стали подталкивать их к берегу тупыми рылами, совсем так, как не один раз делали на Земле дельфины. «Дельфинообразные разумяне?! Неужели мы все-таки на Реле?» — мелькнуло в сознании Арсения. Эны доставили злополучных пловцов к самому берегу. Продолжал греметь гром, сверкали молнии, хлестал вполне земной дождь. Арсений бросил со скалы в воду спасательный линь. Толя поймал веревку, а Каспарян все пытался через фонтаны брызг подобраться к Кузнецову поближе, поднимался и падал. И тут Арсений увидел, как в пене прибоя мелькнуло золотистое тело эна, пытавшегося прийти к Каспаряну на помощь. Но волна ударила неосторожное животное головой о камень и оглушила его. Оставшиеся вдали эны выскакивали из воды, будто хотели рассмотреть, что происходит у берега. Арсений крикнул друзьям, чтобы они помогли пострадавшему эну. Они бросились к нему, но волны пенными взрывами сбивали их с ног, струи хлещущего ливня заливали очки шлемов. Неистовый прибой, вздымавший пену чуть ли не до туч, колотил золотисто-коричневое тело эна о камни, оттаскивал его назад и снова бросал на острия камней. Люди в скафандрах все-таки вытащили на берег беспомощное животное. Голова его была разбита, череп расколот и развалился на две части. Виднелось серое вещество. Как ни был взволнован и измучен Кузнецов, он встал на колени с портативным микроувеличителем в руках, рассматривая препарированное самой природой животное. — Развитой мозг! Богатый нейронами развитой мозг! — восклицал он. — Бедняга дельфин, — вздохнул Арсений. Несколько часов назад все они мечтали завладеть хотя бы одним из резвящихся в море животных, а теперь… — Нет, это не дельфин, — решил Кузнецов, поднимаясь с колен. — Это, несомненно, мыслящий эн. — Мыслящий! Достаточно ли оснований? — усомнился Каспарян. — А наше спасение? Подобные поступки дельфинов еще столетия назад позволили считать их второй мыслящей расой Земли. Взгляните на этот развитой череп мыслителя, на извилины мозга. Я вовсе не хочу провозглашать свою прозорливость, но это существо действительно может быть скорее всего отнесено к типу земных саламандровых. — Гм… Саламандровых? С постэмбриональными превращениями? Так, скажешь? — А голос звезд? Ты сам перевел, что на Реле разумные существа в одном своем воплощении трудятся и созидают, а в другом летают и наслаждаются. Каспарян пожал плечами. Арсений всегда был немногословен. А сейчас он только слушал и наблюдал. Он распорядился предать погибшего эна «местной земле». Его зарыли под синеватыми мясистыми «струями» папоротника. Решено было отдать бедняге земные почести. Лучи трех лазерных пистолетов по команде Арсения были направлены на камень, разбивший голову эна. Камень испарился. Оранжевый фонтан взметнулся над берегом. — И вот такие эны в своем последнем воплощении наслаждаются и летают… над волнами! — задумчиво говорил Толя Кузнецов, стоя над могилой первого повстречавшегося им обитателя планеты. — Не вижу логики, — возразил Каспарян. — На Земле животные, как и в предыстории, меняют среду, выходят из воды на сушу. А здесь местные разумяне сначала живут и трудятся на суше, а потом топятся в море? Так, что ли? Превращаются в летающих над волнами дельфинов? — А почему бы и нет? Разве на Земле известен только один ход эволюции — с моря на сушу? А земной кит? Ведь он потомок гигантского животного, ходившего по земле. У него находят даже остатки ног. А моржи, тюлени, котики и морские львы, наконец, дельфины? Каспарян пожал плечами, но ехидно закончил: — Придется признать вполне логичными проекты заселения океанов Земли соответственно оперированными людьми. Пересаживай жабры или приживляй пленку, пропускающую кислород, но не воду — и живи себе на здоровье в глубине? Так, скажешь? Друзья спорили, чтобы отвлечься от гнетущего состояния, в котором оказались после гибели эна. Они печально пошли к серебристой башне ракеты, возвышавшейся над синими джунглями. — Вспомним Австралию, — говорил Толя Кузнецов. — Это единственный континент, где живут сумчатые животные, у которых развитие детенышей завершается после рождения. Мы с вами попали на «космическую Австралию» с постэмбриональными превращениями живых существ. — Не нравится мне, что мы никого в лесу не встречаем, — непоследовательно сказал Каспарян. — Надо перебраться на материк. Не может быть, чтобы на этой планете не было сухопутных животных. Только на материке у нас есть шансы найти разумян, — горячо убеждал Кузнецов. Каспарян противился: — Почему, почему? Да потому, что не надо лезть в пекло. — Как же ты полетел в звездный рейс? — отпарировал Кузнецов. Ратов слушал, слушал и решил по-своему — переправиться через морской пролив. Ракета будет ждать их здесь. Это сделали они на следующий день. На вездеходе с воздушной подушкой они выбрались на песчаную отмель. На берег набегали зеленоватые волны с оранжевыми пенными хребтами. Отмель была пустынной и граничила с зарослями синеватых папоротников. Местность казалась жуткой. Но Толю Кузнецова она восхитила. Ботанические находки встречались на каждом шагу. Он ползал со своим увеличителем в руке и около растений, и по песку. — Следы животных! — с некоторым торжеством объявил он наконец. Каспарян воспротивился тому, чтобы входить в джунгли: — Нельзя удаляться от вездехода. Будем отрезаны от ракеты морем. Следы вели к тропинке, терявшейся в джунглях. Кузнецову стоило большого труда, чтобы сдержаться и не побежать по ней. — Будем ждать, — твердо решил Ратов. Пришлось подчиниться. — Они сами выйдут, непременно выйдут, — успокаивал Толя сам себя, не решаясь возражать Арсению. — Если они оставляли следы на песке, то появятся снова. Значит, им море нужно.При необыкновенных путешествиях все, казалось бы, получается (в пересказе) очень просто. Приехал, встретил, увидел… Столетия назад знаменитый русский путешественник высадился на далеком берегу один и лег спать у костра. Из чащи вышли дикари-туземцы, которые могли бы убить его, безоружного и спящего. Но бесстрашие странного человека поразило их. Проснувшись, он увидел туземцев рядом с собой. Как просто! Но как трудно, расчетливо, героично! Столь же «просто» было и на берегу чужепланетного моря. Звездолетчики прилетели, переплыли пролив и ждали. И больше ничего. Но ведь любая встреча означает, что кто-то кого-то, наконец, увидит. Так же случилось и на этой планете. Правда, не в первый и даже не на второй день. На «пляже», как назвал отмель Толя, никто не появлялся. — Напрасно мы ночуем в вездеходе, — решил Кузнецов. — Нужно было бы, как Миклухо-Маклаю, спать на земле у костра. — Спать не советовал бы, — возразил Каспарян. — Если и быть здесь ночью, то чтобы наблюдать. Арсений распорядился найти место для засады. Вырыли в песке своеобразную траншею, «наблюдательный пункт», замаскировав его стеблями растений. Догорала заря, вечерняя, фиолетовая, неторопливая… Местное солнце удивительно медленно спускалось к горизонту, где на него набегали тучки, через которые оно просвечивало, как через закопченное стекло. На песчаную отмель, разбиваясь кружевной лиловой пеной, размеренно набегали длинные волны. Скоро пена стала серой, а потом и совсем исчезла в неясном свете незнакомых звезд. — Вы заметили, что у этой планеты нет Луны, — прошептал Толя Кузнецов. — Хватился на третьи сутки! — усмехнулся Каспарян. — Где ж тут закон подобия? — Отец радировал о Фаэтоне, — сказал Арсений. — У того мог быть спутник. После взрыва, не удерживаемый больше развалившимся Фаэтоном, он обрел новую орбиту. Проходил он опасно близко от Земли, и она захватила его в поле своего тяготения. Так спутник Фаэтона стал спутником Земли — Луной. — Хочешь сказать, здесь еще не произошел взрыв на пятой планете? — живо отозвался Каспарян. — Может быть, — неопределенно заметил Арсений. — Я предпочел бы обыкновенную лунную ночь, — сказал Кузнецов, чуть приподнимаясь из-за края траншеи. Арсений заметил, что Каспарян вынул из кобуры и положил рядом с собой лазерный пистолет. — Вспомни Миклухо-Маклая, — спокойно сказал Арсений. — Не зевайте, — прошептал Толя Кузнецов. По тропинке, которую они обнаружили, из джунглей выходила вереница прямостоячих существ в длинных белых одеяниях. — Одежда!.. Признак разумности, — хриплым от волнения голосом произнес Кузнецов. — Скорее пингвины какие-то, — отозвался Каспарян. А вдали в тихо бегущих волнах почудилось движение. Кто-то шел по мелководью навстречу вышедшим из леса. И через некоторое время над водой стали заметны прямостоячие фигуры, но только без белых хламид. Были они золотистого цвета с коричневыми пятнами, как у энов… — А из воды вышли кто, тоже пингвины? — прошептал Кузнецов. — Это тоже эиы!.. Только не плавают, ходят! В шлемофонах послышались радиошорохи… и приглушенное дыхание людей, словно боявшихся, что их обнаружат аборигены. Появившиеся из джунглей существа остановились у пенной полосы прибоя, а выходившие из моря уверенно направились к ним. Было что-то торжественное в этой встрече при свете звезд. Ее не могли — во всей полноте и загадочности — понять пришельцы с Земли. — Это эмы! Эмы, то есть мудрые! — задыхаясь, проговорил Кузнецов, снова использовав первую букву слова «мудрые». — Мы на Реле! Идемте к ним! Миклухо-Маклай пошел бы… — Ни в коем случае. Надо сперва выяснить их намерения, — запротестовал Каспарян. Нет, не простой оказалась встреча с разумянами! Выходцы из моря поравнялись со встречающими, которые укутали их белыми одеждами, похожими на купальные простыни. Теперь все фигуры стали напоминать одна другую. — Видите, они не имеют ни малейшего желания топиться. Скорее наоборот, — прошептал Каспарян. — Лазерные пистолеты — вот что теперь понадобится! — Нет! — скомандовал Ратов. — Пистолеты оставить у траншеи. Не для того мы прилетели за столько световых лет, чтобы применять их. Каспарян проворчал, а Кузнецов вспоминал об острове туземцев в Тихом океане. — Спокойно. Пошли, — сказал Арсений и первый выбрался из траншеи. Толя Кузнецов, не уступавший ему ростом, шел с ним рядом, а низенький Каспарян, недовольный, даже обиженный, отстав шагов на десять, шел следом. Он то и дело ощупывал пустую кобуру. Три фигуры в неуклюжих костюмах приближались к загадочным аборигенам. На ходу они старались шумом привлечь к себе внимание, чтобы обитатели Релы не заподозрили нападения. Руки, в которых не было никакого оружия, они протягивали к хозяевам планеты. Но существа в белых хламидах никак не реагировали на приближение чужепланетных гостей. Вероятно, эмы никого не боялись на своей планете, не знали ни осторожности, ни страха, быть может, давно избавившись от всех опасных животных. Только после церемонии укутывания одеяниями запоздавших выходцев из моря эмы оглянулись и, очевидно, заметили землян. — «И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных», — прогремел усиленный радиоголос Толи. Трое неуклюжих великанов в тяжелых скафандрах, расставив ноги, стояли у пенной полосы прибоя и через громкоговорители тщетно обращались к загадочным глухонемым эмам. Громкоговорители смолкли, и существа разных планет стали молча разглядывать друг друга.
Глава третья СИГНАЛ БЕДСТВИЯ
Глаза эмов были, пожалуй, самым удивительным из всего, что видели люди на планете Рела. Продолговатые, с горизонтальными щелевидными зрачками они больше всего напоминали глаза на японских статуэтках «догу», созданных во времена джемон-периода пять тысячелетий назад и одетых в некие подобия космических скафандров. Арсений даже подумал было, что эмы в давние времена прилетали на Землю. В первую встречу с эмами люди не могли рассмотреть за длинными хламидами их телосложения. Выходившие из воды были слишком далеко. Эмы не выразили к пришельцам никаких чувств: ни страха, ни радости… даже любопытства, если не считать, что удивительные глаза их были устремлены на пришельцев. Арсений подумал, что эмы, наверное, так же глухи, как и они сами в надетых шлемах, когда приходится пользоваться радиосвязью. Радиосвязь! Так вот в чем разгадка! Что такое глаз? Природный радиоприемник очень узкого диапазона волн. Если на Земле природа создала у животных такой приемник электромагнитных колебаний, не появился ли на другой планете живой радиоприемник много большего диапазона? Что, если глаза эмов принимают и передают не только световые волны, но и радиоволны, включая и тот их диапазон, в котором звучала «музыка небесных сфер»? И Арсений мгновенно принял решение. Подобно тому как «Жизнь» с тысячекилометровой высоты посылала на Релу радиопризывы, которые никто не ждал, а потому не принял, Арсений передал теперь подобранные в свое время Каспаряном отрывки «послания разумян» направленным лучом в ожидающие глаза эмов. И эмы поняли!.. Непостижимо как, но они восприняли сигнал, длившийся лишь миллисекунды. Глаза эмов излучали и принимали излучение. Впоследствии, когда Каспарян удивлялся находчивости Арсения, тот говорил: — Разве на Земле не пользуются таким методом передачи информации? Он-то слишком хорошо помнил, как они с Виленой, разделенные полмиллиардом километров, все же говорили друг с другом взглядами на видеоэкране. Окружив пришельцев, эмы заглядывали своими щелевидными глазами в очки шлемов. Эмы были ростом ниже людей, передвигались прямо, переваливаясь из стороны в сторону, как пингвины, сходство с которыми еще в первый миг заметил Каспарян. У них было четыре конечности. Пятой конечностью мог бы считаться их хобот, служивший им для жестикуляции. Сейчас, когда эмы заглядывали в глаза пришельцев, их хоботы были призывно подняты. Арсению показалось странным, что все эмы поняли «музыку небесных сфер». Если ее и передавали четверть века назад отсюда, то, вероятно, немногие специалисты и с помощью уникальных устройств. Едва ли рядовые обитатели планеты могли теперь знать об этом. Но все же именно эта понятая эмами «радиомузыка небесных сфер» сблизила аборигенов с пришельцами. Эксперимент Ратова имел еще и то последствие, что эмы непостижимо как вызвали из джунглей Эоэмма, очевидно занимавшего у них особое положение. С Эоэммом, имя которому придумал все тот же Толя Кузнецов («это особый эм»!), и состоялся первый разговор землян. Глаза эма действительно излучали радиосигналы, подобные принятым глобальной радиоантенной. Теперь-то сказался сизифов труд, проделанный на Земле, пригодился ключ, найденный Каспаряном, для расшифровки инопланетного послания. Киберлингвист, заключенный в ранце Каспаряна, мог переводить «речь эма» на земной язык. Как это было «просто»! Но сколько труда и находок стояло за этой «простотой»!.. Оказывается, Эоэмм понял, что земляне прилетели с другой звезды, приняв радиосигнал с Релы. Но он не выразил никакого своего отношения к их прилету, проявил полное равнодушие. — Да они лишены всяких чувств! — возмутился биолог. — Надо думать, наш Эоэмм у них нечто вроде главного радиоастронома. Потому его и вызвали другие эмы, когда услышали от нас отрывок своего послания, — предположил Арсении. Вероятно, это действительно было так, потому что Эоэмм, радируя глазами, передал гостям, чтобы они приняли участие в космической радиопередаче. Каспарян именно так перевел его обращение. — Считаю, не имеем права идти к ним, — добавил он, закончив перевод. — Задача разведчиков выполнена. Нашли на планете разумных обитателей. Теперь надо вернуться на звездолет, спуститься уже всем вместе. — Как мы можем ответить отказом! — возмутился Толя Кузнецов. — Ради чего мы летели сюда через световые бездны? Ради чего оставили свое поколение на Земле? Чтобы теперь отступить? Разведка должна идти вглубь. Мы обязаны проложить дорогу к разумянам. Каспарян стоял на своем: — Кто знает, как понимают они высший разум? Может быть, они ставят его выше земных представлений о добре и зле. — Нет, тысячу раз нет! — протестовал Толя Кузнецов. — Если бы они хотели, они давно бы уже напали на нас. — Разум — это рациональность, — вмешался Ратов. — Лучше нас использовать, чем причинять нам вред. — Выгоднее? Так, скажешь? Тогда-то Эоэмм и предложил пришельцам живой нагрудник. Оказывается, эмы поняли, что у пришельцев в шлемах большее содержание кислорода, чем в атмосфере Релы. Живой нагрудник представлял собой искусственно выращенный организм, он поглощал из атмосферы кислород и снова выделял его уже в концентрированном виде. Надетый на грудь, он создавал вокруг себя микроатмосферу, обогащенную кислородом. Эоэмм глазами радировал об этом пришельцам. — Вот видите! — обрадовался биолог. — Мы прилетели дружить с чужим разумом. А разве они предлагают нам не дружбу, если принесли для нас эти диковинные приспособления? — Не нравится мне этот передничек, — сказал Каспарян. — Может быть, он не только кислород, а еще гадость какую-нибудь с микробами выдыхает. Рисковать мы не имеем права. Арсений рассмеялся: — Это что? Первый риск нашего звездного рейса? — Разумный риск — это тот, без которого нельзя обойтись. — Слушай, Генрих, — в упор глядя на Каспаряна, сказал Ратов, — про отца моего, ушедшего в Вечный рейс, ты знаешь. Но у меня была и мать. Ее звали Зоя… что означает — жизнь… Она сама привила себе микробы страшной болезни, чтобы найти против нее противоядие. — Все мы свято чтим ее память. Но я предпочитаю, чтобы память обо мне возможно позже поселилась в сердцах людей. — По-моему, ты эм, а не человек! — вмешался Кузнецов. — Теперь я понимаю, почему ты так здорово их переводишь. — Моя мать и здесь пример. Поступлю, как она на Земле, — объявил Арсений Ратов. Он взял из конечностей эма нагрудник и, примерив его, приготовился снимать шлем. Толя Кузнецов с восторгом, а Каспарян с тревогой смотрели на него. — Лучше переводи, что он сейчас сообщает нам, — попросил Арсений. Мудрый эм догадался о беспокойстве пришельцев и сообщил, что на их планете все смертоносные организмы, жившие на суше и в воздухе, в том числе и бесконечно малых размеров, давно исчезли. — Он сказал, что эмы выращивают только те виды живого, которые им нужны, — добавил Каспарян. — Скот, что ли? Во всяком случае, он дает понять, что опасности нет? — Почему, почему? — рассердился Каспарян. — Откуда он может знать, что опасно для нас? Он по себе судит? — Хорошо, — проговорил Ратов. — Вам запрещаю снимать шлемы. А сам попробую. И Арсений снял шлем, затая дыхание, как ныряльщик. Потом надел нагрудник. Друзья с волнением смотрели на него. Он выпрямился и глубоко вздохнул, как делал на помосте для поднятия тяжестей. — Чудный воздух, — сказал он. — А ароматов сколько! Голова кругом! Петь хочется! Жаль, не могу вам позволить… Он повернулся к джунглям, потом к морю и все дышал, дышал, с наслаждением втягивая в себя чужой, наполненный неведомыми запахами воздух. Толя Кузнецов стал умолять, чтобы Арсений позволил и ему сиять шлем. Но Арсений был неумолим. Каспарян одобрил его. Так Арсений Ратов, единственный из землян, ощутил чужую планету во всей ее полноте. Потом эмы отвели пришельцев в свой «муравейник», как впоследствии выяснилось, жилое здание, состоящее из бесчисленных сот, служивших эмам кельями. Стены в нем были живой, искусственно выращенной тканью. Своеобразная цивилизация эмов, взяв контроль над природой планеты, пользовалась только живыми машинами и устройствами, даже материалы у них были такими же. Исполинский, искусственно выращенный «глаз эма» не уступал радиотелескопу обсерватории Шилова. Чтобы обойти его кругом вместе с медленно шагавшим Эоэммом, друзья затратили около часа. В одну из келий «живого здания» был введен зрительный нерв гигантского глаза. К этому нерву и присоединил свою аппаратуру Ратов. Эоэмм внимательно наблюдал за ним. Эмы, вероятно, уже не в первый раз принимали этот космический сигнал. Но он, построенный на чужой системе информации, был им совершенно непонятен. Только люди могли догадаться, что информация заключена не просто в радиоколебаниях, как «речь эмов», а в звуковых «медленных» волнах, которые надо выделить из высоких радиочастот, как это делают на Земле. Когда Арсений перевел космический сигнал в звуки, настал черед Каспаряна разгадать неведомый язык. Это было совсем не так просто. И если когда-то в XX веке электронно-вычислительная машина расшифровала язык майя за сорок восемь часов, то сейчас Каспаряну, с его знаниями и опытом, с его киберлингвистической машиной, в миллион раз более производительной (по числу попыток в секунду), чем на заре развития кибернетики, понадобилось все же несколько дней. Результат работы был вершиной достижений лингвиста, но Каспарян был мрачен. Лучше бы ему не переводить это послание! «Умоляем вас, мудрые братья Вселенной, спасти подобный вашему мир. Познание природы опередило развитие разума, и массовое уничтожение одних братьев другими неизбежно. Превращение вещества в энергию грозит уничтожением всей жизни. Только вмешательство извне может спасти нас. Примите же этот сигнал бедствия!» Кузнецов схватил Каспаряна за рукав скафандра. Голос его в шлемофоне прозвучал хрипло: — Генрих, признайся! Это был один из языков Земли? Это послано после нашего отлета? Неужели Объединенный мир распался? Лингвист пожал плечами: — Мне неизвестен этот язык, хотя я знаю много земных. — Как же тебе удалось расшифровать так быстро? — Почему? Почему? Да потому, что понять звуковой язык этой передачи куда легче, чем расшифровать на Земле «радиомузыку небесных сфер». — Значит, термоядерная война где-то неизбежна? — Если не хуже, — вставил Арсений, слушавший через наушники беседу друзей. — Очевидно, аннигиляция. Вещество и антивещество… Отчаяние… Человекоподобная цивилизация… — Хоть бы это была не Земля! — вздохнул Кузнецов. — Об этом не тревожься. Как я понял Эоэмма, источник радиоизлучения находится вблизи ядра Галактики. Сигнал оттуда шел сто тысяч лет. В том мире сменились уже тысячи поколений. — Или ни одного, — мрачно заметил Каспарян. — Или ни одного, — согласился Арсений. — Не могу в это поверить! — запротестовал Толя Кузнецов. — Разум не может уничтожить сам себя. — Самоубийство разума противоестественно, как и самоубийство разумного существа, — сказал Арсений. — Но люди иногда кончали с собой. — Патологические случаи, один на сотни тысяч, — вставил Каспарян. — Но и цивилизаций не сотни тысяч. Миллионы и миллионы. Норма обусловлена отклонением от нормы. — Ради одной только этой радиограммы космического бедствия нам стоило сюда слетать, — сказал Кузнецов. — Какой урок людям мы привезем! — Для этого надо еще вернуться, — напомнил Каспарян. Появившийся Эоэмм застал друзей в отведенной им келье подавленными. Арсений через свой аппарат радировал ему в глаза содержание сигнала бедствия. Мудрый эм остался равнодушным. Ничто не могло пробудить в нем никаких чувств. — Почему он не реагирует? Не понял? — волновался Толя Кузнецов. — Нет, он прекрасно понял, — сказал Каспарян. — Он отвечает сейчас, что Разум Вселенной не нуждается в Безумии. Великий закон космоса, который познают эмы в общении с другими мирами, в самоочищении. Он говорит, что Безумие кончает с собой и тем самоустраняется. Разум Вселенной остается без Безумия и потому вечен и непреложен. Вместе с тем в наших действиях Эоэмм обнаруживает проявление Разума. — Это трудно прочесть по его лицу, — отозвался Кузнецов. Да, лицо Эоэмма было непроницаемо. Его безобразный хобот вяло свисал и не шевелился. Вскоре друзья заметили необычайное оживление в «муравейнике» и на полянке перед ним, которую они видели из своей кельи через устройство «окна дальности». Оно представляло собой тот же «глаз эма», установленный снаружи, и зрительный нерв, который передавал изображение в келью на глубину многих этажей. По меткому определению Толи Кузнецова, каждый эм был как бы радиоастрономом. Воспринимая глазами не только свет, но и радиолучи, идущие из космоса, эмы должны были видеть небо не как люди — в световых лучах, а в радиолучах. — Не нравится мне эта суетня эмов, — сказал Каспарян. — Может быть, они поражены все-таки сообщением о гибнущей цивилизации и хотят ей ответить, — предположил Толя. — Спустя сто тысяч лет? — усомнился Каспарян. — Они не могут сигнализировать с помощью своего исполинского «глаза», — сказал Арсений. Его друзья знали, что передатчик требует в миллиарды раз большую мощность, чем приемник. Поэтому людям было легче лететь сюда, чем радировать. Толя Кузнецов почти угадал. Эмы собирались отвечать на принятое послание, но не ядру Галактики, а всем своим небесным корреспондентам, информируя их о возможном уродливом пути развития цивилизации. Разведчикам Земли привелось быть свидетелями сеанса космической связи. Но напрасно Ратов рассчитывал познакомиться с радиопередатчиком невиданной мощности, сигналы которого сам принял на Земле. Передача велась непостижимо простым образом. Эоэмм, раскачиваясь, как пингвин, повел пришельцев на берег, где впервые их встретили земляне. — Так ли это? — говорил Каспаряи. — Если передатчик сооружен или «выращен» эмами на берегу, то почему мы не заметили его. Куда ведет нас этот саламандро-пингвин? То, что разведчики увидели, превзошло их ожидания. Морское побережье, сколько хватал глаз, было занято плотно стоящими один к другому эмами в белых одеждах, словно охваченными массовым психозом. Они раскачивались и дрожали, подчиняясь неслышному ритму. Впоследствии Арсений вспоминал, что ритм всегда наилучшим образом согласовывал действия людей, будь то в танце, в хоровом пении или при строевом шаге. Ритм был объединяющим началом коллективных действий. Эмы были, пожалуй, самыми коллективными существами из всех, какие только мог себе представить Арсений или кто-либо из его друзей. У эмов не было никаких сверхмощных радиопередатчиков. Чтобы передать сигнал в космос, они собирались огромной толпой на открытых местах планеты и в строго рассчитанный миг единовременно излучали радиосигнал многими миллиардами глаз в нужную часть небосвода. Их органы, способные к такому единовременному действию, превосходили все воображаемые искусственные аппараты. Когда Арсений объяснил друзьям угаданный им способ радирования в космос на Реле, Толя Кузнецов пришел в восторг. — Наваждение! Как они узнали об изобретении Архимеда? — Почему Архимеда? — удивился Каспарян. — А помнишь легенду, как Архимед защитил Сиракузы с моря? Он привел на берег всех женщин города с карманными зеркальцами и заставил их одновременно направить световые зайчики водну точку на вражеском корабле. Деревянный корабль вспыхнул, и Сиракузы были спасены. — Пожалуй, так, — согласился Арсений. — А ты, Генрих? — Да просто потому, что не нравится мне такое их скопление! Эмы, как в религиозном экстазе, тряслись и смотрели в звездное небо. Эоэмм, очевидно, руководил этой радиопляской. Три чуждых пришельца, слегка расставив ноги, смотрели на удивительные совместные действия братьев по разуму.Глава четвертая ТЯЖЕСТЬ РАЗУМА
Совсем другим, чем Эоэмм, был Эмс… Как всегда, имя ему придумал Толя Кузнецов, решив, что этот эм «славный», в знак чего добавил букву «с». Эмс был мягче Эоэмма, не так безапелляционен в суждениях и, пожалуй, не обладал его устремленной, несгибаемой волей. К землянам он относился радушнее. Эмс сразу поразил друзей тем, что не переваливался при ходьбе, как пингвин, а передвигался так быстро, что звездолетчики в скафандрах едва поспевали за ним. Эмс пользовался первой живой машиной, с какой познакомились земляне. Он приподнял край своей белой хламиды, и люди увидели удивительные живые машины, прилаженные к его нижним конечностям. Искусственные мышцы обладали огромной силой и выносливостью. Впоследствии Эмс показал людям отдельно живущие исполинские органы, которые могли бы поспорить с земными экскаваторами. — Это надо же! — воскликнул Толя Кузнецов, рассматривая «усиленные ноги» эма. — Вроде живых протезов. — Давай спросим, какую он может развивать скорость? — предложил Арсений. Эмс ответил взглядом, что ему непонятно, зачем нужна большая скорость передвижения? Для чего мыслящим существам ускорять природные процессы? Получив от землян ответ, Эмс, в отличие от Эоэмма, который сразу бы осудил неразумное стремление людей исправлять природу, заинтересовался новым для него проявлением разума. — Эмы и без перемещения могут общаться друг с другом, — словно оправдываясь, радировал Эмс. Ионизированные верхние слои атмосферы, как объяснил он, отражая короткие радиоволны, позволяют эмам «видеть» и «общаться» на любом расстоянии. — А почему они не летают? — поинтересовался Каспарян. Эмсу передали этот вопрос, и впервые люди почувствовали какое-то смущение Эмса. Создалось впечатление, что они задели нечто, чего касаться не следовало бы. Толя Кузнецов по-своему объяснил эту реакцию Эмса: — Так ведь это их биологическая особенность! Эмы, вероятно, испытывают неприязнь к той среде, в которой жили или будут жить в ином воплощении. Эны (неведомые) сначала жили в море, и поэтому эмы (мудрые) не терпят водной стихии, не пользуются ее богатствами, может быть, не желая повредить молодым энам. Поэтому они и не пересекают морских просторов, не заселяют островов, не путешествуют на другие материки, не стремятся к захватам чужих стран. — А почему же они не желают летать по воздуху? — упрямо интересовался Каспарян. — При чем тут воздух? Я говорю о море. — Потому, что они еще в послании на Землю утверждали, будто летают и наслаждаются. Что-то удерживало друзей от прямого вопроса Эмсу. «Инженер живой индустрии» показал друзьям возделанные поля эмов. Они выращивали не только растения, но и искусственные живые ткани, используемые для пищи эмов и для создания живых машин. Люди увидели целое поле шевелящихся змей, вылезающих из почвы. Отвратительные щупальца угрожающе тянулись к разведчикам, и те, не отставая от Эмса, с трудом заставили себя идти около «скопища притаившихся осьминогов». — Вы заметили, что они никого не убивают? — с облегчением сказал биолог, когда змеиное поле осталось позади. — Давайте спросим об этом Эмса. Эмс радировал в ответ, что не видит смысла в отнятии жизни у живых существ ради того, чтобы воспользоваться частью их живых тканей, когда можно вырастить отдельно эти ткани. Арсений заинтересовался, откуда берут энергию живые машины эмов. Электрической энергией эмы пользовались мало, получая ее опять же с помощью живых клеток, подобно электрическим угрям и скатам. Эмс охотно показал людям гигантские пищеварительные машины. Они усваивали пищу и давали концентрированные питательные соки. Кузнецов рискнул попробовать эту пищу на вкус и заверил друзей, что она нечто среднее между медом и молоком. «Медомолоко» одинаково годилось и для самих эмов, и для их машин. — Вроде универсального горючего, — сказал Арсений. — Фабрика синтетического бензина! — рассмеялся Толя. Живые фабрики питательных соков походили на туши китов, плававших в синеве джунглей. Искусственные змеи непрерывным потоком подтаскивали к прожорливым пастям измельченную растительность, отправляясь вместе с нею в жадное чрево машин. — Не нравится, — поморщился Каспарян. — Не хочу любоваться пищеварением. — Что это? — метнулся в сторону Толя Кузнецов. — Птица! Впервые здесь вижу. Над джунглями мелькнуло какое-то существо на огромных крыльях. — И это тоже не нравится, — буркнул лингвист. — Это эл! — воскликнул Толя. — Почему эл? — Потому, потому, — в тон другу ответил Толя, — что с этой буквы начинается любовь. Должны же быть эмы, которые уже превратились для любви и наслаждения в элов. И они летают. — И поэтому эмы не стремятся в воздух? Так, скажешь? — Конечно! Это стихия их последующего превращения. — Ясно, эл прилетал к фабрике питательных соков подкормиться, — пошутил Ратов. — Так и должно быть, — серьезно ответил биолог. — Эмы вынуждены заботиться о питании и работающих, и переставших трудиться. — Любопытная порода летающих пенсионеров, — съязвил Каспарян. «Мир летающих элов» так и остался загадкой для землян. Ни Эмс, ни тем более Эоэмм не были расположены что-нибудь сообщать об этом. Когда Эоэмм снова явился к пришельцам Земли, они попытались разузнать у него, что означает превращение обитателей Релы в существа, отдающиеся наслаждениям и полетам. От Эоэмма пришел лаконичный радиоответ, что ему нечего добавить к тому, что все эмы вместе радировали в космос. Затем Эоэмм сообщил людям, что «Разум эмов» — может быть, здесь имелся в виду какой-нибудь Совет разумных обитателей, а может быть, просто понятие целесообразности — пришел к выводу, что дальнейшая связь эмов с космосом должна проводиться при участии пришельца с Земли. — Пришельца или пришельцев? — попробовал уточнить Каспарян. Эоэмм подтвердил, что имеется в виду один пришелец, и он почему-то посмотрел на Арсения Ратова. — Вот здорово! — обрадовался Кузнецов. — Совместная деятельность различных мыслящих обществ Вселенной налаживается! — Этого нельзя допустить! — запротестовал Каспарян. — Отделить одного из нас? Ни в коем случае!.. Арсений стоял, глубоко задумавшись. Он один из трех друзей был без шлема и дышал с помощью живого нагрудника. — Отказаться просто, — сказал он. — Жить и работать с ними! Какие возможности их изучить! — Можно наблюдать муравейник, но зачем в него садиться? — рассердился Каспарян. И все-таки Арсений настоял на своем. Он напомнил, как отважные исследователи храбро шли жить к папуасам или индейцам и, только прожив с ними годы, начинали понимать их. Тот же Миклухо-Маклай или Шульц!.. А примеры еще более отдаленных столетий! Разве в отношении инопланетной цивилизации надо поступать иначе? Пусть в распоряжении Ратова лишь несколько месяцев, а не лет, но и за это время можно увидеть эмов уже не глазами туриста, а исследователя. Каспарян обжаловал решение Арсения Петру Ивановичу Туче, но тот ответил, что начальник разведывательной группы может поступать по своему усмотрению, так как лучше разбирается в обстановке, чем командир звездолета. Так Арсений остался среди эмов. Он отдал Толе Кузнецову свой лазерный пистолет, чтобы тот отвез его в ракету.Космическая шлюпка, как назвал ракету Туча, не один раз совершала рейс на звездолет, поочередно доставляя на поверхность планеты всех исследователей с «Жизни». Ее водил Толя Кузнецов. Исследовательские группы были спущены на различные континенты планеты. Всюду завязывались сношения с поселениями эмов, где уже знали о прилете пришельцев с Земли. Арсений жил среди эмов, переселясь в глубь джунглей. Он заставил себя питаться искусственными мышцами. Ведь это же были местные белки, ничем не хуже искусственных земных. Их оказалось возможным поджаривать на вертеле. Его надоумил так делать еще Каспарян. Инопланетный шашлык, по мнению друзей, не уступал даже кавказскому. Конечно, Арсении был прав. Никогда при одних только внешних столкновениях с эмами он не узнал бы столько, сколько понял, живя среди них. Особенно он интересовался устройством общества эмов. Эмы были ярко выраженными общественными существами. Жили они большими колониями, выращивая все необходимое для жизни, включая даже живые машины и сооружения. Жизнь их целиком была связана с природой. Селились они в огромных «муравейниках», напоминавших пчелиные соты. Каждый эм занимал одну келью. Эти соты-кельи уходили на много этажей в глубь планеты. Однако любовь эмов к природе была так велика, что одна стена кельи всегда представляла собой часть искусственного глаза. Она соединялась с другой его частью тончайшим зрительным нервом. Сам же зрачок, исходя из склонностей каждого эма, устанавливался где-нибудь в гуще джунглей; этот выбранный пейзаж, по желанию изменяемый, и видел всегда перед собой обитатель кельи. «Кусочек природы», радовавший его в «окне дальности», был отделен от него многими этажами и даже километрами. Общество эмов на всей планете было единым, но неуправляемым в земном понимании. Арсений не мог установить, есть ли здесь регулирующие жизнь эмов учреждения. Создавалось впечатление, что общество жило, как саморегулирующийся механизм, а еще лучше сказать, как живой организм, в котором клетки могли менять по своей прихоти местоположение, всегда оставаясь при этом его составной частью. Жизнеспособность этого организма покоилась, таким образом, на содружестве всех клеток, на безусловной разумности каждой особи, на естественном ее подчинении целесообразности. Общаясь со многими сотнями эмов, Арсении понял, что сам способ передачи мыслей взглядом, несущим в себе информацию, исключает для эмов ложь. Иметь в мозгу одну мысль, а передать взглядом с помощью радиоколебаний другую, очевидно, было органически невозможно — не существовало барьера перехода от биотоков мозга к звуковым колебаниям. Очевидно, радиоколебания были неразрывно связаны с биотоками мозга, и каждый эм сообщал другому только то, что думал, а думал он всегда рационально и правильно. Эмы были бесполы. Они не знали страстей и эмоций. Вся история их цивилизации была историей рационального и последовательного развития. Докладывая по радио о своих наблюдениях Туче, Арсений вспоминал историю Земли. Тот реагировал бурно. — Ты представляешь, Арсений, как развивалась бы вся человеческая культура, если бы на нее не влияли страсти жрецов и фараонов, королей и придворных, феодалов, цезарей и римских пап!.. Как бы выглядела наша история без фавориток и временщиков, если бы ее отделить от любви, честолюбия, ненависти, мести? А главное, жажды власти? — Не могу ее обнаружить, — кратко заключил доклад Арсений. Находившийся в это время на «Жизни» Каспарян не преминул заметить: — В муравейнике тоже нет власти. Каждый муравей отдает всего себя муравейнику и, по-видимому, без принуждения. Но Арсений убедился, что на Реле действовал не инстинкт, а разум. Эмы казались бесполыми. Но должны же были они как-то размножаться! При попытках Арсения выяснить это у эмов, они или не понимали его или не хотели понять. Может быть, интерес пришельца казался им непристойным? Толя Кузнецов, регулярно общаясь, с Арсением по радио, высказал ему свои соображения биолога, которые и проверял Арсений, стараясь не вызвать у эмов раздражения. Каспарян оставил ему своего киберлингвиста, пользуясь для общения с эмами других групп вторым экземпляром, имевшимся на звездолете. По-видимому, размножение эмов проходило уже на другой стадии их существования, которую Толя условно назвал эрой элов. Возможно, элы обретали различный пол, не подозревая, какой им выпадет на долю при метаморфозе. Но дальнейшее оставалось неясным. Рожали ли они живых детенышей, метали икру или откладывали где-нибудь яйца, из которых, быть может, в воде появлялись мальки энов — все это оставалось в области догадок. Как бы то ни было, но на стадии существования эмов разумные обитатели Релы создали высокую и своеобразную цивилизацию, которую Арсений предложил называть бионической, как воспроизводящей элементы живой природы. Встреча на берегу моря, свидетелями которой так удачно стали разведчики с Земли, действительно была принятием эмами в свое общество их нового поколения после метаморфоза. Проведя первую часть жизни в виде морских животных, мозг которых развивался, как у земных дельфинов, эны проходили превращение, характерное на Земле для саламандровых. Может быть, глядя на эна, действительно правомерно было вспомнить о «хоми делювии те-стис»? Превратившиеся в живущих на суше эмов, с легкими вместо жабр (как и у многих земноводных), они выходили на берег, где их встречали старшие братья по биологическому виду. Это был отряд педагогов. Они не только облачали молодых эмов в одежды, необходимые им, чтобы предохранить кожу от высыхания, но и начинали заниматься образованием своих питомцев. Вполне развившийся еще на стадии энов мозг их был готов к приему информации и жадно поглощал ее. Эту информацию воспитатели передавали воспитанникам не только из своей памяти, но и из живого искусственного мозга, соответствующего земным кибернетическим машинам. Таковы были их живые книги, где в клетках памяти хранились сокровища цивилизации Релы. Завершив образование, эмы принимали на себя в обществе те или иные обязанности, выполнение которых было для них такой же потребностью, как и дыхание. После нескольких проведенных среди эмов месяцев Арсений убедился окончательно, что эмы не способны к принуждению. Тогда-то и состоялся у него разговор с Эоэммом, поставивший его в тупик. Арсений, как обычно, радируя Эоэмму с помощью киберлингвиста общими для них понятиями, объяснил, что дольше он не сможет задерживаться у эмов. Возвращение звездолета зависит от встречи на обратном пути к Земле с кораблями-заправщиками. Нельзя опоздать ни на мгновение. Эоэмм воспринял сообщение Арсения без всякого интереса. Он передал гостю, что система звездного рейса нерациональна. Также нерациональна и мысль покинуть эмов ради возвращения на прежнюю планету. Ведь гость оправдал себя как полезное звено в космической связи с другими цивилизациями, умея переводить на язык эмов чужие послания… Арсений решил, что Эоэмм не понял его, и еще раз попытался разъяснить ему причину своего отчаянного положения. Но, оказывается, это он, Ратов, не понимал мудрого эма. Такая «нелепость», как тоска по родине, не доходила до холодною рассудка Эоэмма. Мог ли Арсений втолковать ему понятия о каких-то человеческих чувствах: о любви, долге, грусти?… Эоэмму это показалось бы смешным, если бы смех вообще был доступен ему, «носителю чистого разума». Арсению удалось установить радиосвязь с звездолетом. Но что мог сказать Петр Иванович Туча с тысячекилометровой высоты, имея перед собой жесткий график возвращения на Землю? — Попробуй еще раз убедить Эоэмма. Не начинать же войну с эмами из-за их «демьяновой ухи». Высший разум гуманен. Поэтому Эоэмм должен понять, что задержанный им гость никогда не вернется домой, если пропустит время возвращения на звездолет. Ракета будет ждать тебя до последней возможности. Лады? Ратову стало тяжело дышать, словно живой нагрудник, мягкий и теплый, перестал концентрировать кислород. Ему даже захотелось привычно повернуть краник на заплечном баллоне, хотя он перестал его носить, попав к эмам. Арсений знал, что Эоэмм находится в соседнем помещении, жесткий, непонятный, невозмутимый, даже величественный в своей белой хламиде, свисавшей до пола. Уже длительное время он не показывался в келье у Арсения. Почему? Но Ратов ни на минуту не пожалел, что отдал свой лазерный пистолет Толе. Сгибаясь под низким сводом кельи, он двинулся к проходу в келью Эоэмма И тотчас почувствовал, что вокруг его ног обернулись «змеи». Это были щупальца искусственных мышц, слепо служивших эмам. Живые путы захлестнули Арсению грудь и так сжали нагрудник, что тот перестал действовать… Сразу стало трудно дышать. Арсений отступил, и «удавы» ослабли. Ратов в отчаянии опустился на пол. Искусственные щупальца отползли в сторону и, свернувшись клубками, слабо шевелились — напоминали, что они наготове. Арсений долго не мог прийти в себя. Ломались все его представления об эмах, чуждых принуждению. Оказывается, с точки зрения «высшего разума» он был не столько гостем чужепланетной цивилизации, сколько важным звеном единой космической связи. Арсению казалось, что он не может очнуться от кошмара. Что за дикий, противоестественный мир его окружает, с саламандровыми превращениями, кельями-сотами «муравейника», «окнами дальности» и живыми машинами всех видов… даже стерегущих теперь его. Но разве ученый-энтомолог не изучает столь же странный мир, мир насекомых? Разве не рассматривает он в микроскоп диковинные организмы? И разве, когда он вернется в семью и будет расспрашивать внуков о школьных уроках, мир, который он только что видел, будет менее реальным? Но энтомолог мог отодвинуть от себя микроскоп, мог уйти из лаборатории, Арсений же не мог пошевелиться. Искусственные «удавы» победили его. Через короткий срок звездолет, связанный жестким графиком рейса, улетит, и Арсений Ратов останется здесь навсегда. Никогда ему не увидеть Землю! И Арсений задумался. Бессильный против живых машин, он вдруг усомнился в себе, в своих поступках. Всегда ли он верно выбирал путь? Не платит ли теперь он судьбе за вырванные у нее минуты счастья с Виленой? За жестокость, с которой, по существу говоря, оставил ее? За слабость, когда не смог противостоять самому себе и женился перед отлетом? Да и здесь, на Реле, не слишком ли наивно доверился он эмам, оставив своих товарищей? Кто он здесь, гость или пленник? Так истязал себя Арсений. А время уходило. Звездолет вынужден был улететь. И Ратов понял, что нет ничего сильней времени.
Глава пятая ЭОЭЛЛА
Искусственные «удавы» победили Арсения. Передумав о многом, переоценив всю свою жизнь, с горечью смотрел он на лежавший неподалеку старый добрый шлем и баллоны с земным воздухом. Решение пришло само собой. Арсений тотчас надел шлем и открыл краники кислородных баллонов. Он выпрямился во весь свой земной рост, жадно вдохнув родной воздух Земли. И почувствовал, как наливается силой, как исчезли все подтачивавшие его волю сомнения. Немые стражи, почуяв движение пленника, зашевелились. Арсений наклонился, словно хотел схватить сверхтяжелую штангу, и искусственные «змеи» обвились вокруг его рук, оплели ноги и сдавили грудь. Но сейчас он хотел этого. Эмы, задавая программу своим искусственным мышцам, не учли такой простой военной хитрости, какую применил Арсений, наследник миллионов земных поколений, боровшихся за жизнь, — «удавы» уже не могли удушить его, выводя из строя живой нагрудник. У него были баллоны! Но «змеи» держали его, не позволяя шелохнуться. И тогда пошла сила на силу. Арсений вспомнил музыку Видены, когда-то помогшую ему в гимнастическом зале, и под ее четкий ритм снова перенапряглись его мышцы. В такт ей он резко выпрямился, и обрывки искусственных «змей» закорчились на полу. Он ринулся в соседнюю келью и застыл на пороге, не веря глазам. Перед ним вместо холодного и жесткого Эоэмма с безобразным хоботом на лице стояла живая Нефертити, с тонким, одухотворенным лицом, с миндалевидными глазами, лишь отдаленно напоминавшими глаза эмов, с благородным носом и чувственными губами. Земная женщина на Реле? Откуда? Острая догадка обрадовала его. Не зря древние статуэтки «догу» напоминают эмов, видимо, те посетили все-таки Землю! И может быть, захватили с собой кого-нибудь из землян. Не потому ли так походит эта незнакомка на Нефертити? — Кто ты? — прошептал Арсений, откинув стекло шлема. Нагрудник снова позволял ему дышать без баллонов. — Я? — ответила женщина. — Я — Эоэлла. Так назвал бы меня твой друг. Арсений непонимающе смотрел на спадающую складками длинную белую одежду, в которой он принял незнакомку сначала за Эоэмма. — Эоэлла? — переспросил Арсений. — Говоришь на нашем языке. Потомок когда-то захваченных с Земли эмами древних людей? — Эмы никогда не были на твоей планете, Арсений, — сказала женщина, назвав Ратова по имени. — Не шути. Если ты — космонавтка, прилетевшая на втором звездолете Виева, то я вернусь с вами на Землю. — Пришелец, я никогда не была на Земле. — Кто ты? — снова отступил к «окну дальности» Арсений. — Ты порвал искусственные мышцы, отбросил эмов со своего пути, почему отступаешь сейчас? — Не могу поднять руку. Ты женщина… Назвавшая себя Эоэллой улыбнулась. И столько женственности было в этой улыбке, что Арсений смутился. Он вдруг решил: эмы каким-то способом вызвали у него галлюцинацию, чтобы помешать уйти. — Почему, почему? — сказала Эоэлла. — Потому, что я знаю твой язык из твоих бесед с друзьями. Ваши сигналы можно было проанализировать математически. Это и было сделано мной. — Никогда не говорили с тобой или при тебе. — Вы, пришельцы, часто говорили со мной… И еще с Эмсом, как вы его называли. — Кто ты? — повторил Арсений. — Я была тем, кого вы называли Эоэммом. Теперь после метаморфоза я стала элой. Меня надо называть Эоэллой. Так, скажешь? — Обрела дар речи? — Да, на стадии элов звуковые волны воспринимаются нами. Мы слышим их и можем воспроизводить. Теперь я все расскажу тебе о мире элов. Сядь и слушай. Прости, что я буду стоять перед тобой, но… мне только так удобно… теперь… Если эмы вызвали в мозгу Арсения это видение, то коварству их не было предела. Ратов не мог прервать прекрасную элу. Нежная и мягкая, она продолжала: — Никто из эмов не знает, кем он станет — цепким элом или крылатой элой… Только теперь Арсений заметил, что складки одежды за спиной его собеседницы в действительности были сложенными крыльями. Они соединяли руки и ноги странного существа, ограничивая их подвижность. Что же это? Галлюцинация или раскрытие главной тайны планеты Рела? — Как видишь, эти конечности уже не годятся для труда. Какое маленькое теперь все, о чем мы так сильно думали, как эмы?… — продолжала Эоэлла, чуть неправильно строя фразы. — Теперь другое… Теперь не труд, не наука. Теперь любовь! Каждый эл и каждая эла хотят найти себе пару. Очень хотят. Я буду видеть много элов, каждый из которых без крыльев, как ты, Пришелец. Крылья имеет только эла, как я теперь. Говорящее инопланетное существо непостижимо как по-человечески воспроизводило милые девичьи интонации! Арсению было трудно поверить, что перед ним бывший саламандроподобный Эоэмм. Переборов себя, Ратов горячо заговорил: — Если ты теперь понимаешь любовь, ты поймешь меня, прекрасная Эоэлла. Остались считанные минуты, чтобы я успел к отлету нашей ракеты и мог вернуться на Землю, где оставил свою любовь. — Ты можешь так сильно любить? У нас на Реле любят только раз. Это биологический закон. Когда мы находим пару, мы летим в объятиях. Крылья очень устают, когда пара несется над морем… — Над морем? — Море дало нам жизнь. Оно берет ее назад, взамен новой жизни. Эла оставит на дне икринки. Так, скажешь? Появляются юркие мальки энов. Будут веселые дети, — с нежной материнской улыбкой закончила эла. — И вы не страшитесь этого полета, элы? — Нет! — воскликнула крылатая Нефертити. — Должно быть, тем и отличаются существа Релы от вас, людей. Им не страшен конец жизни. Это самое яркое, самое желанное наваждение! Любовь — это прекрасно! Так, скажешь? — Она пользовалась любимыми словечками всех трех космонавтов, воспроизводила манеру говорить каждого. — Замолчи, коварная Шехерезада! — воскликнул Арсении? — Шехерезада? Что это? Вы не говорили такого слова. — Ты осталась Эоэммом, моим врагом! Не помогли тебе твои искусственные мышцы, которых ты оставила стражами около меня, скрылась для метаморфоза. Теперь хочешь заворожить сказкой о прекрасной гибели в объятиях любви! Прочь с дороги! — Арсений, я не хотела тебя задержать. Ты уже и так не успеешь. Эоэлла сохранила память математика Эоэмма. Может подсчитать. Но во всем остальном она не походит на него. Арсений ничего не мог сказать, на кого походит это крылатое существо в ниспадающей до пола белой одежде. Он мог говорить только о ее лице, по необъяснимой игре природы показавшемся ему с первого взгляда женским. Но только с первого взгляда. На самом деле оно походило на человеческое не больше, чем лев напоминает бородатого мужчину. Но по-своему оно было прекрасно! Арсений посмотрел на хронометр и похолодел. Все погибло! За оставшееся время никак не пробраться сквозь джунгли к морскому проливу, где ждали его на вездеходе Толя Кузнецов и Каспарян. Эоэлла подошла к Арсению и нежно взглянула на него: — Ты не похож ни на одного эла, но ты… — Она не договорила. — Хочешь, я помогу тебе вернуться к своим? — Ты? Но как? Ни одна живая машина эмов не доставит… Заросли… Так поздно. — А мои крылья? Я пронесу тебя на них через джунгли и через морской пролив, если друзья уже не ждут тебя. — Ты? В прошлом воплощении удерживала… — Я не знала чувств, Арсений. Теперь я понимаю тебя. — Должен довериться? — Разум эмов не знает лжи. Не знают ее и чувства элов. — Что должен делать? — Обнять меня во время полета. Так делает влюбленный эл. Арсений похолодел. Он подумал о Вилене. Не оказался ли он, вопреки биологическому барьеру, избранником этого странного крылатого существа, которое ищет пары для полета любви? — Если бы ты не стал на моем пути, Пришелец, я нашла бы себе обыкновенного зла. Но ты изменил мою судьбу, Арсений, — сказала Эоэлла, словно читая его мысли. — Я благодарна тебе. — Как? Лететь с тобой? — прошептал Арсений. — Во имя возвращения на Землю, — просто ответила эла. Арсений привык верить эмам, но совпадали ли слова крылатой элы с ее затаенными мыслями? Эоэлла смотрела прямо в глаза Арсению. У него не было киберлингвиста, оставленного в прежней келье, чтобы прочесть и перевести ее радиопередачу, но что-то было в этом взгляде, понятное без слов и аппаратов. И он решился: — Эоэлла! Верю тебе! Летим! — Нельзя терять ни частички времени, — с забавной неправильностью сказала эла и повлекла Арсения к выходу. Искусственные змеи расползались при их приближении. Могучий поток воздуха в вертикальной шахте поднял их на поверхность. Они оказались в джунглях, на той самой солнечной лужайке, которая была видна в оставленной ими келье. — Я все равно должна была бы улететь в горы к другим элам. Теперь я полечу с тобой. Ты должен обнять меня. У тебя много сил. Больше, чем у наших живых машин. Еще раз перед мысленным взором Арсения встала его Вилена. Именно ее близость ощутил он сейчас, приближаясь к прекрасной эле. Превозмогая противоречивые чувства, Ратов обнял чужепланетное существо. Под белой легкой тканью, которую здесь ткали искусственные пауки, он ощутил холодное скользкое тело.
Она взмахнула огромными крыльями. Только во сне испытывал Арсений чувство, которое охватило его теперь. Без всякого мускульного усилия, если не считать сжатых за спиной Эоэллы рук, он взмыл в воздух. Сбросив тяжелый шлем и баллоны, чтобы облегчить Эоэлле полет, он снова увидел внизу джунгли, как перед посадкой ракеты. Своей синевой они напоминали ему родную тайгу. Впереди показалось зеленоватое море, отражавшее зелень неба. Промелькнула узкая песчаная отмель, вероятно, та, где люди впервые увидели эмов, когда они выходили из моря. Вездехода внизу не было. Время истекло. Теперь надо лететь над морем. И все кончится, как положено на планете Рела… У земных насекомых самка богомола во время любовного объятия откусывает самцу голову. А здесь… организм элы получит требуемое перенапряжение. Крылья отказывают в полете — и все… Арсений вглядывался в туманный горизонт. На миг ему показалось, что он видит ныряющую в волнах точку. Может быть, это был последний знак Земли — вездеход с его друзьями, спешившими к ракете, а может быть, резвящийся юный эн? Эоэлла мерно взмахивала крыльями. Нужно было поражаться их силе. Арсений подумал, что плотность атмосферы на Реле больше, чем на Земле, и только поэтому и могут здесь летать такие существа, как элы.
Скользя на воздушной подушке, вездеход то прыгал на гребни волн, то проваливался между ними. Брызги каплями стекали по стеклам шлемов. Черные утесы впереди, казалось, тоже взлетали в небо и ныряли в море. — Управлять, Генрих, ты будешь. Не могу я поднять с острова ракету, когда нет Арсения! — крикнул Кузнецов. — Не падать духом — в бою неизбежны потери. — Всегда подозревал, что у тебя нет сердца. — Тряпки вместо сердца, конечно, нет. — Лети один. Я останусь. — Ты уже сделал все, от тебя зависящее, чтобы остались мы оба — не давал отплыть. Думаешь, Арсению будет легче, если мы даже не сообщим на Землю все, что он такой ценой узнал? — Всегда говорил, что ты эм, а не человек. — Слушай, ты помнишь, как ходили прежде герои в атаку? Если кто-нибудь падал, сраженный, все останавливались, чтобы рыдать над ним? Так, скажешь? Правь к берегу. И осторожно. Припомни, как тут разбило об утесы первого эна. — Почему первое разумное существо, которое мы здесь увидели, погибло ради нас? — Нам не следует брать с него пример. Вездеход осторожно вошел в бухту, где прибой был не таким сильным. Перейдя на воздушной подушке с волн и двигаясь над камнями, он перестал взлетать и лег на берег. Над синими веерами папоротников к зеленому небу серебристой башней поднималась земная ракета — космическая шлюпка звездного корабля. — Вездеход оставим здесь, — сказал Каспарян. — Будущие исследователи найдут его. — Вездеход или Арсения? — Если звездолет вылетит сюда сразу же после нашего возвращения, то, учитывая парадокс времени Эйнштейна, новая смена прибудет на Релу через пятьдесят лет. Арсений вернется с ними ровесником своей постаревшей Вилены. — Думаешь, в этом есть доля справедливости? — Почему, почему? Да что думать, раз все время истекло!.. Каспарян говорил нарочито сердитым тоном, но Толя чувствовал, что комок стоит у него в горле. Лингвист махнул рукой и, сгорбившись, хромая, побрел от вездехода к ракете. Это были его последние шаги на чужой планете. — Оставил друга… оставил… так, скажешь? — бормотал он сам себе. Толя Кузнецов стоял на том самом утесе, с которого они с Арсением впервые увидели резвящихся в море энов, и смотрел вдаль. На груди его был живой нагрудник эма, которым он еще ни разу не пользовался. Мог ли он улететь с планеты, не почувствовав ее воздуха, ее запахов? Видя, что всегда мешавший ему это сделать Каспарян бредет к ракете, Толя снял с себя шлем и всей грудью вдохнул дурманящий воздух. Ему показалось, что он вынырнул после затяжного погружения. Странный аромат чужих растений и свежий йодистый запах моря пьянили. Толя запрокинул курчавую голову, отвел руки назад и крикнул призывно на весь остров, словно ему мог кто-то ответить. И до слуха его донеслось эхо. А может быть, это было и не эхо? Кузнецов прислушался. Голос приближался. Ветер доносил его все слышнее. И тут он увидел в небе исполинскую птицу. Она была совсем такой, какую они уже раз видели над джунглями около живых машин. Крылатое существо летело прямо на ракету. Толя Кузнецов задыхался, но не от недостатка кислорода, а от волнения. Неужели в последнюю минуту он сделает на планете еще одно решающее биологическое открытие? Хоть бы рассмотреть получше эту птицу! Или… или… птеродактиля? Летающее чудовище спланировало прямо на утес, к ногам Толи Кузнецова. Ему стоило большого труда устоять на месте, не броситься отсюда прочь. И только теперь он рассмотрел, что, опустившись на скалу, чудовище вдруг разделилось на две части. Толя закричал бы, но лишился со страха голоса. Одна часть чудища с распростертыми в изнеможении крыльями осталась лежать на скале, а другая его часть выпрямилась и… стала человеком. С протянутыми руками он бросился к Толе. Только теперь Толя смог вздохнуть. Оба они были без шлемов и могли приникнуть друг к другу щеками. Потом Толя посмотрел на существо, сложившее крылья, и попятился. — Чур меня, чур! Наваждение! — скорее в изумлении, чем в испуге, сказал он. — Это Эоэлла, — просто отозвался Арсений и подошел к эле. — Я должна лететь, пока крылья не отдохнули, — сказала Эоэлла, улыбаясь Арсению. — Ты очень крепко сжимал меня. Так надо. — Благодарю, Эоэлла. Всегда буду помнить на Земле, — ответил Арсений, не понимая смысла слов о крыльях, которые не должны отдохнуть. — Твой друг нашел бы здесь свою элу… Прощайте оба! Эоэлла взмахнула крыльями и поднялась над скалой. Толя Кузнецов настолько был ошеломлен, что даже не удивился русскому языку элы. Вдруг он спохватился, вцепился в руку Арсения и потащил его к ракете. Сверху послышались звуки странной песни. Ветер доносил ее как-то волнами, усиливал и приглушал. В небе пела одинокая Эоэлла! Голос ее, то низкий и глубокий, то хрустально-звонкий, замиравший в высоких взлетах, пел о неведомом мире, о неразделенной надежде. Нечеловеческое чувство звучало в этой песне инопланетного существа, быть может, познавшей первой на Реле жертвенность любви. Как зачарованные, забыв о времени взлета, застыли Арсений и Толя Кузнецов. Подбежавший Каспарян схватил их за руки, кричал им, что график сорван, и повлек их к ракете. А они на бегу все оборачивались к морю. Уже в ракете, пройдя приемный шлюз, они сразу же прильнули к иллюминатору. Каспарян сердито возился у пульта: опоздание три минуты. Для разогнавшегося звездолета это — пятьдесят четыре миллиона километров. Два его друга видели, как над морем летела огромная птица, как вдруг она, сложив крылья, камнем упала в море. Арсений больно сжал руку Толи Кузнецова. Ракета взмыла вверх. Стало видно, что остров лежит среди моря. На его пенных волнах резвились золотистые существа, похожие на дельфинов. Лишь Толя Кузнецов, потирая сдавленную руку, заметил, как смахнул Арсений что-то с глаза, может быть, пылинку или приставшую ресничку. Обеспокоенный Каспарян докладывал по радио на задержанный ради разведчиков звездолет, что они возвращаются в полном составе. — Высший разум гуманен, — закончил он и подумал: «Как бы из-за него с заправщиками теперь не разойтись…»
Часть вторая ДРУГИЕ МИРЫ
Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней…В.И. Ленин
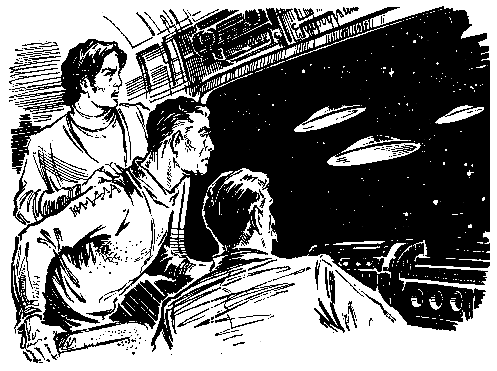
Глава первая КОНЕЦ ВЕЧНОГО РЕЙСА
— Вечному рейсу пришел конец! Валерий Снастьин, небритый, заросший, со свисающими на лоб и затылок волосами, вбежал в общую каюту. Роман Васильевич Ратов, как всегда, играл там в шахматы со вторым пилотом корабля Федором Каратуном. Оба они изумленно посмотрели на инженера, уловив в его голосе истерические нотки. — Что такое? — строго спросил Роман Васильевич. — А вот то, что я вам объявил. Осточертело мне все до ангелов. Не будет наконец ни этих дурацких деревяшек, ни таких же деревянных ваших физиономии! Конец всему, всему, всему! — и он прищелкнул магнитной подошвой о металлический пол. Роман Васильевич встал: — Валерий, успокойся. У тебя опять приступ. Инженер расхохотался: — Нет, командир! Тогда я просто усомнился, какой может быть командир в цивилизованном обществе из трех человек. А теперь… — Я дам тебе выпить успокоительного. — Пейте сами. А еще лучше выпьем вместе, прикончим запасы спиртного в аптечке. — Ты спятил! — пробасил Каратун и так резко поднялся, что взмыл над столом, ухватился за него и рассыпал магнитные шахматы. — Ты спятил, — повторил он уже спокойней. Валерий снова расхохотался: — Сходить с ума придется вам, когда подведет животы. — Что ты сделал? — грозно придвинулся к нему Роман Васильевич. — Мне все надоело! Все! Я не желаю гнусного прозябания в пустоте на икряной диете! Они не послали за нами спасательной экспедиции. Я волен действовать. — Опять за здорово живешь, — укоризненно загудел Каратун. — Да ты что? Всегда гордился своими способностями, и не зря гордился. А теперь старую песню завыл? А ну, прикинь своим набалдашником, как можно нас разыскать за пределами Солнечной системы? Не первый год летим бис его знает куда. — Летим? — передразнил Валерий. — И это ты называешь полетом? Дохлое висение среди одних и тех же звезд? Нас просто не хотят искать. — Ты действительно нездоров, — спокойно сказал Ратов. — Понимаю, что тебе не легко, когда тоска по Земле за сердце берет. Но пора смириться. Наш мир замкнут в этой кабине. Зачем же за старое? Наблюдения, которые мы делаем… — Бесполезно! — прервал Валерий. — Вы сами сказали, что нас нельзя найти. — При современном уровне науки. Но в грядущем… — Мне наплевать на грядущее. Мне наплевать, что потомки тех, кто блаженствует без нас на Земле, найдут через сто тысяч лет наши вонючие записи, не обнаружив в них для себя ничего нового. Я — космонавт. Я готов был на риск, на смерть или славу. — Ну, что ты наробил? — дружелюбно спросил Каратун. Это был добродушный увалень с полным лицом и щетинистыми усами, которого, казалось бы, нельзя было вывести из себя. — И бриться перестал, — с ласковым укором продолжал он, подходя к Валерию и пытаясь его обнять. Снастьин злобно скинул с плеча его руку: — Не трогай! Сначала узнай, что гнусная выдумка тех, кто хотел, чтобы мы мучились все пятьдесят лет, нашла свой конец. — Что ты сделал? — еще строже спросил Ратов. Валерий стоял, картинно скрестив руки на груди, длинноволосый, горбоносый, с жесткой щетиной на щеках и безумными глазами. — Каратун, ты самый толстый. Тебя мы съедим первым. Догадка ошеломила командира. Но его гладко выбритое, словно литое, лицо не дрогнуло. Он спокойно вышел в кормовой отсек. Машина пищи! Давно уже идея такой машины, воспроизводящей природный процесс создания питательных веществ, владела людьми. Еще Тимирязев, открыв великое начало жизни в фотосинтезе растений, мечтал получать хлеб прямо из воздуха, содержащего все необходимые для синтеза вещества. Дым, загрязняющий атмосферу, и углекислота, отравляющая ее, могли быть сырьем такой фабрики пищи. Вместе с водой они дали бы углеводороды, крахмал, наконец, сахар, необходимые живому организму. Дело было лишь за тем, чтобы найти способ искусственного синтеза пищевых продуктов. Природа производит этот синтез с помощью солнечного света и «живых машин» — растений и животных. Но то, что происходит в листке растения или в организме животного, принципиально говоря, может быть получено и искусственным путем. Еще очень давно, в шестидесятых годах двадцатого века, академиком Несмеяновым была изготовлена красная и черная икра, искусственное мясо, картофель и другие пищевые продукты. При дегустации первой икры произошел забавный случай, когда скептик, брезгливо морщась, пожаловался на неприятный привкус продукта. Но оказалось, что он взял со стола не искусственную, а обычную икру, поставленную рядом для сравнения. Так была доказана возможность получения синтетических питательных продуктов. Однако новому нужно было сломить сопротивление привычек. Люди, питавшиеся хлебом, выращенным на удобренных навозом полях, отворачивались от хлеба, полученного, по Тимирязеву, из воздуха, или от «искусственного мяса» из дрожжей, взошедших на отходах нефти. Поля и реки, сотни тысяч лет служившие человеку, не уступали свою монополию. Но люди еще к концу звездного столетия все же стали понемногу переходить к производству искусственной пищи. Главный конструктор космических кораблей Архис, готовя рейс Ратова, подсчитал, что «машина пищи» будет весить меньше запасов продовольствия и аппаратуры очистки воздуха корабля. «Машина пищи», синтезируя хлеб, масло, сахар и икру, поглощала все жизненные отходы на космическом корабле. Нужные вещества включались в замкнутый «круговорот жизни». Основной целью этого круговорота была передача питательными веществами энергии организмам. В природе такую энергию давали «живым машинам» солнечные лучи. В «машине пищи» космического корабля энергию поставляло топливо. Когда год назад корабль Романа Ратова из-за оторвавшегося реактивного руля потерял управление, все три космонавта стоически приняли неизбежность Вечного рейса. Они решили держаться до конца и бесполезное теперь для обратного рейса топливо использовать в «машине пищи». Она могла им служить пятьдесят лет — до глубокой их старости. И вот Валерий Снастьин не выдержал и в припадке безумия вывел из строя «машину пищи» и тем обрек весь экипаж на голодную смерть. Едва Ратов вошел в кормовой отсек, состоящий из прозрачного пластика, как понял все. За ракетным кораблем, давно уже не пользующимся своими двигателями, к серебристым полосам Млечного Пути тянулся чуть светящийся хвост. Снастьин выпустил в космос топливо, и оно шлейфом странной кометы протянулось за кораблем. Ратов резко перекрыл кран. — Слишком поздно! — раздался за его спиной голос Валерия. — Наконец-то изощренная пытка черной икрой закончится. — Безумец! А ты думал о других? Или только осебе? — повернулся к Снастьину Ратов. — Теперь в нашем бывшем цивилизованном обществе действует только один закон диких: кто кого? Предлагаю вам объединиться со мной, командир. Вдвоем мы живо справимся с Каратуном. А его надолго нам хватит. В руке Валерий угрожающе сжимал нож, очевидно сделанный им из напильника. Ратов первым бросился на Снастьина, никак не ожидавшего нападения. Каратун услышал их возню и вовремя подоспел на помощь командиру. Оба они скрутили Валерию руки сзади. В условиях невесомости клубок из трех тел ударялся то в «машину пищи», то в дверь, то в прозрачный колпак. Шесть сцепившихся рук и шесть болтавшихся ног вертелись, напоминая чудовищного спрута. Но борющимся казалось, что в неистовом хороводе вертятся звезды. Наконец звезды остановились. Ратов и Каратун, прилипнув к полу магнитными подошвами, прижали к нему безумца. Тело его продолжало извиваться, сгибалось дугой, глаза закатились, на губах выступила пена. — Отпусти, — сказал Роман Васильевич. Каратун повиновался. Тело Валерия обмякло. Он тихо оторвался от пола и бессильно повис над ним. — Лучше бы связать, — сказал Каратун. — В каюте запеленаем. Понесли. Нести бесчувственное тело не требовалось, оно само плыло, чуть направляемое Ратовым и Каратуном. — Что робить станем? — спросил у Ратова Каратун, когда они вернулись в общую каюту. Ратов старательно собирал шахматные фигурки и морщил лоб, словно силясь восстановить на доске позицию. — Вот так же, — вдруг указал он на шахматную доску и быстро пошел из каюты. — Надо восстановить положение — задержать топливо. Каратун пошел следом: — Слушай, командир. Нехорошо. Всего-то трое, а один уже заключенный. — Больной, хочешь ты сказать. — Умом понимаю. Душой не приму. Среди трех разумных — и уже нужна темница. Ты в космос? Лучше меня не посылай, а то улечу куда глаза глядят. — Останься. Вижу, безумие заразительно. — От стенок бисова зараза идет. Сжимают они. — Лучше помогай задержать топливо. В баке на донышке осталось, а жить-то надо. — Думаешь, все-таки надо? — Надо, — твердо сказал Ратов. — Мы люди! Мы носители разума. Пусть у нас есть слабости. Но силы должно быть больше. — Ладно. Буду на подхвате. А Валерия побрею, а то он «под гориллу» стал…Ратов, придерживая большую катушку провода, оттолкнулся ногами от кормы корабля; ускоряя полет реактивным пистолетом, космонавт мчался вдоль протянувшегося от космического корабля серебристого шлейфа. Тот состоял из молекул горючего, которое в вакууме испарилось. Катушка в руках Ратова быстро вращалась, разматывая многокилометровый провод. Космонавт должен был подвести электрическое напряжение к электризатору, на который теперь оставалась последняя надежда. Сколько драгоценных секунд истрачено на усмирение безумца, на нахождение способа вернуть топливо! Сколько лет жизни космонавтов потеряно в виде недосягаемой части топливного хвоста! Получив скорость относительно корабля, топливо отстает от него. И кажется, будто облако медленно движется к яркой звездочке, еще недавно бывшей светлым диском милого Солнца. Ратов задумал наэлектризовать возможно большую часть молекул улетающего хвоста. Каждая минута его полета означала месяцы жизни внутри корабля. Ах, Валерий, Валерий! Он был другом и ровесником Арсения. Они вместе стремились стать космонавтами. Валерию повезло, а сына Ратова — тяжеловеса Арсения отборочная комиссия отвела. Земля всегда воплощалась для Ратова в любимом сыне. После гибели жены, отдавшей свою жизнь науке, Ратов воспитывал Арсения с десяти лет. Он был ему и нежной матерью, и строгим отцом. Но еще он был ему товарищем и стал закадычным другом. Общая тяга к космосу сблизила их. Неудача Арсения в звездном городке была их общим горем. Арсений не мог лететь с отцом, но, по его совету, стал радиоастрономом, чтобы все-таки изучать космос хотя бы издали. Так Арсений избежал участи Валерия. А насколько легче было бы с Арсением! Роман Васильевич поймал себя на этой мысли и осудил. Тем большая его обязанность стать несчастному Валерию отцом. Электризатор, двигаясь внутри топливного облака, заряжал каждую его молекулу положительным электричеством. Облако на некоторое время еще больше расплылось, чтобы потом, когда заряд на электризаторе сменится, в конце концов сжаться под его влиянием в более плотную массу. Тогда его можно будет вернуть к кораблю. Но захватить весь «топливный шлейф» Ратову не удалось. Длина провода была ограниченной. И он, дав электризатору отрицательный заряд, отсек хвост. Заряженные молекулы стали собираться вокруг электризатора облаком, а отсеченный хвост продолжал свое медленное движение как бы к Солнцу (на самом деле он улетал от него, но с меньшей скоростью, чем корабль). Так зримо уходили от Ратова многие годы жизни на корабле трех участников Вечного рейса. Он посмотрел вслед улетавшему топливу и… вздрогнул. Что это? Галлюцинация? Нет! Это, должно быть, отделившаяся часть топлива. Но почему она похожа на сигару? И почему она так светится? Или?… У Романа Васильевича даже перехватило дыхание. Неужели спасательная экспедиция нашла их благодаря длиннейшему хвосту, оставшемуся за кораблем? Значит, Валерий своим безумным поступком помог спасению корабля? Ратов тотчас сообщил по радио Каратуну, что видит нечто похожее на чужой корабль. Тот отозвался: — Вижу в телескоп. Вроде сигары. Таких кораблей на Земле не строили. Не строили, когда они улетали!.. Включив автоматическое наматывание катушки и разогнавшись до предела реактивным пистолетом, Ратов помчался обратно к своему кораблю. Секунды, пока он ждал в шлюзе уравнения давлений в камере и в корабле, показались ему часами. И вот он стоял перед радиоаппаратурой: — Кто вы? Отвечайте! Идите на сближение. Мой корабль неуправляем. Эти слова, услышанные на Земле с помощью глобальной радиоантенны Арсением Ратовым, его отец повторил здесь на английском и французском языках. Потом Каратун говорил по-испански и по-итальянски. И вдруг в радиорубке появился Валерий. Пока Роман Васильевич был в космосе, Каратун умудрился не только побрить, но и остричь его. Он обусловил этим освобождение его от пут. Теперь Валерий уже не выглядел диким безумцем. Приступ невменяемости прошел, и сейчас, прислушиваясь к словам, которые его товарищи передавали по радио, он понял, что помощь близка. И недавний безумец сразу преобразился, превратился в прежнего энергичного, деятельного инженера. — Позвольте мне, — предложил он. — Я повторю ваш текст на международном коде. Роман Васильевич молча передал ему микрофон. И тогда Снастьин стал настойчиво повторять призывы. Однако странная серебристая сигара не отвечала. Это был корабль! В этом не было никаких сомнений. Почему же он не дает о себе знать по радио? Что могло произойти на Земле, если люди даже в космосе не отвечают на сигнал бедствия? — Смотрите! — крикнул Валерий. От серебристой сигары отделились три дискообразных тела. И тотчас вся электронная аппаратура корабля перестала работать. Сколько раз такое воздействие летающих дисков на земные приборы было описано на Земле!.. Подобные предметы в небе наблюдали в начале двадцатого века, и в девятнадцатом веке, и много раньше. Предшественник великого Рафаэля, знаменитый итальянский художник Франческо на одной из своих картин, изображающей историю креста, даже нарисовал в небе облака в виде летающих дисков с характерным для них сферическим куполом вверху. Еще раньше Плутарх свидетельствовал о появлении между войском Лукулла и его противником светящегося «бочонка», заставившего обе рати в ужасе разбежаться. А во времена фараона Тутмоса писцы Дома Жизни видели и описали летающее дискообразное тело. Десятки тысяч раз наблюдали за подобными летающими предметами во всех странах на Земле, создавали специальные государственные и общественные научные комитеты для их изучения, но эти усилия не разрешили загадки. Скептики пробовали сначала полностью отрицать существование самой проблемы, утверждая, что она порождена оптическим обманом. Однако радиолокационная аппаратура фиксировала летающие предметы, как материальные тела. Наконец, обнаружились загадочные спутники Земли, движущиеся не в направлении вращения Земли, как все запущенные, а в обратную сторону. Тогда заговорили о возможных космических зондах, посланных для изучения Земли инопланетными цивилизациями. Но никакие попытки установить по радио или другим путем связь с дисками не увенчались успехом. Не получали ответа от направлявшихся к кораблю Ратова дисков и участники Вечного рейса. Так или иначе, но рейс заканчивался… возвращением, пленом или гибелью. Космонавты были готовы ко всему. Но почему неведомые космические пилоты на загадочных дисках не желали вступить в общение с людьми? Неужели потому, что, изучая человеческую цивилизацию, сочли ее столь низкой, что исключили взаимопонимание? А может, они угадали, что безумен один из участников рейса, и опасаются встречи с ним?…
Глава вторая МРАМОРНЫЙ ПАМЯТНИК
Мраморный пилот, пристегнутый мраморным ремнем к креслу, высился над яркой улицей, разделяя своим постаментом встречные потоки машин. Перед ним, подобно небесной арке Млечного Пути, висел ажурный пешеходный мостик, переброшенный через магистраль. На мостике стоял человек и смотрел на свое мраморное изображение. Вокруг бурлила праздничная толпа. Мало кому могло прийти в голову, что на мостике против собственного памятника стоит герой дня, космонавт Роман Ратов, вернувшийся из Вечного рейса. Праздник по этому поводу был общим на всех континентах. И по новой традиции, люди в знак радости, встречаясь, обменивались букетами цветов. Цветы лежали и у подножия памятника с надписью: «Сыну Земли Ратову, не вернувшемуся из космоса». Вглядываясь в мраморные черты лица, Роман Васильевич видел не себя, а своего Арсения, который улетел в звездный рейс и, по крайней мере, при жизни отца не вернется. И словно нарочно, на памятнике не стояло имени Ратова, и теперь, когда Роман Ратов возвратился, мраморный космонавт как бы стоял в память уже Арсения, и об этом будто говорили даже слова: «Сыну… Ратову, не вернувшемуся из космоса». Вернется ли он когда-нибудь? Как много всего произошло с тех пор на Земле! Построена глобальная радиоантенна, улетели два звездолета, открыта вакуумная энергия, Объединенный мир идет по избранному пути. Все мог предполагать Роман Васильевич, все, кроме того, что его сын, не принятый при нем в космонавты, улетит в звездный рейс. Как надеялся Роман Васильевич обнять сына!.. Ему первому он адресовал радиограмму вслед за официальным рапортом по радио о возвращении. О нем думал он и весь долгий обратный путь к Солнечной системе, о нем думал он и в минуту, когда приближались к неуправляемому кораблю три загадочных диска. Никто тогда не мог угадать, что произойдет. Появятся ли перед людьми неведомые братья по разуму в виде человекоподобных существ, безобразных, но мыслящих спрутов или же причудливых разумных машин? И что ждет людей от этой встречи? Гибель? Плен? Но то, что произошло, не мог предвидеть никто! Три диска, вплотную подлетев к кораблю, соприкасаясь ободами, образовали правильную геометрическую фигуру. Нос земного корабля оказался в отверстии, которое получается, если сложить три одинаковые монеты шатром. Три диска как бы обняли корпус корабля. Внезапно все три космонавта ощутили почти забытую ими тяжесть и неловко повалились на переднюю переборку, ставшую полом. Роман Васильевич больно ушибся и сидел теперь между циферблатами приборов, смотря на товарищей. У всех были растерянные лица. — Ни рукой, ни ногой пошевелить не могу, — пожаловался Валерий. — Совсем мы обмякли, — указал на прибор Каратун. — Ускорение-то точно равно ускорению земной тяжести. Должно быть, «они» знают, что делают. «Они» действительно знали, что делали. Прильнув к кораблю, диски составили с ним одно целое. Продолжали торможение. Роман Васильевич, превозмогая боль, поднялся на ноги: — Всем лежать, не двигаться. Привыкайте к тяжести. Неизвестно, что будет дальше. Я все же постараюсь еще раз связаться с ними по радио. Не может быть, чтобы даже сейчас «они» не ответили. И он полез, хватаясь за скобы на стене, в оказавшуюся теперь над головой радиорубку. Но «они» не ответили. Или радио не работало? В первые же минуты торможения мимо корабля промчалось облако потерянного топлива, лишь часть которого Ратову с Каратуном удалось вернуть в баки. Облако продолжало путь, уготованный кораблю в Вечном рейсе. Но корабль теперь отставал от своего шлейфа с возрастающей скоростью свободно падающего тела. Роман Васильевич отметил время торможения, вычисляя изменение скорости корабля относительно Солнечной системы. Скорость убывала. Очевидно, пилоты дисков хорошо знали, чей корабль они отыскали в космосе и каковы привычные условия его обитателей. Однако сами земные космонавты долго не могли привыкнуть к «привычным земным условиям». Перебираться из одного отсека в другой теперь можно было лишь при помощи скоб, напоминавших шведскую стенку гимнастического зала. В кормовой отсек, где находилась «машина пищи», нужно было взбираться, как по пожарной лестнице на десятый этаж. У космонавтов было ощущение, что они разгоняются ввысь, кормой вперед. К концу вторых суток гашения скорости, с которой летел корабль, космонавты несколько привыкли к обретенной вновь тяжести и с трудом, но все же лазили из одного этажа ракеты в другой. Звезды были видны лишь с кормы. Иллюминаторы носовой рубки были закрыты прильнувшими к кораблю тремя дисками, так же как и боковые иллюминаторы. Днища дисков казались металлическими с серебристым отливом и в месте соприкосновения с ракетой, очевидно, были эластичными. Они светились красноватым светом. Никаких дюз, отверстий или окон в днищах не было. И никто из загадочных космических пилотов за все это время не показался в космосе. И никто не ответил ни на один радиопризыв. По существу, инопланетные корабли поступали по отношению к земной ракете, потерявшей управление, совершенно так же, как дельфины помогают в море тонущему человеку, подставляя ему свои спины и доставляя его к берегу. Уже давно скорость, уносившая корабль от Солнца, была погашена. Но диски не улетели, они начали все с тем же ускорением, равным ускорению земной тяжести, разгонять корабль в обратном направлении, к Солнечной системе. Серебристый корабль-матка все время находился в пределах видимости и будто вел наблюдение за «операцией», но не приближался. Космонавты уже привыкли к своим дискам-спутникам и даже надеялись, что они вместе с ними долетят до родной планеты. Но снова ошиблись. Диски разогнали корабль Ратова кормой вперед точно до той же скорости, с какой он улетал от Солнца, и покинули его. Тяжесть сразу исчезла. Каратун не удержался и повис в воздухе, беспомощно двигая руками и ногами. Валерий ухватил его за ногу и помог встать на пол, к которому прилипли его магнитные подошвы. Серебристая сигара корабля-матки еще виднелась вдали. Диски подлетели к ней и исчезли. Потом скрылась и сама сигара, как бы растворившись в звездной туманности. Корабль Романа Ратова возвращался из Вечного рейса, везя волнующую весть о гуманности чужепланетного разума. Но Роман Ратов не мог сразу радировать об этом на Землю: он знал, что не было на Земле столь чутких приемников, которые могли бы уловить его изчезающе-слабый радиосигнал, а о существовании глобальной радиоантенны даже не подозревал. Как отличался теперь обратный путь корабля Ратова от угнетающего Вечного рейса! Надежда на возвращение давала силу и бодрость. Неузнаваемым стал Валерий Снастьин. Жизнерадостный, веселый, он искал применения своей энергии, придумывал множество экспериментов, раскрывающих тайны космического пространства, которое кажется пустым только невеждам. Валерий восхищал Романа Васильевича. Снастьин придумал интереснейший прибор, использующий космический вакуум для исследования физических свойств микрочастиц. Физики Земли не могли и мечтать о столь глубоком вакууме, какой был теперь в распоряжении Снастьина. Роман Васильевич по-прежнему играл в шахматы с Каратуном. Но если прежде это было основным смыслом их существования, то теперь матч из пятисот партий доигрывался ради необходимого отвлечения. Приобщился к шахматам и Валерий, не хотевший слышать о них, пока корабль улетал от Солнца. Солнце теперь становилось все ярче. Через светофильтр оно уже казалось небольшим диском. Роман Васильевич послал на Землю радиорапорт о случившемся с кораблем, а потом личную радиограмму Арсению. Весь Объединенный мир был взволнован сообщением о возвращении космонавтов из Вечного рейса. Однако корабль, оставшийся неуправляемым, самостоятельно не мог подлететь к Земле. Нужна была спасательная экспедиция. Ее послали заокеанские страны Объединенного мира.Корабль Альберто Рус Луильи искал ракету Романа Ратова в районе кольца астероидов. Они все время поддерживали между собой радиосвязь, которая спасателям служила пеленгом. Когда участники Вечного рейса увидели через иллюминатор земной корабль, им показалось, что это снова вернулась к ним серебристая сигара с дисками. И только спустя некоторое время стало ясно, что это земной корабль и что он вовсе не так велик да и по форме совсем не похож на нее. Корабли сближались. Ратов ожидал, что Альберто Рус Луильи сразу примет экипаж Вечного рейса к себе на борт, и приказал готовиться к выходу. Но мексиканец радировал, что сочтет за честь самому явиться на корабль Ратова. Роман Васильевич воспринял это как акт дружбы. И когда Альберто Рус Луильи, выйдя в космическом костюме из шлюза, сжал в объятиях Романа Васильевича — не было для всех радости большей. Этот смуглый горбоносый человек с тонкими усиками казался таким родным, близким, что у Валерия Снастьина выступили на глазах слезы. Потом они перешли в управляемый корабль. Роман Васильевич Ратов уже из мексиканской ракеты взглянул на свой покинутый корабль, и ему стало искренне жаль его. В нем он познал бескорыстную гуманность разумян, которую людям, пожалуй, стоило перенять раньше, чем даже антигравитацию. В мексиканском корабле Роман Васильевич узнал тяжелую для себя весть о том, что его сын Арсений и друг Туча оба улетели в звездный рейс на полвека. Однако ничего не отразилось на гладко выбритом жестком лице Романа Васильевича.
Вот и сейчас, когда Ратов стоял на ажурном мостике и смотрел на собственное мраморное изображение, видя в нем не свое лицо, а лицо сына, он был собран и спокоен. — Сияющего тебе счастья, друг! — послышался знакомый звонкий голос. — Стоит ли смотреться в мраморное зеркало? Клянусь звездами, надпись следует переписать. Не звучнее ли так: сыну землян Роману Ратову, который вернулся из космоса? Или… — и он дотронулся до плеча Ратова. — Или так: «который вернется из космоса»? Ратов оглянулся и увидел рядом с мексиканцем Вольдемара Павловича Архиса. — Я пытался представить себе ход твоих мыслей, — сказал после приветствия Вольдемар Павлович. — Ты думал о сыне и малой вероятности свидания с ним? — Да, о сыне, — ответил Ратов. — Собственно, Альберто Рус Луильи уже сделал тебе предложение, ради чего мы тебя разыскивали. Уверен, что ты интересуешься звездолетом, строящимся на новом принципе. — Вакуумная энергия? Еще бы! Помощники Альберто успели просветить меня. Только думаю, надо учесть и чужой опыт. — Ваша радиограмма о космических спасателях вызвала революцию в конструкторских умах Земли. — Перейти на дискообразную форму? — спросил Ратов. — Хорошая форма для подсобных кораблей, которые звездолет будет посылать на планету. Тебе уже ясно, что новому кораблю будут доступны более дальние пределы космоса? Архиса нетерпеливо перебил мексиканский космонавт: — Словом, нужно найти новую подходящую планетную систему, где можно жить привольно вот таким маленьким сеньорам грядущего, — и он указал на бульвар внизу. Там гонялись взапуски ребятишки. — Я уполномочен спросить тебя, как старого друга, — с некоторой торжественностью сказал Архис. — Возьмешься ли ты возглавить экспедицию на новом звездолете? Альберто будет первым твоим помощником. Ты можешь взять с собой и своих товарищей по предыдущему рейсу. Они подойдут? Роман Васильевич подумал о Валерии. Вечный рейс воспитал его, но все же он не сможет полететь к другой звезде. — Не все, — сказал он. О себе Ратов не подумал. Он уже давно подсчитал, что если бы принял участие в звездном рейсе, то вернулся бы из него одновременно с сыном.
Глава третья ГЕЯ
Гигантская серебристая сигара, так непохожая на земные звездолеты, двигалась по эллиптической орбите, то приближаясь к планете на десяток тысяч километров, то удаляясь от нее. Время от времени из недр сигары вылетали диски, которые, резко снижаясь, входили в атмосферу. Они кружили над материками. Потом возвращались к кораблю-матке. Из открывающегося люка высовывался стержень, захватывал диск и вместе с разведчиком вдвигался внутрь. Сигара в передней своей части более толстая, чем у хвоста, напоминала диковинную рыбу. Размерами она, казалось, была с горный хребет. Из иллюминаторов исполинского корабля виднелась планета, покрытая морями облаков. Ее материки сгрудились преимущественно в одном из полушарий, составляя все вместе половину поверхности океанов. Внутри корабля-матки в цилиндрическом салоне, имитирующем летающий где-то над планетой диск, перед круговым щелевидным экраном собрался весь экипаж. Изображение было цветным и объемным. Круговая щель позволяла, вращаясь в креслах, рассматривать пейзаж как бы из самого диска. На экране проплывали дикие заросли тропических растений. Перед джунглями расстилалась саванна, покрытая высокой травой. На горизонте показались точки, быстро увеличиваясь. Очевидно, диск с огромной скоростью летел к ним навстречу. Стадо легких изящных животных, с прямыми отогнутыми к спинам рогами, несется, взлетая при каждом прыжке. Вероятно, животные испуганы. Может быть, диском. Но в этом случае стадо не могло бы мчаться на диск. Кто же гонится за антилопами? Могучий хищник распластался над травой, вытянув тонкий хвост. Его рыжая грива развевается по ветру. Скачком он настигает отставшую жертву, и она валится в траву. Хищник остается терзать добычу, а диск летит дальше. Снова саванна на границе с тропическим лесом. Пасутся носороги с тяжелыми бивнями на носу. Животные встревожены, готовятся к схватке. Валятся деревья, и из чащи вырывается стадо слонов. Очевидно, они трубят — их хоботы подняты вверх, но звука не слышно. Носороги чинно отходят с их пути. Водопад со спиральными струями и облаком радужных брызг… Горные кручи, уходящие в облака… Песчаный пляж с набегающими на него редкими волнами… Снова степь с холмистым горизонтом. Могучие животные с высоко поднятыми загривками и опущенными рогами. Если в скачке антилоп ощущался страх и скорость, то в этих животных чувствуется сила сплочения. Опять хищник? Да, целая стая хищников старается отбить от стада слабых. И снова смена пейзажей, материков, широт. Дремучие леса. Автоматическому диску приходится лавировать, чтобы обойти вековые великаны с ниспадающей листвой. С бреющего полета над широкими реками видны крутые берега с тонкими белыми деревцами наверху, видны заводи, заросшие камышами, откуда вспархивают стаи испуганных птиц. А вот появились реки, по берегам которых стоит стеной лес, хвойный лес — непроходимая чаща. Иногда в поле зрения попадает зверек, словно перелетающий с одного дерева на другое, или мохнатый увалень, бредущий на водопой. Он уставился на висящее в воздухе чудо, которое запечатлело его удивленную морду. Зеленые струи заполняют экран — зонд ушел под воду. Стайки рыб проносятся вкось экрана, диковинные животные шевелят щупальцами или карабкаются по камням. А вот чудесная лесная поляна. Налево трогательная семья из пяти белоствольных сестричек, напротив них могучий великан с раскоряченными ветками. А прямо — зубчатая стена деревьев и с листвой и с хвоей. — Березки, ели, дуб! Это же Земля! Настоящая Земля! — восклицает самый молодой из присутствующих. — И нигде ни души, ни поселка, ни города! Ужель друзья думают, что здесь нет людей? — спросила некрасивая девушка с огненными волосами. — Новый «Новый Свет»! — восклицает астронавигатор корабля, смуглый человек с тонкими усиками. — Нет, — возражает командир. — Уж если планета так походит на Землю, то пусть будет Геей. — Того ж не может быть, — добродушно вступает планетолог экспедиции. — Условия развития столь отличны от земных, что надо искать ошибку. — А что, если мы жертвы субсветовой скорости? — спросил самый молодой, восхищавшийся березками. — Никто не знает толком, что происходит при скорости света. Вдруг мы полетели вовсе не к цели и перемещались не в пространстве, а во времени. Притом назад! И видим теперь нашу Землю, какой она была миллионы лет прежде. Невысокий и кудрявый астроном экспедиции порывисто вскочил со своего места, сверкнул черными глазами. Он ловко сделал на пульте переключения и показал на экран: — Вот вам радиоизображение Солнца и его планет. На черном, испещренном светлыми точками экране выделялся маленький диск. — Наше Солнце! — продолжал астроном. — Около него почти неощутимые точечки: Меркурий, Венера, Марс. Самый яркий — Юпитер. Только он один и заметен. Вот вам единственно возможная машина времени. Мы видим эти планеты, какими они были вскоре после нашего отлета. Только так можно видеть прошлое. А то, что мы видим на экране, — это современность двойника Земли. — Того ж не может быть, друг мой Костя, — упрямо повторил планетолог. — На планете притяжение много слабее, чем на Земле, света меньше, магнитное поле не то. Какой уж там двойник! Только атмосфера вроде земная. И только. — Каратун весь в этом! — воскликнул Борис Ловский, самый молодой из участников экспедиции. — Не верит ни собственным глазам, ни приборам. Только собственным произвольным выводам. — Почему произвольным? — спокойно возразил Каратун. — Не может того быть, чтобы планета другой звезды была копией Земли. Эта планета находится от своего светила на таком же расстоянии, на каком был до своей гибели Фаэтон. И по массе она вдвое меньше Земли. — Стоп! — прервал мексиканец. — На экране — не старые голливудские фильмы периода до гражданской войны. Это видеозапись наших автоматических разведчиков. Пусть это и не Земля, но, клянусь звездами, хорошая ее копия. — Всегда считал, что оригинал лучше копии! — воскликнул Костя Званцев. — Вот и теперь есть возможность в этом убедиться. — Когда будешь серьезным, астроном? — возмутился Ловский. — Когда догоню тебя по возрасту. Я слетаю на Землю. А ты здесь подождешь. Авось мудрецом станешь. Молодой Борис Ловский густо покраснел от намека Кости на его юность. Альберто Рус Луильи решил вмешаться, расплывшись в улыбке: — Особенно хорошо то, что цветущая земля здесь никем из разумных не занята. — Ну, тогда действительно надо на ней оставить Бориса, чтобы не нарушить ее гармонии, — быстро сказал Костя. Борис пронзил его взглядом, но тот озорно хохотал. — Нам нужны «умом» не занятые материки. Новый Свет без индейцев. Что скажет командир? — обратился Борис к самому старшему. — Попросим микробиолога доложить результаты исследования захваченных дисками образцов почвы, воды и воздуха, — предложил командир Роман Васильевич Ратов. — Слушаю друга-командира, — отозвалась рыжеволосая полька Ева Курдвановская. — Микробы, по-видимому, безопасны для земных организмов. Слишком мелки и слабеньки. Ни одно из наших подопытных животных ничем не заболело. — Это-то меня наиболее и смущает, — гнул свое Каратун. — Что? Что смущает? — накинулся на него Борис. — Думаете, какой-то шутник заложил в наши диски земные видеопленки? Или тебя не устраивают мелкие и слабые микробы? — Смущают. — Надо предвидеть все, — сказал Роман Васильевич. — Я потому и медлил с высадкой. Планета удивительная. Хоть глазам не верь!.. — А я верю глазам. И не сомневаюсь! — с вызовом сказал Ловский. — Готов первым ступить на новую землю. Без скафандра. — Хорошо, — согласился Роман Васильевич. — Пусть мои спутники при первой высадке будут самыми молодыми, — и он взглянул на Бориса, потом на Еву.Глава четвертая МИНИМИР
Ева Курдвановская считала себя последовательницей Вилены. Она стала второй звездолетчицей. Высокая, сухопарая, жилистая, несмотря на модную прическу, мужеподобная, она считалась заядлой спортсменкой: бегала, плавала, толкала тяжелое ядро и даже фехтовала у себя в Польше не только с женщинами, но и с мужчинами. Но, на беду свою, была она некрасива, с удлиненным лицом, неправильным носом и тяжелым подбородком. Может быть, именно поэтому она стала болезненно самолюбивой и высокомерной. Ей хотелось добиться того, чего не могут другие. Спортивных рекордов ей казалось мало, и ее потянуло в космос. Сам профессор Михаил Каменский из Краковского университета, знаменитый планетолог, гордился своей ученицей и способствовал тому, чтобы Ева попала в состав европейской лунной экспедиции, где отличилась, открыв «подлунный лед», разработала принцип создания на Луне атмосферы, пригодной для жизни человека. И, уже прославившись, когда, казалось, можно было и забыть о недостатках внешности, она пожелала лететь с экспедицией Романа Ратова на поиски иных, пригодных для жизни планет. Ее не смутило, что по возвращении она встретит на Земле новые поколения. Роман Васильевич Ратов поддержал кандидатуру Евы Курдвановской. Ему казалось, что ей будет легче освоиться в коллективе участников экспедиции, чем другим женщинам, претендовавшим на место в корабле. Так и случилось во время рейса. Все любили и уважали Еву, микробиолога и врача экспедиции. Все, кроме Бориса Ловского, самого молодого из всех. Только он один видел в ней прежде всего женщину. Избалованный на Земле вниманием, черноволосый, с профилем древнего ассирийца, он не мог и в космосе отделаться от земных желаний и страдал от равнодушия ироничной Евы. Ему казалось, что она должна благодарить судьбу, пославшую ей его. Но Ева упорно не обращала внимания на Ловского. Это бесило его, и он решил, что она просто скрывает свои чувства к нему! Вот и все! И черные его глаза становились томными, влажными. Борис Ловский происходил из столичной интеллигентной семьи. Родители обожали единственного сына, уверенные в его одаренности. Из первого класса школы он был переведен прямо в четвертый, а после восьмого сдал на аттестат зрелости. Пятнадцати лет, в порядке исключения, принятый в университет, Ловский поражал профессоров феноменальными способностями. Привычное признание сделало Бориса уверенным в превосходстве над другими. Правда, он болезненно переносил намеки на хрупкость его телосложения и малый рост. Ловский хотел бы и физически превосходить всех, но, постоянно учась с более старшими, чем сам, школьниками, он вынужден был скрепя сердце уступать им в силе. И потому Борис ни с кем не сходился близко, ни к кому не привязывался. Единственным увлечением Ловского было чтение. Обладая так называемой «фотографической» манерой чтения, молниеносно прочитывая страницы, которые словно отпечатывались у него в мозгу, он перечитал чудовищно много. Особенно его привлекала фантастика прошлых столетий. Читал он все без разбору, но немалое влияние на формирование его характера оказали те произведения, где под видом фантастических событий осуждалась современность и стремление в будущее, которое авторы представляли безнадежным тупиком. В этих же книгах Борис открыл для себя тип личности, противостоящей миру. Таким героям-индивидуалистам он готов был подражать. В нем, с детства привыкшем слышать, что он превосходит других, это находило отзвук. Однако надо сказать, Ловский был настолько умен и воспитан, что ничем не проявлял эти свои скрытые качества, они будто дремали в его подсознании. Внешне в своих действиях и даже при испытаниях с помощью проверочных тестов и электронно-вычислительных машин, при медицинских обследованиях, каким он подвергался, когда Роман Васильевич Ратов обратил на него внимание, он ничем себя не выдал. Обследование электронными машинами в звездном городке дало краткое, по существу верное заключение: «Способен, вынослив, упорен в достижении цели, самоуглублен, обособлен, здоров…» Когда Ратову пришлось отбирать кандидатов в свой экипаж, ему обособленность Ловского (при прочих равных машинных оценках) показалась хорошим качеством — такому легче расстаться с современниками, чем другим. Во что же выльется его самоуглубленность и обособленность в необычных условиях космоса, ни машины, ни сам Ловский, ни Ратов предвидеть не могли. Ева чуть не расплакалась от радости, узнав, что она и Ловский полетят с Ратовым на Гею первыми. А Ловский не мог уснуть, взвинченный предстоящим событием, счастьем, выпавшим ему на долю — ступить первым на планету, где будет жить грядущее человечество. Но утром он сам посмеивался над собой, отшучивался от товарищей, уверял, что не претендует на памятник до неба. Однако в самой этой шутке о подобном памятнике крылась затаенная мысль прославиться. Все это утро Ева смотрела на Ловского, щуря серые глаза. Она словно угадывала что-то. На правах врача она предложила ему какие-то таблетки, но он с возмущением отказался от них.Роман Васильевич опустил диск на вершину холма, господствовавшего над местностью. На склонах его рос лес, полускрытый фиолетовой дымкой. Ратов предложил молодым людям первыми сойти на Гею. Ева вскинула голову. Ловский вытер влажный лоб. Выходить можно было без скафандра. Атмосфера Геи безвредна. — Когда-нибудь местное человечество придумает библейскую легенду о Еве, их первой женщине, — попытался шуткой подбодрить себя Ловский. Ева не ответила и спрыгнула на чужую почву. Она по-хозяйски огляделась и загадочно сказала: — Когда люди переселятся сюда, здесь будет матриархат. Ловский рассмеялся, жадно всматриваясь в чужепланетный ландшафт. Дышалось легко, но сердце билось учащенно. Потом спустился и Роман Васильевич. Но что за чудо? Куда делся лес? Местность, насколько хватал глаз, была покрыта кустарником. Под ногами на вершине холма росла мельчайшая трава, напоминавшая ворсинки ковра. — Где ж она, копия Земли? — спросил Ловский, недоуменно глядя на командира. — Разве на экране было плохо видно? — спросила Ева. — Экран не передает масштаб, — задумчиво ответил Ратов. — Почему масштаб? — удивилась Ева. — Рассмотрим кустарник повнимательней. Ева и Ловский сбежали с холма к зарослям. Ратов шел за ними. — Разум правый! — вскричала Ева. — Так ведь это же лес! Она стояла перед кустарником, который доходил ей лишь до пояса. Потом опустилась на колени, протянув к растениям руки: — Березки! То наши березки, будто под Краковом! Какие же крохотные! Коханые! Курдвановская ласкала тоненькие стволы странных растений, действительно напоминавших земные березы, уменьшенные в десятки раз. — Друг-командир видел на Севере карликовые березы? — обернулась Ева к подошедшему Ратову. — Те еще ниже, — ответил Роман Васильевич. — Карликовые не только малы ростом, но и изуродованы суровой природой, а здесь… — Что же здесь по мысли друга-командира? — Не игра природы, а ее закон. Закон подобия, как в геометрии. — То понятно. Нужно было самой догадаться, когда рассматривала еще на звездолете первых живых существ планеты в микроскоп. — Значит, для того чтобы рассмотреть микробы в микроскоп, требовалось увеличение в двадцать-тридцать раз большее, чем на Земле? — уточнил Роман Васильевич. Ева ничего не ответила. Ловский опустился на корточки. Когда он смотрел на лес Геи снизу, тот казался ему самым обыкновенным земным лесом. С белых стволов свисали крохотные ветви с точками листьев. Совсем как на Земле, только уменьшено в размерах. Среди березок оказалась и ель, такая же маленькая, но совсем как земная, с нежной хвоей, ласкавшей пальцы. — В Японии есть восхитительные крохотные садики, — сказала Ева. — Деревья-лилипутики, маленькие мостики через ручейки. Игрушечный мир, похожий на обычный, но на который будто смотришь через перевернутый бинокль. Красиво! Я видела это, когда ездили на состязания по плаванию. — А здесь чем не красиво? — спросил Ратов. — И здесь дивно! Только надо стоять на коленях. Потому что минимир. А может быть, на обетованной земле и надо встать на колени? — И она посмотрела на Ловского. — На колени? — вскричал тот, не только вскакивая, но и подпрыгивая выше леса, так как сила тяжести была здесь вдвое меньше, чем на Земле. — Вы еще не поняли, что нами открыто! Это мир великанов! — Каких великанов? — удивилась Ева. — Минимир. — Мы здесь великаны! Мы! Деревья мне по пояс. Я чувствую себя титаном. Нет силы, которая сможет мне противостоять. Ратов с удивлением посмотрел на своего молодого спутника. Не слишком ли велика для него психологическая нагрузка? Ева чуть насмешливо сузила глаза. Ловский ухватился за березку, похожую на прутик, и вырвал ее с корнем. Он запустил свой «трофей» через лес. Самодельный снаряд при здешней тяжести улетел за далекую речку. — Смотрите, я все могу, все! Я корчую деревья, я хожу семимильными шагами! Я как в сказке! — кричал Ловский. Ратов встревожился, но еще не осознал, что чувствует молодой человек. А Ловский вел себя все более странно — вдруг вот теперь прыгнул, словно выпущенный на волю зверек. Но не рассчитал усилия и взлетел слишком высоко над лесом, потом упал в самую его чащу. Деревья подогнулись под ним, как кусты. Он ушиб себе голову и на миг потерял сознание. Возможно, этот ушиб и был причиной того, что произошло с Ловским дальше. Из подсознания его как бы вырвался некий предок, — в истории был же пример, когда человек, упавший с лошади, заговорил на древнегреческом языке, которого не изучал!.. Вскочив, Ловский уже в состоянии невменяемости стал выворачивать деревца, забрасывая их далеко в лес. Вскоре вокруг него образовалась поляна, вся в черных ранах, оставшихся от вырванных деревьев. — Что видит друг-командир? — спросила Ева, хватая Ратова за руку и отвлекая от Ловского, который, к этому времени устав или немного успокоившись, отирал ладонью потное лицо. Ища спасения, из леса на холм выскочили, перепуганные шумом, два существа размером с кроликов. Их тонкие ножки пружинили при скачках. Ветвистые рожки касались спинок. Микроолени, увидев великанов, остановились, круто повернули и поскакали в обход диска. — Все, как у нас дома, только в десятки раз меньше. Что думает друг-командир? — Я только космонавт. Вам, ученым, отвечать на этот вопрос. Я не знаю, задумывался ли кто-нибудь на Земле о том, чем обусловлен масштаб всего живого? Почему у нас деревья в тридцать метров, а не в сто? Почему звери больше насекомых? И будет ли «земной масштаб» всего живого соблюден на другой планете? — Друг-командир, конечно, прав. На то есть тысячи причин. Величина планеты, ее тяготение, освещение, радиоактивность, сила магнитного поля… условия борьбы за существование и еще много-много факторов. Все это, безусловно, влияет на эволюцию, определяет размеры существ. — Значит, мы столкнулись здесь с таким сочетанием всевозможных причин, когда земные формы повторены, но… в другом масштабе. — Значит, друг-командир полагает, что и львы и слоны, которых мы видели на экране, немногим больше этих оленей? — Да, пожалуй. Их можно будет взять под мышку, как комнатную собачку. — То очень мило и замечательно! — Почему? — Человеку, который переселится сюда, не страшны микрохищники. Он будет среди них исполином. Так, друг-Борис? — Ловский только что подошел и услышал последние слова. — Исполином? Верно! — обрадовано подхватил он и добавил:- Именно исполином. Я чувствую необыкновенный прилив сил, хоть и здорово встряхнуло мозги! Теперь я способен на все! Если я сложу здесь дом из камней, он будет горой для местной мелюзги! — Командир полагает, маленьких людей здесь нет? — Хотите почувствовать себя Гулливерами? — улыбнулся Ратов. — Нет. Наши диски слишком хорошо разведали планету, чтобы пропустить те изменения, которые вносит в природу разум. — О, я здесь внесу изменения! Дайте мне только развернуться! Я покажу, что здесь по плечу титану, — говорил Борис, смотря поверх собеседников. — Стоит ли быть мальчишкой? — спросила Ева. — А вы не будьте бесчувственной богиней! Поймите, что мы и есть настоящие боги, которым леса по пояс, реки по колено! — То не совсем так, не совсем, — поправила Ева, улыбнувшись чему-то своему, ей известному, и вдруг, глядя на Ловского, смолкла, нахмурилась.
Глава пятая ЧЕРНЫЕ МОЛНИИ
Низкое небо полыхало огнем. Казалось, тысячи ослепительных вспышек непрерывно сверкали то здесь, то там. Волны огня тревожными лучами прожекторов метались по небу.
И оно разламывалось, громыхало, будто канонады всех отгремевших на Земле войн слились здесь воедино. А по лесу бежал великан. Деревья доставали ему едва до пояса и валились не только от шквального ветра, но и от его неистового бега. Однако если он казался великаном по сравнению с лесом, то перед силами разверзшихся небес выглядел пигмеем. Молнии то и дело ударяли рядом с ним. Уже не первый факел вспыхнул среди тропических деревьев, укрывших под корнями перепуганныхобитателей джунглей. Великан моргал ослепленными глазами. Сверкавшие молнии казались ему черными. Не в силах мыслить, гонимый скорее ужасом, чем желанием скрыться, он не мог отличить вспышки молнии от изломанных стрел, черными зигзагами застывших под опущенными веками. В другое время он вспомнил бы о свойстве закрывшегося глаза, смотревшего на освещенное окно, запечатлевать на его месте темное пятно со светлым переплетом оконной рамы. Где-то, когда-то, еще на Земле, Ловский читал про черную молнию привидившуюся людям в лесу. Теперь он видел эти черные молнии сам. Из-за нервного потрясения и травмы головы Борис не способен был восстановить шаг за шагом то, что произошло с ним в последние часы пребывания земной экспедиции на Гее.
А произошло все так. Гигантский костер, разожженный пришельцами с Земли, разгорался, и пламя столбом взмывало к небу. Взлетавшие красные искры сыпались на лес падающими звездами. Вокруг костра сидели великаны. Ни один хищник джунглей не смел приблизиться к ним. Даже стадо диких слонов предпочло уйти подальше и уплыло за глубокую реку, которую, кстати сказать, великаны могли перейти вброд. Упрямые носороги дольше всех не хотели уходить и свирепо кидались на протянутую к ним ладонь. Они и пополнили теперь коллекцию биолога экспедиции. — Зверинец укомплектован? — осведомился у Евы Каратун. — Минизверинец, — поправила та, нежно поглаживая пальцами крохотное, но свирепое животное. — Разве не жаль улетать из этой сказки? — Вы вернетесь вместе с земными растениями, — заметил Роман Васильевич. — А что скажет друг-командир, если я вернусь сюда защищать природу Геи? — Зачем защищать? — удивился Ратов. — Разве планета не должна остаться такой, какой мы ее застали? Для чего тут земные эвкалипты и пальмы? Пусть переселенцы будут великанами. — Верно, Ева! — горячо поддержал Ловский. — Преступление менять такой мир, в котором человек мог бы быть титаном. — И такой мир колонизовать, клянусь звездами, удобнее, чем у нас в свое время западные провинции, — поддержал и Альберто Рус Луильи. Охватив колени руками, Ева говорила: — Глядя на эти крохотные леса и крошечных животных и видя в небе под стать им маленькое солнышко, разве не задумаешься над тем, что именно отсюда, от пятой планеты, движется волна жизни в системе Тау Кита? Через миллионы и миллионы лет она перекочует на более близкие к звезде планеты, Не так ли было и у нас, в Солнечной системе? Каратун подбросил в костер охапку вырванных с корнем деревьев. Пламя на миг потухло, потом разгорелось с новой силой, заиграв бликами на выпуклых стенках кораблей-дисков. — Вполне разумно, — сказал он. — «Пояс жизни» и здесь, и в Солнечной системе мог двигаться от дальних планет к ближним. Бис его знает, может, и на Фаэтоне цивилизация возникла раньше, чем на Земле. И довелось нам увидеть руины на Весте, осколке Фаэтона. — Надо ли считать, что люди были так же малы, как носороги, по сравнению с земными? — Не думали, не разумели мы тогда, что надо определить масштаб развалин на Весте. В том и была ошибка. — Ахинея! Маленьких людей не бывает, — вмешался Костя Званцев. — Недаром здесь их не нашли. Вес мозга, количество нейронов значат немало для того, чтобы существо стало мыслить. — Так ли, друг-астроном? Люблю собак. Как по-вашему, крохотная собачка, карликовый пинчер, умещающийся на ладошке, как местный носорог, много глупее огромного дога? — Ну, хлопец, ты бит! — подзадоривающе захохотал Каратун. — Как считает друг-командир? И еще: муравьи не думают? — Трудно ответить. Надо исследовать на Земле ваш минизверинец, определить, какой запас нейронов нужно иметь в резерве, чтобы мыслить. — Вот, Борис, я всегда говорил, что у человека известны только четыре процента объема мозга, занятого полезной деятельностью. Тебя исследуют вместе с мини-зверинцем. — А тебя и исследовать не надо. Весь мозговой резерв попусту расходуется на «клинописные» остроты. — Когда вернемся, многое исследуют, — вздохнул Каратун. — И нашу ошибку исправят, побывают на Весте, рассмотрят ее руины. Не думали мы, глядя на нее из космоса, о росте человечков. Размышляли только о том, как сказать людям о планете, взорванной ее обитателями. — Не хочется верить: цивилизация и — уничтожение. Разве это не исключающие друг друга понятия, друг-командир? — Цивилизация, цивилизация! — раздраженно вмешался Ловский. — Плодами цивилизации могут пользоваться и дикари. — Почему друг-Борис говорит о дикарях? Ловский огляделся с нездоровым блеском в глазах. — Разве мало доказательств? Вспомним гитлеризм, не такое уж давнее прошлое. Люди оказались способными быть хуже зверей. Львы и тигры не истребляют поголовно все лесное стадо, не мучают жертв. Исторические исследования, художественная литература, театр и кино — все это безжалостно изобличало человека, в котором всегда дремлет дикарь. Вот почему я с охотой полетел с вами. — Вот как! — с ноткой горечи протянул Роман Васильевич. — Бесстыдной пропагандой, коварной организацией, обожествлением вождей не раз удавалось в разные времена и в разных странах пробудить дикаря не в отдельных изгоях, а в огромной части трудолюбивого, культурного народа, который потом со стыдом вспоминал это. — Ловский все больше возбуждался, впадал почти в истерику, крикнул: — Вот почему я полетел с вами! Ратов покачал головой: — Век живи — век учись! — И подумал: «Должно быть, не так подбирал я экипаж». — Вы скажете, это было в прошлых столетиях? Отвечу: человек меняется медленно. При фараонах он был схож даже с нашими современниками. — Беру свои слова обратно о машине времени, — запротестовал Костя Званцев. — Тебя, Борис, забросили в наше время из прошлого. — Нет! — закричал Борис. — Я не хочу прошлого, я боюсь его! Боюсь бомб, крови, тупого сопротивления ходу истории. Чего стоит одна только заокеанская гражданская война! — Она кончилась, — сказал Альберто Рус Луильи. — В Объединенном мире война теперь вне закона. Каждый человек Земли должен победить в себе дикаря. — Совет Борису — резон для всех, — заметил Костя. Ева встала и закинула руки за голову: — Хочу быть дикой в последние минуты в минимире. Пройдусь по диким лесам Геи. Ловский тоже вскочил. Костя проводил его неодобрительным взглядом. В свете костра высокая сухощавая фигура спортсменки вырисовывалась на серебристом фоне диска. Она была без шлема, но в скафандре, с прутиком антенны за плечами. Борис и Ева вместе прошли между почти соприкасавшимися дисками, задев друг друга плечами. Курдвановская была чуть выше Ловского, что не доставляло тому удовольствия. Отблески костра лишь чуть подсвечивали саванну. Близкий горизонт терялся во мгле, и равнина казалась огромной. — Ева, — сказал Ловский, касаясь руки девушки. — Ну что? — сказала она и отдернула руку. — Не надо! — раздраженно буркнул Ловский. — У меня будет слишком серьезный разговор. — О чем надо говорить в последнюю ночь на Гее? — О том, что она не последняя. — Как то понимать? — Вы сами только что выразили заветное мое желание. Случай недаром дал вам это древнее имя, а мне внешность ассирийского царя. — Мое имя? А почему не фамилию? — Вы не желаете понять меня, Ева! Вы хотели на миг почувствовать себя дикой. А я хочу быть диким на дикой планете всегда. И я не вернусь на Землю. Никогда. — Истинно дикие слова. — И я не хочу, чтобы вы возвращались. Мы останемся здесь на Гее единственными властителями мини-мира. Вокруг не будет и не сможет быть никого. Не будь Ева врачом экспедиции, она повернулась бы и ушла. Но сейчас она не на шутку встревожилась. Главное, оставаться спокойной, выяснить, как опасен припадок. Что Борис заболел психически, она уже не сомневалась. Юноша не выдержал слишком больших впечатлений и навеянных ими мыслей, не говоря уже о травме головы. — А это не будет дикарством, остаться вдвоем? — осторожно спросила она. — Нет! Я сооружу дворец! На фоне здешней природы он будет величественнее всех мегалитических построек Земли! А вокруг будет рай! — Хочется сменить имя на Адама? — не удержалась от иронии Ева. И сразу пожалела об этом. — Перестаньте издеваться надо мной! Пусть мы будем здесь с вами Адамом и Евой. Или Борисом и Евой для местных легенд. Наши потомки населят этот мир племенем титанов, о которых лишь мечтали поэты Эллады. Ева резко повернулась к Ловскому — во время истерического припадка помогает неожиданный удар: — Разве у Евы в раю был выбор? Никого, кроме Адама. — Что вы хотите сказать? — повысил голос Ловский. — Что я недостаточно хорош для вас? — Хочу напомнить… Сколько на Земле живет миллиардов мужчин? — Они бесконечно далеко. Кто здесь есть — улетят. Останусь только я один. С вами… — А не думает ли новоявленный Адам, что прародители будущего человечества Геи должны, по крайней мере, хоть любить друг друга? — Я… я готов. Я готов полюбить вас, Ева. — За такую откровенность бьют по щеке. — Ева! — Но я отвечу тоже откровенностью. Знайте, среди миллиардов мужчин на Земле остался один, который был дорог мне и который говорил, что женщина подобна тени: когда идешь к ней, она убегает, а когда уходишь — догоняет. — И он ушел? — Но воображаемая тень не догнала его. Отделила себя от него тремя десятилетиями. — Послушайте мой совет. Пусть три десятилетия превратятся в вечность. — Иной совет горше измены. Новый Адам забывает, что я здесь не из женского каприза, а во имя долга, который разделяю с товарищами. — Что вам до них! Вы здесь будете… — и он сделал широкий жест рукой. — Царицей мира? — с издевкой подсказала Ева. Ловский уже не воспринимал иронии, он уже потерял контроль над собой: — Да, мне под силу дать вам целый мир! Мне, титану нового мира! — Да разве сила титана в том, чтобы засунуть льва в карман? Эх вы! Да человек в любом мире титан, в любом масштабе живого, над которым его возвышает разум, а не рост. Он может сделать мышцы сильнее, чем у динозавра, передвигаться быстрее гепарда или ласточки. И он может заставить природу служить себе вовсе не тем, что станет корчевать деревья руками. Для этого у него есть машины. И Ева, круто повернувшись, пошла обратно к костру. Она ожидала, что он пойдет следом. Он действительно поплелся к костру. Ева тут же решила, что Борису надо сделать укол, вызвать у него шок… Их встретил Ратов, и Ева сразу хотела обратиться к нему за помощью, но Ловский опередил ее: — Считайте меня Робинзоном или Гулливером, как вам будет угодно, — с нездоровым блеском в глазах объявил он, — но оставьте мне продуктов. Или — еще лучше — одну из «машин пищи». — Ты сошел с ума! Сейчас же отправляйся на корабль, — твердо сказал Ратов и кивнул в сторону ближнего диска. — В этом мире ваши приказы для меня — пустой звук, — вызывающе заявил Ловский, тряхнув своей волнистой шевелюрой. Роман Васильевич пристальна всмотрелся в его лицо. Из-за отсветов костра оно словно дергалось. И Ратову вспомнился небритый, заросший Валерий, со свисающими на лоб и затылок волосами, когда он ворвался в кабину пилотов с криком, что Вечному рейсу конец. Ловский был подстрижен и гладко выбрит. Но в его глазах был тот же безумный огонек, что и у Снастьина в ту тяжелую минуту. Психика не выдерживает у наиболее экспансивных. Космос слишком тяжелое испытание для них. А для Ратова? Для него нет оправдания. Не по ложному ли принципу подбирал он экипаж? Придется отвечать. — Альберто, Званцев! — распорядился Ратов. — Сейчас же отведите Ловского на борт корабля. У него припадок. Звездолетчики вынырнули из тьмы. — Оставьте меня! — истерически закричал Ловский. — Не нужна мне ваша помощь! Минимир прокормит меня! Выкрики Бориса привлекли других космонавтов. Вернулась и Ева со шприцем и лекарствами. — Тебе надо выпить успокоительного, — ласково сказал Ратов, беря Ловского за руку. Тот грубо вырвался: — Не троньте меня, жалкие пигмеи! — Глаза его были безумны, в уголках губ появилась пена. — Оставайтесь пигмеями до конца своих тусклых дней, которые вы разделите между кораблем-темницей и миром Земли. Я отказываюсь и от вас, и от вашей цивилизации. И он бросился в джунгли. Его вскоре поглотила тьма. Только по хрусту деревьев и можно было определить, где он бежит. Альберто Рус Луильи и Ева, знаменитая бегунья, кинулись за Ловским. Увидав преследователей, Ловский ринулся к реке, прыгнул в нее с обрывистого берега и поплыл кролем. Мексиканец и Ева тоже бросились за ним в воду. Званцев и Каратун добежали до берега. Они видели, как Ловский выбрался из воды, ломился, круша деревья, через чащу. Преследователи шли по его следам, но отставали — безумие вселило в беглеца небывалую силу. Когда Костя Званцев и Каратун все-таки нагнали Еву с ее мексиканцем, свет звезд исчез — небо заволокло тучами. Просека, оставленная Борисом, стала еле заметной. И тогда сверкнула молния. Все, как по команде, убрали антенны. Но прутик антенны Ловского все так же возвышался над лесом. Над Геей разразилась одна из ее гроз, не идущих ни в какое сравнение с земными. Еве стало жутко, как девчонке, застигнутой ливнем в степи. Дождь хлестал толстыми жгутами. Она вспомнила рассказ мамы о том, что одну женщину убило молнией в поле около Кракова и что чаще всего молния ударяет в высокие деревья. И потому под ними не надо прятаться. А Ловский был здесь великаном, он возвышался над всем лесом, словно шел один в поле, как та женщина из Кракова. Из темноты появился командир экспедиции. Он сказал, что преследование бесполезно, больной невменяем. Может быть, ливень приведет его в чувство. Но без него они ни в коем случае не улетят, хотя бы пришлось обшарить всю планету. — А что думает друг-командир… Борис не убрал антенну? Она как громоотвод. Конечно, Ловский и не подумал об этом. Вокруг полыхало огнем. Небо гремело, как броня под ударами пушечных снарядов в древности на Земле. Одно за другим факелами вспыхнули два сросшихся дерева. Мимо них пробегал сошедший с ума Борис. Казалось, молния непременно ударит сейчас и в прутик торчащей антенны. Еве даже показалось, что она ясно видела, как ослепительно черная (именно черная!) стрела ударила в Ловского, совсем не выглядевшего великаном, и как он упал в заросли. Ева невольно зажмурилась. Черная стрела продолжала стоять перед глазами. Ева с Альберто добежали до сраженного молнией Бориса. Звездолетчица опустилась на колени и зарыдала: это был просто очень глупый мальчик, и его надо было вылечить. Мексиканец, подчиняясь Еве, заземлил Ловского и стал потом делать ему искусственное дыхание. Подоспели остальные космонавты. Было ясно, что Ловского уже не спасти. Под проливным дождем молча понесли они обмякшее тело к реке, чтобы переправить к кораблям. Роман Васильевич думал о своей ответственности за гибель молодого человека. Он, старый космонавт, не сумел сделать нужных выводов из урока Вечного рейса. В космосе с людьми может случиться самое невероятное. Так почему же он отбирал в космос таких людей, которым легче расстаться с Землей, а не тех, кто дорожит ею и оказывается в необыкновенных условиях стойким, собранным? Почему? Ева не вытирала мокрого лица. Струйки дождя смывали слезы. И она в свете далеких молний выглядела даже красивой. Наутро тело Ловского зарыли на границе тропического леса и саванны. Роман Васильевич приказал воздвигнуть памятный знак первому человеку Геи. Камни для знака доставляли на дисках с ближних гор. И сооружение, выросшее около леса, было по сравнению с ним гороподобно. «Этот знак найдут первые поселенцы на Гее, ради которых прилетели сюда разведчики с Земли», — печально думал Ратов, садясь в корабль. Диски улетали торжественным, строгим строем и походили на клин журавлей, которые покидают обретенный край, чтобы вернуться.
Часть третья ПРОТОСТАРЦЫ
…борьба есть условия жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борьба.В.Г. Белинский

Глава первая ОТКАЗ
В иллюминаторе, в черном провале неба, светило новое, чужое «солнце». Вилена не находила себе места. Прижав к подбородку сцепленные руки, она бродила по наскучившим металлическим коридорам, где на стенках примелькались даже случайные царапины. Все долгие годы полета «утром», «днем» и «вечером» Вилена всегда видела одни и те же звезды: корабль будто никуда не летел и беспомощно висел на месте. И так из месяца в месяц, из года в год… Только точными приборами можно было определить его перемещение среди созвездий. Однообразие было тяжелым испытанием на выдержку. Показав себя стойкой на Земле, Вилена и здесь оказалась примером. Как нейтринному инженеру, ей приходилось заботиться о двигателях в период разгона. Она же осуществляла перегрузку горючего во время встречи с кораблями-заправщиками. Но у нее оставалось достаточно времени, чтобы обдумать свою жизнь на Земле, разобраться в себе. Порой ей казалось, что многое в ней изменилось за путь, который прошла она от игравшей в гимнастическом зале пианистки до доктора физико-математических наук, степень которого Ланской все-таки успели присвоить до ее отлета. Неизменной осталась только любовь к Арсению. Да и та послужила тому, что Вилене стало уже невозможно свернуть с дороги в космос. Высокая цель, долг и ответственность перед человечеством определили поведение новой Вилены. В ней словно проснулись самообладание и решимость, упорство и бесстрашие легендарной индианки с Ниагарских водопадов, на которую когда-то она так хотела походить. Виев, взяв на себя обязанности отстраненного от полета астронавигатора Званцева, определил, что близ местного «солнца» планеты расположены, как и вокруг земного. Подтверждался закон повторяемости, сообщенный в послании разумян, принятом еще Арсением Ратовым. Кротов, прославленный космонавт, который должен был лететь еще вместе с Арсением, но не успел вернуться из рейса на Нептун, заметил в кают-компании: — Схожесть — это еще не код, по которому якобы штампуются звезды с планетами. Чепуха это ратовская. Вот так. Просто разделение на газообразные гиганты и твердые тела. Вилена пристально посмотрела на него. Это был статный красавец с лохматыми сросшимися бровями… Вася Кротов — не только первый пилот корабля, но и «первый его мужчина» — всегда искал взгляда Вилены, а сейчас смотрел в стол. — Наблюдения покажут, «чепуха это ратовская» или нет, — сдержанно сказала Вилена. Вася Кротов свел лохматые брови и покраснел — Вилена была предметом поклонения, легендой не только для него, но и для остальных звездолетчиков. Как бы тщательно ни подбирался «на совместимость» экипаж «Жизни-2», все же между звездолетчиками в полете бывали и трения. И причиной некоторых из них была Вилена, хотя в этом не признался бы ни Кротов, ни кто-либо другой. Каждый искал случая с ней поговорить и рад был ее дружескому слову. Вилена чувствовала это и следила за тем, чтобы не обделить кого-нибудь своим вниманием, будь то молодой геолог Михаленко или уже почтенных лет лингвист профессор Анисимов и всегда вежливый и радушный доктор Матсумура — знаток древней истории, увлекавшийся пришельцами из космоса, побывавшими много тысяч лет назад на Земле. Конечно, самым притязательным из них был Кротов. Лишь Виев относился к Вилене по-отечески… Однако скоро эти мелкие проблемы отступили, забылись. «Жизнь-2» приняла ответ с планеты Этана. Войдя в планетную систему звезды, Виев стал посылать радиопризывы, содержащие выдержки из сигнала, полученного Званцевым с Этаны глобальной радиоантенной и расшифрованного, профессором Ланским как приглашение братьям по разуму прилететь. Ответ разумян на радиопризывы Виева дал возможность определить, какая планета обитаема. Ею оказалась вторая, соответствующая Венере в Солнечной системе, но находившаяся в другой фазе развития. Это подчеркивало, что основной закон развития был законом не только подобия, но и многообразия. На Этане уже не было углеродистой атмосферы, как у соседки Земли или у самой Земли на заре ее развития, не было сплошного облачного покрова и связанного с ним парникового эффекта, следовательно, и высокой температуры на поверхности. Кибернетик-лингвист корабля профессор Анисимов двое суток не выходил из аппаратной, переводя с помощью выработанного еще на Земле кода полученный текст. Казалось, сделать это было не так уж трудно. Но ответ разуыян получился таким, что профессор не верил сам себе и даже взял под сомнение полученный на Земле профессором Ланским перевод еще первого послания с Этаны. Наконец, с ввалившимися глазами, теребя бородку, Анисимов явился к Виеву и показал перевод:«МИР РАЗУМА ОТВЕЧАЕТ ЛЕТЯЩИМ, ЧТО НЕ ПОСЫЛАЛ ПРИЗЫВА ПОСЕТИТЬ ЕГО».
— Что это может означать? — спросил Анисимов, разводя руками. Виев нахмурился. Начальник экспедиции собрал весь экипаж. Пришел даже больной геолог Игорь Михаленко. Последние месяцы он забыл свою земную жизнерадостность, безвольно валялся на койке. Его силой привел в кают-компанию сам профессор Анисимов, живший с ним вместе в каюте. И геолог сразу заявил: — Надо лететь домой, скорее лететь домой, не медля ни минуты, разве не ясно, что в этом послании — отказ разумян Этаны? Отказ, если не угроза. — Повернуть назад? — гневно спросил Кротов, сводя брови, которые друзья в шутку называли двумя кротами. — Позор!.. Ради чего мы летели сюда? Чтобы расписаться в трусости? — Я бы предостерег от опрометчивых решений, — заметил профессор Анисимов. — Мне хотелось бы напомнить, что осторожность — прежде всего. Результат нашего полета и так уже огромен. Подтвержден закон повторяемости и многообразия в космическом масштабе. Изучается чужая планетная система, идентичная нашей. Нельзя же сказать, что мы вернемся ни с чем! — Так ради чего мы покинули свое поколение, своих родных и друзей? — возмущенно спросила Вилена. — Чтобы поближе рассмотреть скопление космических тел? А разумяне? С ними можно не встречаться? Да как же это? Нет, нельзя так. Ведь их знания могут обогатить науку Земли, ее биологию, физику!.. — Еще неизвестно, знают ли на Этане физику больше, скажем, чем вы, Вилена Юльевна, — снова выступил больной геолог. — Мне ясно: надо домой. Мы люди и должны жить на Земле. И не вторгаться в чужой дом, когда нам отказывают открыть дверь. А что касается физики, то мы в ней не профаны. — Вернуться скорее, чем предусмотрено графиком рейса, все равно невозможно, — напомнил Виев. — Грузолеты с топливом для последних заправок будут нас ждать на «кометной траектории» в определенное время, не раньше и не позже. — Значит, надо весь этот срок кружить вокруг местного светила и изучать его планеты. А рисковать не следует. — Почему это так? — вспылил Кротов. — Риск для нас — это норма поведения. — Я лишь выскажу опасение, — сказал профессор Анисимов. — Хочется подойти к проблеме с моральной стороны. Можем ли мы искать контакта с чужой цивилизацией, если она этого не хочет? Основной принцип, которым следует, на мой взгляд, руководствоваться в космосе, — это невмешательство. — И он, худой, костлявый, демонстративно поднялся во весь свой рост. — Это не совсем так, — возразила Вилена. — Не всегда щит невмешательства помогает. Мы это знаем по земной истории. Ведь этаняне сами просили нас прилететь, прислали нам призыв. — Не следует забывать о смене здешних поколений за время нашего полета. Парадокс времени! — внушительно напомнил Анисимов. — Извините меня, но стоит ли друзьям-космонавтам ссориться? — примирительно сказал вежливый доктор Матсумура, невысокий, собранный в комок мускулов японец. — Ведь не исключено, если вы не отвергнете такой мысли, что планета разделена на разные враждующие страны, как и наша Земля в давнем прошлом, когда, по-видимому, ее посещали гости с других планет. Если они могли это сделать на Земле, то почему же не попытаться и нам? — Вы представляете себе Землю, — отвечал геолог японцу, — в этом давнем, диком прошлом. А что, если некий звездолет запросил бы по радио разрешения опуститься на Землю в более позднее время, скажем, в двадцатом веке? — Мы не имеем права ступить на планету, — вставил профессор Анисимов, — где можем вызвать хоть какой-нибудь конфликт. К концу совещания Кротов совсем рассвирепел, из-под густых бровей метал молнии. Виев молча выслушал всех и объявил: — Ну вот что. Есть мудрая поговорка на языке суахили: «Кто делал и недоделал, тот совсем не делал». Улететь ни с чем — это значит не летать совсем. Будем доделывать начатое. Так было принято решение высадиться на Этане и установить контакт с теми, кто звал людей. Анисимов и Михаленко протестовали, но четверо были против них, не говоря уже о воле руководителя экспедиции. Вилена старалась примирить стороны. — Но ведь контакт еще не вмешательство, только знакомство, — мягко сказала она. Профессор Анисимов ответил ей кислой улыбкой, а Михаленко, совсем удрученный, поплелся в свою каюту. Вилене показалось, что за два часа споров она лучше узнала своих товарищей, чем за годы полета. Ланская опасалась осторожной логики профессора Анисимова, жалела больного Михаленко, стала лучше относиться к готовому на любой риск Кротову, благоволила к добродушному японцу. Теперь Вилена много времени проводила у телескопа, рассматривая загадочный глобус, в который превратилась на отражательном зеркале планета Этана. На нем различимы были словно нарисованные ромбы с обращенными к полюсам острыми углами. Ей удалось установить, что это моря — в их воде отражались лучи местного светила. — Несомненно, это искусственные сооружения, — согласился с Виленой профессор Анисимов. Больной геолог, добравшись до телескопа, равнодушно посмотрел в него, сказал что-то о гипертрофированной кристаллизации, махнул рукой и снова ушел лежать. Он мог говорить уже только о возвращении на Землю и оживал, лишь когда Вилена вытаскивала его в кают-компанию послушать ее музыку. Скоро ромбические моря стали видны простым глазом. «Жизнь-2» легла на околопланетную орбиту и неустанно слала радиопризывы, повторяя обе передачи Этаны: и ту, что была принята на Земле, и ту, что недавно поставила всех в тупик. Самым удивительным казалось молчание разумян. Но их планета непрерывно излучала радиоволны, словно кто-то переговаривался по радио с кем-то. Но, увы, не с пришельцами. Кротов требовал немедленной высадки. Анисимов возражал: — Не исключено, что у них война между теми, кто звал нас, и теми, кто захлопнул перед нами дверь. Мы не ко времени здесь и не ко двору, по-русски говоря. — Какой ты геолог! — возмущался Кротов. — Почему здесь моря ромбические? Вот то-то, радость моя! Геолог стоял на своем с чисто болезненным упорством. Запущенные зонды определили состав атмосферы: нейтральные газы, углекислота и мало кислорода. И снова Виев принял свое собственное решение: — На ракете полетят трое. Посетят различные области планеты, чтобы отыскать друзей, звавших нас. Если на ракете лететь троим, то на корабле останутся тоже трое. Один из них определялся сам собой — больной геолог. Другим по занимаемой должности первого пилота и заместителя Виева должен был стать Кротов. В случае чего ему предстояло одному привести звездную экспедицию на Землю. Вместе с Виевым они обсуждали, кому же быть третьим. — Иван Семенович, ясно, как звездный луч. Конечно, надо оставлять Вилену. Такой физик! И ведь летела она, чтобы использовать парадокс времени. Пусть уж вернется к мужу, как рассчитывала. Вот так-то. Виев задумчиво посмотрел на Кротова. Великолепные брови пилота дрогнули, а глаза уставились в пол. — Быть по-иному, и ты знаешь почему, — сказал Виев. — Останется киберлингвист Анисимов. По крайней мере, не будет вмешиваться в дела разумян. Кротов вспыхнул: — Тогда и я не останусь. И вы тоже знаете почему. Оставляйте доктора Матсумуру, а мне позвольте… разделить с Виленой опасность. Виев кивнул: — Хорошо. Пусть третьим вместе с вами в ракете буду я. Но мы берем особую ответственность. Без нас наши улететь не смогут. — Вернемся, — решительно объявил Кротов. Звездолет был подобен кораблю на межпланетном рейде. Виев выбрал для него орбиту, по которой он облетал вокруг планеты за время одного ее оборота вокруг оси. Таким образом, «Жнзнь-2» всегда оставалась над одним из близких к экватору ромбических морей, на берег которого и должна была опуститься ракета Виева.
Глава вторая МИР ЖЕЛЕЗНЫХ РОБОТОВ
Так для Вилены, подобно Арсению на Реле, началась новая жизнь, захватившая ее неистовым темпом. Она стояла на морском берегу и смотрела на полосу будто расплавленного металла, протянувшуюся к красноватому светилу. Опустившаяся на Этану ракета искрилась в его лучах, походя на рубиновый минарет, вырезанный в густо-синем небе. За ракетой простиралась унылая шершавая равнина без холмов и деревьев. — Здесь тоже есть солнечная дорожка! — задумчиво сказала в свой шлемофон Вилена. — Смотрите, — отозвался по радио Кротов. — Полюбуйтесь! Вилена и сама рассматривала странный берег, прямой, как земное шоссе. — Будто гранитная набережная. Пойду стукну молоточком. Глядя на громоздкую фигуру космонавта, на то, как он переваливался с ноги на ногу, Вилена подумала: «Понравятся ли здесь такие пришельцы?» Возвращался Кротов поспешно, уже прыгая теперь при каждом шаге, — освоил сравнительно малое притяжение планеты. — Где мы? Как вы думаете? — еще издали кричал он. — Как где? — удивился стоявший сзади Виев. — Вблизи местного экватора. — Тогда получите кусочек набережной. Поправка к географии. Зеленоватый камешек быстро уменьшался на перчатке Виева. — Температура шестьдесят градусов Цельсия, а он плавится. Вот так. Потому что лед. — Ледяная дамба! — воскликнула Вилена и вспомнила голландского инженера тен-Кате, с которым встречалась как будто в другой жизни. — Пожалуй, не дамба, а весь материк. — Этого не может быть, — заметил Виев. — Они губительно изменили бы весь климат планеты. Попробуй у Земли отнять моря. — Не знаю, какой им климат нужен, — отозвался Кротов. Море казалось спокойным, но мерный шум, похожий на рокот прибоя, не смолкал ни на минуту и все время был слышен в выведенные из шлемов микрофоны. Казалось, что вздыхает сама планета. — И никого, — заметил Виев, оглядываясь вокруг. — Так-то, — сказал Кротов, снова уходя на разведку. Вилена тревожно окликнула его по радио. — Вот спасибо, — отозвался бодро Кротов. — Знал бы, давно к черту в пекло полез, лишь бы слышать вас. Так и есть! Нашел ход в преисподнюю. Гудит, что трансформатор. — Где ты? Дай радиопеленг, — потребовал Виев. Пришлось пройти полкилометра. Кротов стоял над внушительным колодцем. — Дышит, — указал он вниз. Зеленоватые стенки колодца были гладкими. — И опять лед. Вот так. Из колодца дул сильный ветер. Вилена, пользуясь анализатором, тотчас определила, что в потоке воздуха больше углекислоты, чем в атмосфере, температура только четыре градуса Цельсия. — Вентиляция, — безапелляционно решил Кротов. — Окись углерода, пары серы и аммиака? — удивился Виев. — Следы цезия, радиоактивность повышенная, — добавила Вилена. — Должно быть, там какое-нибудь производство, — предположил командир. — Нормальный цех допотопного ада. Сера и аммиак для приятности обслуживающего персонала. По требованию охраны адского труда. Угарный газ — от углей под сковородками. Неподалеку оказались еще две вертикальные шахты. — Должны же черти забирать воздух, проветривая свое помещение… Так и знал! Кротов наткнулся на полого уходивший вглубь туннель. Ветер задувал в него прямо с моря. — Толково. В туннель Кротову можно было войти, не сгибаясь, если сложить телескопическую антенну над шлемом. А Вилене с Виевым даже этого не потребовалось. Стенки туннеля оказались тоже ледяными. Кротов постучал молотком. — Трубы там должны быть с охлаждающим раствором. Смотрите, пожалуйста, как они экономят металл. Энергия у них дешевле ценится. Уж не вашей ли вакуумной энергией, Вилена, они владеют? Виев нес киберлингвиста, точно такого же, какой был и у Вилены. Они оба попеременно радировали на языке Этаны, что ищут встречи во имя Знания. Но ответа не было. Виев решил идти по туннелю. — Никогда не читал великого Данте. Каюсь. Но теперь мне зачтется. Практика выше теории, — острил Кротов. Ветер в туннеле подгонял разведчиков в спину. Шум впереди усиливался. Словно тысячи машин разом начинали свою работу и все вместе затихали. Туннель вывел разведчиков в исполинский зал или пещеру, своды которой терялись в вышине. Рассеянный свет кое-где сверкал в кристалликах на гладких, возможно, тоже ледяных стенах. Вдаль уходили бесконечные ряды непонятных машин. У каждого шумящего ряда был свой ритм, и только все вместе они вызывали рокот прибоя, который и слышался наверху. — Подземный завод. Вот так. Наверняка, военный. — Неужели правда, что они здесь воюют? И никого не видно. Может, все тут уже вымерли? — И Вилене вспомнился старинный фантастический рассказ о том, как автоматические заводы, работая сами собой, изготовляли атомные бомбы. Автоматы подвешивали их под крылья бомбардировщиков, и те летели по заданным давным-давно маршрутам, чтобы бездумно сбросить смертоносный груз по воле давно истлевших мертвецов. И бомбы падали в радиоактивные кратеры на месте былых городов. — Смотрите! — предостерегающе крикнул вдруг Виев. Между двумя рядами машин что-то двигалось. — В самом деле война! Вроде танк. Держитесь! Я бы поцеловал вас на прощанье, да шлем мешает, — сказал Вилене Кротов. — Замолчите, вы!.. Виев усиленно радировал надвигающемуся предмету, действительно напоминавшему танк, но без гусениц, на больших колесах. — Природа не знает колеса. Это не животное. Вот так. — Может быть, животное сидит в нем? — предположила Вилена. — Зачем ему такая махина? Так бы ползать мог. Виев пытался теперь громкими звуками через репродуктор привлечь внимание движущегося предмета. Танк катил прямо на разведчиков, не замечая их. Им пришлось даже отскочить в проход между шумящими машинами. Громада на колесах промчалась мимо. — Экая скорость у этой колесной сороконожки! Должно быть, тормоза знатные. Разведчики снова вышли между рядами машин и смотрели теперь сзади на удаляющуюся махину. Она остановилась у входа в туннель, через который они прошли. — Так. Будем считать отступление отрезанным. Почему же Данте не описал колеса? — Лучше спросите, почему танк не реагирует на наши сигналы? — отозвалась Вилена. — Вероятно, не запрограммирован на это, — спокойно ответил Виев. — Вы думаете, это их роботы? — Хорошо, если так. — Что же еще? — поразилась Вилена. — Если это не сами обитатели планеты. — Мир железных роботов? Неужели? — Тогда с ними можно и не церемониться, — решил Кротов, кладя руку на лазерный пистолет. — Если он не обучен вежливости, я его «запрограммирую». — Отдай пистолет, — потребовал Виев. — Мы прилетели в гости. — К машинам? Надо с ними целоваться? Сейчас сниму шлем. — Давай пистолет и не паясничай. Если машины умеют создавать себе подобных и вот это все, что мы видим кругом, то их «раса» нисколько не хуже нашей, порожденной эволюцией по Дарвину. — Всегда надеялся побрататься с велосипедом, который забыл на планете некий звездный человек, — проворчал Кротов, отдавая оружие. По проезду между рядами машин мчался другой танк. — Внимание, — шепотом предупредила Вилена. — Будем вежливы, дети. Уступим дорогу старшим. Разведчики снова спрятались в узком проходе. Танк, как и первый, со свистом промчался мимо них. — Старшим? — переспросила Вилена. — Вы, думаете, они очень старые? А что, если… Второй танк остановился возле первого в конце проезда — они словно совещались между собой. Едва ли это требовалось автоматам. Потом танки развернулись и двинулись по двум проездам, как бы действительно окружая пришельцев.Глава третья ПРОТОСТАРЦЫ
Пот стекал у Кротова с мокрых бровей, застилал глаза. Хмурясь и моргая, он упрямо лез вверх по гладкому колодцу. Острыми шипами подошв он упирался в ледяную стену перед собой, а кислородными баллонами за спиной прижимался к противоположной стенке. Перемещался он рывками, сантиметр за сантиметром. Ему никогда не удалось бы это, не будь он мастером альпинизма и не умей взбираться таким способом по отвесным расщелинам. Но даже это не помогло бы ему, если бы тяготение здесь не было меньше земного и снизу не дул мощный ветер. А главное, если бы слепая ярость не позволяла сделать невозможное… он считал, что все решают минуты… Кротов не вылез, а выпрыгнул из колодца, увидел красноватую ракету, стоявшую на прежнем месте, где еще недавно они были втроем, и помчался к ней огромными прыжками. Судорожно крутил он маховички, чтобы отдраить люк, забыв включить себе в помощь механизмы. Секунды, пока шлюз заполнялся земным воздухом из ракеты, отмерялись сотнями ударов сердца. Ах, Виев, Виев! Зачем только он отобрал у него лазерный пистолет!.. Внутренняя дверца шлюза автоматически раскрылась, как только давление в шлюзе и ракете сравнялось. Теперь нужно было по скобам забраться в верхний отсек, где хранилось запасное оружие. Кротов выхватил из ящика лазерный пистолет, совершенно такой же, какой у него взял Виев. Почему ни Виев, ни Вилена не пустили в ход свои? Растерялись? Кротов передернул плечами. Он вспомнил, как все произошло. Танки приблизились с разных сторон, не реагируя на радиосигналы Виева. Виев приказал бежать, укрыться за рядами машин. Один танк догнал Вилену, а другой Виева. У Кротова до сих пор стоял в ушах пронзительный вопль Вилены. Вот так седеют за одну минуту! Пустить бы в ход лазерный пистолет!.. Ах, Виев, Виев! Каково ему было думать о гуманности разума, вися вниз головой. Другой танк поднял манипуляторами Вилену — будто рассматривал насекомое, прежде чем оторвать ему лапки и крылышки. Тогда-то она и не выдержала, закричала… Кротов уцелел потому, что на трех человек танков было два. Но спасся он не для того, чтобы сохранить свою шкуру!.. Теперь если не спасение товарищей, то месть!.. Месть! Пусть бессмысленная, но жестокая, холодная, не знающая пощады! Кротов наотмашь махнул рукой с пистолетом. Огромная глыба ледяной набережной сползла с берега и рухнула в море, подняв столб брызг. Кротов с размаху прыгнул в колодец, уперся спиной и ногами в стенки шахты и заскользил вниз. Он будет крушить лазерным лучом направо и налево, не оставит ни одного крутящегося колеса ни в машинах, ни в проклятых танках, которые осмелились посягнуть на землян.Вилена дико закричала, когда почувствовала, что ее перевернули в воздухе вверх ногами. Отчаяние и страх, обыкновенный человеческий страх охватили женщину. Ради того, чтобы лететь на звездолете, она, не задумываясь, готова была уснуть в анабиозе, зная, что может не проснуться никогда… С решимостью отчаяния добивалась она участия в звездном рейсе. Твердым шагом переступила она порог звездолета и полетела в черные бездны световых лет. На все это она была способна, отдавая себе отчет в том, что ее ждет. Но одно дело думать о том, что может тебе грозить, а другое — самой ощутить жуть опасности. Вот почему она закричала, когда могучие манипуляторы отломили у нее радиоантенну и дотронулись до кислородных баллонов, прежде чем оторвать руки и ноги. Сознание помутилось у Вилены, голос зашелся в визге. Все переходило грань возможного. Так оно и было, если иметь в виду доступный человеческому уху диапазон звуков. Виев, слыша этот последний, оборвавшийся на пределе восприятия звук, сжимал в руке лазерный пистолет. Он был дальше от танка, чем Вилена, и мгновением позже почувствовал, что манипуляторы подняли его. Он видел перед собой механическое чудище и мог бы разрезать его пополам лучом лазера, как кричал ему об этом Кротов: — Режь его надвое, режь! Быть может, большинство людей, подчиняясь импульсу самосохранения, нажали бы спуск пистолета, но Виев был человеком особого склада. Даже в своем отчаянном положении он помнил, что привел на чужую планету экспедицию, чтобы завязать связь с мыслящими существами. Не для того он отобрал у Кротова лазерный пистолет — никто не имел права применить его. В миг, когда крик Вилены исчез на запредельной ноте, Виев ощутил, что манипуляторы повернули его головой вверх. И Виев вдруг понял: «Ультразвук! Машины не снабжены радиоустановками, но слышат звуки запредельной высоты! Они услышали крик Вилены!» Виев нащупал на груди аппаратуру связи и перевел рычаги в крайнее положение. Частота сто тысяч герц. Ее не воспринимает человеческое ухо, но слышит ухо дельфина. А существа Этаны? Совершенно непроизвольно, как сделал бы это на Земле, Виев передал ультразвуком по азбуке Морзе — три коротких сигнала, три длинных, потом снова три коротких. И опять ту же серию сигналов: «SOS! SOS! SOS!».
На планете Этана никто не мог знать значение этого сигнала, но он был математически организован: «3+III+3», «3+III+3»… Он был, безусловно, разумен. И это поняли мыслящие существа, не бездумные роботы, а разумяне!.. Оба танка одновременно поставили земных пришельцев на пол. Вилена рухнула без сознания. Виев был далеко от нее и находился во власти другой машины. Он не смог сразу помочь Вилене, надо было прежде завязать связь с сидящим в танке разумянином. Какое счастье, что, в отличие от первой звезднойэкспедиции, все спутники Виева были снабжены киберлингвистами и универсальной аппаратурой связи. Поэтому Виев мог передать ультразвуками скрытому в машине разумянину заготовленное еще для радио обращение. И его поняли!.. Даже ответили ему!.. Киберлингвист перевел Виеву: — Из числа летящих, предупрежденных, что их не звали в мир Разума, зачем ты здесь? Эта первая фраза потрясла Виева больше, чем только что пережитая смертельная опасность. — Мы здесь во имя Разума, который объединяет нас, — через того же киберлингвиста на ультразвуковой частоте быстро ответил Виев. — Во имя того же Разума сохрани жизнь моему спутнику. — Разумных объединяет желание жить. — Право жить — это высшее право всех живущих. — Ты разумен, уродливый Пришелец. Это странно. — Только Разум мог привести корабль от звезды к звезде. — Высший Разум — в стремлении жить вечно. Обмениваясь с танком короткими репликами, Виев старался рассмотреть лежащую перед грозными колесами Вилену. Манипуляторы бережно приподняли ее, и она шевельнулась, очевидно приходя в себя. Виев облегченно вздохнул и ответил уже спокойнее: — Разум, наследуемый поколениями, вечен. — Ты примитивен и груб, дикарь, — перевел Виеву киберлингвист. — Мы пришли учиться. — На планете, Где даже моря заморожены, чтобы стать сушей, места вам нет. — Уже один ваш способ превращения морей в материки поможет моему миру, где население растет. — Только невежественные дикари могут увеличиваться в числе. — Разве на твоей планете разумные не умножают свой род? — Мудрейшие не умирают. И тут Виев с ужасом подумал о Кротове. Шлемофон не работал, он не мог связаться с ним. Если Кротов добрался до ракеты и вернется с оружием? Что наделает он в этом мире, не знающем смерти. И все же Виев заставил себя продолжать этот первый в истории человечества диалог: — Могу я взглянуть на тебя, победившего старость? — Ты видишь, — ответил танк. — Разве ты не можешь покинуть машину? — Покинь свою голову, с которой я снял металлические отростки, грозившие мне. — Это не голова, а шлем, имевший приспособления для приема электромагнитных колебаний. — Твой искусственный шлем — жалкое подобие моих совершенных органов, заменивших прежние после их износа. И Виев понял: «протезная цивилизация!» Перед ним разумное существо, которое когда-то заменило свои органы механическими протезами. — Как долго существуешь ты, разумный? — спросил Виев. — Еще мало. Электромагнитный луч не прошел за это время и малой части пути до центра звезд. Я проживу в дюжину раз больше, пока он дойдет до цели. «До ядра Галактики, — мысленно дополнил Виев. — Неужели десять тысяч лет этому старцу, древний мозг которого живет среди искусственных протезов?» Виев видел, что Вилена, опираясь на заботливо поддерживающие ее манипуляторы, встала перед своим «танком». Виев, лишенный радиосвязи, крикнул через репродуктор, чтобы Вилена перевела свою аппаратуру на ультразвук. Вилена услышала, с трудом приходя в себя после потрясения. Значит, это существо на колесах действительно разумно! Будь Вилена менее подготовленной и закаленной для испытаний, она, может быть, и не смогла бы немедленно использовать сложившуюся ситуацию. Но она нашла в себе силы перебороть страх. Итак, перед нею разумянин, непостижимо странный, непохожий на людей, но, очевидно, мыслящий. Она должна с ним заговорить, должна. Руки у нее тряслись, когда она переключала киберлингвиста на ультразвук. Нет, не просто, совсем не просто было говорить с чудовищем. И Вилена не смогла бы этого сделать, если бы «чудовище» не проявило к ней ласковой заботы, поддерживая ее своими манипуляторами. Кроме того, она услышала через шлемофон, что Виев разговаривает со «своим танком». — Кто ты, разумянин? — наконец спросила Вилена. — Почему у тебя колеса вместо ног? Колеса не могут быть у живых существ. Или ты заменил ноги колесами? — Разве тебе не предстоит это, Пришелец? — вопросом на вопрос ответил танк, продолжая поддерживать Вилену. — Мы не заменяем свои органы! — почти с возмущением воскликнула Вилена. — Неужели ваша цивилизация так низка? Вилене стало обидно за свой родной мир, и она перешла к нападению: — Разве ты, разумянин, никогда не вспоминаешь о том, что заменил колесами и рычагами? Разве забыл природную красоту? — Чтобы не чувствовать тяжести времени, надо забыть прежнее. Так поступают мудрейшие, не думая ни о чем, кроме того, чтобы жить. А я все еще живу давно исчезнувшим, началом жизни тех, существование кому было дано мной. — Ты женщина? — воскликнула Вилена. — Как и я! — Разве той, кто мог давать жизнь, нужно было летать в другой мир? — Я еще не дала жизни никому, но я мечтаю об этом. — В мире Высшего Разума уже нет такой мечты. Конечно, Вилена сама не воспринимала ультразвуков, это делала ее аппаратура, которая не способна была через киберлингвиста передать интонаций неслышной речи, Но каким-то глубоким женским чутьем Вилена почувствовала (или ей показалось, что она восприняла) такую горечь в сказанном, что прониклась искренним сочувствием к неведомому существу. И вдруг она подумала о Кротове. Надо знать его характер! Что, если он спешит сюда с лазерным пистолетом! Как остановить его? Как предотвратить преступление?
Виев тем временем смотрел на сложнейшую машину, внутри которой, очевидно, были скрыты хитроумные аппараты, имитировавшие функции когда-то живого, порожденного природой организма. Он представил себе механические мускулы, механическое сердце, почки, пищеварительный аппарат, готовящий животворящую кровь для вечно живущего мозга. На Земле в Институте жизни академик Руденко показывал ему искусственное сердце, легкие, почки, печень, похожие на сверкающее никелем оборудование химических заводов. Эти устройства занимали там огромные помещения. Не потому ли так громоздок и этот «танк»? Впрочем, зачем ему во всем имитировать человеческий организм (если существа и походили прежде на людей)? Казалось бы, достаточно вырабатывать питательную смесь для мозга, включая гормоны индокринной системы. Но Виев тут же опроверг себя. Нет, нет! Очевидно, они не просто сохраняли мозг живым, но и оставались действующими (пусть с помощью протезов) существами, способными к труду. Но как же велики должны быть технические достижения «протезной цивилизации», если они позволили создателям этой цивилизации победить смерть, пусть с помощью громоздких машин, но все же обеспечить неопределенно долгую жизнь! У них искусственно увеличены площади материков, заморожены моря! Сколько же неожиданно нового узнают здесь люди, приобщившись к такой культуре! Лишь бы предотвратить поступки Кротова. Человечество будет благодарно своим посланцам. Вилена расспрашивала удивительную собеседницу. — А это все, — она указала рукой на работающие ряды машин подземного производства, — все это нужно вам для жизни? — Чтобы жить вечно, надо постоянно заботиться о замене того, что изнашивается. Все это надо изготовить. Для всех. У нас нет различия между теми, кто должен жить вечно. — Вы постоянно обновляетесь при помощи машин. Наш организм тоже обновляется, только сам собой. За время твоей жизни, разумянка, наш организм обновился бы полностью многие сотни раз. — Значит, и вы не остаетесь сами собой, как и мы. — Нет. Меняется только оболочка существа, а оно само — в планах и программах своего развития, в памяти пережитого и в приобретенных знаниях — остается прежним. — Память пережитого. Мудрейшие ради того, чтобы думать только о том, чтобы жить, уничтожают ее. — Память предков наоборот! — воскликнула Вилена, но протезированная разумянка, очевидно, не поняла ее. — Предки? Для нас, вечноживущих, это пустой звук. — Но разве все живущие такие, как ты? Разве нет уже тех, которые еще не стали машинами? Разве все вы не помните родства? — Ты спрашиваешь о неразумных? О тех, кто, развившись, будет умолять о помощи, чтобы заменить у себя то, что отмирает? — Да, да! Ведь должны же у вас быть такие! — Они могут получить механические органы взамен отмирающих только у нас, на ледяных материках. Это заставляет их подчиняться закону. — Какому закону? — Закону вечной жизни, единственному и постоянному. — Но где живут они, где? — На острове Юных. Их остается все меньше. Каждый из них со временем становится таким же, как мы. — Резервация! — воскликнула Вилена. — Резервация Юности!
Кротов в холодном бешенстве спускался по вертикальному колодцу. Последние несколько метров он пролетел по воздуху и спрыгнул на пол машинного зала. Будь это на Земле, он, может быть, сломал бы себе ноги. Но здесь он остался цел и невредим. Кротов огляделся. Он слышал все тот же ровный шум машин. Конечно, разговор, который вели его товарищи с обитателями планеты на высших частотах, он слышать не мог. Он не увидел сразу танков, хотя искал их глазами. Быть может, они еще не успели расправиться с Виленой и Виевым… И тут Кротов услышал позади себя шорох. Он резко обернулся и заметил, как ему показалось, подкрадывающуюся к нему машину. Правда, эта машина на ходу касалась манипуляторами других неподвижных машин, но Кротов не интересовался этим. Перед ним был враг. Он взмахнул лазерным пистолетом, и разрезанная машина развалилась на две части. Тогда Кротов помчался по коридору, круша перед собой все лазерным лучом. Там, где он пробегал, замолкал ровный шум подземного производства. Дыхание машинного зала замирало. И тут Кротов увидел два ненавистных танка. Он не хотел промахнуться. Нужно было подкрасться поближе…
Глава четвертая ОСТРОВ ЮНЫХ
«Трудно на чуждом мне языке людей передать понятия и чувства инопланетянина. Потому, может быть, так неуклюжа, бледна и беспомощна моя попытка рассказать о себе. То было так в последнюю мою охоту на острове Юных. Я нашел, выследил, обрек на смерть кровожадного хара и гнался за ним, вооруженный, как у нас принято, только острыми когтями, дабы они, не давая преимущества в борьбе, уравнивали меня с могучим хищником. Нарушен был великий закон «Жизнь — вечноживущим». Гнусный хар разорвал одного из обитателей острова, и, хотя это давало право появиться на острове ребенку, зверь подлежал уничтожению. И да будет так! Если в схватке победит гнусный хар, в мире может родиться еще одно существо… вместо меня. Моя бедная Ана! Дождемся ли мы с ней, чтобы у нас был ребенок? Никогда не мыслил, не думал, не подозревал, что могучий зверь может оказаться столь трусливым. Он почуял погоню и бежал, словно быстроногая крега, спасавшаяся от его жадных, злобных и безжалостных предков. В отличие от красавиц крег, безобразный хар мог взбираться на деревья, прыгать с ветки на ветку, с дерева на дерево, мчаться по камням. Я влезал на деревья, пожалуй, не хуже его, но умел еще и пользоваться ползучими растениями с длинными стеблями. Держась за свисающие их концы, я перелетал огромные расстояния, обгоняя хара. Клянусь жизнью вечных, не правы те, кто утверждает, будто мы происходим от гнусных харов. Пусть неведомо как шло развитие жизни на планете, но в обитателях острова Юных нет и тени кровожадности, злобы и коварства, составляющих сущность хара. И если кто-либо из нас шел на единоборство с ним, то только во имя обычая, в случае трех побед даровавшего право надеяться на потомство, семью и счастье. Незаконное же появление ребенка каралось смертью новорожденного и его родителей. Ана, бедная, милая Ана, мягкая, ласковая и женственная! Только страх перед этим законом, смирение юности и жгучая тоска по материнству заставили ее отступить… нет! — послать, направить, благословить меня на эту первую охоту, ставшую последней… Едва ли Ана была способна наблюдать вместе со старейшинами за погоней. Спрятанные в зарослях электронные глаза позволяли им видеть каждый прыжок хара, каждый мой шаг, каждый поворот нашего пути. На острове Юных первобытный наш образ жизни странно сочетался с высшей техникой, которой нас снабжали с материка. Подобно тому как зародыш, развиваясь, проходит эволюционные превращения своего вида, так и у нас на острове Юных мы, разумные, проходили в своем развитии историю своих предков от состояния первобытных дикарей, наилучшим образом формирующего, закаляющего, совершенствующего наш организм, до овладения высокой техникой. Юные должны были на своем острове готовить, насыщать свой мозг, дабы прийти на материк мудрых подготовленными к вечной жизни. В тот миг я не думал о тех, кто следит за мной. Я гнался за кровожадным харом и был полон азарта, отваги, ярости борьбы. Моя слабая Ана только что вернулась из трудного путешествия в горы. Она не жалела сил, чтобы добраться до счастливой пары Теров. Женщины сходились туда со всего острова, лишь бы подержать на руках крохотное, тепленькое, нежное тельце, поласкать, понянчить беспомощное существо, которому по закону «Жизнь — вечноживущим» предстоит жить вечно, если… если в зрелости оно не нарушит закон и не произведет на свет новое существо, не получив для него места в жизни. Но на это у нас не решался почти никто… Почти никто… Может быть, Ана и смогла бы. От нее многого можно было ожидать. Но я должен был уберечь, оградить, спасти ее от такого соблазна! Я настигал хара. В воде зверь грозен, как и на суше. Но только обезумев от страха, он мог броситься в воду у самого водопада. Я хорошо знал это место. Здесь Ана впервые обвила меня гирляндой цветов в знак своего выбора. На острове Юных выбирают женщины. Струи воды шумели, кипели, низвергались с огромной высоты. Закрученные спиралями, они походили на косы, которые так искусно заплетала у себя Ана. А внизу облака брызг поднимались радужным туманом. Не было на свете большей красоты! Не было и более глухого, далекого, жуткого места. Именно здесь нам с Аной привелось видеть, как хар загнал крегу в воду и она поплыла. Это только и надо было хищнику. Он прыгнул за ней в воду и стал быстро нагонять. И тут крега в отчаянии ринулась в быстрину, отдалась ей, поплыла по течению. Хар зарычал так, что его было слышно даже сквозь рев воды. Он был труслив и повернул обратно. Казалось, крега спасется, но… она уже не могла сладить с водоворотами. Ее яркие желтые рога мелькнули в закрученных струях, и влекомое пенной лавиной тело сорвалось, упало, ударилось внизу о черные мокрые камни. Хар выбрался на берег, стряхнул воду с шерсти и, перепрыгивая с ветки на ветку, со скалы на скалу, помчался, чтобы ниже по течению перехватить, выловить из воды, растерзать разбившуюся насмерть крегу. Если бы у меня были острые когти, я бы разделался с гнусным харом. Вот тогда-то мы с Аной и решили, что, по древнему обычаю, я возьму когти и завоюю нам право иметь ребенка. И мы оба сказали: да будет так! И вот теперь я загнал хара в воду, как он когда-то крегу: И в том же самом месте, у водопада. Я не мог прекратить погоню, это значило бы упустить хара. Я бросился в воду и поплыл. Может быть, все-таки правы те, кто утверждает, будто мы произошли от харов. Я плавал нисколько не хуже их. Хар первым выскочил на берег. Течение несло меня к обрыву, с которого поток срывался вниз, в пенные тучи, вздымавшиеся из бездны, как пар, как облака, как дым лесного пожарища. Я напрягался изо всех сил. Если бы Ана видела меня в это мгновение, она потеряла бы сознание. Но я был не прав, думая так. Выскочив на берег, я замер, изумленный. Передо мной была моя Ана, спокойная, красивая, гордая… Синеглазый цветок на тоненьком стебле. Она была не одна. Рядом с ее хрупкой фигуркой возвышалась тяжелая, уродливая металлическая громадина одного из вечноживущих. Ненавистный, он прибыл, конечно, проверить, как мы выполняем закон. Он будет грозить стареющим, что они не получат вечной жизни на материке, если… Ана остановила меня движением руки. Охота по ее повелению закончилась. Хар не понес наказания, бежал, спасся. И только тут я заметил рядом с громадиной вечноживущего еще две какие-то не менее уродливые фигуры. Они карикатурно напоминали нас, обитателей острова Юных, ходили на задних лапах, держа тело прямо, имели две передних, свободных от ходьбы конечности и в верхней части корпуса — центральное мозговое образование, помещавшееся почему-то в двойной коробке, словно они были не живыми, а живущими. Так я впервые встретился на острове Юных с людьми. — Это жители другого мира. Они услышали призыв, посланный в мир звезд нашими отцами, и прилетели к нам, — сказала Ана. Мне еще трудно было прийти в себя после азарта погони. Я жадно, ошалело и недоуменно разглядывал звездных пришельцев. Один из них оказался женщиной, такой же, как Ана. Противоречивые чувства охватили меня. Я знал, что несколько дюжин дождей тому назад с острова Юных самые дерзкие из живых без разрешения живущих на материке послали призывный сигнал в мир звезд. Вечноживущие жестоко наказали наших отцов, лишили их мощных излучателей. На что они рассчитывали, эти дерзкие из живых? Чем пришельцы с чужих звезд могли помочь нам в мире, где не умирают и не должны рождаться? И вот теперь они прилетели. Я поразился, что Ана при вечноживущем, слушавшем ее, свободно говорила о призыве, тайно посланном с нашего острова. Оказывается, этот живущий в машине некогда тоже был женщиной, которая жила, любила, рожала… Пришельцы называли ее Таной, как и меня Аном, а мою жену Аной. Это все производные от названия, которое они придумали нашей планете, — Этана. Подлинных наших имен, пожалуй, нельзя передать доступными им звуками. При общении с нами пришельцы пользовались устройствами, которые привезли с собой. Наши звуки воспроизводились ими в непостижимо низком регистре, уже неслышные нормальному уху. Кроме того, расшифровав еще у себя на Земле наш электромагнитный призыв, они открыли переводный код, который позволял им переводить наш язык с помощью электронных устройств. Готовясь к вечной жизни на материке, мы сами собирали, изучали и испытывали подобные устройства еще перед прошлыми дождями, так что они не могли удивить нас. Если бы пришельцы не привезли таких аппаратов, мы использовали бы свои, переводя их язык на наш. Оказалось, что звездных пришельцев доставила на остров Юных Тана в своем летательном аппарате в знак благодарности женщине звезд, самоотверженно спасшей ее от гибели. Несчастье едва не произошло на подледной фабрике из-за того, что один из пришельцев тепловым лучом, перерезающим любой металл, стал разрушать, губить, уничтожать делающие машины и даже разрезал пополам один из управляющих ими автоматов. Он погубил бы двух вечноживущих, если бы звездная женщина не прикрыла собой металлическую громаду Таны. Что-то было в этой гостье звезд от моей Аны! При виде своей самоотверженной спутницы разгневанный пришелец опомнился. Вечноживущие были спасены. Старший из них остался с третьим пришельцем, тоже старшим из прибывших, чтобы ознакомить его с достижениями нашей машинной цивилизации. А двое других вместе с Таной прилетели на остров Юных. Мне и Ане привелось много беседовать с пришельцами. Теперь, когда я в совершенстве знаю их язык, я стараюсь воспроизводить их речь во всей ее самобытности, но тогда… тогда многое в них казалось непонятным, диким, нелепым. Вероятно, как и им в нас.Пришелец, который был мужчиной, показался мне очень странным. Выяснилось, что он не преследовал какого-нибудь зверя, вроде хара, дабы заслужить право отцовства, а охотился за дичью просто для забавы, чтобы выследить, настичь, убить, получая от этого удовольствие. Удивлению моему не было границ. Впрочем, я удивлял его не меньше. — Ты говоришь, вы, этаняне, — так называл он нас, — по мере старения заменяете больные органы протезами? — А разве у вас не делают так? — Кое-что. Ну, гнилые зубы заменят. Руку или ногу приделают, если их оторвет машиной или — прежде — на войне. Вот так. — Война? Как странно! — не переставал изумляться я. — Что-то бесконечно давнее для нашей планеты: ранение, убийство, уничтожение себе подобных. Это даже не наказание гнусного хара. — Так, говоришь, у вас обычно раньше всего заменяют сердца? У нас тоже сердце часто подводит. — Ты имеешь в виду главный орган принудительного кровообращения? — Да, кровь и у нас и у вас. — Органы дыхания, видимо, у нас тоже похожи. Может быть, и органы пищеварения. Их тоже порой приходится сразу переделывать, ремонтировать, заменять. — Вот уж чему не завидую. Поесть все-таки удовольствие. — Я уж не говорю о тех органах, которые различают нас с тобой, звездный житель. — Значит, заменив кишки и сердце на цилиндры и трубки, живой перестает быть живым, а становится вечноживущим? Так? Сквозь прозрачную часть наружной оболочки мозгового образования над органами зрения пришельца виднелись две заросшие полоски, как у хара. Они то соединялись, то поднимались в зависимости от владевших пришельцем мыслей. Впоследствии я узнал, что это брови и что их движение выражает состояние людей. — Обитателя острова примут на материке только в случае соблюдения у нас основного закона «Жизнь — вечноживущим!». — Они же вас угнетают, протостарцы проклятые! Им лишь бы самим жить. И они запрещают живым родиться вновь. Вот так. — Нет, почему же? Бывает, что живой не успевает стать вечноживущим, умирает на острове. Тогда взамен ему может кто-нибудь родиться, жить, расти. — Ну, радость моя, не хотел бы этой чести. Я не понял пришельца. Тогда он спросил меня, почему вечноживущие пользуются такими громоздкими машинами: — Или не можете создавать органы, подобные природным? У вас что — и сердце на колесах? Я объяснил этому варвару со звезд, что наша цивилизация не подражает слепо природе, а идет своими путями, переделывая, улучшая, заменяя ее. Это сказывается во всем, начиная с воспроизведения жизненных органов и кончая созданием искусственных материков на месте промороженных до дна морей. — Это у вас здорово! Но естественный климат вы нарушили. Вот так. Жаль, ледяные материки создаются только для гаражей. Впрочем, им климат — как моему скафандру пыль. Очевидно, он говорил про жилища вечноживущих, которым безразличны внешние условия. — Значит, только ремонт, смена частей — и никаких чувств, никакой природы? Так? Я терпеливо объяснил, что только наш остров Юных остался в своей первозданности и мы, обитающие на нем, совмещаем здесь на природе развитие будущего вечного мозга с овладением основами нашей высшей цивилизации, в полной мере доступной лишь живущим не менее великой дюжины дождей. — Потому вы и отмеряете время периодами дождей? Так? А на ледяных материках, в гаражах, протостарцы рассуждают о расстояниях до ядра Галактики? — Да, там время измеряют движением звезд. — Медленно живут, ничего не скажешь. Вот так. Ну и что же? Попав в машину, вечноживущий уже ни рукой, ни ногой шевельнуть не может? — Ему нет в этом нужды. К его услугам быстрые колеса, фотозрение, могучие манипуляторы, не идущие по силе ни в какое сравнение с нашими передними конечностями. — Не только по силе, по красоте тоже, — заметил пришелец, вкладывая в эти понятия особый смысл. Я указал ему, что, перемещаясь на колесах, можно развивать весьма большие скорости, недоступные даже харам. — Почему же вы не используете колеса, чтобы гоняться за харами? — Колеса? Здесь? — удивился я. — Но это же символ конца естественного существования. — Вот то-то, радость моя. — Познавший колеса опьяняется ими, — объяснял я. — Живущие поначалу очень увлекаются большими скоростями, бывает, что даже погибают из-за этого. — Позволяя кому-нибудь родиться вместо них? Так? — Да будет так, — подтвердил я. — Значит, живущий в машине сам совсем не двигается? И мышцы его высыхают? Я объяснил, что мускулы рудиментарных органов вечноживущего, конечно, постепенно отмирают и в конце концов удаляются как возможные источники гниения и общего заражения. Спустя одну или две великих дюжины дождей внутри машины останется только центральный мозг со всем богатством мыслей, способностей, памяти, составляющих индивидуальную особенность каждого существа. — Горьковатая память. Каково-то ему помнить время, когда он был живым? — К началу третьей великой дюжины дождей клетки дальней памяти искусственно устраняются. — Чтобы не досаждать протостарцу, занятому ремонтом и смазкой своих протезов? Недурно. Память предков наоборот. Я снова не понял своего собеседника. Очевидно, код перевода был несовершенным. — И как долго может тлеть такой мозг протостарца? — Он может функционировать, мыслить, жить неопределенно долго, вечно, — разъяснил я. — Его отмирающие клетки систематически возобновляются благодаря работе механизмов. — Тогда понятно! Откуда же вам взять место для вновь рождающихся!.. Никаких искусственных материков не хватит. Лишь бы гаражи разместить. Вот так. Все-таки мы плохо понимали друг друга. Кто-то из нас был слишком примитивным. У женщин разных планет дело обстояло лучше. Природа дала им больше точек соприкосновения. Ана передала мне содержание их знаменательной беседы. — Счастливый, неправдоподобный мир! — говорила моя Ана о планете пришельцев. — У вас каждая пара может иметь детей? — Конечно, — отвечала ей звездная женщина. — И вы не боитесь смерти? — Мы миримся с нею. Умирают только отдельные люди. Наша раса бессмертна в поколениях. — Дикий мир, — вмешалась Тана. — О каком бессмертии расы вы можете говорить, если тот, кто живет, не помнит периода и в одну великую дюжину дождей. — Так было прежде, — сказала звездная женщина. — Но именно со мной был проделан опыт, который позволяет мне вспоминать то, что было пережито жившими много ранее. Кроме того, записи мыслей в книгах прежде живших делают поколения поистине бессмертными, знающими, что до них было, и способными двигаться вперед. — Это неразумно. Нет ничего более горького, чем память минувшего. С какой болью я вспоминаю то, что было великую дюжину дождей назад, когда я жила на этом острове, и у меня было такое же тонкое красивое тело, как у синеглазой Аны, и я так же хотела ребенка, как она! И не было большего желания, радости, счастья, чем произвести его на свет!.. Ана вздохнула: — Мне кажется, я помнила бы об этом и дюжину великих дюжин дождей. — Еще через одну великую дюжину дождей я должна буду удалить клетки дальней памяти. Тогда в моей жизни не останется ничего, кроме бесконечного однообразия машинной жизни. Ремонт, смазка, смена частей, заправка горючим… И ничего больше!.. Как счастливы вы, пришельцы, что не умеете еще делать такие искусственные органы, как у нас, становиться вечноживущими. — Ты была прекрасна? — спросила Ана. — Все мужчины этого острова мечтали стать отцом моего ребенка и уничтожить ради этого хоть десяток гнусных харов, — ответила бывшая женщина, заключенная теперь в машине. — Не убивай этой своей памяти, Тана, — сказала звездная гостья. — А ты, пришедшая со звезд! Ты прекрасна? — Я боюсь так сказать о себе. Прекрасно не тело, прекрасно чувство. Это чувство и привело меня к вам. — Как понять тебя, женщина звезд? Ты рассчитывала найти здесь себе пару? На вашей планете мало мужчин? — наивно спросила Ана. — Нет, прекрасная Ана! Человек, которого я любила, улетел к другой звезде и должен был вернуться только через половину большой дюжины дождей, если определять время по-вашему. — Разве ты не могла дождаться его, заменив в крайнем случае какой-нибудь орган протезом? — спросила Тана. — Разве ты, Тана, став живущей в машине, могла бы встретиться сейчас с таким вот юношей, который только что гнал здесь свирепого хара через водопад? — спросила звездная женщина, имея в виду меня. Моя Ана была благодарна ей за ее слова. — Ты убеждаешь меня, гостья звезд, что мне надо скорей убить клетки своей памяти, — с горечью ответила машина. — О какой памяти, пробужденной у тебя, ты сказала, женщина звезд? — спросила Ана. — Память предков. Во мне как бы вновь живут те, кто жил до меня и дал мне жизнь. Пусть воспоминания об их жизни и отрывочны, но едва ли они менее связаны, чем воспоминания Таны о том, что прожито ею великую дюжину дождей назад. — Значит, можно жить вечно, обладая телом, как ты, а не машиной, как Тана?! — воскликнула Ана, окрыленная дерзкой мыслью, послужившей потом причиной великих потрясений на Этане. — Да, — подтвердила звездная женщина. — Память прошлых поколений живет и может пробудиться в каждом живом существе. — Скажи, но как живое существо, давая жизнь себе подобным, может передавать им свою память? — в волнении спросила Ана. — Мы, люди, многому можем поучиться у вас на Этане, но способ пробуждать память предков вы могли бы позаимствовать у нас. — Женщина звезд! Ты открываешь глаза живым. Зачем нам закон «Жизнь — вечноживущим!», если его можно заменить законом: «Память вечности — живым!» — Замолчи, безумная! — воскликнула Тана. — Твои слова обрекут всех живых на гибель. Вечноживущие не примут ни одного из них на материк. — Пусть так! — в исступлении воскликнула Ана. — Лучше не заменять живое сердце металлическим насосом, чем спустя великую дюжину дождей мучить себя воспоминаниями, как это делает Тана. Конечно, Ана обезумела из-за своей жажды материнства. Темной ночью она пересказала мне все от слова до слова и раскрыла свой страшный замысел. Я окаменел, похолодел, затрясся. Я не боялся грозного хара, но сейчас испугался, как никогда в жизни… Только великие чувства могут вести на подвиг, на великие свершения. Впоследствии я узнал о словах одного из земных мыслителей, что ничто великое на их планете не совершалось без страсти. Ана была полна страстью и сумела вложить страсть и в меня. Наш план отличался дерзостью. Чтобы решиться на него, требовалось разрушить у всех живых само представление о сущности, форме и цели жизни. И это сделала Ана. И я, послушный ей, горячо распространял ее учение на острове. Нас пугали, стыдили, укоряли за то, что мы якобы повторяем призыв звездных пришельцев, но это была неправда!.. Звездные пришельцы не подбивали нас на бунт против вечноживущих. Они только раскрыли Ане глаза, а через нее и нам всем, что не одно жалкое существование среди металлических протезов может быть вечной жизнью. Сменяющиеся поколения, несущие память предков, были истинно вечными, всегда юными, более прекрасными. Однако вечноживущие никогда не согласились бы с нами, не уступили бы своих ледяных гаражей. Мы увидели это даже в растерянном сопротивлении Таны, которая была ближе к нам, чем большинство протостарцев, живущих многие великие дюжины дождей и не знающих ни горя, ни радости живых. И все же Тана, живущая в машине, не пожелала, не решилась, не смогла быть с нами. Она была с протостарцами… Ана назвала их живущими мертвецами и подняла нас на войну с ними. Так началось великое Восстание Живых. У Аны был поистине грандиозный, смелый, коварный план, в котором как бы отразились все поколения хитрых и свирепых харов. Послушные ей, мы завладели летательным аппаратом Таны. Чтобы Тана не мешала нам, мы временно лишили ее колес».
Глава пятая ВОССТАНИЕ ЖИВЫХ
«Эт изменил восставшим. Протостарцы, разобрав манипуляторами стену, которую мы сложили из огромных глыб, ворвались в центральную насосную станцию планеты через тайно открытый Этом ход. Мы удерживали за собой «сердце планеты» почти до периода дождей. Теплые дожди должны были окончательно растопить, разрушить, уничтожить ледяные материки с ненавистными гаражами протостарцев. Не могу понять, как мог предать нас Эт, первый из стареющих пошедший с нами!.. Отважный, он победил когда-то в схватках не одного свирепого хара и имел сына, моего сверстника и друга, мечтательного юношу, созданного, конечно, для жизни не на Этане, а на другой планете, у другой звезды. Он не способен был сам гнать хара, но гордился своим отцом, его силой, мужеством, статной фигурой этанянина, с узким лицом и высоким лбом. Эт первый поддержал Aнy и ее план захвата «сердца планеты». Он восхищался ею, говоря, что природа не знает ничего страшнее гнева матери, защищающей своих детенышей. Ана защищала детенышей, еще не появившихся на свет, но в наших условиях это было еще страшнее. И Ана с жестокостью разгневанной матери нацелилась прямо в «сердце планеты». Эт помог нам завладеть летательным аппаратом протостарицы Таны, лишив ее колес. Эт полетел с нами к центральной насосной станции, чтобы остановить, по плану Аны, насосы, прервав тем кровообращение планеты, подачу к ледяным материкам охлажденного в полярных областях раствора. Эт настоял на том, чтобы взять с собой звездных пришельцев. Они не желали остаться на острове, где были отрезаны морем от своей ракеты. Но он не думал о них, ему нужно было их оружие теплового луча. Революционный порыв, как понял я впоследствии, и внезапность нападения на центральную насосную станцию принесли нам первый успех. Мы ворвались в главный машинный зал. Широкий проход в нем был рассчитан на свободное маневрирование машин. Он тянулся до самого горизонта, как бы уходя там под свод потолка. По обе его стороны возвышались громады машин, использующих энергию квантовых вихрей. Отсюда холодильный раствор перекачивался по трубопроводам к экваториальным материкам, где отдавал свой холод, и в противоположном направлении к полюсу — к полям охлаждения. Они представляли собой крутые склоны искусственных металлических гор, на которых не держался снег. У поверхности они были пронизаны мириадами отверстий. В них протекал раствор, охлаждаясь полярными ветрами. В этом методе охлаждения океанов был глубокий смысл. Океаны замораживались без привлечения посторонней энергии (если не считать перекачки раствора). Баланс энергии, получаемый от светила, на планете не менялся. В противном случае (при расходовании на охлаждение, скажем, ядерной или вакуумной энергии) в течение тысячелетий планета настолько нагрелась бы, что вместо охлаждения получился бы перегрев. С момента нашего вступления в насосную станцию движение холодильного раствора прекратилось, он уже не уносил полярный холод к искусственным тропическим материкам. Затих исполинский зал. Тишина после ровного гула машин казалась тяжкой, мрачной, мертвой. «Сердце планеты» перестало биться. Эт торжествовал. Победа оказалась такой легкой!.. Он ходил между рядами безмолвных машин и рисовал нам, толпившимся около него, жуткие картины гибели материков. До сих пор мы видели ледяные материки только в электронных «окнах обозрения». Безжизненная равнина, ограниченная ровной ледяной набережной. Протостарцы не разводили лесов, они были им не нужны, потому и убавилось за последние великие дюжины дождей содержание кислорода в атмосфере нашей планеты… Эт потирал трехпалые ладони и, дав волю фантазии, смаковал начинающиеся катаклизмы. Ровная гладкая поверхность в его мечтах становилась пористой, рыхлой, покрытой дюжинами дюжин луж. Ледяная стена набережной все больше уступала напору волн, изъеденная бесчисленными порами. Огромные куски отваливались от ее массива, белыми пятнами плыли по волнам. А волны прибоя пенными ударами вгрызались все глубже в ледяной монолит, подточенный снизу еще более теплым течением. Глубокие трещины рассекали оседающий материк. Наступит миг, когда ледяной монолит оторвется ото дна, к которому был приморожен, всплывет, расколется. Никакое землетрясение не смогло бы сравниться с таким искусственным катаклизмом. Всплывая, материки разломятся на несколько частей. Трещины пройдут через подземные залы заводов, через несчетные гаражи. Рухнут их ледяные своды, погребая под обломками великие дюжины машин. И никому никогда не найти, не обнаружить, не узнать живущих в изуродованных механизмах вечной жизни. Из недр планеты уже не будут добываться смазочные и горючие материалы. Развалятся, сломаются, исчезнут аппараты для их получения. Да и некому будет их потреблять! Начнется период теплых дождей, который, подобно водопаду нашего родного острова, завершит начатое нами дело, окончательно уничтожит материки со всеми живыми мертвецами, поселившимися в машинах вопреки главному закону Природы. — То, что противоречит Природе, обречено! — повторял Эт слова Аны и рисовал картины гибели ледяных материков. Ана тоже торжествовала, но была грустной. Она не смаковала, как Эт, гибель протостарцев. Свой план она называла «Великим погребением». Она лишь хоронила фактически давно умерших. Но мертвецы, жившие в машинах, хотели жить, жить вечно! Не прошла и половина срока до наступления дождей, как протостарцы опомнились, их мудрость подсказала им образ действий. Они поняли, что безумию жажды материнства нельзя противопоставить только обещание продлить жизнь тем, кто стареет. Множество великих дюжин многоколесных машин покинули свои гаражи, двинулись, потянулись к полярному кругу, где находилась захваченная нами насосная станция. Электронная аппаратура, продолжавшая действовать, дозволяла нам видеть в «окнах обозрения», как перемещались протостарцы по дорогам и без дорог, неотступно приближаясь к нам. Ни у них, ни у нас не было оружия, давно забытого вместе с последними войнами, в глубокой древности полыхавшими на планете. Эт послал наступающим противникам электромагнитный сигнал, предупреждая, чтобы они не пытались приблизиться, ибо в нашем распоряжении тепловые лучи звездных пришельцев. Он лгал. Когда я сам, обеспокоенный предстоящим боем, заговорил с пришельцем, чтобы он помог нам, тот ответил в присущей ему манере: — Нет у меня лазерного пистолета, радость моя. Командиру отдал, чтобы не ввязаться случайно в ваши дела. Вот так. Эт солгал. Протостарцы не знали об этом, но они не остановились. У них не было выхода. Их ждала гибель или под тепловым лучом пришельцев, или под теплыми лучами собственного светила, которое растапливает их материки и превращает их в былые океаны. И живущие в машинах наступали. Их решимость была страшна. Тогда-то Эт и струсил. Страх, расслабляющий, горький, позорный страх, который на острове навсегда лишил бы права отцовства, сломил Эта. Даже странно, что тот же Эт побеждал когда-то харов!.. Я застал его лежащим на полу в машинном зале. Худой, как и все мы, этаняне, он казался особенно длинным. В жуткой тишине умерших машин слышалось его хриплое, свистящее, неровное дыхание. Под его продолговатый, лишенный растительности череп кто-то подложил моток провода. Ана, присев на корточки, старалась облегчить ему острую боль в сердце. Она вспоминала все забытые средства далеких времен, когда на нашей планете еще лечили, а не заменяли больные органы. Открыв глаза, Эт посмотрел на нас, словно затравленный зверь. Потом слабым голосом сказал, что кто-то, как гнусный хар, когтями схватил его за сердце. И стал корчиться от боли. Говорят, так умирали… Но Эт очнулся. Обычно это бывало первым сигналом стареющим. Перенеся подобный приступ, они обращались с мольбой к протостарцам, и те брали их к себе на материк. Там они заменяли им сердца на искусственные, превращая живых в живущих вечно. О чем думал он, когда его узкий лоб покрылся испариной? Понял, что смерть близка, и захотел жить — бездумно, страстно, безмерно… Помочь ему могли только протостарцы. И он решил купить эту помощь ценой предательства. Он забыл все высокие слова о непреложности законов Природы, о праве на существование грядущих поколений, он предал Ану, защитницу всех матерей, предал нас и даже своего сына вместе со всеми нерожденными детьми планеты…
Многоколесные машины протостарцев ворвались в насосную станцию через открытый Этом ход. Ах, если бы пришелец применил свой тепловой луч! С лязгом, грохотом, дребезжанием мчались машины по двору станции, настигая живых. Манипуляторы наносили смертельные удары. Сколько детей получат теперь право родиться на острове взамен погибших!.. Пришельцы в ужасе наблюдали сцену истребления, укрывшись в машинном зале вместе с группой Аны. Одна из многоколесных машин гналась за Этом, а он, визжа от ужаса, подпрыгивая на длинных ногах, скакал по плитам двора и молил о пощаде, убеждал, кричал, что это он, он впустил сюда машины вечноживущих. Машина затормозила, а Эт упал перед ее колесами. Ни одно из них не наехало на него. Но он лежал без движения. Еще один сердечный удар настиг его раньше, чем он заработал себе искусственное сердце. А потом произошло самое страшное, что переворачивает во мне сознание, всю мою память, останавливает дыхание, лишает меня желания жить!.. Рухнули двери машинного зала. Многоколесные машины ворвались в проезд. Ана пала одной из первых. Казалось, что колесо машины только чуть задело ее, но… этого было достаточно моему синеглазому цветку, чтобы стебелек его сломался… Я держал на руках ее разбитую голову, которой она ударилась о постамент проклятой машины, качавшей холодильный раствор в ненавистные ледяные материки. Что мне было до мира, если со мной уже не было моей Аны! Ей не привелось стать матерью нашего ребенка, Ей не привелось утвердить бессмертие в поколениях живых. Ненависть ослепляет даже мудрых. Протостарцы, словно в них проснулись давно убитые клетки воинственной памяти, ринулись на одного из звездных пришельцев, видя в нем виновника смуты. Этот звездный пришелец бежал к моей Ане, как будто мог чем-нибудь помочь ей. Не знаю, откуда взялся второй пришелец. Уже впоследствии я услышал, что именно так в эпоху войн бросались под боевые машины врагов его далекие предки. Может быть, должен был взорваться его костюм с баллонами газа? Почему не сделал я так же, чтобы спасти мою Ану? Колеса смяли пришельца, но взрыва не последовало. Машина все-таки остановилась. Должно быть, все поняли, что свершилось межзвездное преступление? Все протостарцыи уцелевшие живые, за исключением меня, уже находившегося рядом, поспешили к повергнутому пришельцу. И тут выяснилось, что погибший пришелец сжимал в руке лазерный пистолет. Через прозрачную часть шлема виднелись судорожно сведенные заросшие полоски над его закрывшимися органами зрения. Нужно было обладать мудростью вечноживущего, чтобы сразу понять, почему пришелец не применил оружия. Я это понял далеко не сразу. Он не поднял его на обитателей чужой планеты, а те… уничтожили его. Своим поступком звездный житель отстоял жизнь всем нам, уцелевшим, в том числе и звездной женщине, стоявшей теперь на коленях перед телом своего товарища. Никто из нас не воспринимал низкого регистра издаваемых ею звуков, но, вероятно, это было проявлением боли, жалости, горя, такого же, как у меня… И тогда приблизилась Тана — протостарцы помогли ей обрести колеса. — Почему ты в таком горе, звездная гостья? — спросила она. — Ведь ты говорила, что любишь того, кто улетел к совсем другой звезде? Звездных пришельцев трудно было понять. Оказывается, можно было испытывать такое же горе при виде погибшего, даже не любя его. Об этом сказала звездная женщина и добавила: — Я любила не его, но он… Странно… Невозможно разобраться в отношениях существ другой планеты. У Таны была мудрость долгоживущих, и она засвидетельствовала протостарцам, что звездные пришельцы не имеют никакого отношения к Восстанию Живых. Протостарцы были мудры… и гуманны. Они защищали свое право жить вечно, но они не отказывали в этом праве и другим. Гибель пришельца потрясла застарелые умы, на протяжении великих дюжин дождей занятых только заботой о себе. Мы, уцелевшие, были прощены. Нам было позволено вернуться на остров. Многие пары смогут теперь иметь детей. Но все это было не для меня. Не было больше моего синеглазого цветка, моей Аны, рожденной стать во главе матерей, но так и не ставшей матерью… Я заморозил Ану с помощью холодильного раствора, уже пущенного по артериям планеты. Долго стоял я у ее ледяной могилы, рассматривая в ней смутные контуры бесконечно дорогого мне существа. Я хотел бы лежать с ней рядом во льду. И я уже решился на это, когда встретил звездную женщину. Она тоже сделала для своего товарища ледяную могилу в виде хрустального куба, в котором его можно было рассмотреть, уже без космического костюма, так уродовавшего его. Я был поражен! Неужели Природа в развитии высших своих представителей приходит к сходным формам? Пришельца, скрытого в ледяной глыбе, можно было принять за этанянина!.. Неужели в этом глубокий смысл целесообразности? Мысленно я увидел себя в такой же глыбе… и невольно подумал о звездном костюме пришельца. Если он так схож со мной, не могу ли я надеть его костюм? Новая мысль ожгла меня. Я обратился к звездной женщине жестами, а когда она включила свою переговорную аппаратуру, робко попросил у нее разрешения надеть на себя костюм погибшего. Она пристально посмотрела мне в глаза и спросила: — Зачем тебе это, смелый Ан? — Она всегда называла меня так, помня встречу у водопада. — Смогу ли я дышать, жить, существовать с помощью ваших аппаратов? Можно ли их отрегулировать на состав нашей атмосферы? Звездная женщина снова посмотрела на меня, теперь уже, видимо, о многом догадываясь. Но я не признавался ей в своем заветном желании. Я слишком хорошо помнил слова погибшего пришельца, что они не должны «ввязываться в наши дела». И он не ввязался в них, даже погибая… Женщина звезд не знала настроений среди уцелевших живых. Эт, сам погибнув, оставил после себя гнусную отраву. Он успел нашептать всем, будто у звездной женщины вовсе нет памяти предков, и никто не может проверить это, и мы своим Восстанием Живых затеяли безнадежное, обреченное, бессмысленное дело, потому что никогда предки не будут жить в своих потомках. Теперь, чтобы разжечь вновь Восстание Живых, надо доказать существование памяти предков, доказать на самих живых… Для этого нужно было побывать на Земле, изучить там способ пробуждения памяти и применить его у себя. Но женщина звезд не должна была этого знать, иначе моя мечта не осуществилась бы. Я смог надеть на себя костюм пришельца. Женщина звезд так отрегулировала дыхательные аппараты, что я чувствовал себя нормально, хотя и был изолирован от нашей атмосферы. — Ты рассчитываешь, что мы прилетим к вам еще раз? — спросила она, когда я, скрытый костюмом, с помощью электромагнитного устройства один мог слышать ее слова. — Разве ты не хочешь вернуться на свою планету? — уклончиво ответил я, но в моем ответе была заключена и моя заветная просьба. Женщина звезд поняла меня. Я хотел вернуться, я не мог не хотеть! Но пока я связывал свои поступки лишь с ее желанием. Мы, уцелевшие живые, должны были отправиться на летательном аппарате Таны на свой остров. На этом же аппарате предстояло доставить и звездную женщину к ее ракете. Срок ее пребывания на пашей планете истекал. Главный пришелец, с помощью электромагнитных колебаний держа связь со звездной женщиной, торопил ее с возвращением. Поэтому Тана решила, что сначала доставит звездную гостью к ракете, а уже потом нас — на остров. Нам еще в состоянии живых предстояло побывать на ледяном материке, увидеть, ощутить его. Прежде это не допускалось. Тяжелое, гнетущее, жуткое впечатление произвел на меня материк живущих мертвецов. Им не нужны были леса, травы, воздух… И поэтому первым среди мертвых, живущих в машинах, был сам материк. В нем, конечно, не успели произойти те изменения, которые смаковал Эт, однако гладкая прежде стена набережной стала волнистой, уже изъеденная теплыми волнами. Поверхность материка там и тут была в провалах. Очевидно, своды подледных пустот успели рухнуть. И, подобно-единственному на всей мертвой равнине дереву, будто накренившемуся от ветра, возвышалась, грозя упасть, инопланетная ракета, под которой осел ледяной грунт. Как разительно отличался этот пейзаж от нашего буйно цветущего острова, каким бессмысленным казалось мне вечное существование среди этой мертвой, искусственной природы, в холодных гаражах, внутри громыхающих машин!.. Главный пришелец ждал свою спутницу. При нем неотлучно находился один из старейших протостарцев, впервые встретившийся ему здесь. Никто из нас не слышал голосов пришельцев, когда они обменивались первыми словами. Но мы понимали, догадывались, знали, о чем они говорят, о ком горюют. И тогда женщина звезд указала на меня. Главный пришелец заинтересовался. Он воспользовался переводной аппаратурой и спросил меня: — Разве ты хочешь лететь к другой звезде на нашем корабле? — Женщина звезд угадала, узнала, поняла мое желание, — ответил я. — Что ведет тебя? Протостарцы слышали и понимали наш разговор. Я не должен был лгать, но в то же время я не должен был выдать затаенной своей мечты. — Я потерял ту, которую любил, а вместе с ней и желание жить вечно. Пусть вместо меня на острове родится, растет, существует новый житель. Очевидно, мало суровой мудрости вечноживущих, чтобы оценить мою любовь к Ане, угадать в ней не только любовную тоску, но и верность ее идее бессмертия в поколениях живых. Протостарцы не выразили никакого протеста. — Мы не можем тебе гарантировать возвращение, — сказал главный пришелец. Я был согласен, рад, готов на все! Потом они говорили между собой на непостижимо низком регистре звуков, недоступных нам. Впоследствии я узнал, что они пришли к выводу, что, беря меня с собой в полет, не вмешиваются в дела нашей планеты, поскольку мне и здесь ничего не грозило. Они видели в моем путешествии на Землю символ дружбы двух цивилизаций. И они брали меня с собой на освободившееся место. Но я в глубине сознания рассчитывал, надеялся, был убежден, что рейс землян неизбежно повторится. Я простился с обитателями своей планеты — и с живыми, и с живущими в машинах. Из ракеты все они казались маленькими и жалкими. С того самого момента, когда, войдя в ракету, пришельцы освободились от своих костюмов и стали отдаленно походить на этанян, я надел их костюм, чтобы уже не снимать его больше… Никогда? Кто знает!.. Нет!.. Я верил, что без скафандра еще ступлю на остров Юных, чтобы позвать, поднять, вести их за собой. Я смотрел сквозь прозрачную часть шлема на унылую равнину ледяного материка. Я словно находился на вершине одинокого дерева. И вот оно качнулось, как от налетевшего урагана, и, вырванное с корнем, взлетело вверх. Как будто могучий хар вцепился в меня, чтобы удержать на Этане. Но сила, превосходившая все, что можно было себе представить, разорвала оковы харов, и я почувствовал необычайную легкость во всем теле и без усилия, словно во сне, взмыл над пультом. Внизу виднелось ромбическое море, с берега которого мы взлетели. Прощай, Этана! Я называю тебя именем, которое дали тебе пришельцы. Я еще вернусь, чтобы доказать живым, что они могут носить в себе память прежних поколений, чтобы доказать неизбежность победы живого в грядущем».
Книга третья ДАЛЬ
Мечта - это не то, что уже существует, но и не то, чего не может быть. Это, как на земле, - дороги нет, а пройдут люди, проложат дорогу.Лу Синь (Чжоу Шу-жень), демократ, классик китайской литературы (1881-1936)

Часть первая БАРЬЕР ПОКОЛЕНИЙ
Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет!В. Маяковский, «Хорошо»

Глава первая СЮРПРИЗЫ КОСМОСА
Весь обратный рейс «Жизни» ее экипаж с тревогой ждал последней встречи с танкером-заправщиком, несущим горючее для торможения. На подходе к Солнечной системе его сигналов уловить не удалось. Арсений по тревоге вызвал в радиорубку командира Тучу, а тот пригласил в кают-компанию весь экипаж. — Надо искать суперлокаторами, — сказал Арсений Ратов. — Что искать? Почему искать? — взорвался Каспарян. — Я говорил! Три минуты опоздания оборачиваются такими расстояниями, что ни о каких радиолокаторах и речи быть не может. Иголка в стоге Вселенной. — Я все же полагаю, что, поскольку предыдущие встречи с кораблями-заправщиками состоялись, ошибка, вызванная опозданием вылета звездолета, компенсирована, — обстоятельно выразил мнение Карл Шварц. — Какой там компенсирована! — замахал руками Каспарян. — Заправщиков около Релы догнали, да не в тех точках, которые предусмотрены графиком рейса. Все кувырком! Три минуты — это пятьдесят миллионов километров, дорогой профессор. — Все же я хотел бы выслушать нашего астронома. Его математические способности всем известны. — Я обменял бы миллионы его вычислений на сто восемьдесят секунд его опоздания… — Не надо было меня ждать на острове, — сурово заметил Ратов. — Ну вот! — совсем рассердился Каспарян. — С танкером, но без тебя? Так, скажешь? — Каков же выход? — поинтересовался профессор Шварц. — Очень простой, — вмешался биолог Кузнецов. — Оставшееся топливо предназначить для «машины пищи». — Вечный рейс повторить? — мрачно осведомился Арсений. — Рейс имени Эоэллы, — вставил Каспарян. — Скорее Эоэмма, — парировал Кузнецов. — А вечного на свете нет ничего! Но рейс должен быть возможно более долгим. Такова жизнь. — Лады, такова «жизнь», — имея в виду звездолет, отозвался Туча. — Как бы то ни было, но график, а следовательно, и рейс сорваны. — Значит, сорвалось, — вздохнул Кузнецов. — Но жить будем! Жить надо! Туча коротко скомандовал: — Лады! Жить будем! Лейе — выключить нейтринные двигатели, прекратить торможение. Топливо беречь! Ратову — бессменно дежурить в радиорубке у суперлокаторов. Двигатели снова включим не раньше, чем обнаружим заправщик, хоть в миллионе километров. — Если бы в миллионе! — вздохнул Каспарян. Он шел рядом с Арсением, когда все расходились. — Вечная у тебя фамилия, Ратов, — усмехнулся он. — Почему вечная? — удивился Арсений. — Как Ратов летит — Вечный рейс. — Шутник ты, Каспарян, — покачал головой Ратов. — Не надо было меня ждать на острове. — Вот это шутка! Очень злая шутка! — рассердился Каспарян. — Теперь на шутки большая нагрузка, — догнал друзей Толя Кузнецов. — Пойду разрабатывать рацион на ближайшую «звездную пятилетку». Принимаю заказы: соус морнэ с сыром, котлеты софи из телятины, баранина по-бордосски, каплун с грибами в сметане. Нейтринного инженера ради такого меню поставим поваром к «машине пищи». — Гарантирую превосходную французскую кухню! — пообещал чернявый инженер Лейе и шутливо закрутил колечком ус. — Шесть человек — это есть уже целый мир, — глубокомысленно изрек Карл Шварц. Толя Кузнецов всегда объяснял удивительную уравновешенность немецкого профессора его тройным подбородком. — Предлагаю считать «Жизнь» планетой… Правда, без «солнца», — возвестил Кузнецов. — «Солнце» будет, — заверил Арсений и добавил: — Ненадолго.Когда спустя полтора года по земному времени другой звездолет — «Жизнь-2» возвращался к Солнечной системе, никто на корабле не знал о судьбе первых звездолетчиков… — Тревога! Тревога! Тревога!.. Звездонавты выскакивали в коридоры, вваливались в кабины лифтов и поднимались в центральную рубку управления. Она располагалась на оси головной части «Жизни-2», напоминавшей исполинский барабан из труб, параллельных его оси вращения. Появился в рубке и этанянин Ан. Он страдал от искусственной гравитации, вызванной теперь режимом торможения. Из глубины огромных глазниц Ан всматривался в лица людей. Все они встревожено уставились на экран локатора. — Движение неизвестного тела точно совпадает с нашей трассой. Мы его нагоняем, — доложила Вилена Виеву и, подумав, добавила: — Если отклониться — уйдем в сторону от Солнечной системы и курс не выправить. — Что за чертовщина! — воскликнул геолог Михаленко. По мере приближения к Земле он совсем оправился от своей «космической ностальгии», стал по-прежнему энергичным, решительным. — С последним танкером-заправщиком мы уже повстречались. Больше ждать некого, Поэтому если попалось опасное препятствие на пути, то его надо уничтожить лазерным лучом, и дело в шляпке! — Уничтожить? — полуобернулся к нему Виев и перевел взгляд на экран. — Попрошу вас, профессор, — обратился он к Анисимову. — Что-то вид космического странника мне кажется слишком «организованным». Проведите-ка на электронно-вычислительной машине анализ его размеров. — Что ж тут удивительного! — ответил Михаленко. — Планеты сферичны, хоть и естественного происхождения. — Планеты, а не такие крупинки размером с наш звездолет, — возразил Виев. — Прежде чем решиться на уничтожение чего-нибудь в космосе, надо быть уверенным, что имеешь дело не с чужепланетным кораблем. — Какая чепуха! — воскликнул Михаленко и добавил пренебрежительно: — Это напоминает сказку о древних космических пришельцах на Земле! — Извините, — задетый его тоном, вступился за любимую идею доктор Матсумура — ярый защитник того, что Землю в прошлом посещали звездные пришельцы. — Не выглядит ли такой сказкой наш новый друг, которого мы доставим с Этаны на Землю? Извините. Михаленко посмотрел на этанянина и смутился, замолчал. Виев изучал изображение на экране. — Тело имеет не сферическую, а правильную удлиненную форму, — уточнил он. — Состоит как бы из двух связанных одно с другим тел, как и подобает звездолету. — Топологический анализ даст на это исчерпывающий ответ, — заверил профессор Анисимов, забирая у Вилены все необходимые данные и фотографии загадочного препятствия на пути «Жизни-2». — Что предполагает, подразумевает, имеет в виду астроном? — поинтересовался этанянин Ан. Во время пути «Жизни-2» для гостя землян удалось сделать приспособление, трансформирующее произносимые им ультразвуки в речь нормального для людей диапазона. Этанянина теперь слышали все и понимали благодаря его старанию овладеть «земным языком», как он называл русский. Трансформирующее устройство помогало и ему слушать своих спутников по звездолету. Профессор Анисимов, опускаясь вместе с Аном в лифте, объяснял ему: — У нас еще в двадцатом веке, внимательный Ан, ученые научились определять с помощью математического анализа, являются ли изучаемые геометрические формы природного или искусственного происхождения. Ан кивнул в знак понимания, как это делали люди. Анисимов ушел вперед, а Ан, цепляясь за сделанные специально для него перила, плелся сзади, заботливо поддерживаемый доктором Матсумурой. — Доктор, — обратился к нему Ан, — командир боится повредить чужой звездолет, астроном будет вычислять, не искусственны ли формы встречного тела. Разве есть подозрение, предположение, уверенность, что космос так населен, что мы можем в нем встретить разумных? — Когда мы будем на Земле, — пообещал Матсумура, — я покажу тебе множество следов, которые оставлены когда-то разумными с других миров, посетившими Землю. — Я ощущаю в тебе заинтересованность, уверенность, увлеченность, добрый доктор. — Я верил в посещение Земли чужепланетными пришельцами, потому и полетел к вам на Этану, в расчете, что вы летали к нам. — Увы, увлеченный доктор, с Этаны никто никуда не улетал. Слишком обращена сама в себя, углублена, отрешена от всего внешнего наша цивилизация вечноживущих…
По вызову Виева все собрались в кают-компании слушать Анисимова. — Топологический анализ установил, — с особой торжественностью произнес профессор, — что форма замеченного на нашем пути тела может быть только искусственной! — Извините, — перебил Матсумура. — Значит, это корабль внеземной цивилизации! — Предвидя такое предположение, — продолжал Анисимов, — я позволил себе проанализировать с помощью электронного математика курс неведомого корабля и его намерения. Корабль летит к Солнечной системе в таком же режиме, как и «Жизнь-2». Более того — он летит к Земле. Наши трассы абсолютно совпадают. — Странно! — вставил Михаленко. — Это не только странно, но и многозначительно, — сделал вывод Виев. — И еще… позвольте мне закончить, командир. Нас не могли не заметить. — То есть… хотите сказать, что они ищут встречи с нами? — нахмурился Виев. — Это же такая радость! У меня даже дух захватило! — не выдержала Вилена. — Извините, что перебиваю, — вмешался японец. — Необходимо установить контакт с кораблем, если он ищет нас. — Остерегитесь! — крикнул Михаленко. — Может, это космические пираты! — Высший разум гуманен! — воскликнул Матсумура. — Ну, гуманен не гуманен, а я вовсе не хочу попасть в клетку зоопарка на какой-нибудь Планетостервии! — Ах, Игорь, что ты говоришь такое! — возмутилась Вилена. — Для чего же мы тогда летели? И ты с нами… Побывать на одной населенной планете и встретить в пути представителей другой — это же небывалое счастье! — Женщина звезд права, — вставил этанянин Ан. — Трудно представить, вообразить, предсказать большую удачу! — Остерегитесь! Предостерегаю! — снова запротестовал Михаленко. — Пусть не пираты, пусть не Планетостервия… Но кто может поручиться, что они не с планеты, где все состоит из антивещества? Ласковые объятия с такими «братцами по разуму» привели бы к аннигиляции и взрыву. — Спасибо тебе, внимательный Ан, спасибо Игорю за предупреждение, — неторопливо сказал Виев. — Попробуем установить с «Летучим голландцем» радиоконтакт. Аннигиляцией это, во всяком случае, не грозит. — И он чуть насмешливо посмотрел на Михаленко. Звездолетчики уходили из рубки управления по своим местам до предела возбужденные. Близость чужепланетного корабля ощущалась каждым, и каждый из них представлял себе грядущую встречу по-своему. И вдруг Михаленко, идя рядом с Виленой, шепнул ей: — А вдруг это «Жизнь» с Релы летит, заблудилась в космосе? А? Вилена обернулась к нему и обожгла его взглядом. Геолог даже не подозревал, какую бурю вызвал он в ее сердце. Через некоторое время сигнал общего сбора снова прозвучал на звездолете. И опять порывисто открывались двери, слышались поспешные шаги, мчались вверх лифты… Виев вошел в кабину управления последним. — Радиограмма получена, — доложила Вилена командиру. — Профессор, — обернулся Виев к Анисимову, — прошу тотчас же попытаться расшифровать с помощью киберлингвистики… — Расшифровывать нужды нет, — упавшим голосом произнесла Вилена. — Не понимаю, — нахмурился Виев. — Я читаю: «Звездолету «Жизнь-2» предлагается взять у меня дополнительное горючее. Корабль не оставлять на околоземной орбите, а приземлиться на Полярном космодроме с помощью устройств, которые вас встретят. Звездолет предназначен для музея». Виев тяжело опустился на стул. Ан вопрошающе заглядывал в лицо каждому. Он ничего не понимал. Овладевшие людьми чувства были загадочны… — Все-таки это Земля приветствует нас! — облегченно вздохнул Михаленко. — В этом самое главное!.. Фу!.. Полегчало! — Для музея! — с горечью повторил Виев. — Извините, командир, — сказал Матсумура. — Трудно представить, какая теперь стала наша Земля. Но музеи всегда останутся сокровищницами истории. — Да, — тяжело вздохнул Виев. — Мы принадлежим истории. В этом вся суть… — Мы будем делать историю! — вставил Анисимов. — Уверяю вас, командир! Нашей информации ждут. Вилена молчала, лицо ее застыло, окаменело… как у легендарной морячки из старой песни. И вдруг в рубке управления зазвучал четкий, совсем незнакомый человеческий голос: — Звездолету «Жизнь-2» предлагается взять у меня дополнительное горючее. Корабль не оставлять на околоземной орбите, а приземлиться на Полярном космодроме с помощью устройств, которые вас встретят. Звездолет предназначен для музея. — Это он так твердил здесь все годы? — спросил Михаленко. — Надо думать, сигнал Вилены с нашего звездолета включил передатчик «Летучего голландца», — поучительно заметил профессор Анисимов. — Но почему же для музея? Почему мы? — Вилена смотрела на экран широко открытыми глазами, и создавалось впечатление, что она обращается как бы ко всей Вселенной. — К тому же мы еще не можем установить прямой связи с Землей!.. — Наш звездолет представляет несомненный интерес для истории техники, — пробормотал смутившийся почему-то профессор Анисимов, — поймите это. — А как вы не понимаете? — возмутилась Вилена. — Почему наш, а не «Жизнь», которая улетела раньше нас и должна давно уже вернуться? Почему? Значит, ее нет! Они погибли!.. А мой Арсений?! — Ну знаете ли, — развел руками Анисимов. — Я не счел бы возможным делать преждевременные выводы. — Какие же преждевременные? — взволнованно продолжала Вилена. — Вывод ясен. Старая конструкция нужна для музея. Звездолетов было два. Если просят приземлиться второй, значит, первый не вернулся.
Да, звездолет «Жизнь» к назначенному сроку на Землю не вернулся и вернуться уже не мог. Без горючего для торможения он неодолимо двигался по прежней трассе, пересекая Солнечную систему. Солнце сначала из яркой звездочки превратилось в ослепительный кружок, потом стало косматым диском. Оно и радовало Арсения Ратова и его друзей, оно же и нагоняло на них тоску по Земле… Установить радиосвязь с Землей оказалось не просто. Там никто не ожидал позывных звездолета раньше чем через полгода. Сигналы его наконец были случайно приняты любителями-коротковолновиками. Первое их сообщение расценили было как неумную шутку. Потом на Земле всполошились. Звездолет приближался с огромной скоростью. Помочь ему было совершенно нечем. На Земле не имелось ни одного космического корабля, который в состоянии разогнаться до скорости звездолета. Подсчитали, нельзя ли послать вслед ему топливный корабль, но расчет оказался неутешительным — он мог догнать «Жизнь» через двадцать семь лет. И все-таки стали срочно готовить такой корабль. Однако горючее, которым бы тот снабдил звездолет, едва хватило бы на его торможение. А ведь предстояло еще разогнаться для возвращения к Солнечной системе, а потом затормозить на подступах к ней. Глубокий старик Вольдемар Павлович Архис дожил до этих тревожных дней. Он поднялся с постели, чтобы самому все рассчитать, и… так и умер за письменным столом от кровоизлияния в мозг. И все же система спасательных рейсов кораблей разрабатывалась. Однако вернуть звездолет можно было не раньше чем через сорок лет по общему теперь для Земли и «Жизни» времени. И вот тогда-то Арсений впервые и услышал, что вне Солнечной системы находится звездолет «Земля». Он еще не вернулся с Геи, но только он один мог бы догнать «Жизнь», поскольку не зависит от заправки горючим. — То есть как это не зависит от заправки горючим? — переспросил Арсений. Ответ на свой вопрос он получил лишь через несколько часов — так далеко от Земли летел звездолет. И еще спросил Арсений, что за Гея? Что за звездолет? Кто на нем летит? Ответы поражали Арсения один за другим, казались невероятными — и о минимире планеты, годной для переселения на нее части человечества, и о звездолете, который получает энергию прямо из космоса… — То есть как это из космоса? — вне себя от изумления спрашивал Арсений, хотя никто на Земле не мог его сразу услышать. Но кто-то там угадывал его вопросы и слал ответ на них раньше, чем они долетали до Земли. — Вакуум материален. Он лишь форма состояния вещества, которое способно отдать свою энергию связи. Это открытие было сделано около полувека назад великим физиком Земли Виленой Ланской-Ратовой. — Что такое? — хватался за голову Арсений. — Галлюцинации? Какой же физик Вилена? Она — музыкант! И Арсений с разрешения Тучи попросил Землю устроить ему видеосвидание с Виленой, когда звездолет войдет в Солнечную систему. В ожидании ответа Арсений был сам не свой. Он вспоминал последнее видеосвидание с Виленой… Кого теперь он увидит? Прославленную ученую женщину, очень знаменитую и очень старую, успевшую забыть и музыку и его, Арсения… Как же она выглядит? И как бы она встретила его, если бы «Жизнь» вернулась? И тут новое известие ошеломило Арсения. Оказывается, командиром звездолета «Земля» был его отец!.. — Ну, брат! Уж если твой отец вернулся из Вечного рейса, то и мы вернемся! — сделал неожиданный вывод Кузнецов. И снова радиограмма — ответ на просьбу Арсения: — К сожалению, устроить видеосвидание с Виленой Ланской невозможно… — Почему? Почему невозможно? — не удержался Ратов. — …потому что Видена Ланская-Ратова, — продолжал звучать размеренный голос с Земли, — в качестве астронавигатора улетела в звездный рейс на корабле «Жизнь-2». — Ничего не понимаю! — воскликнул Ратов. — Как же я не позвал ее с нами? — Тогда бы к нам не послали сейчас на помощь звездолет на вакуумной энергии, — огорошил Арсения Каспарян.
«Жизнь» продолжала свой беспомощный полет, подобно заблудившейся комете. Стало видно Землю. На эту разгоравшуюся звездочку смотрели с болью… Состоялся сеанс видеосвязи. С экрана говорили люди, которых никто не знал — они родились уже после того, как «Жизнь» покинула Землю… Звездолетчики попросили показать им земные пейзажи. И, пролетая в миллионах километров от своей планеты, они видели ее изменившиеся ландшафты, угадывали грандиозные преобразования, которые произошли уже без них. Тогда же узнал Арсений все и о Вилене… Потом земная звездочка стала тускнеть… видеоизображения ухудшались и… вскоре прекратились совсем. Радиограммы еще некоторое время принимались, но со все большим опозданием. «Жизнь» покидала Солнечную систему. Как ни старались звездолетчики держать себя в руках, на корабле воцарилось уныние. Желанная Земля осталась далеко позади. И желанная «Земля» не вернулась еще с Геи, чтобы идти на выручку звездному собрату. И еще неизвестно, сможет ли прийти…
Глава вторая СЮРПРИЗЫ ВРЕМЕНИ
После встречи с «Летучим голландцем» Вилена изменилась. Горькие складки залегли у нее между бровей, печальными стали зеленые глаза. Матсумура подсел к ней в кают-компании и стремился вызвать на откровенный разговор. Он считал, что хуже всего ей оставаться наедине с собой, со своими терзаниями, тревогами. — Извините, Вилена, — заговорил он. — Только потому, что я выражаю общую любовь к вам всех, кто летит с вами, я решаюсь попросить вас открыться мне в том, что терзает вас. — Ах, доктор, доктор! — грустно ответила она. — Вы очень мягкий, очень добрый человек. Мне просто жутко подумать, куда я возвращаюсь… Там, может, уже никого не осталось из родных… Проклятый парадокс времени! Это было, конечно, несправедливо, но у меня, единственной из вас, было особое положение — я ждала, желала увидеть своего Арсения. Я любила, и космос расплачивается со мной… Жестоко расплачивается… — Простите, Вилена. Вы никак не можете быть на Земле одинокой. Разве все мы, ваши товарищи по полету, не будем с вами? — Ах, доктор, доктор! — только и могла произнести Вилена. Потом добавила: — Проклятый парадокс времени!.. И тут перед ней внезапно вырос Игорь Михаленко: — Парадокс времени?… Да чепуха это теоретическая! Я знаю, вы великий физик и будете презирать меня, но сейчас вы для меня прежде всего женщина… ну, переживающая несчастье… хотя, может быть, и рано еще переживать… А может, ничего и не случилось… — Милый Игорь! Мне совсем не нужны слова утешения. Вилена вспомнила, что перед самым отлетом Костя Званцев уверял ее, что «Жизнь» с ее Арсением повернула будто бы назад, хотя по физическим законам это было невозможно. А Михаленко, словно прочтя ее мысли, заговорил: — Вы лучше моего знаете теорию относительности и то, что ее не уставали опровергать тысячи раз. Без конца повторяли опыт Майкельсона… — Милый мальчик, — вздохнула Вилена. — Моя бабушка тоже меня уверяла, что никакого парадокса времени нет. — Так вы еще увидите свою бабушку! И при встрече с ней сами подумаете: как же я могла верить в эту чертову относительность? А вдруг разгонялся в космическую бездну не звездолет, а земной шар со всем его населением? Разве не все равно, что считать движущимся, что неподвижным?! И выходит, что стариками за время полета должны стать звездолетчики! А люди на Земле и глазом моргнуть не успели… Вилена ничего не возразила. Она слишком хорошо знала, как еще в двадцатом веке Герберт Дингль таким способом пытался опровергнуть теорию относительности Эйнштейна. Но он не учитывал, что в гравитационных полях Вселенной можно разогнать до субсветовой скорости звездолет, а не земной шар. Их нельзя поменять местами. Вилена промолчала. Бестолково посматривала она на Игоря и думала об одном: «Арсения нет на Земле…»Узнал об этом первым Виев, едва ему удалось наконец установить связь с Землей. Однако Он не счел возможным сообщить своим спутникам о трагедии «Жизни», улетавшей в Вечный рейс. Звездолетчики и так были подавлены встречей с «Летучим голландцем» и лишь храбрились. Виев знал, что все они привыкли брать пример с Вилены. У Вилены же были особые основания тяжело перенести известие… И Виев решился разыграть из себя деспотического командира. Он объявил, что связь с Землей будет проходить только через него. Он ни о чем запрашивать Землю не будет, даже о том, который теперь год (верен ли парадокс времени!). Вилене поручалось рассчитать, когда был послан по кометной орбите «Летучий голландец». Вилена сделала необходимые расчеты и немного успокоилась. Дополнительный звездолет-заправщик должны были заслать еще до истечения срока возвращения «Жизни». Ей хотелось верить, что Арсений ждет ее… и она верила… Расчет Вилены был бы верен, если бы не открытая ею вакуумная энергия, которая позволила значительно позже, чем она рассчитала, забросить «Летучего голландца» на трассу «Жизни-2», затормозить его и снова разогнать до скорости, с какой будет возвращаться в этом месте звездолет с Этаны. И запустили с Земли в космос «Летучего голландца» уже после того, как стало ясным, что звездолет «Жизнь» вернуться не может. Вилена не знала этого. И это незнание помогло ей овладеть собой. Для звездолета же спокойствие Вилены было необходимо. Ведь она заменила пилота Кротова, от нее зависел благополучный исход экспедиции. Вера и самообладание вернулись к ней, она почувствовала в себе прилив новых сил и самозабвенно рассчитывала курс «Жизни-2», задавала программы электронно-вычислительным машинам и всевозможным автоматам. В сложном маневре посадки нужно было умело воспользоваться помощью посланных с Земли тормозных ракет, а уже в самой атмосфере — на последнем этапе посадки — каких-то новых, незнакомых звездолетчикам летающих кранов… Сотни циферблатов, рассказывающих о работе разнообразных приборов, запрыгали в затуманившихся у Вилены глазах, когда она увидела внизу клубящееся море земных облаков и в их проемах темную родную Землю!.. Впервые привелось астронавигатору и пилоту «Жнзни-2» воспользоваться в рейсе носовым платком, вытирать им глаза.

Длинный решетчатый хвост звездолета, заботливо подхваченный летающими кранами, ушел вниз под облака. Там он упрется в каменистый остров… И тогда начнет опускаться головная часть звездолета, его «каток», которым он в рейсе как бы укатывал звездные пути. Помощь, оказанная звездолету, была четкой, продуманной, безотказной. Многокилометровая ажурная форма «Жизни-2» легла на специально установленные здесь опоры, а нижние «трубы» «катка» с размещенным в них жилым отсеком коснулись земли. Звездолетчики нетерпеливо теснились перед выпускным шлюзом, без конца повторяя друг другу, что здесь он совсем уж ни к чему. И бесконечно долгим было то время, пока срабатывали автоматы. Но вот отзвучали последние их щелчки, и люк открылся. Звездолетчики и этанянин увидели голубое небо, а под ним — неправдоподобно синее море. Это показалось странным, ведь посадка совершена на Полярном космодроме… Но сейчас не об этом хотелось думать каждому. Первым вышел Виев и помог сойти на землю ошеломленному этанянину Ану. Он, единственный из всех прилетевших, был в скафандре и герметическом шлеме и походил на звездолетчика, забывшего переодеться в обычное платье. Легко спрыгнула в высокую траву космодрома Вилена. Сорвав пучок травы и прижав его к щеке, губам, она смотрела через пахучие травинки на приближающуюся группу встречающих. Сердце в ней колотилось, губы пересохли. Еще трудно было разглядеть лица спешащих к звездолету. Кружилась голова от острой, невозможной догадки… Кто это бежит впереди всех? Девушка с развевающимися косами!.. Да это же Авеноль!.. У Вилены захватило дух, она ловила открытым ртом воздух. Зажмурилась, открыла глаза. Видение не исчезло: сестренка, ее маленькая любимая сестренка, опровергая все теории относительности, бежала к ней, радостная, раскрасневшаяся, чуть постарше, чем была тогда, когда Вилена состязалась с машиной в звездном городке… А вот и бабушка! Как чинно шествует Софья Николаевна, не хочет показать, что торопится. Ах, бабуля, бабуля!.. А рядом с ней… Так ведь это же Владимир Лаврентьевич! Академик Руденко!.. Но где же папа и мама? И вдруг — Вилене схватило сердце. Она увидела могучую фигуру, родные любимые черты… Но что это? Не мог Арсений так состариться! Как же все это понять? Но Вилена была не только вернувшейся звездолетчицей, она была еще и физиком. Поэтому она шла навстречу бегущей Авеноль, а в ее мозгу, сменяя одна другую, промелькнули мысли: теория относительности с ее парадоксом времени возникла в пору «кризиса знаний». Физика помогала людям понять, казалось бы, все явления, но через некоторое время выяснялось, что по старинке нельзя объяснить всего. И тогда приходилось менять представления. А как теперь? Как научно обосновать, что на Земле люди не состарились — они ведь не летели с субсветовой скоростью? Впрочем, почему же? Все зависит от точки отсчета. Может быть, где-то во Вселенной была точка, по отношению к которой Солнечная система тоже двигалась с субсветовой скоростью. Ведь разлетаются же галактики с такими скоростями! Но Арсений! Почему же в таком случае он состарился? Тоже можно понять! Очевидно, скорость его звездолета была направлена как раз к той точке Вселенной, от которой с субсветовой скоростью летела Земля… Вот он и старился, в то время как его Вилена да и Авеноль остались прежними. Вилена подняла руку, крикнула: — Ратов! Ратов! «Седой Арсений» приветно замахал рукой. «Какое значение имеет, что он седой, — продолжала думать Вилена, теперь уже не как ученый, а как женщина. — Важно, что он жив, что он прилетел, что он будет со мной! Значит, я могла и не лететь? — задала она себе коварный вопрос и сама же ответила: — Нет! Нет! Не для себя полетела! Не для себя!» Девушка с косами подбежала к Вилене и, почему-то смутившись, протянула ей букет цветов. Вилена нежно обняла ее и бросилась со слезами на глазах к подходившей бабушке. — Бабушка, милая! Бабуля! Я так счастлива, что ты здесь! — припав к ней, сказала Вилена. — А где же папа и мама? — и услышала, как старая женщина говорит незнакомым голосом, совсем не бабулиным: — Вилена, моя Вилена! Я все-таки дождалась тебя! Девушка с косами застенчиво улыбнулась и отдала наконец Вилене букет. Старая женщина, показывая на нее, говорила: — Познакомься, Вилена: это твоя внучатая племянница. Мы с Ваней назвали ее в честь тебя — Виленоль. Вилена ничего не понимала и отчаянно замотала головой, словно хотела прогнать видения, проснуться. — Ты не Авеноль? — наконец спросила она девушку, заранее не веря ответу, не желая ему поверить. Та засмеялась и показала глазами на старуху: — Вот бабушка Авеноль. Я — Виленоль Болева. Кровь, прихлынувшая было к лицу Вилены, теперь отлила. Бледная, напряженная, смотрела она перед собой, мысленно отмахивалась от «научных» объяснений всего, что увидела. Но все-таки что же это? Она в страхе смотрела на могучего седого человека, неторопливо приближавшегося к ней. «Может быть, и это не Арсений?» Тот, конечно, уж рванулся бы к ней, побежал. — Ратов, Роман Васильевич! Заместо сына пока, — сказал седой человек, протягивая Вилене огромную руку. — Как? — растерянно прошептала Вилена, сразу вспомнив мраморного пилота в мраморном кресле. — А Вечный рейс? — Вечный рейс позади. Впереди — Великий рейс на Гею. — А где Арсений? — требовательно спросила Вилена, смотря то на старую женщину, то на Романа Васильевича Ратова. Тот замялся: — Да вот… вроде как бы «обкатывает» ваш Арсений первый из серийных кораблей. Вместе со всем экипажем «Жизни»… — Испытательный полет? — ухватилась за эту мысль Вилена. — Серьезно? — Испытание серьезное, — пробормотал Ратов, смотря в сторону. — Голова идет кругом, — призналась Вилена и, увидев в приближающейся толпе Руденко, воскликнула: — Но ведь это же Владимир Лаврентьевич! Это же не сын его! Старик с белой бородой, подойдя, обнял Вилену: — Все-таки узнала меня, узнала! И я вас сразу узнал, дорогая моя Вилена. И серебристый костюм вам все так же к лицу. — Значит, и вы куда-то летали? — Куда там! — махнул рукой старик. — Кто же меня возьмет такого? Просто я оказался счастливее Лады. — Анабиоз? — догадалась Вилена. — Пришлось воспользоваться, поскольку в наше с вами доброе старое время не было еще современных достижений медицины, каковые позволили бы долгожителю дождаться вашего возвращения. — А вы как же вернулись, Роман Васильевич? — повернулась Вилена к Ратову. — Операция «диски». Мы ее сейчас повторяем. А не постарел я потому, что летал на Гею, куда теперь великое переселение намечается. Это поближе и Релы и Этапы будет. В рейс туда ходил звездолет «Земля» с использованием вакуумной энергии. Горжусь вами. Ваша идея-то. — А мама, папа? — не слушая Ратова, еще раз спросила Вилена старую Авеноль. Мрачная тень, легшая на лицо старухи, была Вилене ответом. — Мы проедем к ним, — тихо пообещала Авеноль. Звездолетчиков окружили встречающие. Они говорили, перебивая друг друга. Вилена слушала сразу всех, и ей казалось, что люди эти чего-то недоговаривают, у нее было ощущение, будто она стоит одна в пустыне и не может сдержать слез. И это после всего, что она перенесла на Земле, на Этане, в полете… Старая Авеноль и молоденькая Виленоль взяли ее под руки и повели по космодрому. В стороне, обнявшись, стояли Виев и Ратов. До Вилены донеслись сухо сказанные тяжелые слова ее командира: — Значит, не с тем звездолетом в рейс я пошел… Возле них стоял, поворачиваясь во все стороны, Ан. Он жадно всматривался в незнакомый пейзаж, прислушивался через звуковые трансформаторы к отрывистым фразам Виева. Этанянин привлекал к себе всеобщее внимание, но люди старались ничем не проявить особого любопытства к гостю Земли.
Глава третья БАРЬЕРЫ
Старая Авеноль привезла свою юную старшую сестру в домик на опушке леса. Перед тем они побывали на очень давних, но заботливо ухоженных могилах своих родителей и бабушки Софьи Николаевны. Вилена не могла избавиться от чувства, что бабушка Софья Николаевна не лежит под плитой с именем артистки С. Н. Иловиной (она носила сценическое имя своей знаменитой прабабки), а стоит рядом, совершенно такая, какой была когда-то… А мама?… Сколько горя ей причинила Вилена!. Папа!. От него осталась книга, общая их с папой книга о вакуумной энергии, вышедшая сорок пять лет назад… Вилена зашла в один из двух рабочих кабинетов домика… Здесь все рассчитано на двоих — на нее и Арсения. Вилена по-прежнему считала, чтоон на ответственном задании в космосе. Так сказал его отец. Испытывает звездолет. Опять испытывает! Ведь полет на «Жизни» тоже был, по существу, испытательным… Испытания — это риск! А разве сама она не рисковала на Этане? Авеноль ничего не говорила об Арсении. Значит, так надо! Значит, у «них» сейчас так принято!.. Вилена не расспрашивала, но находила ответ на незаданные вопросы в устройстве домика, в его убранстве, где все говорило о возвращении Вилены к Арсению… Она даже узнала некоторые его любимые вещи, заботливо перенесенные сюда. Это, конечно, Авеноль! Только она одна могла помнить о них! И как долго помнить! Ужас берет, как подумаешь. Вилена рассеянно перелистывала страницы книги об вакуумной энергии. Как далеко ушла теперь физика? Не покажется ли современным ученым эта книга, да и сама Вилена архаизмом, безмерно устаревшим, старомодным?… Вилена перешла в другую комнату. Здесь стоял большой рояль. Старая Авеноль стирала с него пыль обыкновенной тряпочкой… Именно на таких роялях играли Лист и Рахманинов… Сможет ли Вилена снова играть? И нужно ли это в новом мире, ее новым современникам? Через стеклянную дверь на веранду Вилена увидела огромную металлическую штангу. Что-то сдавило ей грудь. Она подошла к роялю и вдруг заиграла ту самую музыку, которая когда-то помогла Арсению в физкультурном зале поднять рекордный вес. Авеноль с некоторым удивлением посмотрела на нее, но потом поняла все: она ведь тоже была в том зале, только для нее это произошло бесконечно давно!.. Когда Вилена встала из-за рояля, старая Авеноль принялась дотошно обучать ее, как надо пользоваться заказами через «окно дальности». Оказывается, теперь все на Земле транспортируется по трубам. Электромагнитная почта! Как раньше в доме, где жили Ланские. Но теперь — на любые расстояния. Прежнего дома Ланских уже нет, на его месте разбит лесопарк. Авеноль тоже живет за городом, как и большинство бывших жителей столицы. «Так принято», — сказала Авеноль. Вилена уже почувствовала чудодейственную силу этих слов. В этом надо угадать силу традиций, которые постепенно заменяют прежние принудительные законы. А трубы — это, наверное, лучше! По ним — и пассажирское сообщение. Десять минут — и ты в центре города. В основном, это только разгон вагонов под уклон до умопомрачительной скорости, потом торможение на подъеме… Малый расход энергии… А в городе по улицам не ездят, только ходят… «Так принято»!.. Монорельсовых же дорог, из вагонов которых открывался чудесный вид, увы, теперь нет… Вилена подошла к «окну дальности» и вызвала, как научила ее Авеноль, ресторан. Заказала кое-что на ужин учтивому старичку, который словно заглянул в домик через окно. — Я пришлю вам две одинаковые порции, но из разных продуктов, из естественных и из синтетических, — сказал он, очевидно узнав ее по фотографиям. — Думаете, не отличить? — улыбнулась Вилена. — Надеюсь, — сказал он и добавил:- А я ведь еще мальчишкой был на вашем концерте. Изображение старика исчезло. Сестры вышли погулять. Казалось бы, им с Авеноль говорить и говорить! Но разговора не получалось. То, что жило в памяти Вилены, у старой Авеноль стерлось, забылось, а остальная ее жизнь была Вилене совершенно незнакома. К тому же, когда Авеноль стала рассказывать о том, как они жили с Ваней Болевым (подумать только, с Ваней, который носил волосы по плечи и писал милые стихи!) и как он слишком часто вспоминал Вилену, в ее словах почувствовалась скрытая обида (а ведь она еще ничего не знала об особой ячейке в электронной шпаргалке, которая должна была раскрыть Вилене Ванину тайну!). Авеноль посвятила себя океанским глубинам. Подолгу жила под водой, даже своего сына родила в подводном домике. Теперь этот сын уже отец Виленоль, но на Земле его нет, он работает вместе с женой на Луне, создает там годную для жизни людей атмосферу. Рассказывая о своей судьбе гидронавтки, Авеноль оживилась и чем-то напоминала собою ту сестренку, какой она была до полета Вилены. Но что сделало Время!.. Жутко подумать! Вилена повернула обратно к домику. Между домиком и лесом росла огромная ель, такая нарядная, что никакие украшения не сделали бы ее лучше. За полем виднелся поросший зеленью берег извилистой речки, которая была известна многим по картинам художников далекого прошлого. За лесом поблескивал стеклянными стенами завод. На нем работали люди, живущие по соседству с домиком, отведенным Ратовым. На обратном пути к домику Авеноль рассказывала сестре, что теперь работа сама приходит к людям: цехи заводов рассредоточены на огромной территории, застроенной уютными домиками. Заводы связаны между собой подземными трубами электромагнитной почты. Когда-то нефтепроводы вытеснили железнодорожные цистерны. А теперь сочли, что выгоднее перебрасывать в электромагнитных снарядах к заводу детали и изделия, чем перевозить тысячи пассажиров к месту работы и обратно. «Конечно, «они» — разумяне!» — с улыбкой подумала Вилена. Но почему «они» забросили ее сюда, в лесной домик? Или они думают, что ей будет легче ждать Арсения среди его любимых вещей? Или опять это всесильное «так принято»? И, обернувшись к Авеноль, Вилена сказала: — Я даже не знаю, как теперь одеваются. Сказала полушутя, полусерьезно, скрывая за этими словами овладевающую ею тоску. — Мы не придаем этому значения, — небрежно ответила Авеноль-старуха. «Мы», «они», а как же нам с Арсением?» — мелькнуло у Вилены в мыслях, и она решилась все-таки расспросить об Арсении. Сколько же еще можно терпеть? — Когда же я узнаю все об Арсении? — сказала она. — Почему именно он полетел обратно в космос? — Да… он полетел обратно… — непонятно повторила Авеноль и, вдруг чему-то обрадовавшись, показала Вилене на дорожку…На звездолете «Жизнь» стал действовать своеобразный календарь. В основу его было положено запаздывание электромагнитных сигналов с Земли. Сначала они приходили спустя часы, потом сутки, наконец, недели… Неделями нужно было лететь электромагнитным волнам, чтобы догнать звездолет! А желанная «Земля», единственный звездолет, способный помочь, еще не вернулся из своего рейса на Гею. И если он вернется вовремя, то… И Арсений высчитывал, через сколько лет он сможет увидеть Вилену. Она раньше его прилетит обратно на Землю… и будет снова ждать его? Сколько? И наконец пришла желанная радиограмма, радиограмма с корабля «Земля», пустившегося в погоню за своим несовершенным собратом. Радиосигналы летели через космос много дней, и они донесли радостную весть — звездолетчики не оставлены в беде. Помощь близится. И все-таки, когда на экране радиолокатора «Жизни» появилось тело незнакомых очертаний и электронно-вычислительная машина на основе топологического анализа его размеров и конфигурации вынесла решение, что это искусственное тело, Туча скомандовал: — Лады! Где микрофон? Передавай, Арсений, на меняющейся частоте, чтобы непременно меня услышали. И он стал повторять один и тот же вопрос: — Кто вы? Кто вы? Мой корабль неуправляем, он не имеет горючего. Каспарян перевел этот вопрос на шестьдесят земных языков и на линкос и без тени улыбки стал повторять перевод обращения Тучи перед микрофоном, хотя было ясно, что этого вовсе не требуется. Франсуа Лейе сказал о Каспаряне: — Я никогда не подозревал, что в нем столько юмора! Педантичный Карл Шварц посоветовал Каспаряну для надежности передать встречному кораблю цифры «три», «четыре» и «пять». — Это соответствует сторонам прямоугольного треугольника. Три в квадрате плюс четыре в квадрате равно пяти в квадрате. Теорема Пифагора! Знакома всем разумянам, — заключил профессор. И вдруг в радиорубке звездолета послышался такой знакомый Арсению озорной голос Кости Званцева: — Что вы нам голову морочите, словно мы тарелки какие-то? Я еще давно обещал, что догоню кого-нибудь в космосе… Сейчас подхлестнем свою кобылку и догоним понесшего вас скакуна. Вы только держитесь в седле! Как там Арсений? Поднимает ли гири? Разумеется, это послание Званцева довольно долго летело в космосе, пока, наконец, настигло звездолет «Жизнь». Связь между звездолетами установилась. Разрывы между радиорепликами постепенно сокращались. На «Жизни» узнали, что диковинный звездолет «Земля», использующий вакуумную энергию космоса, управляется всего тремя звездолетчиками: астронавигатором Костей Званцевым, командиром корабля Каратуном и Евой Курдвановской. Все они побывали на Гее, разведывали новую родину дочернего человечества. — Твоему отцу, Арсений, не разрешили лететь за тобой, как он хотел. Ему поручена подготовка Великого рейса. К Гее полетит космическая армада, может быть, миллион человек. Чуешь? И нам с тобой дело найдется. — Я полагаю, что первоначально необходимо вернуться на Землю, — многозначительно вставил немецкий профессор. — А на это потребуется… — и он углубился в вычичления. — На Землю? Пожалуйста. Сейчас мы к вам причалим, и перебирайтесь! На нашей «Земле» места хватает, громадина несусветная! — Как Вилена? — спрашивал по радио Арсений. — Думаю, что не мы ее, а она нас встречать будет, если, конечно, и за ней не придется по космосу гоняться.
По дорожке к веранде, где стояла Вилена, бодро шла, закинув голову, словно рассматривая что-то вверху, девушка с косами. За нею едва поспевал молодой человек. — Ой! Да ведь это же ты, Авеноль! Из прошлого! — воскликнула Вилена. Старая Авеноль улыбнулась. Ее внучка легко взбежала на веранду. — Это Питер или просто Петя, — сказала Виленоль Вилене, чмокнув бабушку в щеку. — Питер? Неужели тен-Кате? — вглядывалась в гостя Вилена. — Инженер? Внук инженера? — Нет, не внук, а сын. Он внук психиатра. — Потому я и догадалась, милая моя Виленоль. Я их знала обоих. — Но его вы еще не могли знать. Петя, подойди, — шутливо приказала Виленоль. — Дай тете ручку. Молодой человек рассмеялся и протянул руку. Вилена изучала его лицо с крутым, выпуклым лбом. Нет, он не походил на тех, кого она знала. — Как же вы зоветесь, Петя? Питер тен-Кате-младший? В мое время так звали вашего папу. — Теперь он старший, а дед… он давно умер… В этом году Всемирная академия наук отметила сто двадцать пять лет со дня его рождения. Они вошли в домик. Вилена провела гостей в зал. — Ой, рояль! — воскликнула девушка. — Вы нам сыграете, тетя? Вилена отрицательно покачала головой: — Мне еще надо войти в форму. Не знаю, к чему вернуться — к физике или к музыке. — Каждый человек должен быть артистичным, — решительно заявила девушка. — Это так же, как занятия спортом. Заниматься должен каждый. — Каждый? — спросила Вилена. — Но ведь каждый не достигнет вершин мастерства, не поставит спортивный рекорд. — Рекорд? А зачем? — Чтобы выявить предельные возможности человеческого организма, — объяснила Вилена. — Спорт для всех — это понятно. Нужно нагружать мускулы. Ваши сообщения о протостарцах заставят задуматься многих. Но зачем профессионализация? — с наивной уверенностью говорила девушка. Вилена нахмурилась, а может быть, задумалась. С интересом приглядывалась к представительнице нового молодого поколения. Сколько в Виленоль живости и юной непосредственности! Виленоль, вероятно, что-то почувствовала: — Но ведь вы не только пианистка, тетя. Вы — физик! И стали звездолетчицей. В наше время каждый должен быть универсальным, как вы… — Универсальность? — изумилась Вилена. — А растущая информация, которую нужно усвоить? Надо ожидать скорее узкую специализацию, чем универсальность. Девушка досадливо вздохнула и обратилась к своему другу за помощью. — Виленоль имела в виду под универсальностью обширные интересы каждого. Но в области, где человек отдает свои основные силы… — начал Петя тен-Кате. — Три-четыре часа в день, — подсказала Вилена. — Да, три-четыре часа в день… Но если увлечешься, то они могут превратиться в двадцать четыре часа в сутки. Никто не осудит. — Двадцать четыре часа в сутки! — тихо повторила Вилена, вспоминая, как ей не хватало их для учебы. — В основной области, которой человек отдает свои силы, — педантично продолжал молодой инженер, — он, естественно, стремится к узкой специализации. Только это может принести наибольшую пользу. — Почему же вы отрицаете профессионализацию в искусстве? — наступала Вилена, стараясь скрыть волнение и обиду. — Разве искусство ниже техники? Или сейчас принято заниматься только тем, что дает материальные блага? Молодые люди пожали плечами и переглянулись. — Нет, тетя, что вы!.. Я, наверное, плохо сказала… Я с детских лет храню все ваши музыкальные записи. Право, я еще не думала… Наверное, это не одно и то же — лишний сантиметр, который перепрыгнет рекордсмен, и виртуозное мастерство… Когда гости засобирались домой. Вилена нажала кнопку, и стена поднялась. Все вышли на веранду. Непонимание! Вилена могла бы считать это естественным на другой планете, а здесь!.. Молча смотрела она на удаляющиеся фигуры. Но ведь это же Земля! Ее Земля, с близкими ей людьми. Разве не прелестна Виленоль? Или ее друг? Почему можно прощать этанянам любые взгляды, любые действия, а здесь!.. Неужели ей, Вилене, не преодолеть «барьер поколений»? Неужели все люди нового времени для нее только «они»? А как же Арсений? Вилена почувствовала на себе взгляд, обернулась и увидела пристально смотрящую на нее Авеноль. — Я больше не могу скрывать, — услышала она. — Твой Арсений на звездолете «Жизнь» не встретился в космосе с последним танкером-заправщиком и пролетел Солнечную систему… Вилена, крепко сжав губы, пронзительно смотрела на Авеноль.
Наконец странный корабль, видимый прежде лишь на экране радиолокатора, стал различим простым глазом в иллюминатор. Но благодаря тому, что огромный барабан «Жизни» вращался (чтобы создать центробежную силу, равную земному притяжению), корабль в иллюминаторах то появлялся, то исчезал. Казалось, что он крутится вокруг звездолета и не может к нему приблизиться. Чтобы наблюдать звездолет «Земля», нужно было подняться на лифтах в рубку управления. Можно было понять, что чувствовали все звездолетчики, впиваясь взглядом в смотровое окно! От сигарообразного корабля-матки отделились два диска и направились к «Жизни». Но они не образовали шатра, чтобы тормозить корабль, как когда-то ракету Ратова-старшего во время Вечного рейса. Диски подошли к центральной кабине «Жизни» и зависли перед нею. — Лады! — вздохнул командир Туча. — Облачайтесь, братцы, в скафандры, готовьтесь к выходу в открытый космос. Я, как и положено старинным капитанам, сойду последним. Будем «леонить», — закончил он, вспомнив первого русского человека, вышедшего первым в открытый космос еще в двадцатом веке. — Жаль бросать такое совершенное творение рук человеческих, — вздохнул Карл Шварц. — Я так полагаю. — Конечно, жаль! — подхватил Толя Кузнецов. — Тем более, что мы так и не попробовали баранину по-бордосски и каплуна с грибами в сметане изготовления нашего нейтринного инженера. — Нашему бы инженеру да нейтринное горючее, тогда и спасать было бы некого, — заметил Каспарян. — Так, скажешь? — И все-таки жаль пускать по космическому ветру первый земной звездолет. Да что поделаешь? Оделись? Лады!.. Один за другим выходили звездолетчики в космос и двигались в нем, пользуясь ракетными пистолетами-автоматами. Они разделились на две группы. По трое подплыли к приемному люку переходного шлюза в каждом из дисков. В одном их встретил Костя Званцев, в другом — Ева Курдвановская. Арсений, пройдя вслед за Толей Кузнецовым и Каспаряном через приемный шлюз, где они освободились от скафандров, оказался перед звездолетчицей Земли. Он радостно смотрел в ее совсем неженственное лицо. — Я пошла вслед за вашей Виленой, друг Арсений, — сказала она, крепко, по-мужски пожав руку Ратову. — Я знаю, вы предпочли бы встретить ее… То верно? Вместо ответа Арсений привлек к себе молодую женщину. — Эй-эй! — закричал Толя Кузнецов. — Во-первых, он раздавит, а во-вторых, у вас крыльев нет, как у Эоэллы!.. — Какая Эоэлла? — нахмурилась Ева и отстранилась от Арсения.
Глава четвертая ПОРОГ ЗРЕЛОСТИ
Не было ни одного человека на Земле, кто не ждал бы с тревогой сообщения о завершении операции «диски» и… бюллетеня о состоянии здоровья этанянина Ана. Вилена стояла на столь знакомом ей подмосковном космодроме. Здесь не раз встречала она ракеты, доставлявшие Арсения с глобальной радиоантенны, здесь улетал он на Релу в мрачный осенний день, когда тучи, как дым с золой и грязным пеплом, стелились чуть ли не по земле и мокрые сучья голых деревьев тянулись к небу. Тогда она прощалась с Арсением на… полвека. Сейчас она встречала его. Нет ни мутных, косматых струй дождя, нет ни грома, ни сверкающих молний. Небо — без единого облачка, оно бездонно, как Вселенная!.. Светит яркое солнце!.. Но почему радость встречи так омрачена тревогой за Ана? Почему радость никогда не может быть полной? Ради этого дня Вилена вынесла такие испытания — и теперь… С необычайным изяществом пронеслись по синему небу серебристые диски, зависли над землей и осторожно опустились на траву космодрома. Вакуумный звездолет «Земля» остался на околоземной орбите. Вилена бежала к одному из дисков, не зная, в котором Арсений. Но тот оказался именно в ближнем к Вилене. И он вышел первым. Молча обнялись Арсений и Вилена и так стояли, словно камнем застыли, как морячка из старой песни. — Где же ты, мой желанный! Где же ты, мое горе! — непонятно произнесла Вилена и спрятала лицо на груди Арсения. Сейчас это была не знаменитая звездолетчица, не великий физик, не признанный музыкант, это была всего лишь слабая и безмерно счастливая женщина. И Арсений спросил: — А как же Ан, ваш этанянин? Это надо же!.. — Он был такой сердечный, — сказала Вилена и снова спрятала лицо на груди Арсения. Плечи ее вздрагивали. На стене космодрома вывесили только что опубликованный бюллетень специальной комиссии Высшего ученого совета мира. «Состояние здоровья этанянина Ана ухудшилось, установлено прогрессирующее отравление организма, вызванное распадом единственной у этанянина почки. Температура повысилась до опасного, видимо, даже для инопланетянина предела. Дыхание участилось. Сознание гостя Земли затуманивается. Академик Руденко, профессор Найдорф, доктор-йог Чанджа».«Я тороплюсь написать послание на родную Этану, ибо ощущаю, предвижу, предчувствую неизбежный исход. На острове Юных те, кто еще не стал протостарцем, должны узнать о моих земных впечатлениях, о моих чаяниях, о моей мечте, рожденной Аной, нашей незабвенной воительницей-вождем. Ко мне пришел глубокий старец, врач, академик, как здесь принято говорить о высшей степени учености. Он не был протостарцем по нашему образцу. Во имя науки он погрузил себя в сон на пятьдесят лет и теперь снова приступил к былой научной деятельности, опровергнув ошибочные представления о «барьере поколений». Лучшие люди прошлого во всем равны людям более совершенного общества. От академика Руденко я узнал, что мне грозит… Вина моя, и только моя! Неприятие, ненависть, неприспособленность к гермошлему, который отгораживал меня от нового мира, обернулись против меня. Я так хотел быть среди людей, более того, походить на них! Я добился, чтобы меня снабдили фильтром, который бы пропускал лишь нужное мне количество кислорода. И я с облегчением освободился от шлема, но… Не только гнетущая меня тяжесть, не позволявшая мне сравняться с людьми в ходьбе, не только непомерное давление атмосферы, но и враждебный микромир обрушились на меня, неприспособленное, незащищенное инопланетное существо. И я не выдержал… И тогда ко мне пришла чудесная земная девушка и просто сказала: — Милый Ан. У тебя одна почка, а у меня их две… Твоя почка перестает работать. Наука Земли победила биологическую несовместимость. Я был ошеломлен, потрясен, обескуражен и воскликнул: — Нет, девушка Земли! Я не приму твоей жертвы. — Это вовсе не жертва, — возразила она. — Я просто стану твоей звездной сестрой. Что особенного, если в твоем организме будет работать необходимый тебе мой запасной орган? У нас всегда поступают так матери, братья, сестры больных. Я уже был и до этого «человекоманом»! Поистине нужно во всей глубине понять людей!.. Смог бы кто-нибудь из живых на острове Юных пойти на такой шаг? Мы умеем замораживать океаны, делать искусственные органы, позволяя мозгу жить вечно! Но разве в этом подлинная высота, бессмертие, вечность культуры? Я должен поведать, передать, нарисовать свою предыдущую встречу с этой земной девушкой, белки организма которой наиболее близко совпадают с моими… Но вместе с тем в нас много различий. Взять хотя бы передние, свободные от ходьбы конечности. Как поразило меня поначалу, что руки у людей кончаются пятью, а не тремя пальцами! Вероятно, в этом огромный стимул развития, большая ловкость, приспособленность к труду. В основу счета у людей положено число пальцев на руках. И несмотря на то что десять число неудобное, делится только на два и пять, эта система легла в основу их цивилизации. Насколько совершеннее наш счет! По три пальца на четырех конечностях — дюжина! Она делится на два, три, четыре… и на шесть. В древности у людей тоже были дюжины, они и поныне измеряют время дюжинами часов в половине суток. И в году — дюжина месяцев. Но это не наше влияние, ибо никогда разумные существа нашей планеты не посещали другие звездные миры. Ничто так не огорчило меня, как неспособность сравняться с людьми в ходьбе. Ах, если бы они видели меня, преследующего, настигающего, побеждающего гнусного хара! Но здесь передвижение на моих слишком тонких ногах было для меня мукой. А люди ходили, увлеченно ходили. Им давно известно колесо, они умеют строить машины на колесах, еще недавно служившие им всюду для передвижения. Однако люди добровольно отказались от них в городах, между домами. Они еще пользуются механизмами для перевозки грузов или больных. Во всех остальных случаях — ходят!.. Они уверены, что отказ от привычных функций органов приводит к ослаблению мышц и хрупкости сосудов, к болезням и преждевременной старости. В прежнее далекое время желание физически не трудиться порождалось угнетением и несправедливостью общества. Ныне человек решил обратиться к ходьбе, которая поможет организму вернуть его нормальное состояние. Чтобы описать нынешнее отношение людей к ходьбе, я должен был бы написать гимн ходьбе или даже бегу. Нет мускула, части тела, органа, включая центральный мозг, которые не принимали бы участия в этом физическом действии человека. Впервые я увидел земную девушку, о которой упомянул выше, когда она вместе со своим другом бежала по дорожке великолепного леса к берегу реки, откуда я любовался видом на древний город. Бегущие бежали просто так — они никуда не спешили, они заряжались в беге силой, бодростью, весельем… Увидев меня, подошли ко мне и сели рядом со мной на скамейку. Мы начали говорить о моем восприятии мира (они сразу узнали меня и с помощью моего преобразователя речи рады были говорить со мной). Я спросил, что заставляет людей быть такими, чтобы их сообщество могло существовать: не требовать больше того, что каждому дано, отдавать все, что каждый может, думать о других больше, чем о себе. — Почему заставляет? У нас нет принуждения, — сказал друг девушки. — Казалось бы, только страх может заставить быть таким, как надо обществу. Но у вас страха нет? — Страха нет. Есть совесть, — ответил молодой человек. — Совесть? — Я заинтересовался и попросил объяснить, как применить ее к сообществу. — Есть такая поговорка у людей — «не за страх, а за совесть»! — сказала девушка. — Как же она создается, формируется, развивается? — допытывался я. — Воспитание — это теперь главное, — пояснила девушка. — Беда, когда прежде образование превалировало над воспитанием, — вставил юноша, которого звали Петей. — Объясни, — попросил я. — Образованный, но должным образом не воспитанный человек может и не обладать нужными для общества качествами. — Я пытаюсь понять ваше общество. Не должно ли оно жить, развиваться, совершенствоваться, как саморегулирующийся организм? — Не стихийно, нет! — ответил Петя. — В давние времена, когда еще был капитализм, находились люди, которые считали, что в обществе все саморегулируется. — Что же было, по их мнению, регулятором? — Страх! — воскликнула девушка, ее звали Виленоль. — Как? Равновесие производства и потребления достигалось страхом? — Я вспомнил отношения между живыми и вечноживущими. Там был страх не стать протостарцем. — Да, равновесия тогда никто не планировал, — ответил Петя. — Оно достигалось стихийно, в процессе конкуренции! — Тот, кто производил больше, чем было нужно, — добавила Виленоль, — или делал это хуже конкурента, разорялся и погибал. На страхе и борьбе за личное существование держалось общество. — Ты мудро говоришь, девушка, увлекающаяся прошлым. Но разве твой организм саморегулируется борьбой клеток между собой? — Мой организм? — удивилась Виленоль. — Конечно, он саморегулируется без всякой межклеточной борьбы. — Клетки запрограммированы на воссоздание нормального положения, — вставил Петя. — Сочтем это условно «совестью». — Совестью организма? — Да, — подхватила девушка. — Если мы порежем палец, то кровь бросится к месту пореза, чтобы залечить его, без всякого приказа головного мозга. Не так ли и у тебя? — Да, так же. Центральное мозговое образование не может вмешиваться, влиять, участвовать во всех жизненных процессах тела. — В переходный период на Земле — его называли строительством развитого социалистического общества — было нелегко, — вздохнула Виленоль. — Стараясь устранить страх, люди готовили ему на смену совесть. Для этого требовалось воспитание! — Разве его не было прежде? — Конечно, было! Но для каких целей? — Девушка говорила все увлеченнее. — Каждое предыдущее поколение воспитывало последующее. С самого раннего возраста детям внушали нормы поведения. Угнетатели искусно воспитывали будущих угнетателей. Им нельзя отказать в уменье. Они придумали правила чести и вежливости (для людей лишь своего круга!), а также философию потомственного превосходства. Угнетенных тоже воспитывали в выгодном для правящих духе. Помогала религия. Людей убеждали в существовании некой высшей силы, именуемой богом. Пугали этой силой, учили смирению, обещали бессмертие. — Как? И у вас бессмертие? Как у наших вечноживущих? — Нет, это наивная идея о боге. — И теперь люди научились воспитывать? — Видишь ли, Ан, — вступил Петя. — В современном обществе жизнь начинают не земные протостарцы с вековым опытом, а люди моего возраста. То, к чему может привести зрелая мудрость, должно входить в сознание человека, когда он еще крохотный ребенок. Ведь люди готовятся к жизни за тот же короткий срок, что и прежде. Поэтому надо совершенствовать методы воспитания. Если раньше внушали только с помощью слов, угроз и наказания, то теперь искусство воспитания — в передаче основ морали героическими примерами, традицией, наконец, внушением. Оно облегчено современной аппаратурой, делающей мозг ребенка особо восприимчивым к внушению. Внушают во время сна, а днем убеждают логикой и воздействуют на чувства. И ныне человек с детских лет не только правдив и вежлив со всеми. Он еще и отожествляет себя с совестью и никогда не может поступить против нее. — Когда же человек считается подготовленным для жизни в обществе! — Когда переступает порог зрелости! — воскликнула Виленоль. — Это предстоит сейчас мне. Я должна совершить подвиг зрелости! — Что за деяние составит этот подвиг? — Каждый выбирает себе то, что он способен совершить, но так, чтобы из этого стала ясной сущность человека: его характер, стремления, сила… — К чему ты готовишься, девушка Земли? — Сама не знаю, добрый Ан. Говорят, во все времена бывало так, что девушки не знали, чего они хотят и на что способны. Подвиг совершается в области, которой ты увлечен. — Я понял, что тебя увлекает история твоей планеты? — Моя мечта — сделать какое-нибудь историческое открытие. Мне бы хотелось стать археологом, участвовать в раскопках… Но больше всего меня интересует время Великих Свершений. Восстанавливать его героические картины доставляет мне величайшую радость. — Вот как? — поразился я. — Ведь это было дикое, мрачное, невежественное время. Люди ненавидели, убивали себе подобных. — Да, это было нелегкое время. Одни люди угнетали других. Большинство человечества жило во мраке бесправия. И тем значительнее то, что именно тогда нашлись герои, которые увидели во мгле времен наше время. И во имя этого будущего шли на борьбу, совершили Великую революцию. — Великую Октябрьскую революцию, — поправил я. Виленоль и Петя обрадовались. — Тебе уже рассказали об этом на Земле! — воскликнула Виленоль. — Мне сообщили, рассказали, поведали об этом еще много раньше — после трагического нашего Восстания Живых… — Я знаю. Ты потерял в бою любимую жену. — И вождя нашего восстания, дело которого я продолжу. — Продолжишь? — вся вспыхнула от интереса и восхищения Виленоль. — Разве вы могли бы достичь всего, чего достигли, если бы не продолжали дело своих героев? На Этане Ана вела нас за собой… и будет вести, пока я жив. — Ты будешь жив, добрый Ан! Так сказала тогда эта девушка, которая потом пришла ко мне в Институт жизни, где мне тщетно старались помочь ученые Земли». Бюллетень о здоровье инопланетянина Ана. «Комиссия, созданная Высшим ученым советом для спасения жизни инопланетянина Ана, сочла срочно необходимым замену распавшейся почки в его организме. Нашлось много добровольцев, предложивших свою почку для пересадки инопланетянину. Анализ показал, что наибольший успех обещает пересадка почки москвички Виленоль Болевой, предложившей себя для спасительной операции. Положение больного этанянина признается критическим. К операции все готово. Академик Руденко, профессор Найдорф, доктор-йог Чанджа».
«Силы скоро совсем оставили меня. Ночные видения переносили меня на остров Юных, где я гонялся за исчезающим харом. Я брал в руки маленькое, нежное, тепленькое тельце ребенка, которого подарила мне Ана, а она смотрела на меня своими огромными влажными глазами… Когда же я приходил в сознание и открывал глаза, то видел возле себя Виленоль. Однажды я проснулся и почувствовал себя совсем другим. Я готов был вскочить, прыгнуть, гнаться по веткам за ловким харом. Я не сразу понял, что произошло. Оказывается, люди, боровшиеся за мою жизнь, задумали, подготовили и осуществили смелый эксперимент симбиоза двух космических организмов, моего и земной девушки Виленоль. Решающим в сожительстве клеток являются разделяющие их мембраны, берущие на себя все функции связи с внешней средой. Люди научились так формировать мембраны соседствующих клеток при пересадке в организм чужих органов, что неприятие одних тканей другими отпало. Несколько дней мы с Виленоль существовали с общим обменом веществ и единым кровообращением! Ведь состав крови у меня схожий с людским! Мы как бы стали сросшимися близнецами (правда, с разных планет). На Земле это порой бывает. Наши два сердца работали сообща. А специальное излучение пронизывало, просвечивало, переделывало нас обоих. После этого осуществилась операция, которую делают у нас на ледяных материках. Только там удаленную больную почку заменяют механизмами, а здесь в мое тело была пересажена почка живой земной девушки».
Бюллетень о состоянии здоровья этанянина Ана. «Операция пересадки почки земной девушки в тело инопланетянина прошла успешно. И он и она чувствуют себя хорошо. Температура, пульс, дыхание нормальные. Никаких осложнений нет. Комиссия считает, что поступок Виленоль Болевой, достигшей возраста, дающего право на «подвиг зрелости», может быть зачтен как совершенный «подвиг зрелости». В связи с чем в этой девушке с помощью операции памяти будет пробуждена личность одного из выбранных ею предков. Академик Руденко, профессор Найдорф, доктор-йог Чанджа».
«Итак, я живу благодаря самоотверженности чудесной земной девушки, которой я не знаю чем оплатить не только за часть ее тела, но и за часть ее души! Поистине удивителен, необыкновенен, поразителен Человек сегодняшней Земли, который сумел так воспитать себя! Как узко мыслят наши протостарцы, находя весь смысл существования лишь в личном бессмертии! Истинное бессмертие за теми, кто видит грядущее в бесконечной смене поколений, в воспитании последующих в духе любви и справедливости. И если чудесная Виленоль самоотверженным поступком совершила свой «подвиг зрелости», спасши меня, то всему человечеству, я это чувствую, угадываю, предвижу, предстоит совершить во Вселенной свой «подвиг зрелости». Вот это я и хотел бы передать на Этану теперь, когда остался жив».
Глава пятая ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ
Виленоль находилась в Институте жизни после проведенной здесь над нею «операции памяти» и ждала друзей — они обещали прийти к ней прямо с заседания Высшего ученого совета Объединенного мира, проводившегося на этот раз в Москве. В институтском саду звенела особая весенняя подкарауливающая тишина. Виленоль стояла в дверях веранды и смотрела в сад. В нем цвели яблони, и пряный, чуть горьковатый запах наполнял вечерний воздух. Белые купы казались пушистыми и почти закрывали веранду с Виленоль. И вдруг веселые голоса послышались за оградой. Оживленно разговаривая, смеясь, в сад вошли люди и направились прямо к веранде, на которую выходил кабинет академика. Впереди шел Петя тен-Кате, за ним — Вилена, Арсений, Авеноль. Петя задержался у одной из яблонь, сорвал веточку. — Приношение возлюбленной? — улыбнулась Вилена. — Зачем же деревья портить! — укоризненно заметила Авеноль. — Ради любви, бабушка Авеноль, только ради любви и счастья! — оправдывался Петя. — Не боишься? — подзадоривала его, в свою очередь, Вилена. — А вдруг тебя встретит вместо чудесной Виленоль древняя старуха? — Что вы, Вилена? Вы же не постарели от своих «снов памяти»! — Смотри! — погрозила Вилена Пете пальцем. — Вот твоя «старушка»! — смеясь, указал Арсений на дверь веранды. Петя ускорил шаги. Виленоль не двинулась с места. Подойдя к веранде, Петя ужаснулся, взглянув в лицо Виленоль. Это была и она и не она! Гневно сведенные брови, пронизывающий взгляд, трагически опущенные уголки губ. — Я не хочу тебя видеть, — сказала Виленоль. — Что с тобой? — опешил Петя. — Ты предатель! — кинула ему в лицо обвинение Виленоль. — Как ты мог предать дружбу, меня, наконец… на которой собирался жениться? — Прости, Виленоль, но я не понимаю, в чем мое предательство? — Он не понимает! — скорбно воскликнула Виленоль. — Он не понимает, что своими подсчетами ростовщика глушил героический порыв близких мне людей! Я не хочу тебя видеть! Из-за Виленоль показалась тощая фигура этанянина Ана, так же, как и Виленоль, оставленного в Институте жизни для наблюдении за его здоровьем. — Прости меня, человек. Не мне вмешиваться в дела людей, но я был свидетелем того, как переживала, возмущалась, отчаивалась моя звездная сестренка, слушая твое выступление, земной инженер. Может быть, наши протостарцы и не постигли бы ее, но я оправдываю. Петя стоял перед этанянином обескураженный, заглядывал ему в огромные глазницы и стремился понять то, чего понять был не в силах…Этанянин Ан был оставлен в Институте жизни не только из-за наблюдения за его здоровьем. Он задался целью привезти на Этану открытый людьми метод пробуждения наследственной памяти и поэтому стал учеником академика Руденко. И он ассистировал академику во время «операции памяти», совершаемой над Виленоль ради пробуждения в ней не только памяти, но и личности ее прапрабабушки — великой артистки прошлого Анны Иловиной. Владимир Лаврентьевич был доволен своим помощником, говорил, что в жизни не часто встречаются столь способные студенты. После манипуляций с направленным излучателем, которые затрагивали точно выбранные участки мозга, старый академик подошел к полулежащей в кресле Виленоль и спросил: — Как мы себя чувствуем, девочка? — Спасибо, Владимир Лаврентьевич. У меня даже прошло головокружение. — Назови свое имя. — Виленоль Болева. — Что особенно ярко в твоей памяти? — Переживания Анны Карениной. — Разве ты играла когда-нибудь эту роль? — Да. В Художественном театре. — Когда? — Я не могу ответить. Но я помню премьеру во всех мелочах. Ко мне приходила сама Алла Константиновна Тарасова, первая исполнительница этой роли, и поцеловала меня. — А какое у тебя последнее воспоминание? — Мой симбиоз с инопланетянином. Он очень хороший. Я рада, что смогла помочь ему жить на Земле. С Виленоль сняли шлем, и она, сияющая, радостная, протянула руку академику Руденко и Ану. Совершив «подвиг зрелости», она вступала в жизнь, наделенная бесценным богатством прошлого — талантом великой актрисы. — Девочка моя, — обратился к ней Руденко. — Несколько дней тебе придется провести в Институте жизни. Ан будет наблюдать тебя. А мне… мне придется выполнять еще некоторые обязанности человека Земли, — и он многозначительно улыбнулся. Виленоль знала, что академик Владимир Лаврентьевич Руденко председательствовал на сессии Высшего ученого совета Объединенного мира, посвященной вопросам особого значения. Руденко пообещал, что Виленоль с Аном могут «присутствовать» на заседании Высшего совета, не покидая института. К их услугам будет видеоэкран в его кабинете. Сессия происходила в исполинском здании, вмещавшем сотни тысяч человек. Но с помощью видео на заседании присутствовали многие миллионы. Гости сидели в амфитеатре вокруг центральной части, где находились члены Высшего совета. Виленоль старательно объясняла Ану, что вопрос, который будет обсуждаться на сессии, волнует человечество уже очень давно. Когда-то он вызывал панические прогнозы демографов, твердивших, что население Земли будто бы удваивается за все меньшее число лет и якобы неизбежен «демографический взрыв» — Земле тогда не прокормить человечество… — Вот видишь, моя звездная сестренка! У вас, как и у нас на Этане! — отозвался Ан. — В космосе одни законы развития. — Этот вопрос был у нас на Земле снят прежде всего изменением общественного устройства. Новое общество с помощью высших достижений науки и техники помогло людям широко использовать искусственную пищу. Заводы для ее получения заняли ничтожную площадь по сравнению с засевавшимися прежде полями. Люди смогли расселяться по постепенно освобождавшимся территориям, пользуясь новыми, совершенными средствами транспорта в подземных трубопроводах. — У нас на Этане протостарцы имеют только искусственную пищу, вернее сказать, энергию. Но ведь они — машины! — Люди не сразу приняли искусственную пищу. Так бывало всегда. В давние времена с одного материка на другой привезли растение — картофель. Помнишь, ты хвалил эти «земляные плоды»? Так вот, люди не желали употреблять их в пищу. В историю то время вошло под знаком «картофельных бунтов». А впоследствии потомки бунтовщиков не могли себе представить жизни без картошки. То же было и с искусственной одеждой. Прежде люди одевались только в то, что им давала сама природа — волокна растений, шкуры и мех убитых животных. Но потом постепенно они стали заменять это искусственными нитями, искусственной кожей… — Это очень интересно. Но скажи, поведай, раскрой, что же дальше обострило на Земле вопрос с перенаселением, почему ради него собираются у вас в Москве мудрецы со всего мира? Неужели люди могут пойти по пути нашей Этапы, где рождение ребенка карается смертью и новорожденного и родителей? — Это чуждо нашей морали. И у нас совсем не стоит подобный вопрос, внимательный Ан! На Земле может жить много больше людей, чем сейчас живут. Заводы пищи прокормят неисчислимое их число! Но жажда знаний и простора всегда будет владеть людьми. И у нас принято думать на сто, двести лет вперед.
Арсений и Вилена, сидя высоко в амфитеатре, видели академика Руденко одновременно и на видеоэкранах, вмонтированных в спинки передних кресел, и далеко внизу за кольцевым столом. По обе стороны кольцевого стола сидели ученые со всех частей света, но не только седые старцы. Были среди них и, казалось бы, совсем молодые. Они отличались друг от друга цветом кожи, костюмами, но было в их лицах что-то общее несмотря на все различия. Может, это были высокие лбы, сосредоточенные взгляды или еще что-то, что Вилене не удавалось уловить. Многие из этих ученых еще не родились, когда научная слава Руденко гремела по всему миру. Поэтому совсем не было странным, что маститого академика избрали после анабиоза президентом Высшего ученого совета мира. Кто-то из гостей сравнил амфитеатр, где сидели гости, с кратером вулкана, а площадку с кольцевым столом — с его жерлом, из которого вот-вот начнется извержение «великих идей». Академик Руденко, открывая созванное на этот раз в Москве заседание Высшего ученого совета мира, напомнил основополагающие идеи современного общества, заложенные такими корифеями мысли, как Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ленин. Указав человечеству необозримые пути прогресса, идеи эти рождают для грядущих поколении новые проблемы, решение которых сделает беспредельным завоевание Разумом природы. В начавшейся дискуссии приняли участие многие видные умы всех континентов, затрагивались самые различные пути развития цивилизации. Дошла очередь и доустремления людей в космос, к далеким звездам. Тогда-то президент Высшего ученого совета мира и предоставил очередное слово звездолетчику Роману Васильевичу Ратову. Глядя на его седую голову, возникшую на видеоэкране, Вилена покосилась на Арсения — ведь таким он представился ей в первые минуты возвращения на Землю. Роман Васильевич, опираясь на названные Руденко идеи Маркса и Ленина, напомнил Высшему ученому совету слова Циолковского о том, что Человек должен расселиться в космосе, что Земля — колыбель его цивилизации, но нельзя вечно оставаться в колыбели. Планета Гея вполне пригодна для заселения. Уже подготовлен проект Великого рейса для переброски на Гею одного миллиона человек. Конечно, это не решает проблемы перенаселения Земли, уже не грозящей человечеству благодаря другим достижениям его цивилизации, но открывает людям дорогу во Вселенную, где неизбежно будут возникать дочерние человечества Земли. Для проектируемого рейса понадобится армада звездолетов, состоящая из нескольких отрядов. Во главе каждого встанет один из опытных звездолетчиков, уже совершавших сверхдальний космический перелет. Технические достижения Земли, овладение вакуумной энергией и опыт нескольких звездных рейсов вселяют уверенность в том, что замысел этот осуществим. Человек выйдет к звездам, чтобы жить среди них! Рядом с Виленой и Арсением сидел Петя тен-Кате. Во время выступления Ратова-старшего он страшно волновался. И когда академик Руденко объявил, что с проектом использования ресурсов земного шара, на котором можно изыскать для людей еще большие жизненные просторы, выступит инженер Питер тен-Кате, Петя вдруг сорвался с места и побежал по проходу вниз. Вилена и Арсений удивленно переглянулись. Они были уверены, что докладывать Совету будет отец Пети, прославленный Питер тен-Кате, отгородивший ледяными дамбами немало морских отмелей. Академик Руденко тоже не ожидал, что на его приглашение к трибуне устремится молодой инженер Питер тен-Кате, а не старый, который медленно пробирался между рядами, седой и тучный, страдающий одышкой. Петя взбежал на кафедру и сразу заговорил: — Я сейчас уступлю место своему отцу. Он деликатен и не скажет с нужной прямотой самого важного. Я подсчитал, сколько стоит доставка на Гею миллиона человек, сколько стоит переброска туда одного человека. В прежние дикие времена войн и массовых преступлений подсчитывали, сколько стоит убить. И тратили умопомрачительные средства для осуществления планов антигуманизма. Сейчас совсем иное. Дело, конечно, не в деньгах, забытых в большинстве частей Объединенного мира, а в затратах труда. И оказывается, что затрата труда для создания звездной армады Великого рейса на Гею могла бы соперничать лишь с чудовищными тратами наших безумных предков на преступные вооружения. — Вот это удружил! — буркнул Вилене Арсений. — Мы вправе говорить об этом, поскольку можем сравнить эти траты с другими, дающими людям возможность привольнее жить. С тратами на создание искусственной суши за счет океанов. Мы можем совместить земной опыт создания ледяных плотин, которыми занимался мой отец, с тем, что нам привезли с Этаны участники рейса «Жизни-2», то есть с достижениями другой цивилизации. Я кончил. Вывод будет не в пользу Великого рейса. Петя тен-Кате отправился обратно на свое место, рядом с Ратовыми, а на трибуне его сменил добравшийся наконец до нее Питер тен-Кате-старший. Петя сел рядом с Виленой и светло улыбнулся Арсению, как будто не он только что усомнился в необходимости переброски части населения Земли на Гею. Арсений опустил глаза. Он слушал отца Пети. Питер тен-Кате-старший педантично рассказал об опыте создания ледяных плотин, которые позволили увеличить площадь суши во многих приморских странах. Потом перешел к проекту промораживания океанов до дна — созданию ледяных монолитов, которые можно было бы превратить в новую сушу. Главное в проекте — и это отличало его от метода протостарцев — было то, что часть океана замораживалась в виде ледяного купола, а не целиком на всю глубину. Купол, упираясь в дно, отгораживал прикрытую им воду от океанской, благодаря чему всплыть не мог. Важным отличием было и то, что поверхность материка должна была быть не ледяной, как на Этане, а покрытой теплоизоляционным слоем. Поверх его предстояло намыть ил, поднятый тут же со дна океана. Ценнейшие белковые вещества, оседавшие миллионы лет в его глубине, сделают почву плодородной. На цветущих материках с лесами, полями и реками привольно расселится так много людей, что человечеству нет никакого смысла задумываться об опасном переселении хотя бы и небольшой его части на далекие планеты Вселенной. Вилена, поглядывая то на Петю, то на Арсения, подумала, в какой гигантский круг всеобщих интересов вовлечены ныне люди на Земле. Сейчас о глобальных проблемах задумывается каждый, а в ее время о них размышляли лишь отдельные специалисты. Личное теперь еще больше, чем раньше, переплетается с общественным. Неизвестно, что больше волнует сейчас Петю тен-Кате: объявленная им война против Великого рейса на Гею или состояние его Виленоль после перенесенной ею «операции памяти»? Арсений не остался в долгу у Пети. Он тоже спустился к трибуне, получив по микротелефону от академика Руденко разрешение выступить. — Что предлагают нам вместо Великого рейса? — уверенно начал он. — Уродование родной планеты? На ней все увязано самой природой. Заморозь океаны, лиши Землю прежнего зеркала испарения — и засохнут пышные заросли на старых материках, в пустыни превратятся ныне цветущие края. Цивилизация, развиваясь, порой наносит природе страшный вред. Вспомним отравление и засорение атмосферы, загрязнение водоемов. Сколько поколений трудилось, чтобы исправить промахи предков! Чего же хотим мы сейчас? Перекроить географическую карту, пренебрегая физической географией? Нет! Лучше строить эфирные города по Циолковскому, наступать на беспредельные просторы космоса. Там ждут людей прекрасные и необжитые планеты. Что хорошо протостарцам Этаны, не помнящим родства, или личинкам-эмам на Реле, то неприемлемо людям, любящим свою Землю такой, какая она есть! — И Арсений вернулся к Вилене. И неожиданно для всех выступила старая Авеноль. Она обрушилась на всех «прожектеров». — Разве снова испугались, что Земля перенаселена? — спрашивала она. — Все здесь говорили, что нет. Нужны еще большие просторы? А почему не вспомнить океаны, занимающие три четверти поверхности планеты? Почему надо бежать с Земли или уничтожать океаны, вместо того чтобы приспособить для жизни людей огромную новую среду обитания, куда не надо ни лететь десятилетиями, ни строить ее изо льда? Современная наука в состоянии создать фильтры, позволяющие отделять от воды кислород, нужный человеку. Человек, находясь под водой, с помощью фильтрующих пленок сможет дышать растворенным в воде кислородом. Простор для грядущих поколений — в заселении водных просторов, не требующем ни космических кораблей, ни холодильных установок. Я старая женщина, но больше половины жизни провела под водой. Пусть убедит это слушающую меня сейчас во всем мире молодежь — в океанах можно жить и быть счастливым! Остальные ораторы еще долго обсуждали различные направления развития человечества. В числе выступавших был и доктор Иесуке Матсумура. Несмотря на то что он сам был звездолетчиком, он проявил себя прежде всего жителем Японских островов. На его взгляд, эти острова первые нуждались в соединении их в единый материк, частично ледяной, частично естественный. Он предложил на первых порах заморозить лишь Японское море. Это, как ему казалось, не вызовет изменений климата Земли, но сделает целый народ еще счастливее. Высший ученый совет Объединенного мира создал несколько комитетов, в том числе Космический, которые должны были всесторонне изучить те или иные вопросы. В Космический комитет вместе с Романом Васильевичем Ратовым и Иваном Семеновичем Виевым вошли Арсений с Виленой, а также Франсуа Лейе, Карл Шварц, Альберто Рус Луильи, Матсумура и другие звездолетчики. Петя с отцом вошли в Комитет новой суши, Авеноль — в Океанический.
В саду кроме яблонь цвела черемуха. Вилена все оглядывалась, ища ее глазами. А Петя сразу нашел ее по горькому аромату. Веселой гурьбой пришли они сюда прямо с заседания Высшего совета. Недавние споры были забыты и ничем не отразились на отношениях друзей. Для всех этих людей показалось бы диким перенести свои разногласия по вопросу обретения людьми новых просторов на отношения друг к другу. Вилена шутя поддразнивала Петю, что ему придется теперь жениться на древнейшей старухе, которая пробуждена в сознании Виленоль. Петя хохотал и обменивался с Арсением шутливыми тумаками. Авеноль с улыбкой наблюдала, как резвится молодежь. Так и вошли они в сад Института жизни, подошли к веранде. Петя удивился, что Виленоль не выбежала к нему навстречу — она не могла не слышать их веселых голосов. Да и ее силуэт был отчетливо виден в проеме двери на веранду. Они подошли к Виленоль. Она стояла чем-то рассерженная. Из-за ее плеча был виден Ан. Виленоль сказала Пете, что не хочет его видеть. Петя остановился ошеломленный, уничтоженный. Сам не свой слушал он слова этанянина, ставшего на сторону «звездной сестренки». Петя недоумевал. Разве он поступил дурно, отстаивая свои убеждения? — Я не хочу тебя больше знать! — донесся из глубины веранды голос Виленоль. Даже голос ее казался чужим. Что это? Виленоль подменили?
Часть вторая ВИЛЕНОЛЬ
В затихшем воздухе берез Струятся ветви золотые…А. Блок

Глава первая СЛЕДЫ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
— Ты не можешь отправиться в такое путешествие, дорогой Ан! — воскликнула Виленоль. — Поверь, звездная сестричка, это очень важно, необходимо, даже полезно мне сейчас, — возражал Ан. — Только, если я буду подле тебя! — настаивала Виленоль. Молодой человек с выпуклым лбом, укрывшийся за скелетом динозавра, наблюдал за тощей фигурой этанянина, которого сопровождали низенький японец в очках и быстрая в движениях девушка с особенным, устремленным взглядом темных глаз. Эти три посетителя Палеонтологического музея Академии наук спорили около черепа бизона, жившего сорок тысяч лет назад в Якутии. Во лбу его было ровное отверстие с вмятиной вокруг. Японец объяснил, что пуля расплюснулась при ударе о лобовую кость, пробив ее прижатым к ней воздухом. Рана начала зарастать. Значит, ранение было прижизненным. — Сорок тысяч лет назад? — изумился Ан. — Насколько я узнал, изучил, понял вашу историю, в то время на Земле еще не было огнестрельного оружия. — Ты прав, внимательный Ан. Это первый из следов твоих предшественников на Земле. Еще на звездолете я обещал показать их тебе. — Я должен, обязан, горю желанием увидеть и все остальные следы! — Так отправимся в кругосветное путешествие! Самолет нам выделен, — предложил японец. И тогда запротестовала Виленоль. — Я поеду с тобой, дорогой Ан, чтобы всегда быть рядом, — объявила она. — А как же твой театр и оживление исторических сцен? — Важнее дать тебе кровь… а может быть, и больше. Молодой человек от скелета динозавра незаметно проскользнул к выходу.В серый, дождливый день, прикрывший лондонские улицы сплошным потоком мокрых зонтов, никто не обратил внимания на безволосого приезжего с огромными глазницами на безбровом лице, входившего в сопровождении европейской девушки и японца в один из британских музеев. Они остановились перед черепом неандертальца, найденного в свинцовом руднике Брокен-хила в Родезии и жившего около сорока тысяч лет назад. В черепе было ровное круглое отверстие на виске. И без каких-либо трещин. Так пуля пробивает стекло. Правой височной доли не сохранилось, как и бывает при пулевом ранении навылет. — Протостарцы не изучают, не знают, не помнят прошлого. Они даже уничтожают его в своей памяти. Насколько поучительнее у людей, — сказал этанянин. Виленоль радовалась всякому интересу Ана к окружающему. Это благотворно сказывалось на его здоровье. Сама же она выглядела усталой и печальной. Напрасно она надеялась, что смена впечатлений отвлечет от того, что так ее гнетет. Английская погода соответствовала ее настроению. Виленоль вышла из музея с опущенной головой. Она не заметила за углом насквозь промокшего молодого человека. Он старался ни в коем случае не попасться ей на глаза.
В пестром городе древних мечетей, сохранившем старинный восточный колорит, Матсумура знакомил Ана и Виленоль с памятниками древнейшей на Земле цивилизации — шумеров. Она появилась «взрывоподобно». Дикие племена тысячи лет назад вдруг стали заниматься земледелием, скотоводством, строить прекрасные города, обрели письменность. Сами шумеры так объясняли свою историю: «… из той части Персидского залива, что примыкает к Вавилону, появилось животное, наделенное разумом. И оно называлось Оанном. Все тело животного было, как у рыбы, а пониже рыбьей головы у него была другая, как у человека. Существо это днем общалось с людьми, но не принимало их пищи; и оно обучило их письменности, и наукам, и всяким искусствам. Оно научило их строить дома, возводить храмы, писать законы и объяснило им начала геометрии. Оно научило их различать семена земные и показало, как собирать плоды». Матсумура отыскал клинописную табличку с этой записью шумеров и еще древнее изображение неведомого существа. Все это хранилось когда-то в библиотеке царя Асурбанипала. На изображении, если отбросить стилизацию, можно было узнать человека, облаченного в скафандр. Шумеры сравнили эту одежду с рыбьей чешуей. Из экзотического восточного города неутомимый Матсумура «перенес» своих спутников в Мексику. Здесь друзей встречал Альберто Рус Луильи. Он обещал познакомить их с открытием своего прапрапрадеда, знаменитого археолога, носившего то же имя. В густой сельве, в непроходимых зарослях, обнаружен был древний город майя с великолепными храмами, величественными пирамидами… Его назвали Паленке. На вершине одной из пирамид высился изящный «Храм надписей». В недрах этой пирамиды прапрапрадед Альберто Рус Луильи нашел гробницу, поразив тем научный мир. Ведь древние майя, в отличие от египтян, не хоронили своих знатных людей в пирамидах. Однако открытие мексиканского археолога оказалось еще более значительным. Четыре года пробивался неистовый ученый по заваленным камнями коридорам к гробнице неизвестного вождя или жреца. На пороге ее оказались скелеты шести юношей и девушки, принесенных в жертву при церемонии погребения. Гробница была прикрыта надгробной плитой с изображением, в котором впоследствии разобрали чертеж ракеты с сидящим в ней космонавтом. Он полулежал в мягком кресле, готовый к взлету, руки его покоились на рычагах, ноги на педалях, за его спиной двигатель извергал пламя. Когда плита была поднята, под нею оказался саркофаг в форме ракеты. В нем сохранились кости, череп и частички распавшейся за более чем тысячелетие нефритовой маски. Ее удалось восстановить. И вот столетия спустя звездолетчик Альберто Рус Луильи с Аном, Виленоль и Матсумурой отправился в Паленке. Вместе с ними он спустился по освобожденным теперь лестницам и коридорам пирамиды к саркофагу. Матсумура наблюдал за реакцией своих подопечных. Войдя первой в гробницу, Виленоль вскрикнула, отскочив в сторону. Она почти наступила на изображение сидящего в ракете космонавта. Резной по камню чертеж был выполнен великолепно. Но особенно поражена была Виленоль маской захороненного, которую их друг мексиканец специально доставил сюда. На нее смотрело удивительное лицо — с огромным носом, тонкими губами и выразительными, едва ли не живыми глазами. Что-то странное, неземное чудилось в чертах маски. — Обратите внимание на нос! — указал Матсумура. — Он начинается выше бровей! Разделяет лоб на две части. Носолобый! Извините, но я не знаю на Земле расы с такой отличительной чертой. — Неужели инопланетянин? — прошептала Виленоль. — Отмечаю, свидетельствую, заверяю — на меня, на моих собратьев с острова Юных, на этанянина он не похож, — заметил Ан. — Возможно, что это не пришелец из космоса, а далекий их потомок, — заговорил японец. — И изображение на надгробной плите — символ его космического происхождения. Недаром иероглифы, обрамляющие изображение, расшифрованы как космические символы. Может быть, современники погребенного и не летали на ракетах, но помнили, что полеты связаны с высоким происхождением того, кого они хоронили. — Кстати, — вступил Альберто Рус Луильн. — То, что в этих местах летали по воздуху многие тысячи лет назад, — несомненный факт, в чем я постараюсь вас убедить. Виленоль чувствовала, что она по-настоящему увлечена. По сравнению с огромностью раскрывающихся перед нею тайн ее собственные невзгоды показались ей мелкими, ничего не значащими. После Ана и его друзей в гробнице с каменным чертежом побывал крутолобый молодой человек. Он долго и грустно смотрел на загадочную маску, и ему казалось, что с мудрым пониманием его безграничной печали смотрел на него неведомый вождь, жрец или пришелец, похороненный здесь. Без обычных предосторожностей выходил из «Храма надписей» крутолобый молодой человек. Он был весь под впечатлением виденного в склепе. Виленоль в последний раз оглянулась на пирамиду и изменилась в лице. Друзья даже испугались за нее. Однако Виленоль звонко засмеялась и стала уверять своих спутников, что в жизни своей не видела ничего более интересного. И она готова лететь хоть к самим звездным пришельцам. Никто не подумал, что настроение Виленоль вызвано не только следами тех, кто когда-то побывал на Земле.
И друзья полетели. Сначала в соседнюю Колумбию взглянуть в одном местном музее на золотой самолетик, который, очевидно, был украшением жреца или другой видной персоны — современника «носолобого», захороненного в пирамиде «Храма надписей». Эту вещицу изучали, сравнивали с птицами, рыбками, насекомыми, даже с чертежами самолетов, наконец, испытывали в аэродинамической трубе и признали моделью летательного аппарата. Матсумура, зная обо всем этом, запасся чертежом самолета двадцатого века и показал, как точно ложится золотой «амулет» на конфигурацию вычерченного самолета.
Особый сюрприз приготовил гостям Альберто Рус Луильи. Он предложил им сесть в старинный самолет, на котором здесь совершали прогулки туристы-путешественники, и взглянуть на побережье Перу с высоты. На этом самолете они подлетели к побережью Перу со стороны Тихого океана, в районе Писко. На горном склоне сверху открылся гигантский знак в виде трезубца, указывающего путь через горы. — Заметить этот знак тысячелетней давности можно только с большой высоты, — сказал Луильи. — Кто его мог видеть в древности? Для кого и кем он был создан? Самолет, следуя намеченной трассе, полетел через горы. Внизу мелькали руины былой цивилизации. Горы были непроходимы, но через них тянулась странная прямая линия. Обрываясь в ущельях, она возобновлялась на горных хребтах, увлекая все дальше и дальше в глубь горной страны. И она вывела самолет в каменистую пустыню Наска. С высоты путники увидели странные фигуры земных и неземных животных, размерами превышавших сотни метров. — С поверхности земли их не различить, — опять заговорил Луильи. — Но тем не менее они были выложены тысячелетия назад для неведомой цели. — Они походят на посадочные знаки! — вставил Матсумура. — Но для кого? Древние американские цивилизации не знали не только самолета, но даже колеса! Однако наибольшее потрясение испытали Виленоль и ее друзья, когда их самолет приземлился в неприветливой каменистой местности. Кто-то в древности провел здесь каменные дороги. Они ничего не соединяли, начинались с пустого места, обрывались перед пропастью. Эти дороги пересекались лучами прожекторов, подобно посадочным полосам на аэродромах времен расцвета винтовой авиации. Самолет старинной конструкции, требующий особенно хороших дорожек, легко опустился на древнюю многокилометровую плиту, словно специально для того и сделанную. Виленоль, а следом за нею Матсумура, Альберто Рус Луильи и, наконец, Ан вышли на каменистую дорогу, ровную, как стол, приподнятую над острыми бесформенными камнями пустыни. У Виленоль захватило дух еще при начале посадки. Она и теперь не могла как следует вздохнуть. От мысли, что она в том месте, где выходили из неведомых машин неведомые существа, летавшие на своих машинах над землей, когда ее предки орудовали еще дубинами в лесу, у ней даже закружилась голова. Были ли эти существа людьми или только походили на них? Она огляделась, словно отыскивая их, и остановилась взглядом на Ане. — Я здесь, — улыбнулся этанянин. — Мне теперь кажется, что я не первый, не единственный и не самый странный из тех, кто прилетел на Землю из космоса. Но я первый, кого люди сами привезли к себе. — Первый! Конечно, первый! — засмеялась Виленоль. — И я первый, кому дочь Земли отдала часть себя, чтобы он жил, мыслил, наблюдал, — закончил Ан.
После пустыни Наска путешественников доставили к высокогорному озеру Титикака. «Здесь они расстались с Луильи. Еще в историческое время озеро было морским заливом. Но поднятие Анд вознесло за облака часть суши вместе с заливом, и оно превратилось в озеро. Путники осматривали остатки древнего мола. Поодаль виднелись руины старинного комплекса храмов Каласасава близ местечка Тиагуанако. Рядом стояли удивительные Ворота Солнца. — На них изображен инопланетный календарь. В году двести девяносто дней, а месяцев двенадцать, — сообщил японец, указывая на иероглифы в орнаменте. — Так ведь это же календарь Этаны! — взволновался Ан. — Наша планета делает двести девяносто вращений за время одного оборота вокруг светила. Правда, у нас спутника Луны нет, но зато у нас дюжинный счет. — Извини нас, друг Ан. Не потому ли в десяти циклах из двенадцати, изображенных на Воротах, по две дюжины дней, а в двух — по одному добавочному дню. — Этаняне старались свести все к дюжинам. Но как мог попасть календарь Этаны на Землю? Не пойму, не догадываюсь, не могу объяснить, — сокрушался Ан. — Может быть, кто-то побывал до землян на твоей планете, — предположил Матсумура. — И я подозреваю кто. Его звали на Земле Кон-Тики. Он, по преданию, прилетел с другой звезды, создал здесь государство инков, построенное на удивительных для людей того времени началах: труд был обязателен для всех (даже «первый инка» трудился на отведенном ему поле), общепринятым было презрение к богатству, золото использовалось только тогда, когда требовались его особые свойства, хлеб был бесплатный для всех. Каждый, дожив до пятидесяти лет, мог больше не трудиться и поступал на иждивение общины. Работающие на рудниках обретали такое право раньше. Впоследствии все это забылось. — Увы, это не наши принципы! — вздохнул Ан. — Это ваши теперешние принципы, основа вашего нового общества, отличительная особенность Земли. Как жаль, что никто из протостарцев Этаны, видевших Кон-Тики на моей планете, ничему не научился у него, а теперь и не помнит его. — Нельзя жить без памяти… Потому люди и ищут следы пришельцев, побывавших на Земле.
С Анд путешественники перелетели на одинокий и загадочный остров Пасхи, «остров устремленных вдаль взглядов», как местные переводят его название. С берегов острова в океанскую даль вечно смотрят исполинские статуи, неизвестно кем и для чего поставленные здесь. Чужепланетные их лица как бы говорят о том, что они не дело рук людей. Недаром в преданиях местных жителей говорится о небесных пришельцах… Такие же предания были и в Южной Америке, и в стране древних майя. Всюду говорилось, что когда-то Сыны Солнца (у ацтеков — Кетсалькоатль, у майя — Кукулькан (это одно понятие на разных языках — Пернатый, Летающий бог-змея), у инков — Кон-Тики (Сын Солнца, Солнечный) спускались с неба с громом без огня и учили людей знаниям и человеколюбию, потом улетели, пообещав вернуться…
С острова Пасхи Матсумура с друзьями перелетели в пустыню Сахара, на плато Тассили, в скалы Сефара, напоминавшие руины гигантского города. Эти скалы, иссушенные ветрами, обожженные солнцем, хранили бесценные сокровища прошлого. Японец провел путников к хорошо известному ему месту. Он плеснул на скалу водой, и на камне проступило древнее наскальное изображение водолаза или космонавта в скафандре с герметическим шлемом, с широким воротником, в который легко прошла бы голова, в одежде, спадающей вертикальными складками. Во всем облике изображенного чувствовалась загадочная мощь. — Великий бог марсиан! — воскликнул Ан. — Знаком с ним еще со звездолета! Японец улыбнулся: — Я никогда не расстаюсь с этим рисунком.
На этот раз молодой крутолобый человек ожидал путешественников на родине Матсумуры, в тесном городе, где дома продолжали беспредельно расти вверх, где по улицам нельзя было протолкнуться, хотя транспорт и ушел под землю, в трубы. Поэтому молодому человеку легко было остаться незамеченным и наблюдать издали за Виленоль и ее спутниками. В музее Токийского университета Ан еле передвигался на своих тонких ногах — он слишком устал от путешествия и впечатлений. Виленоль не на шутку встревожилась за него. Но даже он вскрикнул при виде каменной статуи: — Это же Великий бог марсиан из Тассили! Тот же шлем, тот же воротник, тот же скафандр! — Посмотри еще рядом, — посоветовал Матсумура. — Ты увидишь, внимательный Ан, скульптуру столь же древнюю, но на ней отчетливее проработаны очки, которые и ты поначалу носил на Земле, герметический шлем, орнамент скафандра… — Помню, добрый доктор. Ты говорил на «Жнзни-2» о спиралях как о средстве информации, как об едином символе для всех живущих во Вселенной и наблюдающих всюду спиральные галактики. — Тогда я молчу, внимательный Ан. — Я узнаю, доктор, эти статуэтки! По твоим рассказам, рисункам, фотографиям! — Ан указал на соседнюю витрину. — Я забыл, как ты называл их… — Догу. В переводе с древнего это значит… — Одеяние, закрывающее с головой. Это я слышал от тебя, уяснил, запомнил. Они сделаны людьми, не знавшими металла. — Да, предшественниками японцев, еще в каменном веке. Пять тысяч лет назад. И тем не менее посмотри, с какой мнительностью воспроизведены все детали космического костюма, даже фильтры для дыхания, люки для осмотра механизмов, крепления этих люков.
Возвращались в Москву, но остановились в Индии, чтобы посмотреть на подлинные письмена, в которых тысячелетия назад описывались летающие огненные колесницы — виманы. «Сильным и прочным, — возглашал санскрит, — должно быть его тело, сделанное из легкого металла, подобное большой летящей птице. Посредством силы, которая таится в ртути и которая приводит в движение вихрь, колесница развивает силу грома… и она сразу превращается в жемчужину в небе». Под впечатлением всего прочитанного на древнем санскритском языке, которым прекрасно владел японец, Виленоль, Матсумура и Ан вышли из прохладного полумрака бывшего храма под солнечные лучи. Все, кроме Виленоль, сощурились — она кого-то высматривала. И, так же как в Паленке, ее щеки залились вдруг густым румянцем. Виленоль хотела и не смела себе верить — это был Петя! — В Москве вас люди заждались, — сказал ей японец. — Может быть, не только там, — загадочно ответила Виленоль. Добрый Ан ничего не понял. Японец тоже.
Глава вторая ТЕНИ МИНУВШЕГО
Виленоль приехала в лесной домик к Ратовым на «малый концерт Вилены» задолго до назначенного времени. Арсений еще не возвратился из звездного городка. Дома была только Вилена. Она восхищалась своей внучатой племянницей, ее «подвигом зрелости», ее вспыхнувшим сценическим талантом, побывала уже на репетициях в театре, где ради новой артистки, признав ее необыкновеннее мастерство, возобновляли старинную пьесу. И для Вилены среди ее новых современников самой близкой стала Виленоль. Они были, как сестры. И, как старшая сестра, «Вилена, встретив Виленоль и усадив ее рядом с собой на ступеньки веранды, задушевно спросила: — Так вот, сестренка моя из будущего, откройся мне! Почему мы так сурово обошлись с Петей тен-Кате? Виленоль смутилась, покраснела, потом оправилась: — Он предательски повел себя — выступил против Великого рейса, против своих и моих друзей. — Ах вот как? А ты не подумала, что никто из этих друзей не переменил своего отношения к Пете тен-Кате? Он ведь ничего другого не хотел, кроме блага человечеству. — Не надо меня уговаривать! — запротестовала Виленоль. — Может быть, найдем причину? — предложила Вилена. — А как? — удивленно взглянула на нее Виленоль. — Рассказывай. — О чем? — Все, что теперь помнишь о своей прапрабабке. — Об Аннушке? Но я ничего о ней как следует не знаю. — Как так ничего не знаешь? У меня тоже пробуждали генную память. Мне снились сны… сны из далекого прошлого… Тебе не снятся? — Нет. Я просто кое-что помню. — Давай попробуем представить себе жизнь твоей Аннушки Иловиной. — Право, я не знаю… Все так смутно… — Так что ты помнишь о ней… самое далекое? — Помню подвал… Окна под сводчатым потолком, а на нем разводы мокрых пятен. В окнах — серый колодец… — Это внутренний двор дома, — решила Вилена. — Ну еще? — Помню, что было весело, а почему — не знаю. Часто пар стоял в подвале. Помогала маме стирать… — Это Аннушка помогала, а не ты. — Ну конечно! И помню еще отца… разного… — Как это так разного? — Сначала в кепке, усталого… от него пахло машинным маслом… Наш город он называл Питером. — На заводе работал. — Потом — веселый такой, в матросской бескозырке, в тельняшке… Братик Андрюша все примерял тельняшку, а я — бескозырку… перед зеркалом. — Не ты, а Аннушка. — Прости, все путаю. И помню того же отца в бескозырке, но с пулеметными лентами крест-накрест на груди. Говорил, что буржуям — амба и еще про Зимний… — Это очень интересно. Значит, он был не только современником Великой Октябрьской революции, но и ее участником. — Помню его лицо. Была в нем и гордость, и строгость, и пыл борьбы. Хорошо помню потому, что все старалась перед зеркалом передать его выражение. — Так вот когда в твоей Аннушке начинали пробуждаться ее способности! — Я не знаю… И снова помню отца. В кожанке, в скрипучих ремнях. И все плакали… — Значит, уходил на фронт, — заключила Вилена. — Гражданская война. — Вспоминаю уже не подвал, а огромную пустую комнату, нетопленную… На потолке фигурки крылатых мальчиков. Интересно было заставлять братика Андрюшу принимать такие же позы. — Режиссерские замашки? — Ну что ты!.. Прежняя барыня проходила мимо бывшей своей гостиной с задранным носом, на нас и не смотрела… а раньше посылала меня за извозчиком. — Значит, в том же доме переехали… прачкины дети… — Интересно было представлять эту барыню перед зеркалом. Братик и мама смеялись. — Определенно актерские замашки. А барыня? Тоже смеялась? — Тоже. И совсем не сердилась. Помню, как учила и хвалила меня за произношение и понятливость. Артисткой она была. — Это уже факт биографии! И что еще? — Потом очень смутно… Ведь каждый, если начнет вспоминать свое прошлое, увидит лишь несвязные картинки… И еще засели у меня в памяти стихи. — Прочитай.Глава третья АН И АНА
Вилена притворила за собой дверь на веранду и побежала по дорожке мимо любимой своей ели. За полем зеленели склонившиеся над речушкой деревья. На солнце сверкали окна завода. Упругий шаг, ровное дыхание и совсем не от бега судорожно бьющееся сердце. Вот и лес! Как любили они когда-то втроем, с Арсением и Виленоль, бродить здесь! Виленоль умудрялась находить грибы чуть не у самой дорожки. Арсений шутливо жаловался на окулистов, что они, сняв с него очки, все-таки недолечили ему глаза, раз он не видит такую прелесть, как грибы. Вилена улыбалась. Виленоль счастливо хохотала по любому поводу, как ее Аннушка в прежней жизни… А вот теперь Виленоль лежит при смерти в Институте жизни, у академика Руденко… Современные люди предпочитают по поверхности земли по преимуществу ходить, а Вилене нужно было лететь! Если бы у нее были сейчас крылья Эоэллы, о которой рассказывал Арсений! Он остался в домике нянчиться с трехмесячным сынишкой Аном, а Вилена… Наконец-то станция подземной железной дороги! Поезд, тормозя, вылетает на поверхность. По перрону идти надо шагом, и все же сердце не перестает тревожно стучать… Ярко-синий состав останавливается, гостеприимно раскрыв двери вагонов: входные — слева, выходные — справа. Вилена вскочила в вагон и, как полагалось, прошла к мягкому креслу. Поезд сразу тронулся под уклон, набирая скорость. Непреодолимаясила ускорения мягко вдавила Вилену в сиденье, напомнив разгон при космическом полете. Когда ускорение ослабевало и Вилена непроизвольно наклонялась вперед, кресло само собой поворачивалось на полоборота, и та же сила, но теперь вызванная торможением, снова мягко вдавливала ее в спинку… Ей казалось, что поезд непростительно часто взлетает на поверхность и останавливается, теряя драгоценные секунды. Вилена любила старинную монорельсовую дорогу, вспоминала мелькавшие когда-то в окнах леса и перелески… Теперь в вагоне даже окон нет! А вот Виленоль не видела прежних поездов, если не считать тех, в которых ездила Аннушка. Ах, Виленоль, Виленоль! Четверть часа назад седобородый академик Руденко заглянул через «окно дальности» к ним с Арсением в домик. Он старался быть спокойным, но его добрые выцветшие глаза смотрели в сторону. Он сказал, что ныне женщины почти никогда не умирают при родах, но… единственная оставшаяся почка будущей матери делает положение крайне серьезным. Поэтому наготове аппараты, способные заменить почку. Все будет хорошо!.. Но Вилена понимала сказанное между слов. «Окно дальности» позволяло Вилене как бы находиться в Институте жизни, куда взяли Виленоль. И все же Вилена не могла побороть в себе желание по-настоящему быть там, рядом с «сестренкой». Наконец-то Москва! Прохожие на улице уступали Вилене дорогу, сочувственно смотрели ей вслед. Наконец, переведя дыхание, она остановилась у знакомого подъезда Института жизни. Вестибюль с квадратными колоннами, отделанными, как в старину, мрамором… Ну вот! К счастью, Петя уже здесь! Как же могло быть иначе! Он тоже не вытерпел и, так же как Вилена, примчался сюда, в Институт жизни, где находилась участница важнейшего проведенного на Земле эксперимента — симбиоза космических организмов. Встретила Вилену и Петю в вестибюле очень старая женщина. Она была прямая и подтянутая и потому казалась строгой. Старушка попросила подождать и пошла доложить академику. — Кажется, я помню ее молоденькой Наташей, — сказала Вилена. Состарившаяся современница Вилены вернулась и передала, что академик сам выйдет к ним, как только закончит обход. — Он просил передать, — сказала старушка, — что все, что зависит от людей и науки, будет сделано. Петя и Вилена тревожно переглянулись, старались не выдать охватившего их волнения. Они стояли молча, потом Петя сказал: — Виленоль говорила, что нет ничего прекраснее детей. — Я с ужасом вспоминаю о планете, где никто не имеет права рождаться. — А ведь не так давно находились ученые, которые уверяли, что Земле грозит потоп из человеческих тел. Вилена передернула плечами: — Выражение какое подобрали! Омерзительное!.. — И это о детях, которым принадлежит будущее. — В будущее много дорог — и на ледяные материки, и в космос… Высший ученый совет Земли скорее всего выберет обе дороги. — Мы с Виленоль на том и договорились. Но кто же из вновь рожденных останется на новых материках? Кто улетит к другим звездам? — Да, кто? — отозвалась Вилена. Они говорили о миллиардах людей, а думали об одной Виленоль, которая должна дать жизнь новому существу. Все та же старая женщина появилась из-за колонны и сделала им знак рукой. Она провела их по длинному коридору и вывела в сад, где пахло прелью и поздними цветами. Они подошли к застекленной веранде. На пороге стоял старый академик с суровым и торжественным лицом. Его борода развевалась по ветру. Молчаливым жестом он пригласил пройти за собой только Петю, и Вилена осталась на веранде. Через прозрачную дверь она окинула взглядом знакомый кабинет. Книги, коллекции черепов и портреты великих ученых — Дарвина, Сеченова, Павлова и более поздних — Питера тен-Кате, Шарля де Гроота и Владлена Мельникова. Академик отвел Петю к окну: — В стародавние времена мужьям задавали вопрос, кому сохранять жизнь — матери или ребенку? Ныне этот вопрос бессмыслен. Не исключено, что вашей жене на какое-то время придется подключить искусственные органы вместо естественной почки, а может быть, и вместо сердца. Оно нас тревожит. Будьте мужчиной. Кстати, вас через «окно дальности» пытался разыскать ваш отец. И академик, взглянув на веранду, где стояла Вилена, поспешно вышел из кабинета.Старый инженер тен-Кате стоял на берегу океана. Рыхлый и полный, ссутулившийся от тяжести лет, он задумчиво смотрел перед собой. Океан и тот, оказывается, не вечен. Люди обрекают его на замораживание. Что же говорить о самом человеке? Чего стоит его дерзость накануне неизбежной смерти? Еще живет и бьется океан. Еще живет и бьется сердце в старом, дряхлом теле инженера. Но застынет океан. И скоро застынут потерявшие свою эластичность артерии, дающие кровь усталому сердцу. Последнее время старый тен-Кате часто думал о смерти. Он страдал сердцем и несчетными болезнями, которые можно было бы избежать, если бы в свое время он жил, как принято теперь. Но он не мог не быть самим собой. По натуре своей и привычкам он принадлежал прошлому. Предпочитал ездить, а не ходить, избегал гнета ежедневной гимнастики, привык работать по ночам, потому что был всегда увлечен работой и меньше всего думал о своем здоровье. Может быть, за семьдесят пять лет им сделано не так уж мало… Ледяные плотины изменили границы материков. Он только что проехал по осушенному дну бывшего моря, любовался «своими» польдерами, которые пока еще засевают, но скоро перестанут и застроят загородными домиками. Города-то расселяют! Зачем нужно сельское хозяйство доброго старого голландского времени, когда есть «машины пищи»!.. Старый Питер тен-Кате всегда требовал в ресторанах блюда из натуральных продуктов, хотя, случалось, не мог отличить их от синтетических. Океанские волны разбивались у ног тен-Кате о зеленоватую стену, похожую на обледенелую набережную. Старый инженер ощущал соленый вкус на губах. Он оглянулся. Сверху видна была похожая на канал река, проходившая по бывшей отмели. Она впадала в водоем у ледяной плотины, откуда вода перекачивалась в шлюзы и в океан. «Все это стало возможным благодаря вакуумной энергии, не считая энергии… моей энергии влюбленного в дело инженера», — самолюбиво подумал старый тен-Кате. Жизнь — это смена побед и поражений. Тен-Кате честно делал свое дело, не щадя себя. Казалось, жизнь его была долгой, но она промелькнула как сон, словно тен-Кате был заморожен в анабиозе, как старый русский академик Руденко. И вот проснулся друг его отца, проснулся таким, каким уснул. А тен-Кате в своем «трудовом сне» изнашивался. На далекой планете Этана его уже перевезли бы на материк и посадили в машину с искусственными легкими, сердцем, почками, печенью, желудком… Но он жил не на Этане, а на Земле, и ему предстояло уйти из жизни, не увидев новых материков, задуманных им вместе с сыном и японцем. Он прожил жизнь в справедливый век. Вместе со всеми он всю жизнь думал о людях будущего. Теперь ему предстояло уступить это будущее другим. Почему? Этот сверлящий, показавшийся бы прежде кощунственным вопрос стал до навязчивости привычным, как сердечная боль. Его отец был великим ученым. Он научил людей пробуждать память предков и даже их личность!.. Потомки! Ожить в потомке! Великий физиолог имел на это право. А его сын, строитель ледяных дамб?! Старый тен-Кате боялся сам себе задать этот вопрос. Ему казалось, что он придает такое значение женитьбе сына и появлению у них с Виленоль ребенка только потому, что думает о второй жизни отца-ученого в грядущем поколении. Но, может быть, где-то глубоко в подсознании у старого тен-Кате зрела мысль, что и он сам когда-нибудь увидит новый мир молодыми глазами правнука. Узнав, что жизни Виленоль и ее будущему ребенку угрожает опасность и что ее поместили в Институт жизни, он все чаще соединялся по видеосвязи с академиком Руденко. Тен-Кате только спрашивал. Ничего не говорил. Правда, на экране говорили его глаза. Может быть, старый академик понял многое…
Пожилая помощница академика привела Вилену в кабинет. Ланская-Ратова стояла у окна и смотрела на удивительно белую на фоне темных елей березу. Но краем глаза она заметила, что Петя подошел к аппаратуре «окна дальности», набрал кнопками нужный номер и пригласил к экрану отца. Старый голландец словно заглянул в «окно дальности» из сада. Сын сказал напрямик, что жизнь матери и ребенка сейчас в большой опасности. — У тебя был великий дед, — начал было старый тен-Кате, но замолчал, потому что увидел вошедшего академика Руденко. — Пришлось включить аппаратуру искусственных почек и сердца. Надобно спасти хотя бы мать, — сказал он. «Окно дальности» погасло, словно его задернули шторой. Вилена подошла к Пете и молча поцеловала его, потом с мольбой посмотрела на старого ученого. Академик развел руками: — Даже наука порой склоняется перед природой, — с тревожным смыслом сказал он.
Оставив посетителей, Руденко прошел через черную операционную в серебристую комнату искусственных органов, которые уже работали на Виленоль. От металлических цилиндров к столу, на котором она лежала, тянулись пластиковые трубки. Молодая женщина стонала. Врачи и сестры в оранжевых халатах суетились около нее. А Виленоль словно спрашивала глазами: «Неужели ничего нельзя сделать?» Она повернула лицо к старому ученому и умоляюще посмотрела на него. — Он здесь, — сказал старик, поправляя сбившуюся ей на лоб прядь. — И ваша Вилена тоже. Виленоль через силу улыбнулась. Потом ее лицо исказилось, и она закричала. Академик облегченно вздохнул. За жизнь нового человека боролась теперь сама Природа. А ради продолжения рода она не знает жалости… Во время родов сердце Виленоль совсем остановилось. Никакие ухищрения не помогли заставить его биться вновь. Всю ночь академик и его помощники не выходили из серебристой комнаты, стараясь спасти молодую мать. Виленоль недавно помогла выжить этанянину Ану, а теперь, по капризу природы, сама уподобилась протостарцам Этаны… Вновь рожденную девочку назвали Аной. Вилена взяла ее к себе в лесной домик, чтобы вскармливать грудью вместе со своим сыном Аном. Так Ан и Ана стали молочными братом и сестрой.
Глава четвертая КОЛЬЦО В СКАЛЕ
Виленоль смотрела из окна своей серебристой комнаты в непроглядную ночь и вспоминала черное южное небо с удивительно низкими, яркими звездами. Она участвовала тогда в раскопках древних культур на Кавказе. Нашли много интересного, убедились, что связь между Древней Элладой и Колхидой была не только в красивом мифе. Виленоль тогда тоже рассматривала звезды и думала о бабушке, которая летит к одной из них и… вернется молодой… Ребята звали к костру, уверяя, что сам Одиссей одобрил бы такой маяк на скале. Но Виленоль все не шла. Девушка с косами, звонко стуча по камням подкованными каблуками туристских ботинок, прибежала за ней. — Ты только подумай, представь! — захлебывалась она. — Нашли! — В самом деле поразительно, — слышался от костра солидный бас профессора, руководителя раскопок.
— Оно бронзовое, не железное, — донесся другой голос откуда-то снизу — смельчак рискнул спуститься по отвесному обрыву. Виленоль заставили лечь на скалу, еще теплую от дневной жары. Нужно было, лежа на животе, подползти к обрыву и протянуть вниз руку. Она сделала это. Шум прибоя приблизился, он то нарастал, то замирал. Виленоль была совсем не из храбрых, но все-таки нащупала металлическое кольцо. Ее пальцы с трудом сошлись на нем. С поверхности оно было изъедено временем, шершавое, как напильник. И вдруг почудилось романтически настроенной Виленоль, что из черной пропасти несется рокот и стоны, вопли торжества, воинственный клич, орлиный клекот, смех, рыдания и тихая, замирающая песня. Виленоль недаром считали выдумщицей. Встав на ноги, она сказала: — Правда, кольцо. Археологи толпились вокруг профессора. — Что это может быть? — спрашивали они. — Морской причал, — пошутил профессор. — Еще аргонавты в старину (вы помните?) плавали к этим берегам. — Причал на высоте ста метров? — усомнился кто-то. — За тысячи лет берег мог подняться, — стоял на своем профессор. — Кольцо старинной ковки, грубоватой, — вставил механик. Все смотрели на Виленоль. И она выпалила: — К кольцу был прикован Прометей! Кто-то рассмеялся. — Это же сказки! — всерьез возмутился механик. — Сказки порой вырастали из реальных событий! — отпарировала Виленоль. — Вполне может быть, что и был такой древний ученый, — размеренно заговорил бородач, тайно вздыхавший по Виленоль. — Был такой ученый герой и учил земледелию, навигации, письменности. С ним и разделались, как с неугодным. — Кстати, Карл Маркс назвал его самым благородным мучеником в философском календаре, — напомнил профессор. — И миф сделал его титаном! — заключила Виленоль. Скала на скифском конце света, Кавказский хребет, кольцо разбитой цепи на скале… Все, как в древнегреческом мифе! И ребята, и даже профессор приняли «гипотезу» Виленоль. Но не потому, что она была достоверна, а потому, что позволяла начать игру воображения. В Виленоль вдруг проснулась артистическая натура. Она вскочила и воскликнула: — Я вижу его, восставшего Прометея! Он зажигает факел от бушующего небесного пламени, чтобы отнести его людям! — И она, будто зажигая факел, в пластичном движении протянула руку к костру. — Не испугался молний Прометей! — продолжала Виленоль. — Бессилен был сам Громовержец — не поражали молнии титана. Бородач, любуясь Виленоль, ткнул в огонь палкой, и из костра взметнулся фонтан искр. — И титан пришел к людям, — улыбнулась в ответ бородачу Виленоль. — Зажег в них огонь знания и жажду нового. С ними вместе ставил он паруса на корабли, чтобы идти в морские просторы. — Виленоль вдруг сникла и продолжала, уже понизив голос:- И вот вижу того же титана, схваченного скалообразными слугами. Но гордо смотрит он в лицо Громовержцу. В горести стоит поодаль бог-кузнец с молотом в руках, чтобы заковать друга-титана. — Виленоль подошла к самому краю обрыва. — И вот здесь, к этому кольцу был прикован цепью дерзновенный Прометей. Перед ним распростерся морской простор — символ Свободы Духа, Полета Мысли, Исканий! Недоступный теперь Прометею, этот простор, подобно орлу-истязателю, терзал его своей далью. И плакали внизу, прикрываясь кружевом пены, прекрасные океаниды… Слушатели восхищались артистическим экспромтом Виленоль, — раньше никто не подозревал в девушке такого дара. — Но пришел Геракл — символ силы и доблести людей. Тяжкой палицей разбил он цепи Прометея, и остались от них одно кольцо на скале, а другое — на его руке! — закончила Виленоль и, снова став на колени, опустила руку, чтобы нащупать кольцо. Это было первое «выступление» Виленоль «перед публикой». Ей хлопали, как в театре, а она раскланивалась… Над головой тогда горели удивительно низкие, яркие звезды. Виленоль смотрела теперь на звезды из своей «темницы» и вспоминала, как была такой же, как все. И показались ей теперь звезды в ее окне тем самым простором, который мучил, как орел-истязатель, Прометея. Она, так же как и он, не могла пойти на их зов. Она не была титаном, но ее цепи тоже можно было пощупать, как кольцо в скале… Правда, они были гибкими, мягкими, даже нежными, сделанными не из шероховатой бронзы, а из лучшего пластика и резины… Не могла Виленоль выйти из серебристой комнаты, взойти на сцену, чтобы сказать людям все, что может выразить живущая в ней Анна Иловина! Вместе с памятью Аннушки проснулась в Виленоль (и жила даже сейчас!) страсть к сцене, мучительная, как сердечная боль, хотя теперь у Виленоль и не было сердца — его унесли от нее, как дочку Ану. Девочку вскармливала грудью Вилена вместе со своим трехмесячным сынишкой Аном. А сердце заменено металлическими аппаратами, как на родине этанянина Ана. Как нужен был несчастной Виленоль ее Геракл! Но вместо него к ней, еле волоча ноги, пришел этанянин Ан. Он принес проект тележки, напоминавшей машины протостарцев Этаны. Виленоль должна была сидеть в ней, наполовину высунувшись, как железный кентавр. На большее расстояние она могла ездить в ней, как в «танке», а на короткое — вставать с кресла и ходить вокруг, насколько позволяли гибкие оковы. Но разве могла Виленоль так выступать на сцене? Бедный милый Ан! Он был сам не свой, еле жив. К тому же его еще и огорчил отказ Виленоль. Здоровье Ана было такое же, если не хуже, чем у Виленоль. После кругосветного путешествия он так и не смог оправиться. Зачем только она не отговорила его тогда от поездки!.. Ан ушел. Он не стал ее Гераклом — своего Геракла Виленоль наивно представляла себе могучим, кудрявым, бородатым, с палицей в руке.
Но к Виленоль все-таки пришел он, ее Геракл. Правда, оказался он совсем другим. Просто это был ее славный крутолобый Петя! Однако он пришел не один. Его спутник тоже не напоминал древнегреческого героя, хотя, может быть, и были у Прометея такие же низенькие, озорные, черноглазые и чернокудрые ученики, как Костя Званцев!.. Петя начал разговор издалека: — Цюрих — старый швейцарский городок… В нем учился Эйнштейн… Петя тен-Кате только что вернулся оттуда с заседания Комитета новой суши Высшего ученого совета мира, где рассматривали проект замораживания морей вокруг Японских островов. Виленоль выжидательно смотрела на Петю и подвижного лукавого его спутника. Старалась отгадать, почему и Костя здесь? — Значит, начинать с Японского моря? — непринужденно спросила она. — Сейчас расскажу. Для того и пришел. — Для того и пришли, — загадочно добавил Званцев. — Ну как? Прикинул? — спросил его Петя. — Получается. Как в мемуарах! — кивнул Костя. — Что получается? Где? В Высшем ученом совете? — Вот именно. Там и получается, — улыбнулся Петя. — Когда мы с Матсумурой вошли в зал, он оказался пустым. На возвышении восседал только академик Франсуа Тибо, председатель комитета. Перед ним концентрическими кругами — это очень важно для тебя! — амфитеатром, как в театре, располагались вместо кресел одинаковые цилиндры. — Почему цилиндры? — удивилась Виленоль. — А члены комитета? — Ни одного. — А зачем им там быть? — задал странный вопрос Званцев. — Жак Балле, дежурный секретарь, усадил нас с Матсумурой рядом с председателем, потом подошел к маленькому пульту… и почти все места в зале вдруг оказались занятыми. Несколько цилиндров оставались неосвещенными, все же остальные словно исчезли. — Банальный эффект присутствия. Голография. Стереовидение, — беспечно заметил Званцев. — Немного устарело. Теперь это можно делать без всяких цилиндров. Изображение возникает в воздухе. — Не понимаю, — сказала Виленоль. — Впрочем, что же было на комитете? — Это не, так важно. Одобрили наш проект. Наметили разработку подобных же проектов для других морей и океанов. Однако самое важное в том, что сказал Костя. Для тебя. Догадка осенила Виленоль: — Уж не хотите ли вы переносить мое изображение на любое расстояние? — Ваше изображение будет ничем не хуже изображения якобы присутствовавших в Цюрихе людей. На сетчатке глаз зрителей, разумеется, — пояснил Костя. — И вы хотите?… — начала Виленоль, боясь вымолвить заветное. — Я хочу этого, но не умею, — засмеялся Петя. — А вот Костя берется сделать так, чтобы ты могла на самом деле, находясь здесь, как бы перенестись отсюда, скажем, на сцену театра. Твои партнеры по спектаклю будут рядом с тобой, хоть и не выйдут из театра. Трубки легко замаскировать. Зритель и не догадается. Виленоль потянулась с кровати к Пете, обняла и поцеловала его, потом Костю Званцева. Голова у нее закружилась от счастья. Вот они, ее Гераклы, которые «палицей Знания» разбивают оковы. — Согласятся ли в театре? — забеспокоилась Виленоль. — Уже согласны. Одни твои репетиции потрясли театральный мир. Тебя ждут. И с академиком Руденко мы договорились. Костя займется здесь установкой аппаратуры. — Не сложнее квадратуры круга, — заметил Костя. — Вы меня убиваете. Квадратура круга неразрешима. — В десятичной системе счисления. А если применить семеричную систему, как это делали египтяне за две тысячи лет до Архимеда, то «архимедово число» с достаточной точностью можно выразить простой дробью. — Как жаль, что я в этом мало понимаю. Но я готова сыграть на сцене хоть жену фараона, хоть защитницу Сиракуз. — Театр предлагает тебе сыграть Анну Каренину. — Это же Аннушкина любимая роль! — Оставляю тебе роман Толстого. Прочитай, вживись в ту эпоху. Режиссер и твои партнеры будут навещать тебя. — Роман Толстого? Я его знаю наизусть. Я уже мысленно в девятнадцатом веке! Я знаю, как тогда одевались, как причесывались, как ходили, как садились, как говорили и даже думали!.. Наука допускает лишь одну машину времени — воображение! Оно уносит меня! — Воображение! — многозначительно повторил Костя. — Это свойство, которое отличает человека от всего живого. — И он тотчас переделал старинные шуточные стишки:
Глава пятая АННА
Исполнительницы главной роли спектакля на сцене не было. Виленоль находилась в серебристой комнате Института жизни и двигалась по ней, стараясь не обнаружить скрытых трубок, которые соединяли ее с искусственным сердцем и почками… Кроме замаскированных медицинских аппаратов, в серебристой комнате стояли теперь привезенные Костей Званцевым видеокамеры. Они передавали на сцену театра изображение Виленоль, одетой в белое с шитьем платье Анны Карениной. Там, на сцене, не ставили декораций. Перед залом была как бы сама жизнь. Ее воспроизводили во всех деталях старины с помощью видеоэкранов, на фоне которых перемещалось изображение Виленоль.Анна Каренина была на террасе одна. Она ожидала сына, ушедшего гулять с гувернанткой. Анна смотрела сквозь раскрытые стеклянные двери. В них виднелся сад с настоящими деревьями и аллея, покрытая лужами, на которых вскакивали веселые пузыри от начинавшегося дождика. Все это было подлинным «в объеме и цвете», перенесенное сюда «методами видеоприсутствия». Анна не слышала, как вошел Вронский. Он был коренаст, спокоен, тверд, одет в ладный мундир. Движения его были сдержаны и спокойны. Он восхищенно смотрел на нее. Она оглянулась. Лицо ее, мгновение назад задумчивое, сразу разгорелось, запылало. — Что с вами? Вы нездоровы? — спросил он, покосившись на балконную дверь, и сразу смутился. — Нет, я здорова, — сказала она, вставая и протягивая руку в кольцах. — Ты испугал меня. Сережа пошел гулять. Они отсюда придут, — она указала в сад. Виленоль-Анна произносила ничего не значащие слова. Но у нее при этом так дергались губы, что зритель невольно чувствовал бурю чувств, скрываемых этой светской женщиной. — О чем вы думали? — Все об одном, — упавшим голосом произнесла Анна и улыбнулась. И эта улыбка так не вязалась с тоном произнесенной фразы, что снова подчеркнула боль и волнение Анны. — Но вы не сказали, о чем думали. Пожалуйста, скажите, — настаивал Вронский. Анна повернулась к Вронскому. Она молчала, но мысль «сказать или не сказать» отражалась в сменяющихся каким-то чудом румянце и бледности ее лица. — Скажите ради бога! — умолял Вронский. И в это мгновение Анна исчезла, исчезла вместе с лейкой, которую взяла в руки. Вронский остался на прежнем месте, а Виленоль-Анны не было… — Ради бога!.. — с неподдельной искренностью умолял растерявшийся актер, продолжая протягивать руку к пустому месту. За балконной дверью дождь усилился, по лужам вместо пузырей теперь прыгали фонтанчики. — Сказать? — послышался искаженный, «потусторонний» женский голос, по которому трудно было узнать Анну или Виленоль… — Да, да, да!.. — тоже хриплым, но от волнения голосом произнес Вронский. Только привычная дисциплина сцены заставила актера произнести нужные по ходу пьесы слова — ведь Вронский узнал, что Анна ждет ребенка. — Ни я, ни вы не смотрели на наши отношения как на игрушку, — механически говорил он, — а теперь наша судьба решена. Необходимо кончить, — со скрытым смыслом добавил он и оглянулся, отыскивая глазами режиссера или будто убеждаясь, что в «саду» никого нет. — Необходимо кончить ложь, в которой мы живем, — заключил он реплику. И Анна вдруг появилась. Виленоль и не подозревала, что исчезала. — Кончить? Как же кончить, Алексей? — тихо спросила она, — трагедия Анны была для Виленоль более глубокой, более значимой, чем ее собственная, хотя артистка на самом деле была неизмеримо несчастнее! — Из всякого положения есть выход, — продолжал Вронский. Игравший его актер старался вести себя так, будто ничего не произошло. В его голосе, как и в голосе Виленоль, звучали искренние нотки. Все было правдиво, достоверно вокруг. В саду над деревьями поднялся край радуги, возвещавший о конце дождя. Но ничто уже не могло помочь спектаклю. Когда-то сам великий автор «Анны Карениной» говорил, что достаточно лишь одной малой фальши, лживой детали, чтобы нарушить всю правдивость повествования. — Нужно решиться, — продолжал Вронский. — Я ведь вижу, как ты мучаешься всем: и светом, и сыном, и мужем. — Ах, только не мужем, — с презрительной усмешкой сказала Анна. — Я не знаю, я не думаю о нем. Его нет. — Ты говоришь неискренне. И эти слова Вронского о неискренности вдруг окончательно разрушили достоверность происходящего на сцене. В этом театре старых традиций занавес опустился, как обычно, но публика ощущала, что произошло нечто очень неприятное. Люди переглядывались, шептались, пожимали плечами. Техника, великая техника нового времени, оказывается, тоже смогла подвести! Те, кто знал, каким способом Виленоль вернулась на сцену, поняли, что случилось. Остальные ничего не понимали и даже возмущались. Но кто-то сказал соседу о том, что на самом деле произошло. И правда со скоростью цепной реакции стала известна всем в театре. Тогда публика, несмотря на разочарование, устроила овацию, вызывая Иловину. Вызовы были так настойчивы, что, в нарушение традиций, занавес поднялся, и на той же веранде Карениных появилась Виленоль в широком белом платье. Она кланялась аплодирующей публике. Кто-то из зала бросил на сцену букет, бросил, как это делали всегда почитатели таланта Виленоль. Букет перелетел через просцениум, но, брошенный, быть может в волнении, слишком сильно, попал прямо в Виленоль… и прошел сквозь нее, словно она была привидением. Букет остался лежать на сцене. Виленоль растерянно смотрела на него. Находясь совсем в другом месте, поднять его она не могла!.. Занавес опустили. Виленоль отказалась продолжать спектакль. Вышедший на сцену администратор извинился перед публикой и объявил, что спектакль отменяется «по техническим причинам». Это был первый случай за сотни лет существования театра, когда спектакль отменяли «по техническим причинам».
Публика расходилась взволнованная произошедшим. Ева, откровенно возмущаясь, резким голосом рубила фразы: — Разве можно совмещать несовместимое? Театр построен на условности. Зачем разрушать условность старомодной реалистичностью? Прелестная Виленоль ни в чем не повинна. Все произошло только из-за того, что на сцене было слишком много ненужных деталей. Иловиной лучше избрать более современный театр. — Значит, чтобы передать испуг, надо рисовать круглые глаза на листе белой бумаги? Так, скажете? — спросил Каспарян. — А что больше всего запомнилось другу-лингвисту в эмах? Разве не узкие глаза, излучавшие радиосигналы? Вот это и надо передать, опуская все непонятные детали чужого мира. — А в театре? — спросил Роман Васильевич. — Разве друг-командир не согласен со мной, что Виленоль Иловиной нужно перейти в театр, где все условно? Там окажется уместной и новая техника «видеоприсутствия». Тогда можно будет простить и минутный ее перебой, как прощали его в старых кинематографах и телевизиях. — Простите, Ева, — сказал Арсений. — Виленоль Иловина выбирала театр, близкий ее разбуженной наследственной памяти. — То ясно! Но разве пробужденную память прошлого не надо заставлять служить будущему? — Что вы имеете в виду? — спросила Вилена, думавшая о том, в каком состоянии находится теперь бедная Виленоль. — Я имею в виду воображение зрителя. Зритель сам представит себе все, что не видит. Это и есть новый театр. — Я вижу, вы современнее всех ваших новых современников, — заметил Толя Кузнецов. — Но условность в искусстве вовсе не его свойство в грядущем, это скорее возврат к прошлому. — Что имеет в виду друг-биолог? — То, что условность, о которой вы говорите, была свойственна театру еще в давние времена. Скажем, в Древней Греции или на Востоке. Вспомните, условность греческого хора на сцене или роль присутствующих там, но не участвующих в действии корифеев!.. А китайский или японский театры? Те вообще построены были на языке условностей! — Ах, нет! — отрезала Ева. — Я говорю, что актер должен пользоваться воображением зрителей, а не их знанием языка жестов. — Если так, то воображение больше всего участвует при чтении книг. Там нет ни героев, ни декораций. Волшебная сила написанного слова воспроизводит все это в сознании. Однако это не театр.
Театр был для Виленоль всем. Провал ее первого спектакля, в котором она приняла участие благодаря «эффекту присутствия», сразил ее. Примчавшаяся к ней Вилена застала ее в самом тяжелом состоянии. — Не удивляйтесь, ежели всю вину приму на себя, — сказал Вилене академик Руденко, кивнув на Виленоль. — Должно быть, не учтена в нашем эксперименте психологическая сторона. Однако без вас, родная Виленоль, — он обращался уже к больной, — мы ничего не сможем добиться. Нужна воля и стойкость. Нужна любовь к жизни, а вы?… Что вы пытались с собой сделать? — Что? Что такое? — заволновалась Вилена. Руденко взял длинную пластиковую трубку в том месте, где она соединялась. Руками показал, как обе части трубки расходятся, а глаза скосил на лежавшую в постели Виленоль. Лицо ее было измучено. Глубокая скорбь роднила ее со вчерашней Анной. Вилена встала на колени около постели названой сестренки и взяла в свои руки ее пальцы. На них еще остались со вчерашнего дня неснятые кольца Карениной. Вилена стала целовать эти пальцы. — Я не хочу так жить, — сказала Виленоль, на миг открыв глаза. — Это не жизнь, а ложь перед природой. Академик Руденко тяжело вздохнул. Вилена плакала вместе с Виленоль.
Молодой Питер тен-Кате выбежал из театра сразу после того, как Анна Каренина исчезла со сцены. Он не мог больше там находиться, чувствуя в чем-то свою вину. Надо было помочь Виленоль — скорей-скорей!.. В вагоне подземной дороги Петя нервничал, не находил себе места: он спешил к лесному домику Ратовых, зная, что Вилена в театре, а Арсений дома с детьми. И он нашел Арсения на веранде. Ратов только что накормил малюток материнским молоком Вилены и уложил их спать. Арсений лежал в шезлонге, вытянув ноги, и смотрел на всходившую луну. Луна была огромная, красноватая, и даже простым глазом на ней можно было различить причудливые пятна. Ратов щурился, проверяя, как теперь видят его уже не близорукие, как прежде, глаза, старался рассмотреть какой-нибудь кратер. Когда появился взволнованный Петя тен-Кате, Ратов встал, усадил гостя, понимая, что неспроста тот появился здесь. — Твоя Ана — прелесть, — сказал он. — Блаженно спит. Хочешь посмотреть? — Нет, — замотал головой Петя. — У меня совсем другой разговор. — О ледяных материках? — спросил Арсений. — Нет. О Великом рейсе. Скажи, Арсений, как велика твоя роль в нем? — Вроде одной из колонн фасада. Убери — рухнет крыша. — Я буду этого добиваться. — Ты что? В своем уме? — Слушай, Арсений. Каждый должен понимать свой долг перед человечеством. — Допустим. — Великий рейс еще должен состояться. Но первый звездный рейс уже позади. — Принимал в нем участие. — А в чем его смысл? В риске, которому вы себя подвергали? — Не понимаю, куда гнешь. — С Этаны привезли идею замораживания океанов, создания новых материков. — Я с тобой спорить не стану, как это отзовется на климате Земли. На то у нас есть Всемирный комитет новой суши. — Зато я с тобой стану спорить. Какое ты имеешь право посвятить себя массовому звездному перелету, когда не помог реализовать результатов своего первого рейса? — То есть как это реализовать? — Какое достижение цивилизации Релы передал ты людям? — Пока еще никакое. А что? — А то, что эмы умели выращивать живые ткани. Это по твоим отчетам. — Умели. Это верно. Мы пытаемся воссоздать их способ. Организована специальная лаборатория при Институте жизни. Ей руководит Толя Кузнецов, сам побывавший у эмов. — Побывавший? А кто жил среди них? Кузнецов? — Жил среди них я. — И изучал? — Разумеется. — Так как же ты можешь стоять в стороне? — Чего ты добиваешься? — Твоего перехода в лабораторию Кузнецова, помощи ему. — Постой, постой? Ты что? За старое? Не мытьем, так катаньем, а попытаться сорвать Великий рейс? Чтобы ледяные материки свои замораживать? — рассердился Арсений Ратов. — Подожди, — волнуясь, сказал Петя. — Не подозревай меня. Я тебе все расскажу. И они пошли по дорожке к полю. Луна поднялась уже высоко и стала походить на серебряный циферблат без стрелок, но с темными пятнами…
Часть третья СИЛЫ ВЕЛИКИЕ
В мире много сил великих, но сильнее человека нет в природе никого.Софокл

Глава первая ГЛАЗА ЭМОВ
Арсений Ратов, задумчиво свесив голову, грузно шагал в тени столетних лип звездного городка и вдыхал их медвяный запах. Он был озабочен предстоящим разговором с отцом. Как все изменилось! Маленькие саженцы около спортивных площадок и тренажных павильонов, где он тренировался, как космонавт, стали гигантами. Новые здания, странно круглые, сужающиеся кверху, охваченные спиральной дорожкой, по которой можно дойти до самых верхних этажей, выделялись среди старинных домиков — современников первых шагов в космос. Под руководством отца, вместе с Иваном Семеновичем Виевым и Петром Ивановичем Тучей, Арсений работал над воплощением замысла, превосходящего все, что он мог вообразить себе и до полета к мудрым эмам, да и теперь, — над проектом Великого звездного рейса на Гею. Он знал, что отец, руководитель Великого звездного рейса, гордится сыном, ценит все, что тот внес в разрабатываемый проект. Проект этот помимо технической имел еще и другие стороны: социальную, краеведческую, демографическую. Наступило ответственное время испытания аппаратов и машин, изготовленных во многих странах Объединенного мира, близилось время, когда Высший ученый совет мира примет окончательное решение о пути, по которому пойдет человечество. Песок поскрипывал под нарочито замедленными шагами Арсения. Он вошел в кабинет к отцу спокойный, но напряженный, собранный. Роман Васильевич радостно поднялся из-за заваленного чертежами стола: — Привет, сынок! Как Вилена? Как малыши? — Ан и Ана здоровы. Девочка порой капризничает. Требует маму. Ан смотрит на нее неодобрительно. — Серьезный карапуз. И когда только девчушка успела привязаться к матери? Посещения такие редкие и короткие. Или кровь сказывается? — Вилена жалуется: вцепится ручонками в мать и — в слезы. Трагедия. Старший Ратов вздохнул: — Что поделать. — Есть что. Потому и зашел. Дело в том, отец, что не смогу больше заниматься я нашими делами. — То есть как это не смогу? Вот как? — Роман Васильевич пристально посмотрел на сына. Рука его скомкала ближнюю бумажку. — Объясни. — Твоим помощником сможет стать каждый, кто знает звездоплавание. А среди эмов никто, кроме меня, не жил. — Так. Верно. И что же? — Перейду в Институт жизни. К Анатолию Кузнецову. В лабораторию живой ткани. — Ты же не биолог! — возмутился Роман Васильевич. — Там от тебя толку будет, как от буйвола в птичнике. — Долг. — Разве твой долг не в том, чтобы завершить вместе с отцом и товарищами то, что имеет решающее значение для всего человечества? — Не сердись, отец. Ты прав, и ты неправ. Там — тоже для человечества. — Прав и неправ? Завидная логика. — Прав, потому что без привычного помощника труднее. Неправ, потому что… — Нужно спасти человеческую жизнь, вернуть человека? — догадался Роман Васильевич. — Ответил за меня сам. — Знаю, ты немногословен. Выговорился, пожалуй, за неделю вперед, а ведь Толе Кузнецову тебе рассказать много придется. — Расскажу. Пока пойду передам дела Туче. Хорошо? — Да человек ты в самом деле или, как это там у вас, эм, что ли? — взорвался Роман Васильевич. — Чувствуешь ты что-нибудь или забубнил свое: пойду, пойду… и только? Арсений улыбнулся: — Что сказать? Научи. — Вижу, ты меня учить хочешь. Человеческим чувствам, эм ты эдакий! — Роман Васильевич вышел из-за стола, подошел к сыну и обнял его за плечи: — Коли сможешь спасти, спаси. Замечательная она женщина. Жаль ее очень. Только сможешь ли? — Не знаю.Для Толи Кузнецова появление Арсения в лаборатории живой ткани Института жизни было полнейшей неожиданностью. Он сначала обрадовался, потом насторожился: — Ты что, радиоастроном? В порядке недоверия биологам явился? — Не прикидывайся. Ты лучше, чем хочешь показаться. Толя Кузнецов густо покраснел. — Давай считать, что оба вместе на Реле, — предложил Ратов. Так начали свою совместную работу биолог и радиоастроном над проблемой выращивания живой ткани. На далекой и чужой планете «бионической цивилизации» это умели делать совсем не похожие на людей существа. Входя в суть дела, Арсений скоро понял, что успехи лаборатории ничтожны. У Толи Кузнецова и его помощников почти ничего не получалось. Методы эмов оставались загадкой. — Как тут какой-нибудь орган вырастить? — горевал Толя Кузнецов. — В «машинах пищи» куда проще! Вроде бы мяса кусок — и все! — Там имитация строения ткани из питательных белков, — соглашался Арсений. — Икринки получают, как дробь, а волокна — на ткацком станке. — Ума не приложу, что делать! Слушай, а как эти чертовы твои эмы делали? Не воспроизводили ли они кодовые цепочки нуклеиновых кислот для первичных клеточек? — И вдруг спрашивал: — А скажи, Арсений, что больше всего запомнилось тебе у эмов, когда они занимались выращиванием живой ткани? Как они придавали ей любую заданную форму? Ведь ты не раз это видел? — Видел не раз. Ничего особенного не заметил. Всегда — внимание. — Это я и сам помню. Эм нам показывал. Около каждого ростка толпа любопытных. Мы еще удивлялись. — Толпы вокруг ростков… всегда. Соберутся и наблюдают. — Вот именно, — совсем рассердился Толя Кузнецов. — Они там глазели, а мы тут… — Подожди. Как сказал? Глазели? — Ну да, глазели! — Толя, дружище! Так ведь они не просто глазели. Помнишь, как они впервые нас рассматривали? Они своими щелевидными глазами не только принимали радиоизлучение… — Верно! Они еще и излучали. Тебя еще тогда осенило! Потом Каспарян стал расшифровывать их радиоразговор. — А сеанс космической связи? Помнишь? И оба друга представили себе морское побережье, занятое, сколько хватал глаз, плотно стоящими один к одному эмами в белых одеждах. Они были все охвачены или психозом, или неистовым танцем, раскачивались, дрожали, подчиняясь неслышному ритму. В этот миг миллиарды особей Релы единовременно излучали в космос радиопослание, подобное принятому на Земле глобальной радиоантенной. И точно так же, как когда-то на Реле, Арсения сейчас озарило. Там он догадался, что эмы разговаривают глазами, а здесь — что эмы не просто наблюдали за ростом живой ткани, а формировали ее с помощью направленного радиоизлучения. Теперь Арсений почувствовал себя в своей сфере. Требовалось лишь создать радиоустановки, которые действовали бы на ткань подобно глазам эмов. Ведь давно известно, что различные излучения и даже биотоки мозга способны влиять на рост клеток. Достаточно вспомнить опыт древних йогов, умевших на глазах зрителей молниеносно выращивать растения. И сразу же в Институте жизни появился еще один радиоастроном — Костя Званцев. Но теперь он пришел сюда не для того, чтобы налаживать в палате «эффект присутствия» на театральной сцене. Задача перед ним стояла уже куда более трудная. Костя и Арсений понимали друг друга, как эмы, с одного взгляда. Вместе строившие глобальную радиоантенну, они и здесь привычно и слаженно начали экспериментировать. В их распоряжение передали одну из мощных радиолабораторий. Первые же опыты оказались обнадеживающими. Под влиянием направленного радиоизлучения живая ткань развивалась быстрее, не хуже, чем в древнеиндийских фокусах. Но этого было мало. Требовалась не просто живая ткань, — требовалась ткань, состоящая из белков нужной формы, способная к определенным функциям. Друзьям ничего не удалось бы сделать, если бы одновременно в сотнях научно-исследовательских институтов Объединенного мира открытым ими методом не стали пытаться воспроизвести живуюткань по заданному образцу. И то, на что ушли бы в Институте жизни годы, всем институтам удалось получить за несколько месяцев. Лаборатория живой ткани располагалась в перестроенном Институте жизни. Академик Руденко обещал Толе Кузнецову свою помощь. Поэтому не было ничего удивительного в том, что старый академик оказался в лаборатории Кузнецова, когда там должен был произойти «суммирующий» опыт. «Суммирующим» его назвали, поскольку он подводил итог стараниям ученых всего Объединенного мира. В биолабораторию были подведены кабели изо всех кибернетических центров столицы и даже от Центрального планирующего электронного мозга страны. Все эти мыслящие машины, на какое-то время отключившись от обычных дел, должны были принять участие в эксперименте: «считать программу с образца», установить взаимное расположение молекул, вычислить цепочку «наследственных» генов в нуклеиновых кислотах. Эта цепочка в свое время направляла рост органа. Предстояло передать выработанную программу радиоизлучателям Арсения Ратова и Кости Званцева. Академик Руденко бодро подошел к радиоастрономам. Казалось, что за последнее время он помолодел, совсем не горбился, двигался порывисто: — Ко всему был готов в нашем Институте жизни, но к тому, чтобы процессами развития жизни управляли радиоастрономы… извините, не был к тому подготовлен. Эдакое агрессивное вторжение «иноразумян». — Владимир Лаврентьевич, если бы вы побывали на Реле, то увидели бы нечто подобное собственными глазами! — сказал Кузнецов. — Так меня ведь на корабль не взяли, — пошутил старик. — Вы сумели обойтись и без корабля, — возразил Костя Званцев, — обошли нас на повороте… — Впрочем, не во мне дело. Скажите, чем порадуете сегодня? — Считывание части живого организма и его воспроизведение, — отрапортовал Анатолий Кузнецов. — Это-то я знаю. А на чем остановились, что для воспроизведения выбрали? Кузнецов замялся. Академик перевел взгляд с него на Арсения Ратова. Тот был сосредоточен и молчал. Тогда он взглянул на Костю, у которого по-озорному блестели глаза. — Да вот, Званцев настоял, — словно оправдываясь, сказал Анатолий Кузнецов. — На чем он настоял? — нахмурился академик. — Ничего особенного, — вступил Костя. — Мне снова лететь к звездам, а Землю я уж очень крепко люблю. — И что же? Отказаться решили? — Ну что вы, Владимир Лаврентьевич? Просто хочу и там и тут быть. — За двумя зайцами, — вставил Арсений Ратов. — За двумя гнаться хочет? А сколько поймает? — Да уж не меньше трех, — улыбнулся Костя. — Дело в том, — решил внести ясность Толя Кузнецов, — что Званцев наш мечтает вырастить из живой ткани своего двойника. И оставить его жить на Земле вместо себя. — Я ухаживать буду, а он женится! — вставил Костя. Академик расхохотался: — Так вот какие три зайца! Ну и молодцы же вы! Чувства юмора не теряете. Поди, подсчитали уже и объем «машинного мозга», который в состоянии записать все особенности столь ценного организма нашего Званцева. — Подсчитали, — заверил Ратов. — Каков же этот объем? Выкладывайте. — Пустяковый. Немного больше земного шара. Думал, что Солнечную систему полупроводниками забить понадобится. — Вывод хорош. Но не мрачен ли он для наших целей? — Нисколько. Одно дело воссоздать человека во всей его сложности, другое — лишь один из его органов, — заверил Кузнецов. — Для воспроизведения выбранного органа Кости Званцева достаточно всех подключенных сейчас в Институте жизни «мыслящих машин», о которых вы сами же договаривались, Владимир Лаврентьевич. — Ну да, конечно, конечно. Всю столицу без электронных мозгов оставляем. И ради чего? — По кирпичикам меня будут воспроизводить на первых порах, — смешливо блестя глазами, сказал Костя. Академику показали маленький кусочек кожи с характерными завитками. — Так, — заявил академик, внимательно рассмотрев «образец» и пряча очки в карман. — Отпечаток пальца? — Моего, — не без гордости заявил Костя. — Теперь воспроизведем и сам палец. Жаль, отдельно от руки. — Палец? — Да. Указательный. — Почему указательный? — А он у меня со старым шрамом. Мальчишкой еще перочинным ножом часть ногтя с мясом отхватил. Вот если он будет точно скопирован, то быть на Земле моему двойнику. — Ну что ж, но невесту ему подыскивать не советую, пока земной шар полупроводниками не заполним. А вот лучше скажите, сколько машин надобно подключить для запоминания и управления радиоглазами в основном опыте? — Подсчитано, Владимир Лаврентьевич. Хватит, — сказал Арсений. — Чего хватит? — Объединенного мира. Академик покачал головой. Вокруг постамента с питательной средой, где должна была вырасти живая ткань, словно толпой сгрудились радиоизлучатели. Их продолговатые окна чем-то напоминали щелевидные глаза эмов.
Глава вторая ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ
Девушка пришла на свидание в назначенное место чуть раньше, чем было условленно. Она непривычно волновалась — может быть, сознавала, что некрасива и ростом выше молодого человека, которого ждала. Упругими шагами нетерпеливо ходила она около выхода из метро. Поток пешеходов, занимая всю ширину улицы Буревестника, поднимался в гору. Так называли теперь, спустя столетия, великого писателя прошлого. В свое время этот писатель взял себе имя Горький, подчеркнув, что в его произведениях раскрывается горькая правда о жизни народа. Прохожие искоса взглядывали на высокую девушку с огненными волосами. Звездолетчица, а перед тем знаменитая спортсменка, которую еще помнили старики как кумира своей юности, она так и осталась юной. Ева посмотрела на часы, потом вдоль улицы с огромными домами. «Пересечение плоскостей… Шпили, как оси… Развернутые страницы исполинских книг с поблескивающим в лучах вечернего солнца стеклянным шрифтом…» Когда-то поэт угадал архитектуру будущего, которая теперь стала уходящим стилем. Не строят больше таких огромных зданий, как вот это, поглотившее своим основанием не один квартал старой Москвы. В родной ее Варшаве всегда заботились о сохранении и восстановлении старинных стилей. В одном квартале из таких, рожденных вновь древних домов, узеньких, прижавшихся друг к другу, но четырехэтажных, живет ее младшая сестра, одинокая старушка, плачущая при мысли, что Ева снова улетит на Гею, и теперь уже навсегда… Но что может сделать Ева? Она выбрала свой путь! Ни один из звездолетчиков не сможет отказаться от участия в Великом рейсе. Каждому придется вести один из отрядов звездной армады. И все же, как ни велики были задачи будущего или потрясения прошлого, Ева сейчас ощущала себя самой обыкновенной девушкой, которая тщетно ждет своего молодого человека. Не надо было соглашаться! Но Костя Званцев такой неугомонный, и у него так сверкали глаза, и он так настаивал. Ева согласилась, но, конечно, не призналась бы даже самой себе, что этот Костя стал значить для нее больше, чем кто-либо другой. Она давно, непостижимо давно не назначала никому свиданий. Потому она и пыталась отговориться, уверяя Костю, что не хотела бы идти в старинный театр. На то две причины: она предпочитает более поздние направления в искусстве и… второго она говорить не стала. Ее потрясла трагедия с Виленоль, но она знала, что к этому причастен сам Костя Званцев, придумавший весь этот «эффект присутствия» Анны на сцене. Еве не захотелось сказать Косте что-нибудь неприятное. Ну, и она согласилась. Но зачем же он опаздывает? Даже в их «прошлое время», тридцать лет назад, это считалось недопустимым! Костя все не появлялся. Ева готова была уже рассердиться на него, осыпать язвительными насмешками. Когда сейчас он внезапно появился, словно выпрыгнув из-под земли, она от радости просто растерялась… и даже не взглянула выразительно на часы. Но Костя сам посмотрел на старинные серебряные часы с цепочкой, которые извлек из жилетного (подумать только, что за наряд!) кармана, и глубокомысленно произнес: — Бой часов придумали, чтобы бить опоздавших, — и нажал на часах кнопку. Оказывается, его старинный брегет был с боем. Костя даже дал послушать Еве мелодичный звон. Так они и подошли к театральному подъезду. Еве показалось смешным, что Костя при входе в театр достал какие-то допотопные, ныне давно забытые театральные билеты с нарисованной на них птицей, распластавшей крылья. Билеты и — современность! Что-то вроде брегета. И она пожала плечами. У входа в театр стояли настоящие контролеры — не автоматы, а почтенные люди в старинных, шитых золотом униформах. И стояли они не у входа в фойе, где в старину проверяли билеты, а прямо в самом театральном подъезде! Ева ухмыльнулась, решив раскритиковать несоответствие, но Костя спешил, и она ничего не успела ему сказать. Пройдя через дверь с контролерами, а потом в другую, они оказались… на улице. Но какая это была улица! Если там, снаружи, светило солнце, то здесь был глубокий вечер, горели газовые фонари непостижимой давности! Очевидно, улица проходила внутри огромного здания с театральным подъездом. — Что это? — удивилась Ева. — Камергерский переулок, в котором был открыт Художественный театр. — Я только что жалела об утраченной старине. Костя снова достал свой брегет: — У нас есть еще немного времени. Пройдемся. — И нахлобучил на голову откуда-то взявшийся котелок, кажется, он снял эту шляпу с гвоздя, вбитого с обратной стороны афишного щита. Еву поражало здесь все: телеграфный столб с сетью проводов, старинные книжные лавки и булочные: купеческие магазины, люди в таких же, как у Кости, котелках, с тросточками, дамы в длинных платьях со шлейфами и под вуалями, веснушчатые обдергаи-мальчишки, продавцы газет. Эти листки пахли типографской краской, отпечатаны были каким-то устарелым способом давно минувшего девятнадцатого века. Газетчики выкрикивали поистине древние новости. Костя купил, именно купил, а не взял, как ныне принято там, снаружи, газетку у оборванца и показал Еве уморительные объявления: о патентованном средстве «Я был лысым» и о предложении вдовы-домовладелицы вступить в приличную переписку с достойным мужчиной не старше тридцати пяти лет, желательно брюнетом с бородкой, образованным и необеспеченным. Ева смеялась. Костя сделал знак, и к ним подкатил извозчик-лихач, о которых Ева читала в старых книгах. Великолепное животное, рысак, которого увидишь лишь в зоопарке, было запряжено в легкую лакированную пролетку, где на высоком сиденье восседал «водитель» в зипуне и лакированной шляпе, то есть кучер, или, правильнее сказать, извозчик. — Тпрру! — произнес он странное слово, натягивая длинные ремни управления (вожжи) и останавливая перед молодыми людьми экипаж. — С ветерком прикажете, ваше сиятельство? — спросил он хрипловатым басом. — По Кузнецкому мосту и обратно к театру, — сказал, входя в роль. Костя. — Живо! Получишь на водку. — Прокатить, ваше сиятельство! Понимаем! Костя посадил в пролетку свою отличающуюся от прохожих даму. — Создатель театра говорил, что театр начинается с вешалки. Те, кто восстанавливал сейчас все его традиции, логически продолжили его принцип. Театр может начинаться и с улицы. — И с какой улицы! Я, как янки при дворе короля Артура, дивно перенеслась назад! — «Эффект присутствия». Норма, — невозмутимо ответил Костя. — А в Ленинграде таким образом восстановлен старый Невский и набережная с Зимним, — вдруг вставила Ева. — Я была. Как во время Величайшей революции угнетенных. — Великой Октябрьской, — поправил Костя. — То верно, — согласилась Ева. — Так и кажется, что на площадь выйдут колонны народа, пройдут на парад… Лихач же мчался по старинной московской улице, копыта звонко стучали по булыжной мостовой. Ева с интересом рассматривала вывески. Фамилии купцов, устаревший алфавит, некоторые давно забытые знаки. — А нельзя ли перенестись еще немного назад, встретить Пушкина, Адама Мицкевича? Костя пожал плечами. Водитель, то есть извозчик, развернул коня, не считаясь с правилами уличного движения, и пролетка помчалась назад. Навстречу неслись такие же лошади, запряженные в архаические экипажи. Ни одной машины, даже самой старинной, не встречалось. — Как замечательно! — прошептала Ева и густо покраснела, потому что Костя взял ее за талию, но только спустя некоторое время она поняла, что он сделал это, чтобы удержать ее на узком сиденье пролетки. Костя истолковал ее слова совсем не так, как нужно, — она слабо пыталась отстраниться, но Костя еще крепче прижимал ее к себе. Наконец экипаж остановился перед старинным театральным подъездом, так непохожим на современные. Она взглянула вдоль улицы — над дверью, через которую они прошли сюда, горела надпись:Театр будущего
Так вот откуда они пришли! Там, за стеклянными дверями, «идет представление будущего», из которого они чудом попали в это далекое прошлое! Здесь было замечательно! Ева была счастлива, как никогда. В театр входили не только люди, одетые по старинной моде, вроде Кости. Очевидно, лишь у подъезда старательно создавалось впечатление иного времени. Там была толпа прошлого. Но все равно и здесь было необычно. Мимо билетеров с эмблемами театра на униформах Костя и Ева прошли в гардеробную, чтобы оставить свои легкие пальто. Странно было получить металлические, жетоны с номерами, по которым после спектакля им вернут именно их одежду, словно они сами не могли взять с вешалки свои вещи. Но и в этом была старина! И Ева с улыбкой подчинилась. — Я радуюсь, что Виленоль будет выступать в переехавшем обратно сюда театре. В прошлый раз я так расстроилась, что хотела видеть ее только в современном театре. — Ева помолчала и спросила: — Зачем же ты опять рискуешь с Виленоль? То не гуманно! — Даю в залог свой указательный палец, что на этот раз все будет в порядке, — улыбнулся Костя. — Ловлю на слове! Требую палец. — Пожалуйста, — Костя полез в карман и вынул пластиковый футляр. Изумленная Ева смотрела, как он достает из пахучего порошка настоящий, ампутированный у кого-то указательный палец. — Какая гадость! — возмутилась она. — Это мой. Это залог, — и в доказательство он показал, что палец его левой руки и вынутый из футляра — совершенные копии. Даже старый шрам был тот же самый. Раздался звонок. Зрителей приглашали в старинный уютный зал, где бывали и основатели театра, и его первые драматурги: Чехов, Горький… Сегодня театр ставил «Анну Каренину» Толстого. И Ева, видевшая провал в таком же спектакле Виленоль, особенно волновалась. К тому же, выходка Кости с пальцем рассердила ее. Костя был непроницаем. В антракте он вел себя уже вполне пристойно, находил, что акт, в котором Виленоль в прошлый раз исчезла, прошел безукоризненно. — Пока «эффект присутствия» полный, — согласилась Ева. — Может быть, я даже не отрежу ни у кого пальца, — и она улыбнулась в знак установленного с Костей мира. Костя расцвел. Начиналось очередное действие. Подготовленная обстановкой древней улицы, театральным подъездом, ароматом старины, Ева воспринимала игру артистов и декорации, как подлинную реальность. В комнату, перенесенную словно с полотна старого живописца, вошел Вронский, похудевший, твердый и озабоченный. Анна сначала с виноватым и кротким выражением на лице бросилась ему навстречу, расспрашивала, где он был, как провел время. В каждом ее слове была горечь женщины, отвергнутой обществом. Виленоль тонко сумела передать противоречивое состояние Анны, которая ради любви к Вронскому пожертвовала своим положением в свете, даже сыном, и теперь, выходило, ничего не получила взамен. То, что Вронский нисколько не пострадал от всего случившегося, вызывало у Анны невольную досаду, даже неприязнь к любимому человеку. И, не отдавая себе отчета в том, что она делает, Анна разыграла отвратительную сцену, прицепившись к тому, что Вронский видел плавающую в купальном костюме женщину. Анна отказалась ехать в деревню, куда собиралась минуту назад. Наконец, стала обвинять его в том, что он произнес слово «ненатурально», говоря о ней. Ева вспомнила в этот момент, как в прошлый раз, во время провала спектакля, Вронский сказал Анне, что она неискренна, и как это слово вконец разрушило у зрителей иллюзию реальности. Теперь ничего похожего не произошло. Виленоль и ее партнер все глубже раскрывали драму любящих друг друга людей, заведенных в тупик условностями общества, в котором они жили. Виленоль сумела показать за вздорными с виду словами Анны глубочайшую драму, которая привела ее к гибели — она бросилась на рельсы под поезд одной из первых железных дорог России. — А говорят, что машины времени сделать неможно! — воскликнула Ева, косясь на Костю, — он аплодировал вместе со всеми, вызывая артистку. — Если и есть способ пятиться во времени, то только с помощью памяти, воображения и силы искусства. Есть отменные стихи про «воображало». Прочитаю после. — Я весь спектакль сидела, как на древнем электрическом стуле. Я все боялась, что Анна исчезнет. Занавес раскрылся, и Виленоль, счастливая, воскресшая после «прыжка под поезд», кланялась аплодирующей публике. А потом произошло нечто невероятное. Она подняла со сцены брошенный ей букет и, прижимая его к груди, сошла… в зал! Ее окружили взволнованные люди. — Клянусь, такого неможно увидеть даже на Гее! — не веря глазам, воскликнула Ева. — Норма, — отозвался Костя. — Мы же вырастили мой палец, — и он спокойно вынул из кармана футляр с собственным пальцем. — Так же вырастили мы и живое сердце для Виленоль. Спасибо эмам. — Эмам? Только им? — Нет. И Арсению, конечно. — А тебе? — Я только помогал. — А меня хотел разыграть? — Я уже разыграл… однажды… сам себя! С тех пор завязал свой язык узлом… не морским, а океанским… может быть, даже космическим… Вместо ответа Ева притянула его к себе и при всех расцеловала: — Это за Виленоль. А это от меня! Однако никто не обратил на них внимания. Восхищенная публика была занята Виленоль. К ней никак не мог протиснуться Петя. Заметив это. Костя стал помогать ему. Не лишними оказались и атлетические данные Евы — у нее были мужские плечи.Глава третья СЕДЬМОЙ МАТЕРИК
«Итак, прошло, истекло, пролетело всего лишь несколько лет, как я ступил на свою вторую родину — Землю, а ныне мне приходится любоваться ею лишь с ее спутника, Луны. Великолепный, красочный, изменчивый шар Земли сияет над зубчатыми лунными хребтами, наполняя мое сердце тоской, волнением, страхом. Да, страхом перед тем, что ждет меня дальше… Я люблю, выйдя на балкон, следить, как величественно восходит, всплывает, поднимается исполинский диск. Пейзаж заливается тогда серебристо-голубоватым светом Земли. И все здесь — кратеры и скалы — кажется столь необычайным. Но я уже привык ко всему за то долгое время, которое провел здесь. Я люблю бродить серебристыми ночами по парку, где листва деревьев, колышась от ветра, кажется алюминиевой. Трудно достать даже нижние ветви, чтобы сорвать с них листочки, рассмотреть, приложить к губам влажную их мягкость, убедиться, что они живые, а не металлические. Как хотелось бы мне взобраться на высочайшие эти деревья, вымахавшие так здесь, на Луне. Да, они вот растут великанами. А мне не помогает малое лунное тяготение. С трудом брожу здесь бессонными ночами… бессонными, потому что они еще слишком длинны. Все успевают и выспаться, и проснуться, снова заснуть. Но с каждой минутой Луна все ускоряет свое вращение, чтобы в конце концов ее лунные сутки сравнялись с земными.
Люди переделывают Луну, эту вторую, меньшую часть их двупланетной системы. Однако первозданность планеты все еще чувствуется повсюду. Исполинские горные хребты — суровые, голые, острые, ничем не сглаженные — окружают круговые, залитые древней лавой долины. Сейчас в них создают почву, сажают в нее деревья. Кратеры уже по-новому выглядят даже с Земли. Вулканический пепел, спекшийся с космической пылью под влиянием солнечной радиации, оказался превосходным камнем плодородия «лунных морей». Его и превращают в почву привезенные с Земли бактерии. Океаны растительности, родственные земной хлорелле, но растущей не в воде, а на «пепле», обогащают атмосферу кислородом. Лунная атмосфера, созданная человеком, пожалуй, один из самых замечательных, поразительных, впечатляющих памятников первого шага человека для жизни на иных космических телах. Прежде и метеориты взрывались здесь беззвучно, а теперь… теперь лес наполнен шумом, щебетаньем, пением пернатых, которых даже я слышу без всяких звуковых трансформаторов, поскольку им доступны ноты запредельной для человеческого уха высоты. Птицы прекрасно прижились в условиях меньшей тяжести и уже не раз вывели, выкормили, воспитали своих «лунных птенцов», которые научились летать здесь, но едва ли смогут летать на Земле или на Этане. Нет слов ни на земном, ни на этанянском языке, чтобы описать сожаление, тоску, горечь расставания с моей второй родиной, с Землей. Но ее «тяжкие объятия» стали уже непосильны для моих тонких ног, ее материнская среда слишком плотна, пьянящий окислитель слишком крепок. Не спасали даже фильтры. С каждым месяцем я становился все болезненнее, слабее, беспомощнее, потерял всякую способность передвигаться на ногах. Пришлось сесть в кресло на колесах… на ненавистных колесах, напоминающих машины протостарцев. Я не хотел походить на них! Не для того я улетел с Этаны и подружился с людьми, чтобы уподобиться «живущим в машине», ибо чем еще другим была эта уродливая коляска паралитиков? Но самое страшное было в том, что у меня стало сдавать, болеть, отказывать… сердце. И если чудесная девушка Виленоль много лет назад самоотверженно могла отдать мне свою почку, едва не погубив тем себя, то никто из людей не мог бы отдать своего сердца — даже после смерти! Слишком различны у нас эти органы. Правда, в Институте жизни предложили мне временно стать «протостарцем», заменить свое сердце металлическим аппаратом, чтобы постараться вырастить методом, привезенным с планеты Рела, живую ткань взамен изношенной. Но я отказался. Пусть поймут меня правильно те, кто когда-нибудь прочтет эти строки. Я не мог изменить себе, смалодушничать, нарушить клятву, данную Ане, — никогда не заменять свои органы искусственными. Лучше было уж уйти, исчезнуть, умереть, чем стать «живой машиной» в земном варианте. Тогда земные врачи во главе с академиком Руденко вынесли мне приговор. Я, подобно тяжелобольным и старым людям Земли, должен был забыть, оставить, покинуть ее, перелетев на Луну, где смогу существовать в условиях меньшего тяготения. Пришлось мне проститься с чудесной, щедрой, яркой Землей, с планетой неповторимых пейзажей, так напоминавших остров Юных. Земля, родина человечества, начавшего свое распространение в космосе! Я хотел перенести на Этану все, что узнал о ней. Прежде жизнь сообщества людей строилась на проявлении худших сторон человека: на его силе, злобе, вражде, на ненависти, стяжательстве, жажде власти. И как много пришлось пережить людям, чтобы утвердилась мысль, что общество надо строить на лучшем, а не на худшем начале разумного существа: на доброте, на самоотверженности, на стремлении помочь друг другу и нежелании добиться для себя большего, чем имеют другие. Казалось бы, как просто! Это у них называлось строительством коммунизма. Но сколько поколений потребовалось воспитать в нужном духе! Правы были Виленоль и ее Петя, когда говорили мне на Ленинских горах, что человек нового общества создан воспитанием. Я пишу в надежде хотя бы мысли эти передать на свою несчастную планету протезного бессмертия! Да, несчастную! Достаточно вспомнить трагический конец Восстания Живых!.. Человечество идет иным путем. Оно не ограничивает рождаемость из страха перенаселения. Люди не только переустраивают, улучшают, увеличивают свою планету (в смысле места для жизни), но и готовятся к массовому переселению на другие космические тела, подтверждая тем существование закона природы, угаданного ученым Циолковским, — Разум, раз появившись, будет распространяться во Вселенной. И человечество уже дерзко открывает, осваивает, переделывает для своей жизни другие планеты Солнечной системы. И я уже дышу лунным воздухом, брожу по лунному лесу, любуясь лунными озерами на месте лунных цирков. Даже нашим протостарцам, превратившим океаны в ледяные материки, есть чему поучиться у людей, шагнувших на Луну. И я сделаю свое дело. Со мной или без меня, но эти записки, написанные на языке людей, попадут когда-нибудь на Этану, на остров Юных. Люди еще в давние времена достигали Луны, посылали на нее автоматы, роботов, летали сами. И вот теперь приступили к освоению соседнего с Землей космического тела, к переустройству второй части двупланетной системы Земля — Луна. На Луне не могла существовать атмосфера. Молекулы газов под влиянием солнечного излучения приобретали такие скорости движения, которые отрывали их от планеты, и они улетали в межзвездное пространство. На Земле такая убыль атмосферы почти незаметна из-за могучего притяжения, преодолеть которое можно лишь при скорости убегания больше 11,2 километра в секунду (в земных мерах). На Луне достаточно 2,2 километра в секунду. Как же поступили люди? Они решили создать на Луне атмосферу из более тяжелых газов. Им помогло удачное открытие. Еще до освоения человеком Луны выдвигалось немало гипотез о существовании подпочвенного льда на Луне. Тогда высказывалось предположение, что тяжелые инертные газы — аргон, ксенон и криптон — должны встречаться в космосе в больших количествах, чем на Земле, где составляют лишь около процента примеси к атмосфере. Обе гипотезы счастливо подтвердились на Луне! На ее поверхности давно наблюдались бугры, которые могли быть скоплениями льда. Оказалось, что это не просто лед, а криогидраты, малостойкие твердые соединения, получающиеся из растворов криптона и ксенона в воде при низких температурах. Испарение такого льда, извлеченного из-под пепла, позволило наполнить лунную атмосферу этими тяжелыми инертными газами. Атмосфера из таких газов обладает примечательными свойствами. Прежде всего, для достижения нормального земного давления у поверхности Луны слой атмосферы требовался куда менее толстый, чем на Земле. Кроме того, молекулы тяжелых газов при столкновениях с летящими от Солнца частицами из-за своей инертной массы не разгоняются до опасной скорости убегания, что произошло бы с азотом. Лунная атмосфера из тяжелых газов оказалась устойчивой даже при малой силе тяжести. Кстати, кислород на Луне благодаря добавке к лунной атмосфере газообразного катализатора существует не в свободном состоянии, а в виде соединений с ксеноном, и поэтому не всплывает в тяжелых газах. При дыхании ксенон с особой легкостью растворяется в крови, освобождая кислород, который после этого способен участвовать в окислительных реакциях внутри организма, обеспечивающих его энергией. Любопытно, что общего количества кислорода, заключенного в атмосфере Луны, в шесть раз меньше, чем на Земле. Больше людям не надо! В условиях пониженной лунной тяжести все энергетические процессы протекают менее интенсивно, люди могут ограничиваться малым количеством кислорода для дыхания, подобно тому как потребляют его меньше аквалангисты на больших глубинах. Инертные же газы Луны не вреднее азота. Надо ли говорить, какие виды, расчеты, надежды были у меня на эту чудодейственную атмосферу!.. И потому, быть может, я еще живу, дышу, хожу, но… увы, у меня нет прежних сил сына острова Юных, гнавшего по деревьям гнусного хара. Вспомним старую земную поговорку: «У кого что болит, тот про то и говорит». Как я ни держусь, а все начинаю ныть, жаловаться, причитать по поводу своего потерянного здоровья. Но для обитателей острова Юных я обязан рассказать о другом. Итак, об атмосфере Луны. Ее создавали в течение тридцати лет одновременно с раскручиванием Луны. Если бы создать на Луне атмосферу и не придать Луне достаточно быстрого вращения вокруг оси, это привело бы к неравномерному нагреванию отдельных частей атмосферы Солнцем. Появились бы страшные ураганы, мешающие нормальной жизни. И люди расположили кольцом по экватору реактивные двигатели. Используя открытую ими вакуумную энергию, они выбрасывали газы (с умеренной скоростью, чтобы они не оторвались от Луны) и за счет реактивного эффекта раскручивали планету, создавая одновременно атмосферу. Я, к сожалению, не присутствовал при начале этих работ, но я видел эти двигатели. Они представляют собой туннели, пробитые в лунных скалах. Подпочвенный лед плавился, газы выпускались через туннели-трубы. Из исполинских дюз в лунное небо выбрасывалась смесь водяных паров и тяжелых инертных газов. Вода потом выпадала дождями, заполняя собой естественные углубления, газы оставались в атмосфере. Выросшие леса обогащали ее кислородом, соединявшимся с ксеноном. И тогда люди стали переселяться на «седьмой материк». Переселялись не только больные сердцем и очень старые люди, которым трудно было переносить земное тяготение, переселялись и просто желающие вновь осваивать новый космический континент, молодое поколение романтиков, готовых стать «селенитами». Луна стала для людей грандиозной космической базой. Мне привелось осмотреть ее во время поездки на лунный космодром. Нас, живущих в лунном санатории, приобщали такими поездками к великим свершениям людей, делающих новый скачок в космос. Мы ощущали себя частью человечества. Может быть, для придания поездке особой окраски нас возили в старинном лунном вездеходе, неприятно напоминавшем мне протостарцев. Это громадная машина, защищенная противометеоритными козырьками, ныне уже ненужными. Перемещается она на четырех гусеничных тележках, рассчитанных на преодоление лунного бездорожья. Внутри вездеход, подобно маленькому космическому кораблю, изолирован от внешнего пространства. Он перемещался, ползал, ездил когда-то по Луне, еще лишенной атмосферы. Я ехал на лунный космодром с волнением. Мне хотелось почувствовать себя причастным к дерзким, грандиозным, всеобъемлющим замыслам тех, кто, быть может, подготовит когда-нибудь и новый рейс на мою Этану и не сможет тогда обойтись без меня! Вездеход с устарелым атомным двигателем быстро пересекал открытые пространства с близким горизонтом. Чувствовалась кривизна поверхности небольшой планеты. Временами вездеход кренился набок. Мимо проплывали острые, еще не сглаженные воздействием атмосферы лунные скалы, ребристые, игольчатые, похожие на пучки стрел, готовых ринуться вверх. Космодром был расположен в одном из гигантских цирков. Ровная, заметно выпуклая, залитая первичной лавой долина была окружена кольцом сероватых скалистых гор. Космодром построили еще до создания на Луне атмосферы. Помещения технических служб были пробиты в скалах. К каждой взлетной площадке вели крытые галерейные переходы. Теперь в них уже не было нужды: вся планета защищена надежным сводом благородных газов. Вездеход миновал старый ракетодром и через пробитый в горе туннель проехал внутрь горного кольца. Перед нами открылась «выпуклая равнина», то есть часть сферы, покрытая огромными серебристыми дисками. Я уже знал, что современные звездолеты не походят на тот, в котором я прилетел с Этапы. — Ну вот и часть звездной армады, — сказали мне мои спутники. — Корабли-матки находятся на селеноцентрической орбите. Они примут на себя все эти диски. И только тогда отправятся к другой звезде, к планете Гея. Сердце у меня заколотилось, заболело, сжалось. Неужели я не дождусь рейса к Этане? Я знал, что экспедиция на Гею будет грандиозной, но то, что я увидел, превзошло мое воображение. Лунный вездеход остановился около группы людей близ первого диска. Я с удовольствием выбрался из громоздкой машины и увидел среди стоявших знакомые лица. Это были мои товарищи по звездному рейсу, а главное, среди них была женщина звезд, Вилена! Она улыбалась мне и шла навстречу, держа за руку маленького мальчика. Вырвав ручку из руки матери, он подпрыгнул высоко вверх, кувыркнулся в воздухе и, к ужасу ее, упал на почву. Однако не ушибся, как это случилось бы на Земле. Мать за эго его пожурила. Ее муж, Арсений Ратов, стоял поодаль вместе со своим отцом, знаменитым космонавтом Романом Ратовым, возглавляющим теперь Великий рейс на Гею. Вилена обняла меня по земному обычаю: — Как твое здоровье, славный Ан? — Я хотел бы лететь с вами! Ах если бы я увидел, отгадал, понял, что вы летите не на Гею, а на мою Этану!.. — Пойди к папе, — сказала мальчугану Вилена, а сама взяла меня под руку и повела по космодрому. Я смотрел на резвившегося мальчугана. На Этане запрещено рождаться! Зачем везти туда детей? А на Гее они станут первыми поколениями разумян. Я сразу почувствовал себя плохо, и женщина звезд повезла меня в лунном вездеходе в санаторий. Она сидела около меня, как когда-то ее названая сестренка Виленоль, и старалась облегчить мое состояние. — Возможно, у тебя будут другие спутники, славный Ан, — мягко говорила она мне, имея в виду желанный для меня рейс на Этану. Но я уже знал, что люди готовили другой рейс, отправляя космических колонистов на удобную для их жизни планету Гея, где все окажутся как бы великанами. Слава и счастье им! А мне? А мне пора закрывать, завершать, заканчивать свои записки… или завещание. Может быть, хоть письменными знаками землян я передам свои мысли на Этану, на далекий, желанный, любимый остров Юных, обитатели которого могли бы, сумели бы, должны были бы, подобно людям, строить коммунистическое общество.
Сын Вилены резвится сейчас в нашем санатории дряхлых. Он взбирается на деревья, прыгает ко мне на балкон. Этот мальчик будет великаном на Гее, и в нем заложено единственное, истинное и подлинное бессмертие Разума, который будет передаваться из поколения в поколение!.. Только в этом спасение Этаны! Как жаль, что после меня не останется никого…»
Этанянин Ан умер на руках Вилены. Все человечество было опечалено. Есть ли еще на Этане такие же ищущие и преданные своей идее умы или все существа там только помышляют о своем личном бессмертии? Сын Вилены, которого она при рождении назвала Аном, весело прыгал по лунным скалам.
Глава четвертая «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»
Доктор Иесуке Матсумура поправил очки, вытер ставший сразу влажным лоб и, тяжело дыша, продолжал смотреть на опустевший видеоэкран. Он ожидал, что рано или поздно этот вопрос встанет перед ним, но сейчас, когда это случилось, почувствовал растерянность, тревогу, дажу тупую, тоскливую боль… Он отодвинул бумажную перегородку, разделявшую пополам маленький домик его детства, непостижимо давнего по земному времени. Комната стала вдвое больше. Через окна открылся вид на гигантское сооружение, достающее облака. Знаменитый Дом-Фудзи, в котором должны были поселиться миллион японцев! Миллион человек друг над другом на маленьком скалистом участке у моря… Дом-Фудзи должен был уйти в небо на три километра, немногим уступить горе Фудзи-сан (Фудзияме), в честь которой получил свое название. Маленький Иесуке только еще напевал наивную детскую песенку про черепаху: «Моси, моси, ками йо, ками сан йо!», когда исполинские машины начали свозить на отгороженную строительную площадку искусственные каменные глыбы будущих стен. За забором всегда что-то рычало, трещало. Мальчику казалось, что там в вечной схватке бьются добрые и злые. Но заглядывать в щелки между досками было неприлично. А приличия были в числе первых понятий, постигнутых крошкой Иесуке. Объединенного мира тогда еще не было, но многие страны принимали то или иное участие в строительстве жилой башни, иронически прозванной скептиками «Вавилонской башней Японии». Город-дом показался своими этажами над забором незадолго до окончания Матсумурой «школы мужества». Он хорошо помнил улицы города, по которым в те времена еще двигались самоходные экипажи, турбобили и электромобили. Но он уже тогда любил ходить пешком, делал свои «японские десять тысяч шагов» в день. На узких полосках панелей, прижатых к домам, теснились пешеходы. Теперь, когда движение машин ушло целиком под землю, это невозможно представить себе… Так бывает, когда толпа устремляется со стадиона после соревнований. Юноша Иесуке повесил в проеме между окнами копию картины художника средних веков Питера Брюгеля — «Вавилонская башня». И год от года сравнивал он растущую гору этажей Дома-Фудзи с его доисторическим прототипом. Образ Вавилонской башни настолько захватил молодого человека, что Матсумура выбрал время, чтобы отправиться в те места, где стоял когда-то Вавилон. И там он открыл для себя нечто новое. Он познакомился с историческими памятниками не только вавилонян, но и их предшественников — древних шумеров, цивилизация которых возникла внезапно, якобы благодаря помощи разумного человекообразного существа, носившего рыбоподобное одеяние, закрывавшее его с головой. Звали этого пришельца в скафандре Оанном. Иесуке Матсумура воображал себе в образе мудрого гостя шумеров посланца другой, внеземной цивилизации. Нашлись противники такой идеи. В острой полемике по этому поводу Матсумура запальчиво пообещал скептикам добыть неоспоримые доказательства… И ради них доктор Матсумура отправился в звездный рейс «Жизни-2». Он не привез доказательств, что этаняне прилетали на Землю, но вместе с ним прилетел живой этанянин, несомненный гость из космоса на Земле. Матсумура отсутствовал пятьдесят земных лет. Когда он вернулся, «Вавилонская башня Японии» уже достала до облаков, плывших в километре над землей. Однако осталось построить еще два километра несчетных этажей… И тогда японец Иесуке Матсумура, повидавший с околопланетной орбиты «Жизни-2» ледяные материки протостарцев Этаны, стал горячим сторонником возведения хотя бы в части земных морей новых материков. И прежде всего около Японских островов. Нужно дать возможность японцам селиться так же широко и привольно, как это делают сейчас люди повсеместно на площадях, освобожденных «машинами пищи» от посевов питательных культур. Матсумура мечтал о цветущих вишневых садах на месте морских волн. И доктор Иесуке Матсумура стал вместе с инженерами, отцом и сыном тен-Кате, инициатором замораживания Японского моря. Время, когда вокруг этого велись споры, давно позади. Матсумура помогал проектированию. Он настаивал, чтобы на ледяную поверхность, в которую превратится море, насыпать земляной покров — почву. Ради этого он готов был срыть хоть гору Фузияма. Однако старый инженер Питер тен-Кате мягко высмеял его. Сосчитал с карандашом в руке (даже без электронных машин!), во что это обойдется человечеству. С такими замахами проекту ледяных материков не выстоять в споре со сторонниками Великих звездных рейсов. Но Матсумура не сдавался. Он не мыслил, чтобы люди жили так, как протостарцы на Этане, которым ничего, кроме ледяных гаражей, не требовалось. А человеку, как считал Иесуке Матсумура, нужна была красота: сады, извивы речек, тихие берега, холмы, еще лучше горы… И если их нет, надо их насыпать!.. «Все это надо, — соглашался старый Питер тен-Кате, — только зачем же срывать Фузияму? Достаточно просто поставить все вверх дном». Матсумура удивился, подумал, что старик шутит, но тот совсем не острил. Он выразился совершенно точно: нужно было «поднять дно наверх»! Старый инженер предложил опустить под замороженный ледяной купол приемные трубы и засасывать со дна океана ил, в котором за миллионы лет накопилось достаточно органических веществ, чтобы почва, намытый ил (разумеется, опресненный!), стала бы щедрой и плодородной. «Сажайте свои вишни, дорогой Матсумура!» — сказал старый голландец. И когда началось строительство Японского ледяного материка, Матсумура любовался растекающимися илистыми реками, которые по строго заданному проектами рельефу намывали почву, как прежде намывали плотины. И потом Иесуке Матсумура с непреходящим радостным чувством ходил пока еще по голым холмам, между которыми вились речки, стоял на голых берегах несчетных озер, которые были запроектированы из расчета сохранения хотя бы части зеркала испарения бывшего Японского моря. Недостающую часть восполняли искусственные гейзеры. Они вырывались из-под насыпанной почвы и рассыпались высоко в небе сверкающими струями, в которых порой горела радуга. Озера и гейзеры должны были дать в воздух такое же количество влаги, какое прежде испарялось с поверхности моря. Климат соседних материков не должен ухудшиться! И бесчисленные детские фигурки заполнили новые голые земли. Они сажали сады, чтобы потом заселить их. Если древняя мудрость говорила о том, что только тот человек оставит после себя след, кто посадит два дерева, то теперь с уверенностью можно было сказать, что юность Японии создала себе цветущий материк редкой красоты, которым миллионы лет станет восхищаться Разум. Все это промелькнуло в мыслях у Матсумуры, пока он стоял перед раздвинутой перегородкой и смотрел на недостроенную «Вавилонскую башню» Дома-Фудзи… Он должен был принять решение, должен был сообщить о нем обоим тен-Кате, и отцу и сыну. А старик плох, совсем плох. Матсумура подошел к выходной двери и стал надевать ботинки. Приняв решение, он всегда действовал решительно. Обуваясь, он посмотрел на маячившие среди облаков недостроенные этажи «Вавилонской башни». Какая ирония или какая мудрость Времени! Чуть схожи конфигурациями древняя Вавилонская башня на картине Питера Брюгеля и заоблачный Дом-Фудзи… Те же уступы по нескольку этажей, постепенно сужающие диаметр башни до самой недостроенной вершины дома-горы. Но если древнее, легендарное строительство башни было заброшено из-за того, что сооружавшие ее народы говорили на разных языках и не понимали друг друга, тоДом-Фудзи останется незаконченным и станет ненужным потому, что народы всего мира нашли единый язык Разума и общий путь истории. Общий путь… Матсумуре предстояла тяжелая задача сказать об этом пути своим соратникам — двум Питерам тен-Кате. Поймут ли они его? Не сочтут ли бежавшим от трудностей. Но нет! Этого никто из них не подумает, потому что главные трудности по намыву материка позади. Конечно, сделать еще предстоит больше, чем сделано, но теперь уже известно, как это делать, а лететь в космос вместе с миллионом людей (которых с успехом можно разместить в этой башне), осваивать, застраивать совсем новую планету, на которой человек будет великаном, — это, возможно, еще труднее, чем созидать на Земле новые материки. С такими мыслями ехал Матсумура на ледяной материк. Поезд нырнул с поверхности земли в трубу, она повела его и дальше — через бывшее море — в ледяной монолит. Скоро Матсумура приедет туда, где в маленьком домике живет старый тен-Кате. Молодой, наверное, около него. Ведь старик был плох…Приехав, Матсумура вспомнил, как он убеждал старого тен-Кате оставить берега старых Японских островов такими, какими они были, сохранить около них море в виде морских каналов, по которым в прежние порты могли бы проходить корабли. С ним согласились. И теперь былые острова очерчены морскими каналами. Сохранены традиции обитателей этих мест, но вместе с тем людям дан простор. Достаточно им перейти по одному из множества ажурных мостов через канал, и они оказываются в стране вишен, извилистых рек, озер, холмов, гейзеров, где под почвой и теплоизоляционным слоем, подобно вечной мерзлоте Сибири, держит на себе новую землю исполинский ледяной купол размером с море! Иесуке Матсумура подходил к утопающему в зелени маленькому домику старого инженера, руководившего отсюда всеми работами. Это был изящный японский домик, с крышей, загнутой вверх краями. Домик с садом — на льдине!.. Вдруг Матсумура остановился. Он увидел за оградой садика, маленького, «игрушечного» японского садика с миниатюрными деревцами, с мостиками, переброшенными через ручейки, крохотную девочку. Зачем она здесь? Бумажные стены веранды были раздвинуты. На нее вынесли кровать, на которой лежал, провалившись в подушках, глубокий старик с восковым лицом. Навстречу Матсумуре шли Петя тен-Кате и его жена, Виленоль. Виленоль приложила палец к губам. Маленькая девочка Ана не понимала, что дедушка умирает. Она играла в его садике и была счастлива. Самый старый дедушка, с длинной белой бородой, был добрый. Он заметил, что мама и папа грустные, и ласково говорил с ними. На садик набежала тень. Маленькой Ане почему-то стало страшно и захотелось плакать. Мама нашла ее в кустиках и повела в дом прощаться с дедушкой, хотя дедушка никуда не уезжал, а лежал в своей кровати на колесиках. Дедушка тяжело дышал и смотрел вокруг немигающими, мутными глазами. Девочку подвели к нему, и она поцеловала его желтую жесткую руку. Теперь можно было уйти, и Ана обрадовалась. — И все-таки он будет жить, — сказала Виленоль японцу, глядя на дочку. — Извините, — насторожился Матсумура, — но ведь академик Руденко не оставил надежд. Виленоль кивнула в сторону играющей в песочнице девочки: — В ком-нибудь из ее детей пробудят его память. Петя тен-Кате стоял и молчал, глядя на бегущие тени облаков. Потом сказал: — В этом — бессмертие Разума. — Не только в этом, — заметил Матсумура, — еще в том, что он расселится по всей Вселенной. — Вот как? — сказал Петя тен-Кате, пристально глядя на своего соратника. Он понял все, но ничем не упрекнул Матсумуру, только крепко пожал его руку выше локтя.
Глава пятая ЗВЕЗДНАЯ АРМАДА
На Земле прошла еще одна весна, прошло лето, наступила осень. В саду у Вилены распустились золотые шары. Их было так много, что они напоминали ей огромные звезды, по которым надо держать путь. В домике было уже чисто, но, словно перед большим праздником, Вилена продолжала уборку. Она махала «допотопной» тряпочкой, не доверяясь автоматам-пылесосам. Ей хотелось, чтобы «после нее» все осталось «в ажуре». Смахнув несуществующие пылинки с полированной крышки рояля, она прижалась к гладкому дереву щекой. Вместе с сынишкой, захватив лишь небольшой чемоданчик (все остальное уже было отправлено), Вилена вышла из дому. Она осторожно прикрыла за собой дверь — не наделал бы сквозняк беды! — и с Аном бодро зашагала мимо клумб, за которыми так любила ухаживать, задержалась возле золотых шаров, прощалась с ними, глядя на них, как на живые существа. Потом Вилена старалась на ходу дотянуться рукой до каждого дерева. Так они с сынишкой вышли в поле. Как хорошо, что «машины пищи» еще не всюду вытеснили земледелие! Здесь, может быть, в последний раз посеяли озимые. Они проросли нежной зеленью, и эти зеленя выглядели на фоне осеннего леса самой молодостью, идущей на смену! А в лесу — множество пятен: оранжевых, красноватых, желтых… Вилене вдруг вздумалось, что это из лесу выглянули вдруг события прошлой жизни. Сколько же их! Ужас! Она зажмурилась, стараясь перебороть минутную горькую слабость. Поддашься — и закрутишься сама сухим беспомощным листиком. Ан все спрашивал: — Когда мы снова будем на Луне? На Луне? А на Земле? Стоит ли мальчику знать слово никогда? — Там хорошо прыгать, — твердил Ан. Он высвободился из маминой руки и прыгнул, как на Луне, и, конечно, не взлетел «по-лунному». Материнская планета крепко держала своего маленького сына… держала последние часы. Сейчас мать с сыном дойдут до станции подземной дороги, пронесутся через Москву и выйдут на поверхность у космодрома. Близ Луны их ждут исполинские звездолеты. Разведывательные корабли Тучи, Виева, будь они здесь, казались бы шлюпками около океанских лайнеров. Для безопасности остающегося на Земле человечества звездная армада должна была стартовать не с околоземной, а с селеноцентрической орбиты. Звездолеты примут на борт по многу тысяч человек. Что значит теперь «лишний пассажир»! Как бесконечно далек тот день, когда Вилена вела бой с электронным экзаменатором и в полемическом задоре предложила для звездоплавания энергию, скрытую в структуре самого вакуума. А ведь именно этот принцип положен в основу готовых к старту кораблей звездной армады.Первые звездолеты стали музейными достопримечательностями, но их создатель Виев был конструктором и звездных исполинов Великого рейса. Вилене вспомнилось, как перед первым звездным рейсом они встретились с Арсением, уже включенным в экипаж «Жизни». «Я от тебя все равно не отступлюсь», — сказала она в ответ на предостережение о парадоксе времени и пошла к Виеву… Теперь все как бы повторялось. Они с Арсением вместе, но… неотвратима разлука на все время Великого рейса. Ведь каждый из них, как и все первые звездолетчики, возглавит по отряду кораблей. Корабли эти пойдут вблизи флагмана, чтобы видеосвязь была оперативной, не такой, как последнее видеосвидание с Арсением. Опыт командира понадобится экипажам, отвечающим за жизнь тысяч людей… Его слово должно долетать не через час!.. Никто из первых звездолетчиков не уклонился от выполнения почетного долга. Только Виев и Роман Ратов оставались еще на Земле, чтобы повести на Гею вторую волну переселенцев. Но Великий рейс продлится так долго и Арсений будет находиться в космосе так далеко от Вилены, что даже видеосвидания с ним будут невозможны. В звездном городке Вилена отправилась к Виеву, чтобы с ним первым проститься перед своим отлетом. Стол его, как и когда-то давным-давно, был завален чертежами, а рядом стояла модель исполинского звездного лайнера. Виев вышел из-за стола навстречу Вилене, обнял ее за плечи, притянул к себе. — Помнишь, — сказал он, — как ты отчитывала меня за бездушное отношение к звездолетчикам-холостякам? — Еще бы! — улыбнулась Вилена. — Для нас с вами это не полвека назад было. — Так вот, командир седьмого флагмана Великого рейса! — торжественно объявил Виев. — Тебе в помощники назначен один звездолетчик, только не холостой, а женатый. Вилена вспыхнула, догадываясь, кого он назовет сейчас. — Верно догадалась, — кивнул Виев. — Арсений Ратов. И еще одного назначаем мы в помощь командиру тринадцатого флагмана Еве Курдвановской. Только тот пока холостой. — Костя Званцев! — обрадовалась Вилена. — Вот именно, — подтвердил Виев. Вилена счастливо рассмеялась: — Что это? Матриархат? — Нет. Ева просто солиднее, весомее легковесного Кости. — А Арсений? — едва ли не с обидой спросила Вилена. Виев замялся: — Нет. Тот тяжеловес, но… — Не отвечайте! Узнаю Арсения. Это он сам? — Ну что ж, — развел руками Виев. — Сам грешу чтением мыслей. — И снова обнял Вилену. Прямо от Виева Вилена поехала к Авеноль. Старушка старалась новое свое жилище сделать похожим на былой родительский дом, обставленный еще по вкусу Анны Андреевны. Знакомые одряхлевшие предметы обстановки напомнили Вилене о многом, и ей взгрустнулось. Авеноль думала, что знает все. С печальной усмешкой она сказала: — Я не бабушка Софья Николаевна, к счастью своему, не верившая в парадокс времени Эйнштейна. Мне не дожить до твоего возвращения… — Она отвернулась и заплакала. Ее худенькие старческие плечи вздрагивали. Вилене было жаль ее, и она коснулась рукой пушистых седых волос сестры. — Я не вернусь, Авеноль, — сказала она и поняла, что это не сможет утешить сестру. — Звездная армада не рассчитана на возвращение. Глаза старой Авеноль сразу высохли. Она гневно обернулась: — Как? Ты хочешь навсегда?… — Одна из первых жительниц Геи! — слабо улыбнулась Вилена. — Это нелепица! — заволновалась Авеноль. — Зачем Гее вакуумная энергия или рояли? Но поколебать Вилену было невозможно.
С тяжелым чувством приехала Вилена к Виленоль. Маленькие Ан И Ана дружили со дня рождения, росли, как близнецы. Им предстояло расстаться, не узнав друг друга взрослыми. — Ты знаешь, — обняла Вилену ее названая сестренка. — Это правильно и неизбежно. Наверное, так уже было не раз во Вселенной. Разумные существа прилетали на свободные планеты и заселяли их. Может быть, и на Земле, как уверяет милый доктор Матсумура, случилось так же. И поселившемуся здесь «гомо сапиенсу» пришлось бороться с враждебной природой. — На Гее будет по-иному. Туда человек ступит великаном. И по своему росту, и по своим знаниям. — Ты была у бабушки Авеноль? — Да. Она сказала, что в условиях дикой планеты не нужны ни вакуумная энергия, ни рояли. — Разве можно потерять на Гее цивилизацию Земли? Физика — показатель ее глубины. Искусство — ее красоты!
От Виленоль Вилена поехала к академику Руденко. Владимир Лаврентьевич, поговорив с ней, лукаво посмотрел из-под седых бровей: — Мне не хотелось бы, чтобы на Гее через миллион лет сомневались в том, прилетели ли на нее люди с Земли или нет. И академик вполне серьезно пообещал начать «археологические раскопки в наследственной памяти людей». — Там должны сохраниться картины «доземного их существования», — сказал он Вилене, провожая ее. — Благословляю тебя на «великое космическое переселение народов»! — уже издали крикнул он.
Арсений позже Вилены уехал из звездного городка. Огромный, крепкий, словно взошедший на помост для нового рекорда, стоял он на веранде, ожидая, когда Вилена закончит пьесу. Вилена, не доиграв пьесы, почувствовала его близость, вскочила из-за рояля и бросилась к нему: — Значит, это ты настоял? — с вопросом заглянула она ему в глаза. — Они с отцом из-за нас с тобой и решили лететь с первой волной, — смущенно ответил Арсений. — Чтобы заменить тебя и Костю на постах командиров? Какие же они настоящие люди!.. — Буду хорошим помощником, — пообещал Арсений и шутливо добавил: — Так и должно быть. Новая колония Геи начнется с матриархата. По крайней мере, на двух кораблях, твоем и Евы. Вилена загадочно улыбнулась в ответ.
И вот теперь Вилена, прощаясь, смотрела на яркую пестроту леса. Вместе с маленьким Аном они быстро зашагали к станции подземной дороги. Новые люди с присущим им тактом не устраивали космическим колонистам горьких проводов. Рейсы ракет на окололунную орбиту звездолетов проводились спокойно, буднично… Арсений улетел на звездный лайнер раньше Вилены. Он подготовлял корабль для приема пассажиров. Теперь, без всякого надрыва и слез, улетела туда и Вилена с сынишкой. Виленоль с дочкой Аной словно случайно оказалась в том поезде, в котором ехала Вилена с сыном. Дети обрадовались, хохотали, когда «Невидимка» мягко усаживал их в кресла, и тщетно старались встать при разгоне и торможении. Виленоль перекидывалась с Виленой ничего не значащими словами. Виленоль с дочкой поднялись с места на какой-то станции и простились с Виленой, словно расставались на день-два. И в этом прощании было больше бережливости и любви, чем в былых рыданиях на старых космодромах.
По травянистому полю подмосковного космодрома Вилена с Аном шли не оглядываясь. И каким-то внутренним зрением воспринимала Вилена сейчас все, что было вокруг: и чистое синее земное небо (в прошлый раз по нему бежали высокие облака!), и дальний лес в осеннем наряде (тогда он был нежно-зеленым, едва одевшимся!), и группу людей, оставшихся у белого здания космодрома) прежнее было намного меньше!). Вилена знала, что никто из близких на этот раз не провожает ее. Она нагнулась и сорвала пучок травы. Ан, как обезьянка, тотчас повторил ее движение. Вилена прижала траву к лицу и оглянулась. Пусть там нет Авеноль, Пети, Виленоль, но там — люди, люди ее Земли! Вилена смотрела на них сквозь эту последнюю земную зелень. Ану понравилось смотреть назад через травинки. Почему он раньше так никогда не делал? Ведь интересно! Вилена нагнулась, подхватила сынишку на руки и вошла с ним в космический корабль ближнего космоса. И сын и мать сжимали в руках пучки земной травы. Они сберегут эти травинки на многие десятилетия, и жители далекой Геи не раз придут к ним любоваться на эти священные реликвии с их прародины. Но это в далекие будущие годы, а сейчас… Вилена поцеловала сына, вложив в этот поцелуй все, что хотела передать Земле, которую покидала. И Земля словно ответила ей. Она сжала ее в прощальном объятии, увеличив тяжесть вдвое, — космический корабль набирал скорость…
Рейсовый корабль, курсирующий между Землей и «седьмым материком», доставил Вилену с Аном на звездный лайнер. Вилена по-хозяйски, с чисто женской дотошностью проверяла готовность звездолета к приему пассажиров. Потом стали прибывать первые звездные колонисты. Это были люди нового времени. Они смотрели на свою миссию, как на естественное продолжение земной жизни, и в то же время мечтали о романтике приключений.
Вилена стояла в командирской кабине. В квадратном иллюминаторе, как в старом кинокадре, виднелся диск планеты, поднимающийся благодаря движению корабля из-за лунных гор. Потом лунные горы ушли вниз, исчезли. Шар остался. Медленное его вращение позволяло угадывать перемещение знакомых материков, которые через несколько сот лет местами сольются с замороженными морями. Скоро перемещение материков стало заметнее. Вилена знала, что это вызвано движением самого лайнера, сошедшего с селеноцентрической орбиты. Земля с Луной удалялись… Через несколько лет, в строго рассчитанное время, в этом же иллюминаторе покажется такой же диск планеты, щедрой и дикой, где в своеобразном «минимире» должно начать свою жизнь дочернее человечество Земли. Но никогда не будет утрачена связь с материнской планетой, как это, возможно, произошло с теми, кто якобы колонизовал Землю. Человеческая культура на новой родине через какое-то время совершит еще один прыжок к еще более далеким звездам, чтобы дальше расселить Разум по Вселенной. — Мама, — спросил маленький Ан, — правда, я буду на Гее великаном? И я смогу там прыгать, как на Луне? — Стать великаном человеку помог разум, — ответил за мать Арсений Ратов. — А чтобы высоко прыгать, нужно быть сильным. Человечество могло прыгнуть к другой звезде, потому что оно очень сильное. — Хочу быть сильным, — сказал Ан. И он будет могучим великаном, новый человек нового человечества.
Москва — Абрамцево 1964–1972
Александр Казанцев ФАЭТЫ
Фантастический роман в трех книгах

Рисунки Ю. Макарова

Нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое собственное уничтожение те силы, природы, которые они сумели открыть и покорить.Фредерик Жолио-Кюри
Книга первая ГИБЕЛЬ ФАЭНЫ
Мир — добродетель цивилизации. Грабительская война — ее преступление.Виктор Гюго

Часть первая НАКАЛ
Бунтовщики! Кто нарушает мир? Кто оскверняет меч свой кровью ближних? Не слушают! Эй, эй, вы, люди! Звери! Вы гасите огонь преступной злобы Потоком пурпурным из жил своих. Под страхом пытки, из кровавых рук Оружье бросьте наземь и внимайте…В. Шекспир. Ромео и Джульетта
Глава первая ВОЛНА
Перевод записи с чужепланетного спутника Земли «Черный Принц» сделан с языка фаэтов, живших на Фаэне миллион лет назад. Звучание ряда слов намеренно приближено к земным.Единственная дочь диктатора Властьмании, древнего континента той планеты, носила по матери имя Ясна. Отец ее, Яр Юпи, ждал сына, однако дочь полюбил без памяти. И все чудилось ему, что вырастет она, выйдет замуж и уйдет от него. И когда, по обычаю, понадобилось дать взрослой дочери имя, не придумал он ничего лучшего, как назвать ее Мада, что означало Влюбляющаяся. Фамилии на Фаэне давались по именам планет и звезд. К примеру, Мар или Юпи, Альт или Сирус. Мада Юпи походила на мать: ее называли прекрасной. Лицо ее озадачивало художников, живое, всегда меняющееся, то веселое, то ясное, то задумчивое. Как ее писать? Воплощала она в себе лучшую породу длиннолицых, но овал ее лица был умерен и мягок, нос прям, а губы строго сжаты. Эту синеглазую фаэтессу (так звались там подруги фаэтов) и встретил на Великом Берегу гость Властьмании Аве Мар. Девушка выходила из воды, выбрав мгновение, когда вал прибоя разбился о берег и в шипящей пене уползал обратно. Аве пожалел, что он не скульптор. Все, что он слышал о Маде от своего горбатого секретаря Куция Мерка, было бледно, тускло по сравнению с тем, что он увидел сам. Пожилая полная фаэтесса из круглоголовых вбежала в воду и укутала выходящую мягкой пушистой простыней. Мада не обратила на Аве никакого внимания, хотя со слов спутницы знала о нем немало. Расторопная няня поставила на песок складной стул, и Мада села на него, драпируясь в простыню, как в платье древних. Куций Мерк заметил впечатление, произведенное Мадой на Аве, и, выпячивая свой горб, нагнулся к нему. — Не показать ли местным туземцам? — И с многозначительной улыбкой на умном и недобром лице он протянул Аве небольшую гладкую доску. Сидя на песке и любуясь Мадой, Аве рассеянно отозвался: — Вот не думал, что мы захватили это с собой! — Здесь прекрасная гордячка Мада Юпи, — подзадоривал секретарь. Аве Мар встал. Благодаря его внушительному росту, длинной крепкой шее и прищуру глаз создавалось впечатление, что он смотрит поверх всех голов. Повинуясь, как ему казалось, собственному побуждению, он взял у Куция доску и смело вошел с ней в воду. Спутница Мады, не спускавшая с Куция глаз, зашептала ей на ухо: — Посмотри-ка, Мада! Чужестранец из Даньджаба, о котором я тебе рассказывала, прихватил с собой какую-то дощечку. Несмотря на волнобои, сооруженные здесь для облегчения купания во время прибоя, валы яростно разбивались о берег. Но за препятствием они были поистине гигантскими, как в открытом океане, вздымались один за другим, вспениваясь на гребнях. — Куда он плывет? — тревожилась спутница Мады. — Не позвать ли спасателей? — Он плавает лучше, чем ты думаешь, — рассеянно заметила Мада. — Зачем же взял доску? Смотреть страшно. Но все же она смотрела не отрываясь. Аве доплыл до волнобоя и перебрался через него. Теперь он привлек к себе внимание многих купающихся. — Почему ты решила, что это и есть тот чужестранец? — спросила Мада. — По его спутнику. Круглоголовый, как и я, к тому же горбатый, а гордится, словно гуляет по пляжу Даньджаба. Обидно за наших. Неужто никто не покажет этому гордецу, как надо плавать! — Нет, я не хочу, — сказала Мада, наблюдая, как исполинские валы вскидывали на гребни чужеземного гостя. И вдруг все отдыхающие на пляже зашевелились. Пловец, выбрав момент, когда особенно большой вал поднял его на гребень, вскочил на ноги и замахал руками, словно хотел взлететь как птица. Но он не взлетал, а просто удерживал равновесие на скользкой дощечке. Так он стоял на пенной верхушке и с пугающей скоростью несся к берегу, одетый пеной и брызгами. Казалось невероятным удержаться на движущейся водяной горе. Но безумец не только устоял, он, задорно смеясь, стал скатываться с крутого водного склона, потом позволил волне снова вскинуть себя на хребет. Переполненный пляж ахнул, видя дерзкое мастерство заморского пловца. — Однако я должна посмотреть, как это делается, — решительно сказала Мада, сбрасывая с себя «древнее одеяние» и передавая его на руки встревоженной служанке. — Что ты, родная! — запротестовала та, забыв свой недавний совет. — Пришибет он тебя своей доской. Да и пристало ли дочери самого Яра Юпи плыть с ним рядом? Мада побежала в воду, нырнув в нахлынувшую волну. Темная шапочка, сделанная из упругого материала, оберегающего от воды густые волосы, замелькала среди пенных гребней. Мада доплыла до волнобоя к забралась на него. Отсюда она увидела, что заморский пловец возвращается с доской в океан, чтобы снова начать скачку на пенных гребнях. Девушка помахала ему рукой, хотя он не мог ее видеть. Вряд ли на Великом Берегу был еще кто-нибудь столь же искусный в плавании, как Мада. Океанские волны поднимали ее на хребты и силились отбросить назад. Но она не привыкла отступать, чего-нибудь пожелав. Она решила непременно встать на эту волшебную доску, и не было силы в мире, которая могла бы ее остановить. Иноземец уплывал от берега и не оглядывался. Мада всего лишь миг видела незнакомца, входившего в воду. Но сейчас, плывя за ним в море, она отчетливо представляла себе его атлетическую фигуру в набедренной повязке, крепкие, вздувающиеся под кожей мышцы, мальчишеский затылок и кудрявую голову. И вдруг Мада увидела его. Он стоял на пенном гребне. Вода словно кипела под ним, а он с безрассудной лихостью заскользил вниз по водному склону прямо на Маду. В последний миг заметив ее, Аве подпрыгнул, а Мада нырнула, пройдя под доской. Ей показалось, что волна рухнула на нее, но это доска чуть задела ее. Мада вынырнула и огляделась. Незнакомец, выпрыгивая из воды, встретился с ней взглядом. Он радостно засмеялся и сразу поплыл к ней, прихватив по пути доску. — Держись! — еще издали крикнул он. Мада ничего не расслышала, но улыбнулась в ответ, понимая, что он спешит ей на помощь. А когда он подплыл, сказала: — Я хочу встать на это, — и указала на доску. — Аве Мар с радостью поможет… — Маде Юпи. — Ты узнаешь, что такое радость, сила, счастье! Стоявшие на берегу следили за тем, что делается за волнобоями. И вздох пронесся по пляжу, когда все увидели, что на гребне волны появились во весь рост сразу две фигуры, держась друг за друга и, очевидно, стоя на доске каждый одной ногой. Это казалось чудом. Обнявшись на виду у всех и не падая, они неслись на пенном хребте к берегу. Никогда Мада не получала такого наслаждения. И все-таки, когда Мада и Аве, миновав волнобой, возвращались с доской к переполненному пляжу, Маде стало не по себе. Если бы вчера кто-нибудь сказал ей, что она способна на такое безрассудство, она рассмеялась бы. Аве в одной руке держал доску, а другой готов был помочь Маде, если ее собьет с ног волной прибоя. Но Мада опередила его и, с хохотом проскочив через клокочущую пену, первой выбежала на берег. Она словно показывала, что ей, дочери диктатора, дозволено все! Встревоженная спутница укутала ее пушистым одеянием. — Как было хорошо! Как было хорошо, если бы ты только знала. Мать Луа! — Как не знать, — проворчала та. — Я чуть жива, тебя ожидаючи. Случись что с тобой, я уж непременно была бы казнена по повелению Яра Юпи (да будет он счастлив, великий!). — Хорошо, что ты жива и сможешь теперь мне кое в чем помочь. Мать Луа строго посмотрела: — Боюсь догадаться, родная. О намерениях своей воспитанницы Мать Луа догадалась верно. Мада всегда мечтала о настоящем фаэте, мужественном, благородном, чистом. Малокультурные фаэты среди «высших», кичившиеся своей с древности застывшей цивилизацией, отталкивали ее грубостью, спесью и презрением к круглоголовым, детей которых когда-то лечила ее мать. Чужестранец, как рассказала про него няня, был чужд всех мрачных предрассудков «высших», он был ученым Даньджаба, не побоявшимся там порвать с «наукой смерти», пойти наперекор всем. Именно о таком фаэте могла бы мечтать Мада, а он ко всему тому оказался еще и ловким, смелым, красивым. Фаэтам вообще было свойственно взаимное влечение друг к другу «с первого взгляда», в чем они не всегда признавались сами себе. Дочь Яра Юпи оправдала данное ей отцом имя — сразу влюбилась в одетого пеной гостя и, по мнению Матери Луа, потеряла рассудок. — Подумай, родная! Будь то любой длиннолицый — куда ни шло. А тут ведь скажут — полукровка. Презрение да ненависть! Одумайся, родная! Я учила тебя правде о всех фаэтах, так ведь не для этого же!.. — Нет, — решительно ответила Мада. — Будет так, как я хочу. Ты пойдешь к его спутнику и скажешь, как мы увидимся с Аве. — Где ж увидеться — таким заметным! Схватит его охрана Крови. Не желай ему зла. — Будет так, как я сказала. Другие не смогут на нас смотреть. Мы с ним встретимся в саду дворца. — В саду за Стеной? — с тревогой повторила Луа. — Ты проведешь их через «кровную дверь». Мать Луа поникла. Но Мада не обращала на нее внимания, со вскинутым подбородком идя впереди. «Кровная дверь»! Это было одно из самых надежных устройств Логова, как называли Дворец диктатора. Яр Юпи давно уже был обуреваем манией преследования. Ему казалось, что всюду плетутся заговоры с целью убить его. Потому уже много циклов он безвыездно жил на территории Логова, никогда не показываясь за его стенами. С подчиненными он общался только с помощью экранной связи. Он не доверял никому. Охрану в важнейших местах вели автоматы, пропуская лишь избранных фаэтов с определенными биотоками головного мозга. «Кровной дверью» могли пользоваться лишь самые близкие к диктатору фаэты. Другого «ключа» к двери не было, и ни один посторонний фаэт не мог ее открыть. И вот Матери Луа предстояло провести в сад за Стеной чужеземцев. Она знала, что ее воспитанница решений не меняет. Кроме того, ей и не хотелось препятствовать Маде. Надо ли говорить, что молодой фаэт Аве также влюбился в прекрасную Маду? По натуре своей склонный к крайностям, он снова и снова переживал мгновения, когда обнимал чудесную фаэтессу, стоя с ней на доске. Его бросало в жар, но он ума не мог приложить, как увидеть вновь свою желанную, которая оказалась дочерью Яра Юпи. Куций Мерк, кряхтя, словно нес тяжелую ношу, брел за Аве. Он нисколько не удивился, заметив, что няня отстала от своей воспитанницы и занялась шнуровкой обуви. Пропустив Аве вперед, горбун задержался около круглоголовой, а та, не разгибаясь, чуть слышно сказала: — Как только взойдет в небе сверкающий Юпи, веди своего патрона к Грозной Стене, к руинам старой часовни. Куций Мерк кивнул, хитро ухмыльнулся и догнал хозяина. — Успех — это зависть неудачников. Свидание назначено у старых руин при свете ярчайшей звезды Юпи. Аве порывисто обернулся: — Смеешься? — Смех не помогает в моей профессии. Куций Мерк слишком хороший… помощник.
По капризу диктатора Грозная Стена вокруг его Логова разрезала пополам развалины маленького храма. Руины маскировали и без того неприметную «кровную дверь». Стена в нижней части раздвигалась, подчиняясь биотокам мозга, записанным в программе электронных автоматов. Волнуясь, Мать Луа дала Двери мысленный приказ, и та открылась. Стоявшие в полуразрушенном портике Аве и Куций Мерк быстро прошли в образовавшийся проем. Луа последовала за ними, и Стена сомкнулась за ее спиной. Только руины с внутренней стороны Стены указывали, где искать исчезнувшую дверь. Аве огляделся. Он находился в густом саду. Гибкие лианы свисали, как стерегущие добычу змеи. За мохнатыми стволами деревьев таился мрак, казавшийся густым и вязким. Ночное светило Луа, имя которой носила няня, еще не всходило, а ярчайшая из планет — Юпи лишь серебрила верхушки деревьев. Под ними было темно, как в беззвездную ночь. Сердце стучало в груди молодого фаэта. У Куция Мерка пульс бился ровно. Он проник в Логово, куда и змея не проползет…
Глава вторая ДВА БЕРЕГА
Только за полцикла до встречи с Мадой на Великом Берегу Аве Мар впервые увиделся с Куцием Мерком, своим секретарем. Парокат Аве Мара остановился в тот день на горном перевале континента «культурных» Даньджаба. У Аве захватило дух. Открывшийся с высоты океан словно поднялся на самое небо. Туманная полоса горизонта казалась грядой высоких облаков. Внизу лежал Город Дела. Небоскребы стояли концентрическими кругами. Они соединялись кольцевыми и радиальными улицами-аллеями, по обе стороны которых зеленели парки и поблескивали озера. В центре города высился небоскреб, похожий на коническую ось чудовищного «колеса деловой жизни». Аве нажал ногой на педаль, открывая клапан котла высокого давления. Паровой привод медленно двинул машину с места, разгоняя до нужной скорости. Парокаты совсем недавно, но быстро заменили устаревшие машины с двигателями сжигания. В свое время они отравляли выхлопными газами воздух городов. Истребленное ими горючее могла бы служить химическим сырьем для одежды и других предметов быта. Аве Мар, несясь с огромной скоростью по великолепной дороге, пересек внешнюю круговую аллею, на которой располагались башни домов Города Дела. Издали они казались коническими. На самом деле они были уступчатыми. Их спиралью опоясывала дорога для парокатов, которые, взбираясь по ней, достигали любого этажа. Конический небоскреб был как бы обернут спиральной дорогой по всем этажам с въездами в гаражи у каждой квартиры. Внутри конических башен, обернутых этой спиралью, размещались магазины с коридорными выходами на спиральную дорогу, рестораны, кафе, а также театры и концертные или просмотровые залы. А в самом центре многослойного строения находились производственные мастерские и деловые конторы. В гаражи под жилыми комнатами вели самоходные лестницы. Что же касается простых фаэтов, работавших в мастерских, то они, не имея машин, почти никогда не спускались из своих тесных квартирок, не зная иного мира, ограниченного спиральной дорогой небоскреба. Аве остановил парокат. Двери гаража сами собой открылись и закрылись за ним, когда он въехал. Машина не требовала никакого ухода, всегда готовая к работе, с нужным давлением пара в котле. Нагревательное устройство из вещества распада являлось как бы частью машины, изнашиваясь вместе с нею. Аве Мар был в подавленном настроении. Он нагрянул к одному из своих друзей. Но тот созывал у себя тайное собрание и Аве на него не пригласил. Аве понял все и тотчас уехал. На обратном пути он видел жалкие хижины фаэтов, работавших на полях. Ему стало стыдно перед самим собой, что у него над гаражом несколько жилых комнат, в которых никто, кроме него, не живет. Он не знал тесноты, но знал одиночество и мог лишь по экранной связи вызвать мать. Ах, мама, мама! Находясь даже на огромном расстоянии, она безошибочно догадывалась, каково на сердце у сына, и всегда первая появлялась на экране. Аве понуро встал на побежавшие вверх ступеньки. В чем смысл жизни, если впереди тупик, из которого фаэтам нет выхода? Безумие искать его в истребительных войнах. Это понимают многие фаэты… Но почему друзья не доверяют ему? Вместе с ними и он мог бы не молчать! Разве он не разделяет учения Справедливости? Но он не нужен им… Никому не нужен… Аве вошел в первую из своих круглых комнат и замер в изумлении. Ему навстречу поднялся широкоплечий, коренастый горбун с настороженной улыбкой на жестком лице. — Легкости и счастья! — сказал незнакомец. — Я Куций Мерк! Правитель Добр Мар вручил мне ключ от этой квартиры как секретарю своего сына. Аве горько усмехнулся: — Отец беспокоится, что сына загрызла тоска? — Отец подумал о большем. — Избавит это от горечи? — Разве худо побывать на древнем материке Властьмании? Культурная дикость и высокая техника в руках варваров, называющих себя «высшими»? Одно это чего стоит! — Что толку от таких мечтаний? Я работал с Умом Сатом. Мне, знатоку распада вещества, не позволят уехать за океан. Мы живем во времена пустоты, неверия, накала… — Как секретарь, я помогу во всем, даже в поездке на континент варваров. Сказав это, горбун скрылся в другой комнате. Вскоре он вернулся, неся сосуды с напитками и два баллончика со сжатым дурманящим дымом, которым в минуты отдыха любили дышать «культурные». Одежда Куция Мерка натягивалась на горбу, словно сшитая на другую фигуру. Аве удивился, как быстро освоился здесь его новый знакомый. Запущенная квартира преобразилась. Включенные еще до прихода хозяина механизмы навели чистоту. Затягиваясь дымом, молодой фаэт разглядывал Куция Мерка. — Если бы съездить на Властьманию, — говорил он а раздумье, — пока тоска еще не убила желания… — Желания надо осуществлять. Иначе не стоит желать. Заокеанские фаэтессы очень красивы. — Какое это может иметь значение? Даже знание бессильно вывести фаэтов из тупика. Бездушное политиканство, бездумное поклонение догмам! Твердолобые не желают слушать ничего, что им незнакомо!.. — Аве, переживая непризнание своих идей, срывал теперь свою обиду. — Великий закон инерции! Инерция преодолима приложением энергии. Закон стоит толковать шире. — Куций Мерк подготовлен, несомненно, более, чем надо для обязанностей секретаря. — Преодолеть инерцию надо и в самом себе. — И Куций Мерк выпустил замысловатый клуб дыма. Горбун определенно удивлял Аве Мара. Но ему предстояло удивляться все больше и больше. Куций приходил теперь к Аве Мару ежедневно и без устали рассказывал о легендарном континенте древнейшей цивилизации. Оказывается, он прекрасно знал Властьманию, был знаком с ее историей, искусством, архитектурой, видимо, не раз бывал там, прекрасно говорил на языке варваров, как называл обитателей Властьмании. — Смотри и удивляйся. Глубина невежества и высота знания, чужая техника и дикие теории «высших», трущобы круглоголовых «уродов» и легендарная красавица Мада Юпи. — Дочь диктатора? — нехотя поинтересовался Аве. — Воспитана культурнейшей няней из круглоголовых. Стала Сестрой Здоровья, лечит вопреки отцовскому «учению ненависти». Отец ее так любит, что сносит любые причуды. — Какова же она из себя? — рассеянно спросил Аве. Куций оживился. — Длинные ноги бегуна, но женственны. Линии ее тела — для мрамора. Мягкое сердце и спесивая гордость. Трудно снискать ее расположение. — Похоже, что Куций Мерк добивался этого. Горбун с горькой усмешкой показал на свой горб: — У Куция Мерка слишком тяжелая ноша в жизни. Он теперь совсем избавил Аве Мара от повседневных забот по хозяйству, продолжал много рассказывать о Властьмании, но о Маде больше не вспоминал. Аве Мар сам завел разговор о возможной поездке за океан. Куций Мерк словно ждал этого: — Места на корабле заказаны.Аве Мар стоял на палубе морского корабля и смотрел вдаль. Сейчас океан не поднимался в небо, как при взгляде с перевала, но он был так же безграничен и так же поражал воображение. Ум Сат доверил своему ученику страшную тайну об этом океане. Всякая тайна тяготит, а эта, касающаяся судьбы всех фаэтов, особенно угнетала Аве. Куций осторожно допытывался о причине плохого настроения Аве, но тот отговаривался обидой на ученых, не признавших его идей о возможности жизни на других планетах. Горбун хитро ухмылялся и подшучивал над молодым фаэтом, уверяя, что истинная причина в том, что он еще не влюбился.
Континент варваров показался на горизонте. Острые стрелы словно вынырнули из воды. Над морем поднимались причудливые здания древнего материка, где дома строились не круглыми, а прямоугольными (какая нелепость!). Они беспорядочно тянулись к небу в неимоверной тесноте. Постепенно они слились в груду неправильных остроугольных столбов, напоминая нагромождение кристаллов. К океанскому кораблю, почти выскакивая из воды, летел охранный катер. Предстояла процедура проверки. Куций Мерк нашел своего хозяина, чтобы быть рядом. На палубу поднимались длиннолицые, с крючковатыми носами. Все они были в единообразном угловатом платье с поднятыми у спины воротниками и короткой темной пелеринкой, переходящей в прямоугольную, тоже темную полосу на груди. — Эй ты, горбатое отродье пожирателей падали! Посторонись перед Охраной Крови! — гортанно крикнул первый из длиннолицых, поравнявшись с Куцием Мерком. — Тебе придется убираться отсюда на свой вонючий остров. Аве Мар, специально изучивший язык Властьмании, покраснел от возмущения, но, увидев предостерегающий, искоса брошенный взгляд Куция, промолчал. А Куций Мерк выпятил горб в поклоне и смиренно склонил голову, заговорив в не присущей ему манере, характерной для местного языка: — Быть может, офицер Охраны Крови поинтересуется узнать, что ничтожный круглоголовый, которого он видит перед собой, всего лишь секретарь знатного путешественника, ясномыслящего Аве Мара, сына правителя Даньджаба. Длиннолицый, носивший в подражание диктатору Яру Юпи бороду, презрительно взглянул на Куция. Аве Мар протянул ему свои жетоны. — Проворного сына правителя Добра Мара можно узнать и без жетонов, — щегольнул и офицер старинной манерой речи. — Что же касается этого презренного круглоголового калеки, то ему надлежит, как цепью, быть прикованным к своему хозяину, служа ему, как то предначертано самой природой. — И офицер направился к другим пассажирам. Куций Мерк побежал за ним, униженно прося вернуть жетоны. Офицер бросил их на палубу, и они, зазвенев, покатились, едва не угодив за борт. Куций Мерк нагнулся, чтобы перехватить их, даже встал на колени. Офицер грубо рассмеялся: — Вот так и приветствуй страну «высших», в позе ящерицы, от которой недалеко ушел. — Да продлятся здесь счастливые дни, — смиренно ответил Куций Мерк.
Океанский корабль входил в гавань, со всех сторон окруженную огромными, странно прямоугольными домами, среди которых Аве Мар сразу узнал несколько знаменитых храмов, построенных в древности и возвышавшихся тогда над всеми зданиями. Ныне город поднялся, заслонив их. Так вот он каков, Город Неги! Некоторые из исполинских брусков соединялись между собой причудливыми многоэтажными мостами улиц, пересекающихся на разных уровнях. Аве подумал, что рассматривает лесную кучу, которую у него на родине насыпают маленькие многолапые насекомые. Это впечатление Аве Мара от приморского города «высших» еще больше усилилось, когда они с Куцием Мерком оказались на берегу. Толпа спешащих фаэтов сдавила, затолкала их. Здесь, кроме парокатов, были также и устаревшие машины сжигания. Смесь разнородных экипажей, шумя и отравляя воздух, мчалась перед полузадохнувшимся Аве, грохотала у него над головой на диковинных мостах между тяжелыми искусственными скалами домов. В тесном подъемном ящике Аве и Куций, прижатые в угол другими фаэтами, поднялись в отведенную им крохотную комнатку самого дорогого Дворца приезжающих. Когда Куций Мерк распаковывал вещи, Аве стоял у щелевидного окна и смотрел на чужой мир. Пока что он не видел никакой романтики старины, к которой стремился с детских лет. Все здесь резало глаз, начиная с одеяния грубых «охранников крови» и кончая неудобными углами тесной комнатенки. — Не стоит терзать зрение варварскими постройками, — сказал Куций Мерк. — Завтра будем на Великом Берегу. Появился низенький круглоголовый слуга и спросил, что пожелают приезжие на обед: растительную или животную пищу с кровью, и не хотят ли они, как все путешествующие, осмотреть густонаселенные кварталы города, не соблаговолят ли еще что-либо приказать ему? Куций Мерк счел необходимым проявить традиционную любознательность, и они с Аве, не успев отдохнуть, потащились в знаменитые кварталы круглоголовых. Аве, даже зная трущобы родного континента, не представлял, что фаэты могут жить в такой грязи и тесноте. На улице можно было дышать, только когда она превращалась в подвесной мост. Там же, где она была зажата домами, проходя между ними туннелями, улица становилась как бы частью квартир. Фаэты держали двери открытыми, не стесняясь прохожих, занимались своими домашними делами, сидели за столом вместе с ребятишками, успевшими родиться до запрета круглоголовым иметь детей, ели какую-то нехитрую, но остро пахучую снедь,укладывались в кровати. Фаэтессы высовывались в открытые двери и, громко крича, переговаривались с обитателями вторых или третьих этажей. Там и тут чуть выше голов прохожих на веревках, перекинутых через улицу, сушилась одежда жителей, большинство из которых не знало, придется ли им потеть на работе и завтра. Аве очень хотелось зажать нос, когда он, сопутствуемый Куцием, бежал из этих зловонных кварталов, которые прославились выставленной напоказ бедностью. Только сто три дня просуществовала Власть Справедливости и не успела помочь их обитателям… «Так в чем же выход? — спрашивал сам себя Аве. — Неужели в чудовищном законе диктатора, запретившего этим семьям иметь детей?» Неужели же лишь для того, чтобы увидеть все это, он с самого детства стремился сюда, за океан? Но на другой день он увидел Великий Берег и Маду.
Глава третья ПОВЕЛИТЕЛИ
Дворец диктатора Яра Юпи был частью Храма Вечности, в котором богослужение после забвения фаэтами религии прекратилось. Ныне Грозная Стена отделяла храм от строений монастыря, переделанных для диктатора. Устремленный ввысь шпиль черного камня походил на торпеду с зарядом распада. Древние зодчие не подозревали, что предвосхищают очертания будущего оружия. Еще меньше могли они вообразить, что в подземельях под Храмом Вечности на случай войны распада будет размещен Центральный пульт управления защитной автоматики. Автоматы могли обрушить на Даньджаб смертоносную стаю торпед распада. Над этой страшной автоматикой в былом святилище храма с теряющимися в высоте черными колоннами заседала сейчас сессия Мирного космоса. Ее председатель Ум Сат из Даньджаба, открывший в свое время распад вещества,[1] жестоко ошибся, обнародовав это открытие сразу на обоих континентах. Великий круглоголовый, как его называли, первый на планете знаток вещества, решил, что он столь же великий знаток жизни. Думая, что одновременное появление сверхмощного оружия на обоих континентах создаст «равновесие страха», он надеялся, что война станет невозможной. Однако накал отношений между континентами усиливался. Ум Сат угадывал в этом лишь одну из причин — перенаселение и вражду из-за тесноты. Но вражда из-за барышей была куда более опасной. Перенаселение еще больше обостряло все виды борьбы. Владельцы на обоих континентах, силой подавляя недовольство тружеников, грозили через океан друг другу тоже силой. Им казалось, что они смогут за счет своих соперников не только увеличить барыши, но и малой подачкой умиротворить недовольных в своей стране. Ум Сат с ужасом убеждался в неизбежности войны распада и считал себя ответственным за нее. Потому он стремился теперь найти для всех выход в открытии новых космических материков, мечтая о частичном переселении на них фаэтов и всеобщем умиротворении. Тяжелая ответственность, разочарование, забота и усталость наложили отпечаток на лицо старого фаэта. Его высокий лоб под густой гривой волос был изрезан глубокими морщинами. Огромные печальные глаза смотрели с мудрой добротой и пониманием. И вместе с тем у него был безвольный подбородок, скрытый седеющей бородкой. Несмотря на трагическую ошибку Ума Сата, его все-таки уважали за огромные достижения в области знания и безусловную честность стремлений. Потому знатоки знания с обоих континентов встретили его в зале с величайшим почтением. Но другого всем известного на планете фаэта, находившегося сейчас в какой-нибудь сотне шагов от Храма Вечности, за стеной Логова, никто не уважал, но все страшились.Диктатором Яр Юпи стал в черные дни подавления Власти Справедливости. Перед рождением дочери он был всего лишь неприметным торгашом, промышлявшим среди круглоголовых. Чтобы угодить клиентам, он и взял в услужение Мать Луа к осиротевшей Маде. Няня заменила ей родную мать в то памятное время, когда гнев угнетенных вырвался наружу. Восстание сотрясло тогда Властьманию, лишило владельцев власти и владений. Затаясь в жгучей ненависти, они не желали смириться с поражением. У них был звериный опыт борьбы каждого с каждым. Ведь они всегда насмерть схватывались и с тружениками, и между собой. Однако теперь они готовы были забыть о собственных распрях. Владельцы были по обе стороны океана. Но со времени открытия и заселения нового континента Даньджаба фаэты там жили без древних предрассудков, не оказалось для них благоприятной почвы. Получилось так, что и круглоголовые и длиннолицые стали пользоваться в новых условиях равными правами и возможностями заставлять других работать на себя. Как бы то ни было, но это повело к быстрому росту если не культуры, то техники Даньджаба. Изделия «культурных», как стали величать себя его обитатели, неизменно оказывались лучше и дешевле, чем у варваров Властьмании. И владельцы Даньджаба наводнили своими товарами старый материк. Во Властьмании сохранились грубые, примитивные способы изготовления предметов. И владельцы Властьмании оказались перед угрозой краха. Как бы ни угнетали они своих тружеников, барыши ускользали у них из рук. Тогда они ощетинились ненавистью ко всему идущему из Даньджаба. И лишь поражение в борьбе с Движением Справедливости временно отодвинуло счеты с заокеанскими владельцами на задний план. Когда Яр Юпи объявил свое «учение ненависти», он лишь слышал о существовании Совета Крови, не подозревая, кто в него входит. Вызванный однажды на его тайное заседание в каком-то подземелье, Яр Юпи был поражен, узнав под балахонами восседавших двух крупных владельцев мастерских и одного владельца обширнейших полей. — Наш выбор пал на тебя, Яр Юпи, — объявил владелец полей. — Твое «учение ненависти» способно объединить, ибо ничто так не объединяет, как общая ненависть. С ее помощью Движение Крови должно задавить Движение Справедливости. Но не забывай, что чистота крови, — многозначительно добавил он, — хоть и высший идеал, но все же только оружие для подавления власти негодяев. — Движение Крови оправдает свое название, — заверил Яр Юпи, уже считая себя одним из его вожаков. Владельцы переглянулись. — Мы разделаемся с круглоголовыми и здесь и за океаном, — воодушевился будущий диктатор. — Ты торговал среди круглоголовых, твоя жена лечила их детей, — вкрадчиво начал один из владельцев мастерских, откинув свой капюшон. — Нам это выгодно, потому что, как бы громко ты ни кричал о ненависти, заокеанские владельцы все же смогут довериться скорее всего тебе, умевшему ладить с круглоголовыми. Ты отправишься за океан и убедишь их в том, что случившееся у нас случится завтра и у них. Пусть они помогут нам разделаться с властью «охотников до справедливости», сохранив тем самым собственные владения. Пусть перебросят отрядам твоих головорезов хорошее оружие. Ты сумеешь его применить. И теперь… и после. Ты понял? — И владелец мастерских опустил на лицо балахон с прорезями для глаз. Яр Юпи все прекрасно понял. Коварный и хитрый, он сделал свое «учение ненависти» главным оружием против Власти Справедливости. Он даже не постеснялся огласить свой бредовый план захвата всей планеты длиннолицыми. Заокеанские владельцы посмотрели на это сквозь пальцы. Им важнее всего было помочь лихому вожаку разделаться с ненавистной властью тружеников, а если он при этом будет говорить пустые фразы о завоеваниях, то пусть тешится, но делает свое дело. Бывший торгаш сумел не только обмануть заокеанских владельцев, но и сплотить вокруг себя банды головорезов, жаждущих добычи. Неустойчивых же он отвлекал от защиты их же собственных интересов погоней за круглоголовыми. Словом, он сделал все, что от него требовалось. Власть Справедливости была разгромлена. Ее руководители из числа тружеников, а также немало фаэтов с круглым овалом лица были уничтожены. Континент утопал в крови. А на гребне кровавой пены Яр Юпи был вознесен на высший пост. Совет Крови сделал ловкого и угодливого лавочника диктатором Властьмании, рассчитывая на его послушание. Никто, кроме него, не знал, кто входит в Совет Крови и чьи интересы он защищает. Покончив с бунтом тружеников, новый диктатор объявил круглоголовых (в своем большинстве тружеников) неполноценными. Во имя борьбы с перенаселением планеты он запретил им иметь детей. Смертная казнь грозила и новорожденным и родителям. Но трудиться круглоголовые должны были вдвое больше остальных. Употребление заокеанских изделий было объявлено несовместимым с принципами крови. Владельцы Властьмании вздохнули облегченно: их барыши были ограждены. Заокеанские же владельцы спохватились слишком поздно. Яр Юпи не только лишил их барышей на старом континенте, но и грозил войной распада — полным уничтожением. Не оставалось ничего другого, как самим готовиться к такой войне, защищая прежде всего свою власть и барыши. Военачальники обеих сторон, страшась войны распада, намеревались нанести удар первыми. Чтобы он был и последним, они требовали наращивания вооружений распада. Владельцы обоих континентов, прикрываясь фразами о миролюбии, заставляли свои мастерские работать все исступленнее. Наивные расчеты великого знатока знаний Ума Сата на мирное «равновесие страха» потерпели крах, и теперь он стал выступать с требованием полного уничтожения всех запасов оружия распада и запрещения его применения. Многие трезвые умы поддерживали его. В напряженной предвоенной обстановке Яру Юпи все чаще приходилось слышать имя Ума Сата, открывшего распад вещества, а теперь взывающего к совести фаэтов, чтобы его «закрыть». Диктатору доносили и об опасных разговорчиках: «Если круглоголовые могли дать планете такого фаэта, как Ум Сат, то как же можно объявить их неполноценными? Почему круглоголовые не только должны работать вдвое больше других, но и на протяжении жизни одного поколения обязаны уступить свое место на Фаэне длиннолицым?» В этих «наглых» вопросах Яр Юпи ощущал угрозу! Страшась нового Восстания Справедливости, диктатор потерял покой. Им овладела мания преследования. Он уже не выходил из Логова, где вел показную аскетическую жизнь. Одинаково не верил ни круглоголовым, ни длиннолицым, даже владельцам из Совета Крови, которым он служил и которым мог стать неугодным. Чтобы как-то утихомирить бурлящий в гневе народ, он усиливал подготовку к войне распада, суля отмену запрета круглоголовым иметь детей после ее успешного завершения и расселения победителей на освобожденном континенте. Наряду с этим он глушил недовольство тружеников авантюристическими планами переселения круглоголовых на планету Мар, где они будут свободны от всех запретов (словно в одном только перенаселении было дело!). Поэтому он поощрял завоевание космоса и способствовал созданию около планеты Мар космической базы Деймо. У «культурных» уже существовала там база Фобо. И Яр Юпи даже согласился провозгласить космос «мирным», поскольку интересы владельцев в основном скрещивались на Фаэне. Великий же знаток знаний Ум Сат, умевший проникать в сокровенные тайны вещества, не постигал глубин беспринципной политики. Для него «проблема перенаселения планеты» действительно заслоняла собой все остальное, хотя, по существу, она лишь обостряла и тяготы тружеников, и борьбу их с владельцами, да и вражду владельцев между собой. Очевидно, для того, чтобы быть подлинным мудрецом, еще недостаточно быть знатоком какой-нибудь одной области знания. Никто не ожидал увидеть осторожного и расчетливого Яра Юпи на сессии Мирного космоса. Слишком он боялся покушений. Но, видно, недаром Яр Юпи выбрал место для сессии вблизи Логова. Храм Вечности был соединен с бывшим монастырем подземным ходом. Во время заседания Яр Юпи внезапно появился из стены с двумя внушительными роботами-охранниками.
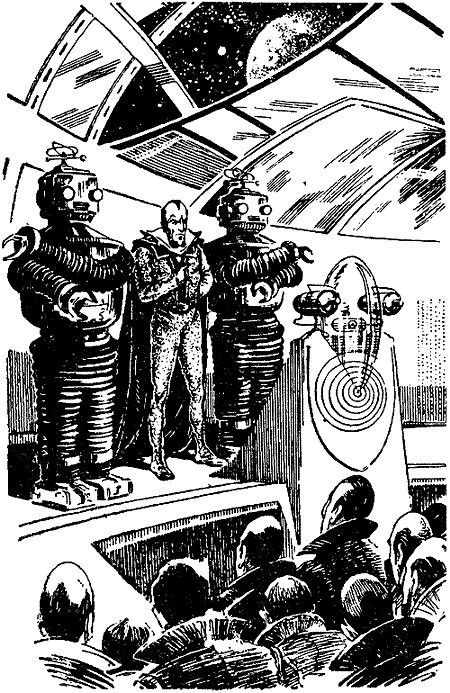
Это был высокий, статный фаэт с длинным безусым лицом, темной бородкой, крючковатым носом, узким жестким ртом и подозрительным взглядом бегающих глаз, смотревших из-под зигзага ломаных бровей. Его специально подбритый под лысину яйцеобразный череп считался среди «высших» безукоризненной формы. В выражении лица у него было что-то птичье, хищное. Яр Юпи обратился к присутствующим с напыщенной речью, говоря о врожденном стремлении «высших» к миру, о согласии с проектом расселения фаэтов по другим планетам, чтобы избежать войны на Фаэне. И он преподнес в дар Мирному космосу готовый к немедленному старту межпланетный корабль «Поиск» вместе с опытным командиром-звездонавтом, предложив Уму Сату возглавить экспедицию на Зему. Затем он объявил о решении Совета Крови считать Ума Сата «почетным длиннолицым» с правами «высшего из высших». Основанием послужило изыскание «историков» Крови, якобы установивших, что фамилия Сат в честь планеты, отмеченной благородным кольцом, давалась лишь чистейшим длиннолицым. Ум Сат был ошеломлен. Экспедиция на Зему становилась реальностью (на Даньджабе только спорили, сколько средств выделить для постройки межпланетного корабля на Зему, а он уже мог возглавить такую экспедицию), но… эта фальшивка «историков»! Диктатор не погнушался ею, чтобы отнять у круглоголовых их Ума Сата! Первым побуждением знатока знания было отвергнуть дары диктатора, другой на его месте так и сделал бы, но он сдержался. Ведь он был за умиротворение, за расселение фаэтов в космосе. Как же отказать фаэтам и не разведать для них планету Зему, которая может стать их новой родиной? Имеет ли он право проявлять личное или расовое самолюбие во вред всему обществу фаэтов? Не разумнее ли показать реальность космического переселения и переключить интерес владельцев мастерских — изготовлять не торпеды для войны распада, а космические корабли? И Ум Сат, превозмогая себя, принес в ответной речи благодарность Яру Юпи и за передаваемый Мирному космосу межпланетный корабль, и за высокое, присвоенное ему, Уму Сату, звание. Он пообещал подумать о возможности личного участия в экспедиции. Он презирал сам себя, но считал, что приносит великую жертву. Диктатор усмехнулся и вместе с охранными роботами скрылся в проеме стены. Заокеанская техника действовала безотказно. Ум Сат объявил в работе сессии Мирного космоса перерыв. Ему нужно было прийти в себя, оправдаться перед самим собой. Конечно, он остался все тем же круглоголовым — правда, внутренне смятенным, опустошенным и еще обретшим совсем ненужные ему права. Но эти права оказались особенно нужными его бывшему ученику и любимцу Аве Мару.
Отец Аве Мара, Добр Мар, правитель Даньджаба, не находил себе места в круглом кабинете со сводчатым потолком. Он был девятьсот шестьдесят вторым правителем, поселившимся здесь. Угловатый подбородок и костистая челюсть на его умном лице говорили о вале и энергии; тонкие, опущенные к углам губы — о заботах; мешки под глазами и облысевшая голова с остатками седеющих волос — о нелегкой жизни. Имя Добр (Добрый) он получил к совершеннолетию. До этого он носил имя отца — Страшный Мар, с добавлением «Второй-младший». Правитель думал о сыне, находившемся на континенте варваров, где каждое мгновение мог произойти взрыв… И невольно во всех подробностях вставала в его памяти картина проклятого дня, когда полцикла назад он решился на поступок, которому сейчас не мог найти ни оправдания, ни прощения. Робот-секретарь доложил тогда, что в приемной ждет Куций Мерк. Со времени, когда предыдущий правитель был застрелен в этом кабинете собственным секретарем, Великий Круг постановил, чтобы во Дворце правителя работали лишь роботы-секретари. И вот теперь «умный шкаф» показал на экране Куция Мерка; ожидая приема, тот не видел, что за ним наблюдают, но все равно был настороженно собран. Типично круглоголовый, он обладал овалом лица, напоминавшим диск Луа, вечного спутника планеты Фаэны. Узкие глаза его косились на дверь. Между Добром Маром и Куцием Мерком были сложные отношения. Только Куций знал путь, каким пришел правитель к власти. Добр Мар прежде был «другом правителя» и по закону должен был занять «первое кресло» в случае его смерти. Никто так не поносил «невменяемого» убийцу, как Добр Мар. Он поклялся вести страну по тому пути, по которому вел ее покойный: вековую вражду с Властьманией следует смягчить и сделать все возможное для умиротворения планеты и избавления фаэтов от ужасов войны. Куций Мерк незадолго до убийства предшественника Добра Мара передал ему страшные условия, как стать правителем, — первому начать войну распада. Но, заняв место предшественника. Добр Мар не спешил проводить безумную политику «невменяемых», требовавших выиграть войну оружием распада. Добр Мар правил Даньджабом, изыскивая работу и жилища угрожающе растущему населению. Он стремился ослабить накал в отношениях между континентами, провел закон о старых вещах, подлежащих уничтожению (чтобы приобретались новые), и добился того, что Яр Юпи, удовлетворенный сокращением ввоза заокеанских изделий, вынужден был даже пойти на совместные действия в космосе. Добр Мар догадывался, зачем пришел Куций Мерк и что он скажет ему: ведь правитель все еще не выполнил «особые условия». А накануне предстоящих выборов Добр Мар боялся возможных разоблачений. А что, если первому нанести удар? Войдя в кабинет, Куций Мерк остановился. Приземистый, но складный, широкоплечий, почти без шеи, он походил на борца перед схваткой. Схватка состоялась. Добр Мар доверительно подошел к нему. — Советников Великого Круга тревожат добытые Куцием Мерком сведения, будто варвары сумели освоить и даже усовершенствовать когда-то приобретенную у нас автоматику и она стала опасной. — Правитель прав. Автоматика опасна. В Логове — мой надежный агент. — Где гарантия, что автоматика не сработает случайно? — На Даньджабе почти такая же. — Этого мало! У варваров не должно ее остаться. Таково решение Великого Круга. — Преклоняюсь перед волей первых владельцев. Но автоматика варваров — под Логовом. Туда и змея не проскользнет. — Змея, но не Куций Мерк. К тому же у него там надежный агент. Куций Мерк понял все: Добру Мару нужно показать владельцам, что он выполняет их условия, а заодно избавиться от Куция Мерка, послав его на невыполнимое задание. После своего неизбежного провала Куций Мерк уже не сможет помешать Добру Мару снова быть избранным. Ни одна морщина не дрогнула на лице Куция Мерка. Он почтительно сказал: — Ясно: проникнуть в Логово и уничтожить его вместе с автоматикой зарядом распада. Нужно надежное прикрытие. — Прекрасно, — согласился правитель, обойдя подковообразный стол и усаживаясь в удобное кресло, где сидели многие его предшественники и где он собирался еще долго сидеть. — Прикрытие — Аве Мар. — Аве Мар, сын? — Добр Мар резко поднялся с кресла. Чтобы скрыть гнев, он отвернулся. Этот опытный разведчик ведет с ним недостойную игру, рассчитывает, что отец не рискнет жизнью сына. Добр Мар до того, как он трижды выставлял свою кандидатуру в правители Даньджаба и терпел провал, пока не согласился стать «другом правителя», владел огромными плодородными полями. Его сын Аве родился в полях, близко к природе. Свое имя Аве (Приветствующий) он получил, став юношей. Мальчишкой он бегал с полуголодными детьми круглоголовых, работавших на полях отца. Он не только удил с ними рыбу, чтобы помочь хоть раз насытиться, лазил по деревьям за питательными почками, но и, как все поколения ребят, играл в войну. Добр Мар гордился сыном, хотя тот и унаследовал от бабушки, круглоголовой, вьющиеся волосы, а от матери девичьи загнутые ресницы и ясный взор. Отцу не очень нравилось, что сын слишком восторженно смотрит на мир, наивно веря в справедливость и древние законы чести. Жизнь не раз наказывала его за эту старомодность. Но отцу льстило, что сын боготворит его за деловитость и миролюбие. Однако сын совершал необдуманные поступки: покинул своего учителя Ума Сата, «не желая служить науке смерти», открыто высказывался против того, что на обоих континентах решающую роль играли владельцы полей и крупных мастерских, получавшие выгоду от перенаселенных земель и труда тех, кто работал на владельцев. К счастью, ему, как это знал отец из секретных донесений, никак не удавалось примкнуть к «подледному течению» молодежи, грозившему вырваться и здесь, на Даньджабе, новым Восстанием Справедливости. При Аве не раз произносились крамольные речи приверженцев учения Справедливости, но он не считал нужным сообщать о них отцу. Аве знал о тайных собраниях, участники которых в знак приветствия касались левой рукой правой брови. Но он не попадал на эти сборища. Видимо, труженики все-таки не доверяли ему, как сыну правителя. Отцу не приходило в голову, что друзья Аве Мара могли беречь его как способного знатока знания. После ухода от Ума Сата Аве посвятил себя проблеме возможной жизни фаэтов на других планетах. Добру Мару были известны, но малопонятны его доказательства, будто авторитеты звездоведения не правы, утверждая, что жизнь невозможна нигде, кроме Фаэны, поскольку остальные планеты или слишком удалены от светила, или, подобно Мерку, Вене и Земе, испепелены его лучами. Фаэтам некуда было бежать с их планеты, если не считать малопригодного для жизни сурового Мара, предназначенного диктатором континента варваров для ссылки круглоголовых. И оказывалось, что единственным средством очищения планеты для грядущих поколений может быть только война. Аве же утверждал, что на Земе вовсе не такой высокий уровень тепла, как ожидают из-за близости к светилу Сол. Решает не это, а содержание углекислоты, которая создает парниковый эффект, препятствующий излучению планетой в космос избытка тепла. Этому эффекту якобы и обязана Фаэна тем, что на ней могла развиться жизнь. На ее небосводе светило всходило лишь самой яркой звездой, в то время как на Земе оно должно выглядеть ослепительным диском. И Аве доказывал, что будь на Земе углекислоты соответственно меньше, чем на Фаэне, там не окажется парникового эффекта, излишнее тепло сможет излучаться, и на ее поверхности могут развиваться любые жизненные формы. Взгляды Аве были отвергнуты авторитетами как нелепица. И он разочаровался в знатоках знания, в учениях, в самом себе, пал духом и затосковал. Отец лишь пожимал плечами. Он хотел бы иметь более приспособленного к жизни сына, хотя и любил и жалел его. И вот теперь Куций Мерк требовал жертвы. Ради выполнения задания правитель Добр Мар должен был рискнуть жизнью сына. Куций Мерк рассчитывал наверняка, считая, что правитель отступит, но ошибся. Тому тоже некуда было деваться. …Вспоминая все это, Добр Мар, «защитник права и культуры», не находил себе места. Он не знал, как обернется дело на Властьмании, будет ли выполнено безумное задание, будет ли, наконец, уничтожен опасный Куций Мерк, останется ли жив Аве?
Глава четвертая ХРАМ ВЕЧНОСТИ
Каждый вечер, как засверкает яркий Юпи над грозной стеной, Мать Луа приводила к своей воспитаннице чужеземца Аве. Вместе с горбуном, всегда сопровождавшим хозяина, она оберегала их. Между собой няня и секретарь не ладили. Горбун добивался, чтобы Мать Луа куда-то провела его, но та страшилась. Однажды Аве пришел в сад грустный. — Что с тобой? — тревожно спросила Мада. Аве Мар признался, что завтра должен покинуть Великий Берег. Путешественникам нельзя дольше задерживаться близ Дворца диктатора. Куций заметил слежку. Молодые фаэты, как и в первый раз, стояли в тени деревьев. Мада положила голову на грудь Аве и заплакала. Он гладил ее волосы, не зная, что сказать. То, что они любят друг друга и не вынесут разлуки, разумелось само собой. Мада посмотрела на Аве снизу вверх, запрокинув голову. Его кудрявая голова заслоняла звезды. — Все устроится, — утешал он. — Надо использовать некоторые странности твоего отца, его приверженность к древним обычаям. Он ссылается в своем учении на прежних монархов, даже вспоминает, что брак детей враждующих царей отдалял войны. Я отправлюсь к своему отцу, буду просить его обратиться к Яру Юпи с предложением заключить наш с тобой союз. Мада отрицательно покачала головой. — Как? Нам пожениться сейчас? — отгадал ее мысль Аве. — Да. Раньше, чем ты уедешь. Мада сказала это твердо, почти властно. — Значит, нынче ночью? — несколько растерянно спросил Аве. — Но кто в состоянии поженить два полюса вражды? Мада рассмеялась, хотя ее лицо было еще мокро от слез. Аве своеобразно говорил на чужом языке. — Ты просто не знаешь обычая «высших». Это круглоголовые женятся с разрешения властей. А мы, длиннолицые, свободны. Любой из «высших», чей возраст превосходит сумму возрастов влюбленных, может провозгласить их мужем и женой. — Но где найти такого старца? Аве у «высших» только гость. — Что означает «гость»? — с вызовом спросила Мада. — Что, ты бессилен найти выход? Аве вспыхнул: — Я был учеником самого Ума Сата, первого знатока знания на планете. Тот достаточно стар и находится здесь. — Но он круглоголовый, — разочарованно протянула Мада. — Ум Сат только что провозглашен на Властьмании «почетным длиннолицым». Он равен «высшим среди высших». Мада оттолкнула Аве, но удержала его руки в своих, любуясь им: — Беги к нему! Ты истинный фаэт и сможешь убедить его.Горбатый Куций Мерк, низко кланяясь, ввел в келью к Уму Сату молодого фаэта. — Аве Мар? Вернулся к учителю? — приветствовал старец вошедших, привстав с кресла им навстречу. — К учителю — в труднейшее мгновение жизни. — Ты говоришь так, словно речь идет о смерти или жизни. — Нет! — энергично замотал головой Аве. — Много больше! О счастье! Старец пристально посмотрел в лицо любимца. — Вот как? Но чем помочь? — Используя права, дарованные Советом Крови, Ум Сат по закону «высших» имеет право соединить навеки Аве Мара и ту, которую тот полюбил сильнее жизни. — Ясномыслящий Аве Мар избрал не менее чем дочь диктатора Яра Юпи, прекрасную Маду, не считаясь с преградами, — на витиеватом языке Властьмании вставил Куций Мерк. — Как? Круглоголовому Сату воспользоваться правами угнетателей? — возмутился старец. — Речь идет не просто о любви, — снова вмешался Куций Мерк. — Брак сына и дочери вождей двух континентов поможет избежать войны… Так говорится в учении Яра Юпи. Хитрец знал, чем убедить Ума Сата. Старец задумался: — Он говорит разумно. Сгорая от стыда, я не отверг дара варваров только потому, что думал, как избежать войны. — Так используй свои права и помоги нам стать счастливыми! — откликнулся Аве. — Что надо сделать? — спросил старец. — Церемония совсем проста. Свидетелями будут няня Мады и Куций Мерк. — И этого достаточно? — удивился ученый. — Да, ибо возраст Ума Сата превышает сумму возрастов влюбленных, и он имеет право их соединить. — Создателю учения о веществе, отрицателю религий прошлого, — улыбнулся старец, — придется выполнять чуть ли не роль недостойного жреца… — Притом в святилище былого храма, — вставил Куций Мерк. — Тогда пусть этот брак действительно послужит миру и до поры до времени останется в тайне, — решил ученый. — После возвращения Аве в Даньджаб брак будет обнародован. И пусть он поможет отцу договориться с Яром Юпи, если тот действительно следует традициям древних монархов. — Да будет так! — возвестил горбун. — Я уговорю отца. Он политик и не упустит такой возможности, — горячо поддержал Аве. — Однако церемония непременно должна состояться нынче ночью. — Зачем такая спешка? — нахмурился Ум Сат. — Увы, но путешествующие, даже знатные, все же не могут задерживаться вблизи Дворца диктатора. К тому же… так просила Мада. — Нет фаэтессы прекрасней и умней! Учитывает все, — заметил Куций Мерк. — Что ж, — пожал плечами Ум Сат. — Святилище свободно. А старикам не так уж много надо спать. Аве молча обнял учителя. Тот посмотрел на него печальным долгим взглядом.
«Кровная дверь» снова открылась. Мать Луа, как обычно, ждала Аве и Куция в том же полуразрушенном портике. Все вместе они прошли в древний монастырский сад, освещенный теперь слабым светом Луа. Свисающие лианы уже не походили на змей, они напоминали шнуры роскошных занавесей, разделивших сад. Деревья выглядели колоннадами галерей. Пахло прелью и еще чем-то странным и нежным — может быть, цветами, которые со страстью разводил Яр Юпи. Мада ждала любимого и бросилась ему навстречу, едва он показался из проема «кровной двери». — Он согласился? — Ум Сат создавал до сих пор реакции распада, теперь (да простится это Куцию Мерку!) ему придется совершить реакцию противоположную, — пошутил горбун, усмехнулся, но тотчас растянул рот в угодливой улыбке. В саду потемнело. Серебристый свет померк. За внешней стеной заблистали молнии, бросая тяжелые черные тени на заросли кустарника. Одно из деревьев, словно вырываясь из тьмы, как бы вспыхивало, сверкая белой корой. Издалека донеслось рычание. Казалось, огромная грохочущая машина мчалась под откос и сорвалась наконец в пропасть, оглушив и ослепив всех, словно взрывом распада. Мада прижалась к Аве. Стало совсем темно, исчезли и колоннады аллей, и белокожее дерево. — Какая гроза! — восхищенно прошептала Мада. — Вымокнем, пока обойдем Грозную Стену до Храма Вечности, — заметил горбун. — Может быть, отложить до завтра? — осторожно спросил Аве. — Никогда! — воскликнула Мада. — Разве остановят нас громы небесные? А что до дождя, который может испортить наши платья, то о них позаботится няня. — О платьях? — осведомился Куций Мерк, протянув ладонь и ощущая на ней первые капли. — Да, позаботиться надо. — Нужна мне такая забота, — проворчала Мать Луа. — Я лучше проведу посуху. — Что имеется в виду? — насторожился Куций Мерк. — Все очень просто, — объяснила Мада. — Отсюда в Храм Вечности ведет старинный подземный ход. Им пользовались прежде жрецы, а сейчас пройдем мы. Няня все знает и будет открывать встречающиеся двери. — Ход ведет из сада? — допытывался Куций. — Да, в него можно пройти где-то совсем близко. Няня покажет. Дождь начался, и сразу сильный. Все побежали, спотыкаясь о корни деревьев. Впереди Луа, за ней Куций, потом Мада и Аве. — Вот сюда! Пожалуй, здесь нисколько не темнее, чем снаружи. Невзрачен старый ход. Не обессудьте, — говорила Мать Луа, ведя всех за собой. — Все лучше, чем под дождем, — отозвался Куций. Аве ощущал запах сырости. Стена, которой он коснулся рукой, была влажной и липкой. Другой рукой он крепко сжимал пальцы Мады. — Погоди, — послышался впереди голос Луа. — Надо напрячься. — Не помочь ли почтенной что-нибудь поднять? — Мне надо сосредоточиться. Оказывается, Мать Луа должна была усилием воли открыть какую-то дверь, послушную биотокам ее мозга. Молодые фаэты увидели впереди светлый прямоугольник. На его фоне четко вырисовывались силуэты Луа и Куция. Мада и Аве вошли в просторный, отделанный пластиком подземный коридор. — Ого! — сказал Куций Мерк. — Древние жрецы знали толк в материалах. Чего доброго, догадались изготовить и современные фрески. — Тогда придется пойти прямиком во Дворец диктатора. Он любитель фресок. А налево — к Храму Вечности. Куций Мерк наклонился и пощупал рукой толстый кабель в красной оплетке. Мада крепко сжала в своей маленькой ладони пальцы Аве. Шаги фаэтов гулко отдавались под низким потолком. Аве подозрительно оглянулся назад, где коридор делал поворот. Свет, сам собой загоравшийся при их появлении, там уже погас. Два раза прямо перед фаэтами вставала глухая стена, и оба раза под влиянием мысленного приказа Матери Луа преграда исчезала, образуя проход. — Не хотел бы я тут остаться без нашей спутницы, — заметил Куций Мерк. — Неужели гостю из Даньджаба больше нечего сказать? — с упреком сказала Луа. Тайный ход имел ответвления, но Луа уверенно проходила их, ведя спутников хорошо известным ей путем… Наконец она снова остановилась перед глухой стеной и напряженно посмотрела в центр спирального орнамента. Этого оказалось достаточно, чтобы стена раздвинулась и Луа пропустила вперед молодых фаэтов и Куция Мерка, затем и сама вошла в уже знакомое нам святилище. Мада держалась ближе к Аве. Ей не было страшно идти подземным ходом, а здесь древний храм с его святилищем и потолком, исчезающим в невидимой выси, действовали на ее воображение. Что-то шевельнулось в полутьме, и раздался голос: — Приветствую счастливых! Я догадывался, что из-за непогоды вы воспользуетесь тоннелем, которым приходил на сессию диктатор Властьмании. Мада Юпи в волнении смотрела на высокую фигуру великого знатока знания, стоявшего на возвышении. Она невольно подумала о Главном жреце храма, который с этого же места произносил свои заклинания. И голос его так же отдавался тогда под темными сводами, как сейчас, когда заговорил Ум Сат, обращаясь к молодым фаэтам. Старый знаток знания тактично и просто совершил несложную брачную церемонию, закончив ее словами: — Да будет так! Голос его многократно отдался в глубине святилища, словно там отозвались древние жрецы. Потом Ум Сат поочередно обнял молодых фаэтов и пожелал им счастья. Аве хотел проститься с Мадой, но вмешался Куций, обменявшись многозначительным взглядом с Матерью Луа. — Разве не стоит пройти подземным ходом, чтобы проводить молодую жену? Она выпустит нас через «кровную дверь». — Через нашу «кровную дверь»! — подхватила Мада, смотря на Аве. Мать Луа покорно стояла подле Куция, словно зависела теперь во всем от него. И снова Аве поступил, казалось, по собственному желанию, выразив готовность пройти подземным коридором. Мать Луа тяжело вздохнула. Всю жизнь она отдала Маде, чтобы сделать ее похожей не на отца, а на мать. Что-то ждет девочку впереди? Куций Мерк был доволен и не скрывал этого.
Глава пятая КРОВЬ
Яр Альт, сверхофицер Охраны Крови, гордился тем, что ко дню совершеннолетия за проявленный им характер получил имя своего дяди по матери, самого диктатора Яра Юпи. В отрядах Охраны Крови, куда направил его диктатор, он подтвердил свое прозвище. Грубый, вспыльчивый, готовый ударить, даже убить, он презирал чужие взгляды и не терпел возражений. Именно поэтому диктатор давал ему наиболее важные поручения. И Яр Альт совсем не случайно встречал на корабле сына правителя Даньджаба, прибывшего со своим секретарем. Прикрывшись тогда обычной для охранников грубостью, он «проверял» приехавших, решив не выпускать их из виду. Наконец, как и ждал того Яр Альт, в святилище появились молодые фаэты и их спутники. Во время импровизированной брачной церемонии под сводами Храма, кроме няни и секретаря, был еще один невидимый свидетель, в ярости грызший ногти. Он не смог сдержать стона, словно повторяя, подобно прислуживающим жрецам, возглас старца: — Да будет так! Яр Альт не смог добиться у Мады «полного психо-жизненного контакта», а этот чужестранец-полукровка достиг его без всякого усилия. В глубине души Яр Альт считал, что он мог бы стать совсем иным фаэтом, коснись его ответная любовь. В нем бы расцвели нежность, чуткость, доброта… если бы прекрасная длиннолицая, которую он избрал, не ответила ему горделивым пренебрежением. И потому Яр Альт возненавидел мир. И вот теперь, страшась и стыдясь своего стона, он держал себя в руках, чтобы выполнить долг. Он выждал, пока Мать Луа увела новобрачных и горбуна в потайной ход, проследил за тем, как Ум Сат ушел к себе в келью, и только после этого рискнул подойти к скрытой двери. Он напряг всю свою волю, приказывая стене раскрыться. И вздохнул облегченно. Стена раздвинулась, образовав проход. Яр Альт нырнул в него. Преступники не должны были далеко уйти. Биотоки сверхофицера Крови подействовали. Он настигнет их еще в подземелье, не даст укрыться во дворце. Он побежал по коридору, но проклятые лампы зажигались и гасли сами собой. Он остановился, поняв, что они выдадут его. Достаточно кому-нибудь из преследуемых оглянуться… Если бы влюбленные могли подозревать, мимо чего проходят! Мимо галерей Центрального пульта! Мимо сердца войны распада! Почему же не срабатывает сигнализация тревоги? Или всему виной биотоки мозга круглоголовой, которую автоматы признают за свою, как и его, сверхофицера Охраны Крови? Так размышлял Яр Альт, догоняя уходящих. Вдруг он резко остановился. В сторону, круто спускаясь, отходила галерея, по которой тянулся кабель в красной оплетке. Яру Альту показалось, что в этой галерее, которая вела совсем не во Дворец диктатора, только что погас свет. Не горбун ли свернул к Центральному пульту? Зачем? Дух захватило у Яра Альта. К пульту подбирались враги! Теперь речь шла уже не только о чистоте крови, а об угрозе всей Властьмании! Ни о чем больше не думая, Яр Альт тоже свернул в галерею и сломя голову бросился по спуску. Ему преградила дорогу глухая Стена. Сам собой зажегся свет, и на гладкой поверхности проступил символ «высших» — спираль. Яр Альт никогда не бывал здесь и не знал, сумеет ли открыть дверь в Стене. Страх и гнев удесятерили силу его взгляда, устремленного в центр спирали. Мгновение, пока сработали автоматы, показалось ему мучительно долгим. Но Стена раздвинулась. Положение сверхофицера Охраны Крови помогло. Биотоки мозга были знакомы и этим автоматам. Яр Альт ринулся в образовавшийся проем. Через короткое время он увидел идущих впереди секретаря и няню. Он вынул пистолет с отравленными пулями. Даже легкая царапина парализовывала раненого. Без предупреждения Яр Альт выстрелил в спину горбуну. Тот вздрогнул, но устоял на ногах. Пуля отскочила от его горба и рикошетом ударилась в стену. Альт выстрелил еще и еще раз. Удары пуль все-таки бросили секретаря на колени. Яр Альт не спеша подошел, ожидая, когда противник затихнет. Но тот, повалившись на спину, неожиданным ударом ноги выбил оружие из рук Яра Альта. Оно загремело по каменным плитам. Альт кинулся на пытавшегося встать противника, силясь прижать его к полу. У Куция Мерка не было никакого оружия. Он намеренно не взял его, остерегаясь возможных обысков, которые могли бы сорвать весь его замысел. Обладая недюжинной силой, он без труда справился бы с более легковесным противником, не мешай ему тяжкий груз за спиной. Яр Альт выхватил длинный стилет, служивший ему личной антенной в системе связи Охраны Крови. Обняв горбуна, тяжело дыша ему в лицо, он ударил стилетом в спину. Но острие скользнуло по чему-то твердому, распоров одежду. Яр Альт подумал только о пулезащитной броне, ни о чем другом. И в этом было несчастье не только для него. Почти без надежды на успех Яр Альт ударил врага стилетом в грудь. Странно, но спереди у горбуна защитной брони не оказалось. Стилет вошел прямо в сердце Куция, и тот, ослабив объятия, откинулся навзничь. По камням расплылась лужа крови. Яр Альт вскочил и пнул горбуна ногой. И только после этого обернулся к Матери Луа. Но ее не было. Подобрав оружие Альта, она скрылась во время короткой схватки, чтобы предупредить, спасти Маду. Яр Альт побежал и сразу наткнулся на глухую Стену. Он вперил злобный взгляд в центр спирали, он она не дрогнула. Яр Альт понял, что Мать Луа стоит по другую сторону двери и напряжением воли приказывает двери не открываться. Вот почему автоматы не реагируют на его приказ! Так началась схватка между Яром Альтом и Матерью Луа. Разделенные крепкой преградой, они неистово вглядывались в центры двух спиралей. Запрограммированные автоматы были парализованы противоположными волями. Яр Альт покрылся каплями пота, пена выступила на его губах. Убить Куция Мерка было легче, чем сладить с проклятой колдуньей. Он-то знает, что она сочиняла запретные песни. Таких когда-то сжигали на кострах. Наконец Стена дрогнула, разошлась, образовав щель, но тотчас захлопнулась. Яр Альт успел увидеть няню. Счастье, что она не сообразила выстрелить в него. При одной мысли об этом у Яра Альта мурашки пробежали по спине. Он не заметил, в каком она была изнеможении. Стена то вздрагивала, то замирала. Яр Альт скрежетал зубами. Ошибка Матери Луа подсказала ему план действий. Теперь он хотел совсем немногого: чтобы щель приоткрылась хоть на мгновение. Но сам он, конечно, не окажется перед щелью. Пот заливал ему глаза. В диком исступлении продолжал он сверлить взглядом центр спирали, приказывая стене открыться. Он приготовился, занес левую руку назад, чтобы метнуть стилет. Мать Луа почти теряла сознание. Руки ее беспомощно свисали вдоль тела. Она понимала, что от ее силы воли сейчас зависит и собственная жизнь, и жизнь любимицы. Няня покачнулась. Стена приоткрылась совсем немного. Яр Альт, ожидавший этого, метнул в образовавшуюся щель свой стилет, и тот пронзил горло круглоголовой. Взгляд ее потух, и стена раздвинулась. Яр Альт перепрыгнул через упавшую няню. Он вырвал стилет из ее горла и побежал по коридору. Через несколько шагов он спохватился, что не отнял у Матери Луа пистолет, хотел вернуться, но раздумал, торопясь догнать Аве Мара и Маду. Предательнице, которая, свернув в сторону, повела злоумышленника к Центральному пульту, не уйти от возмездия! Яр Альт бежал по подземному коридору, и свет зажигался при его приближении, потухая за его спиной. Стена уже перед самым дворцом еще раз преградила ему путь, но открылась, едва он взглянул на спираль. Он оказался во дворце. Монастырское здание, переделанное для диктатора, носило черты старой архитектуры. Низкие сводчатые потолки, щелевидные окна от пола до потолка. Залы были пышно убраны для парадных сборищ, которые теперь не устраивались из-за боязни покушений на диктатора. Яр Альт знал, как пройти на половину Мады. Тонкий вкус и женская рука сумели здесь преобразить суровые кельи и молельни. Ворвавшись в одну из них, отделанную голубой тканью и серебристыми шнурами, Яр Альт налетел на Аве и Маду. Мада прибирала волосы. Вне себя от гнева она обернулась и топнуланогой. — Как осмелился ты, низкий робот Охраны, ворваться ко мне! Яр Альт осыпал Маду угрозами. — Замолчи, грубиян! — вспылил оскорбленный Аве Мар, поднимаясь во весь рост. Мада прикрыла его собой: — Прочь отсюда, гнусный робот! Ты не стоишь и волоса с головы моего мужа! — Мужа? — нагло расхохотался Яр Альт. — В живых не осталось бесстыжих свидетелей вашей позорной церемонии, прикрываясь которой враги «высших» затеяли уничтожить наш континент. — Кровь на руках и клевета на языке — вот твоя сущность! Что ты можешь знать о доброте, любви и благородстве? Яр Альт грубо оттолкнул Маду и бросился со стилетом на безоружного Аве. Тот ударом ноги отбросил его. Падая, Альт ухватился за Маду и повалился вместе с ней, норовя ударить ее стилетом. Аве Мар успел ухватить его руку и вывернул так, что стилет разорвал камзол на самом Яре Альте. Яр Альт был опытен в драках, Аве Мар — в спорте. Они сцепились, покатившись по древней молельне. На ковре оставались кровавые пятна. Мада в оцепенении смотрела и не могла понять, чья это кровь? У Аве все лицо было вымазано ею. Яр Альт несколько раз уколол Аве стилетом, но никак не мог размахнуться для смертельного удара. Аве Мар вскочил на ноги, схватил тяжелое кресло и бросил в противника. Тот хотел увернуться, но ножка угодила ему в голову, и он осел на пол. Руку со стилетом он все же занес, целясь метнуть его в Маду. Аве Мар успел ударить Яра Альта в висок. Противник откинулся назад, но выбросив ноги, обвил ими лодыжки Аве. Рывком повернувшись, он опрокинул Аве на пол, потом, привстав на колени, замахнулся стилетом. Однако Аве выбил у него из рук оружие. Один за другим раздались два выстрела. В дверь вползла Мать Луа. В руке ее прыгал пистолет. Яр Альт снова дотянулся до стилета, чтобы прикончить Аве. Мада бросилась к Луа, выхватила из ее слабеющей руки оружие и нажала на кнопку выстрела. Тело Яра Альта судорожно дернулось, обмякло, и он затих.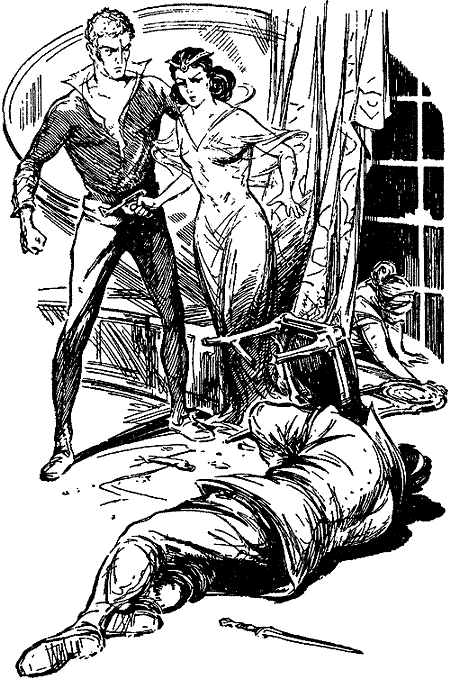
— Он сам зарядил его отравленными пулями, — прохрипела Мать Луа. — Родная моя, как же ты теперь?.. Аве Мар поднялся и, тяжело дыша, с изумлением смотрел на труп противника и на спокойную Маду. Но та вдруг с омерзением отбросила пистолет и в отчаянии произнесла: — Кровь! Кровь! Теперь только смерть. Тебя, моего мужа, растерзают на части. Никто не поверит, что это сделала я. Аве Мар и сам не мог в это поверить, недоуменно рассматривая свои испачканные кровью руки.
Глава шестая НЕТ СЧАСТЬЯ В ЭТОМ МИРЕ
Мада Юпи была, конечно, избалованна: любое желание исполнялось, ее прославляли, ей поклонялись. Но она все же не стала испорченным, капризным существом, способным лишь повелевать. Мать Луа, хранившая народную мудрость, сумела после смерти родной матери Мады внушить девочке мысль о равноправности всех фаэтов, как бы они ни выглядели. Сдержанная, всегда спокойная, Мать Луа обладала редким талантом рассказчицы и врожденным даром воздействовать на умы. В другой стране, в иное время Мать Луа была бы гордостью народа, но на варварском континенте «высших» Властьмании оказалась только няней — правда, дочери самого диктатора. Она всегда ставила Маде в пример ее собственную мать, убедив, что дочь должна продолжать ее дело. И Мада росла похожей на мать, но напоминала чем-то и отца. Пожалуй, способностью без памяти любить и ненавидеть. Поэтому встреча с Аве захватила ее всю. Она влюбилась — и мягкая ласковость сочеталась в ней с жесткой твердостью, растерянность с безудержной отвагой. Она пристрелила Яра Альта, как бешеного зверя, но она же пала духом при виде его трупа. Няня умирала. Мада стояла перед ней на коленях, слушая невнятный шепот. — Няня говорит о своем сыне и еще о том, что Яр Альт убил Куция. — Где? Как? Но Мать Луа ничего больше не могла сказать. Силы покинули ее. Никакие старания Мады не помогли — ни искусственное дыхание, ни массаж сердце. Глаза няни закрылись, тело вытянулось. Рука, которую Мада держала, прощупывая пульс, стала холодеть. Пульса не было. — Конец, — сказала Мада и зарыдала. Теперь Аве видел свою подругу слабой, беспомощной. Она по-детски тормошила няню, целовала ее холодные руки и уговаривала очнуться. Наконец повернула к Аве заплаканное лицо: — Моя няня умерла. Какая она была добрая, умная! А мы погибли. — И она указала глазами на скрюченное тело Яра Альта. — Подумать только! Он был моим двоюродным братом. — Может быть, постараться помочь ему? Мада зябко повела плечами. — Пули отравлены. Не знаю, как попал его пистолет к бедной няне. — Мада снова разрыдалась. Аве решил, что должен что-то делать. Он поднял мертвого Альта, который так и застыл, окаменев в последней судороге, и перетащил его в угол комнаты за драпировку. Мада решительно встала, вскинув голову. — Все напрасно. Скоро явится стража, потом отец. — Она подняла с ковра пистолет Альта. — Прости, что я руковожу в нашем последнем шаге. Нет нужды стрелять. Достаточно царапины. Смерть наступит мгновенно. Мы возьмемся за руки, зажав пулю в ладонях. И уйдем из мира, где нет нам счастья. Аве посмотрел в ее лицо: решимость у нее боролась с отчаянием. Мада вынула из пистолета последний патрон. Пуля была серебристая, а ее острые усики коричневые — очевидно, от ядовитого покрытия. Аве решительно сжал руку Мады: — Нет! Фаэты не сдаются так просто. От жизни еще можно отказаться, но от счастья… Нет! — Нет счастья в этом мире, — отозвалась Мада. — Веди меня, — властно обратился к ней Аве. — Веди в сад, а потом через «кровную дверь». — Разве мы можем бежать куда-нибудь? Близится рассвет, последний в нашей жизни. Ты слышишь пение птиц? Я пойду за тобой, потому что ты мой муж. Но мы возьмем с собой колючую пулю. Она будет нам надежной защитой. — Веди меня, — торопил Аве. Мада с любопытством посмотрела на него. До сих пор ей казалось, что она сильнее его. Они перенесли тело Луа на ложе, и Мада прикрыла его голубым покрывалом со своей постели; потом она указала Аве на низенькую дверь в узкий коридор, кончавшийся крутой лесенкой. Перед рассветом сад стал совсем иным. Серебристое облако заполнило аллеи, скрыв кусты и стволы деревьев. Аве показалось, что они с Мадой входят в какой-то другой, заоблачный мир. Он крепче сжал ее узкую ладонь. Колеблющаяся дымка у их ног казалась обманчивой, невесомой и в то же время густой. Под нею чудилась то вода, то пропасть. Мада бесстрашно ступила в клубящуюся дымку и повела Аве за собой. Послушная «кровная дверь» открылась перед ней. Густой туман окутывал руины старой часовни под грозной стеной. Молодые фаэты, скрытые по грудь лежащим на камнях облаком, словно переходили вброд пенный поток. Мада хорошо знала дорогу. Неожиданно быстро они вышли к черному зданию Храма Вечности. Аве подумал, что бедный Куций прежде вел его кружным путем. Несчастный! Аве стоило большого труда сдержаться, он даже не позволил себе вздохнуть, но пожалел Куция. Аве презирал свои обычные смены настроений. Но сейчас он был тверд и знал, что надо делать. И потому он вел Маду к Уму Сату. Старец очень удивился, снова увидев молодоженов на пороге своей кельи. Он усадил Маду в кресло напротив стола, за которым провел всю ночь. Аве стоял подле Мады. — Что случилось? Чем я смогу помочь? — Нет счастья в этом мире, — воскликнул Аве. — А в твоей власти — иной мир! Старец удивленно вскинул брови. — Иной мир — в космосе, — пояснил Аве и рассказал все, что случилось. Старец задумался: — Значит, мне надо принять условия Яра Юпи и, в свою очередь, потребовать, чтобы тот послал на Зему свою дочь? Не выглядит ли это невероятным? Спасаться в космосе? — Но это, — вмешалась Мада, — было бы не только спасением для меня и для Аве. Это было бы исполнением мечты — помочь фаэтам, найти для них новый мир. Об этом думали няня и мама. Не только мы с Аве, но и все могли бы стать там счастливы. Не просто ради себя готова я лететь на Зему. Все это я скажу отцу. Мада отнюдь не глубже Ума Сата разбиралась в глобальных проблемах. — Какие же обязанности звездонавта может исполнять Мада? — строго спросил Ум Сат. — Я — Сестра Здоровья. Она нужна всюду. И не только детям! — Это верно, — согласился Ум Сат. — Аве Мар, ты останешься здесь, секретаря никто искать не станет. Мада должна отправиться в свои покои и запереться в них. Аве, проводи молодую жену до Грозной Стены. Хорошо, что вы оба видите в полете на Зему не только бегство, но и подвиг.После их ухода старец некоторое время сидел в задумчивости. Потом позвал к себе некоторых знатоков знания, приехавших на сессию. Они заполнили его келью. Многие из них были круглоголовыми, но были и длиннолицые. Входя, все они касались левой рукой правой брови. Когда в келье стало тесно. Ум Сат спросил, надлежит ли ему улететь с Фаэны накануне возможных событий, к которым во имя Справедливости труженики и их друзья готовились столько циклов? Ведь он был приверженцем борьбы против владельцев на обоих континентах, хотя и не понимал всей ее глубины. Собравшиеся единодушно решили, что Ум Сат, олицетворение и гордость знания на Фаэне, должен отправиться в космос, чтобы найти там нужные фаэтам материки. Многие из них считали, что таким образом лучше всего сохранят жизнь великого знатока вещества, но никто не сказал ему об этом. Ум Сат развел руками. Он должен был подчиниться общему решению. Теперь он получил право действовать. Когда Аве вернулся. Ум Сат вызвал по экранной связи Секретаря диктатора. Зажегся экран, на нем засветились щели шкафа-секретаря. — Диктатор Юпи, светлейший из светлых, согласен принять почетного длиннолицего Ума Сата и присылает за ним провожатых, — объявил шкаф, запрограммированный на древнюю манеру речи. Экран погас. — Как? — прошептал Аве Мар. — Пойти в Логово? Не хочет ли Яр Юпи взять заложника? Старец печально улыбнулся: — Риск не так велик. Вскоре в келье появился офицер Охраны Крови. Аве похолодел. Перед ним стоял живой Яр Альт. Вошедший поклонился старцу, покосился на Аве и напыщенно сказал: — Великий из великих, диктатор Яр Юпи даровал тебе право, почетный длиннолицый, предстать перед ним. Я прислан проводить тебя во дворец. Аве Мару казалось, что даже голос офицера Охраны Крови был тем же самым, что у Альта. Неужели он воскрес? Возможно, паралич от пули был временным. Но почему ж он не бросился сейчас на него, как сделал это в комнате Мады? Но офицер Охраны Крови еще раз безразлично посмотрел на Аве Мара и теперь поклонился ему: — От имени ярчайшего диктатора приношу почетному гостю извинения. Едва офицер Охраны Крови и Ум Сат вышли, Аве Мар бросился к двери кельи. К его удивлению, она оказалась незапертой. И только теперь Аве Мар сообразил, что лицо офицера было без шрама.
Диктатор Яр Юпи нетерпеливо ждал Ума Сата. Всемогущий по воле Совета Крови, способный в угоду владельцам послать на смерть миллионы фаэтов, в любую минуту готовый развязать войну распада, он был бессилен сохранить всего одну, но самую дорогую для него жизнь. Яр Юпи был сложной натурой. Он отлично понимал, кому и как он служит. Потеряв в свое время жену, он возненавидел круглоголовых, леча которых она заразилась смертельной болезнью. Эта ненависть вылилась в конце концов в оголтелое учение, в которое невозможно было и поверить, но которое оказалось выгодным владельцам из Совета Крови. Теперь же, на вершине власти, когда он вел показной аскетический образ жизни в добровольном заточении, любовь к дочери стала для Яра Юпи единственным светом. Все остальное было мраком: страх за свою жизнь, страх войны, которую сам же готовил, страх и перед тружениками, и перед собственными хозяевами, готовыми его устранить. И главным теперь для него была безопасность Мады. Только ее одну хотел бы он спасти из миллионов обреченных. Но как? И вот во исполнение пришедшего ему в голову сложного плана он и появился внезапно во время сессии Мирного космоса в Храме Вечности. А теперь к нему должен был прийти Ум Сат. Офицер Охраны Крови, родной брат Яра Альта, передал Ума Сата двум охранным роботам, которые повели знатока знаний по пышно убранным пустынным залам с низкими потолками. Ум Сат косился на своих громоздких провожатых, телохранителей или конвойных с кубическими головами и крючковатыми чешуйчатыми манипуляторами. В одной из комнат шкаф со светящимися щелями, совсем такой же, как у правителя «культурных», в безукоризненной древней манере с запрограммированной цветистостью произнес: — Ум Сат, почетный длиннолицый, может пройти в находящуюся перед ним дверь, за которой его ожидает блаженнейшая встреча с величайшим из великих, ярчайшим из ярких Яром Юпи, диктатором континента «высших». Дверь сама собой открылась, роботы-охранники отстали, и Ум Сат вступил в суровый пустой каземат с серыми стенами. Яр Юпи, бородатый, крючконосый, с выбритым черепом к вздернутыми бровями, бросился навстречу вошедшему, вперив в него полубезумный пронзительный взгляд. — Понимает ли Ум Сат, какой чести и доверия он удостоен? — выкрикнул он. — Да будет так, — вздохнул старец. — Пусть я и недостоин такой чести, но доверять мне можно. — Я буду говорить как высший с высшим, тем более что ты прославлен умом, — уже спокойнее заговорил диктатор. Согласно ритуалу гостю надлежало ответить, что его ум не идет ни в какое сравнение с божественным и просветленным разумом Яра Юпи, но Ум Сат спокойно сказал: — Я буду говорить с диктатором Яром Юпи как знаток знания с политиком, стремясь понять и быть понятым. Яр Юпи дернулся, его нос повело в сторону, лицо исказилось нервной гримасой. Он покосился на нишу под окном. В ней стояли чудесные цветы. Их нежные темно-синие венчики с золотистой россыпью мельчайших звезд, по шести лепестков каждый, смотрели вниз, свисая на изогнутых стеблях. Это было чудо, выведенное садоводами по приказу Яра Юпи, страстного цветолюба. Но не их вечерняя красота привлекала его. Покорным знатокам растений удалось вывести такое растительное диво, а вернее сказать, чудовище, которое источало ядовитый аромат, казавшийся столь нежным. Фаэт, вдохнувший его, заболевал смертельной болезнью. Не раз редкие посетители этого кабинета, слишком самостоятельные соратники, нежданно обласканные диктатором, а порой даже и некоторые из его слишком недовольных хозяев, крупных владельцев, удостаивались чести понюхать величайшее сокровище. Вернувшись домой, они умирали в муках, не подозревая отчего. Разумеется, надежная вентиляция уносила из кабинета опасный запах. — И что же? — нервно спросил диктатор. — Продумав ночь, я решил принять твое предложение и возглавить экспедицию на планету Зема. Яр Юпи дернулся и облегченно вздохнул: — Ум Сат, став почетным длиннолицым, ты подтверждаешь свою мудрость. Я прославлю это на обоих континентах. Однако вчера в Храме Вечности я имел в виду одно условие, которое тебе надлежит выполнить. — Я тоже хотел обусловить свое согласие возглавить экспедицию. — Я не терплю, когда мне ставят условия, — повысил голос диктатор. — Это скорее первые деловые шаги к укомплектованию космического экипажа. — Комплектовать космический экипаж длиннолицыми, достойнейшими из достойных, буду я. — Возможно, диктатор Яр Юпи вспомнит вчерашнее обещание включить в состав экспедиции любого из длиннолицых? — Я это подтверждаю, даже если речь пойдет о моей дочери. — Дочери диктатора Яра Юпи? — искренне удивился Ум Сат, никак не ожидая, что диктатор сам заговорит о ней. — Осмелишься ли ты счесть в полете балластом мою дочь, если она Сестра Здоровья? — повысил голос Яр Юпи. И оба замолчали, изучая друг друга. Как ни умен был Ум Сат, ему и в голову не пришло, что диктатор задумал спасти свою дочь от ужасов войны распада, отправив ее в космическую экспедицию; и как бы хитер и коварен ни был Яр Юпи, он не мог предположить, что Ум Сат пришел к нему только ради того, чтобы получить согласие на полет его дочери к Земе. Яр Юпи угрожающе спросил: — Так ты не желаешь, чтобы она летела? Заботишься о ней? Ценю. Не хочешь ли подойти к этим цветам? Не правда ли, они прекрасны? Видел ли ты что-либо подобное? Насладись их ароматом!.. — Я не видел никого прекраснее дочери диктатора Яра Юпи. Не сомневаюсь, что она будет на Земе самым прекрасным цветком… — Тогда оставим цветы в покое, — грубо оборвал Яр Юпи.
Глава седьмая ЗАБЫТЫЙ ГОРБ
Тело Куция Мерка лежало в сыром подземном коридоре за глухими стенами со спиральным орнаментом. Оболочка искусственного горба была пробита, и воздух беспрепятственно проникал в него, медленно разрушая предохранитель запала. Но никто на Фаэне не подозревал об этой опасности в день торжественных проводов звездонавтов на планету Зема. Экспедиция состояла из трех «культурных» и трех «высших», в числе которых была Мада Юпи. Для трудившихся на полях и в мастерских Властьмании день проводов сделали свободным, чтобы фаэты могли выйти к дороге на всем протяжении до Мыса Прощания, как переименовал диктатор Яр Юпи часть Великого Берега вблизи космодрома. Отсюда обычно запускались все аппараты, исследующие космос, а также и космические корабли «высших», поддерживающие связь с космической базой Деймо. Владельцы рассчитывали получить от возможной колонизации планет немалые барыши и не скупились на расходы. Мада и Аве не могли избавиться от ощущения, что сейчас они увидят погоню. Они ехали в одном парокате с руководителем экспедиции Умом Сатом. Старый ученый был задумчив и печален. Молодые участники экспедиции то оглядывались, то всматривались в мелькавших мимо них фаэтов, стоявших по обе стороны дороги и бросавших под колеса машины цветы. Здесь были и длиннолицые и круглоголовые. Они стояли тесно рядом, словно между ними не было никакого различия. Для многих фаэтов совместная экспедиция двух континентов на планету была символом мира и внушала им надежду, что на Фаэне можно не только сговориться и избежать войны, но и переправить с нее часть населения на другие планеты. Немало фаэтов вышло к дороге вместе с детьми. Фаэты с бескрайних полей, выращивавшие питательные растения, отличались темным загаром; те же, кто работал в мастерских, громоздкие здания которых виднелись на холмах, имели землистый цвет лица. Но особенно запомнились фаэты из глубоких шахт. Угольная пыль настолько въелась в поры кожи, что она казалась темной, словно они были особой расы: и не длиннолицые, и не круглоголовые. Мада вся ушла в себя, подавленная происходящим. Как истинная фаэтесса, она все воспринимала через близкие ей образы. Она почти не помнила родную мать, но няня была для нее символом всего, что оставляла она на Фаэне. И ей было не по себе от того, что впереди ее ждет счастье, в то время как здесь… И она крепко зажмурилась. Когда открыла глаза, то увидела, что дорога подошла к океану. Она посмотрела на Аве, и тот понял ее без слов. Аве все время думал о фаэтах, стоявших у дороги. Завтра они вернутся в свои мастерские, наполненные шумом станков и запахом масла. Встанут у бегущих механических дорожек, влекущих постепенно обрастающие деталями остовы изготовляемых машин, и будут стоять так, без надежды на Справедливость, подневольно и безрадостно трудясь до конца дней, беспросветных и одинаковых. Аве Мар понимал, что он несет перед всеми обездоленными ответственность за результаты космического рейса. Миллионы этих фаэтов тоже мечтают о счастье и праве иметь детей, какой бы формы голова у них ни была. Нельзя дальше брать у культуры одни только средства уничтожения, не сможет так существовать Фаэна! О том же думал и печальный Ум Сат. Он размышлял, что он, знаток вещества, так и не смог отойти от законов знания о веществе. Но, очевидно, законы, управляющие жизнью всего сообщества фаэтов, нужно так же постигать, как и законы природы. И главная ошибка, помимо открытия и разглашения способа распада вещества, заключалась в том, что он, дожив до старости, не понимал этого. Почему, например фаэты-труженики создают своими руками не только то, что нужно всем для жизни, но и то, что в состоянии оборвать ее? Почему вот эти толпы, провожая их сейчас, терпят власть маньяка, сделавшего войну целью своего существования? Яру Юпи вздумалось сейчас сделать широкий жест, послать космическую экспедицию, чтобы искать новые «космические материки». А как там будут жить переселившиеся? По прежним законам Фаэны, перенеся в космос несправедливость и угрозу войн? Нет, истинная мудрость в том, чтобы искать не только новые планеты для жизни, к чему готов даже Яр Юпи, но и новые законы жизни, которые повергнут его в ужас. Однако почему полубезумный диктатор так легко отпустил в космос свою дочь? Это же не прогулка!.. И старый знаток знания, сопоставляя одну деталь с другой, вдруг пришел к пугающему выводу, что диктатор мог стремиться спасти свою дочь от начинающейся на Фаэне войны распада. И по-особому взглянул старец на толпы провожающих его фаэтов. Встретится ли он еще когда-нибудь с ними? Мада сжала руку Аве и выразительно оглянулась. Аве понял ее опасения…Ее тревоги были не напрасны. Во Дворце диктатора действительно многое открылось. На след напал брат погибшего Яра Альта — Гром Альт, тот самый, который провожал Ума Сата к диктатору. Офицер Охраны Крови заметил на полу темную полосу, тянущуюся от «кровной двери» в покой Мады Юпи, к подземному ходу. Гром Альт был слишком малого ранга, чтобы пользоваться «кровным» ходом. Но проверить, что за полоса, он решил во что бы то ни стало. Он соскоблил часть высохшего вещества и побежал в лабораторию. Руки тряслись у него, когда он сам, тайно от других, чтобы не поделиться ни с кем своим открытием, определял состав пробы, чему обучался еще в школе офицеров Охраны Крови, где умело пользовались заокеанскими знаниями. От волнения его волосы стали мокрыми, хотя и топорщились во все стороны. Он обнаружил, что полоса на полу была кровью!.. Доложить диктатору о своем открытии он не решался, тем более что Мада появилась и как ни в чем не бывало виделась с отцом. Правда, няня не сопровождала ее, как обычно. Если бы что-нибудь случилось, она могла сама сообщить об этом диктатору. Но тот после свидания с ней был недоступно торжественным. Он объявил о своем историческом решении, повергшем весь дворец, а затем и весь континент в оцепенение, а потом в неумеренный восторг. Все начальствующие лица захлебывались от излияний, внушая простому народу, что мудрейший из мудрых был также и бесстрашнейшим из отважных, он не остановился перед тем, чтобы для блага фаэтов рискнуть любимой дочерью, думая об их далеком будущем, а также о всеобщем прогрессе и мире между континентами. Угодливая радость во Дворце диктатора помешала расследованию Грома Альта. Все, с кем бы он ни встретился, считали возможным говорить только о подвиге Яра Юпи и его дочери. В такой обстановке было просто опасно обращать чье-либо внимание на полоску крови, бросающую тень на провозглашенную героиней дня Маду. То, что Мада не оставляла «кровную дверь» в свои покои открытой, а ее няня все не появлялась, показалось Грому Альту особенно подозрительным. Он решил посоветоваться с братом, пусть даже поделившись с ним честью возможного открытия. Но Яр Альт исчез. Возможно, Яр Юпи отослал своего доверенного сверхофицера, как это бывало не раз, с каким-нибудь поручением. Гром Альт решил действовать на свой страх и риск. Когда Маду с рыданиями и почестями проводили на космодром. Гром Альт, оставшись на дежурство, подошел к покоям дочери диктатора. «Кровная дверь» была заперта, но уже не автоматами. Оказалось достаточно отмычки, пользоваться которой его учили в той же школе Охраны Крови. Гром Альт осторожно вошел в голубую комнату. Он нашел там не только мертвую няню Мады на ложе, но и труп брата на полу. Отравленная пуля! Пистолет Яра Альта валялся рядом. Такое оружие мог носить только сверхофицер Охраны Крови. Гром Альт осмотрел пистолет. В нем не осталось пуль. Не такой был фаэт его врат, чтобы иметь в заряднике только один патрон, истраченный на самого себя. А на кого были истрачены остальные? Гром Альт со смешанным чувством сожаления и брезгливости, раздумывая, смотрел на застывшее тело брата. При его жизни они никогда не были дружны. Яр Альт вечно притеснял младшего брата. И вот он лежит у его ног мертвый, тем самым давая ему возможность дотянуться до новой ступеньки в карьере. Грому Альту так понравилось сравнение трупа со ступенькой, что он не удержался и поставил ногу на тело брата, но тотчас отдернул ее и заторопился вон из тошнотворно душной комнаты в сад, а затем прямо к диктатору. Попасть к диктатору, несмотря на все поразительные новости, которые нес к нему Гром Альт, было не просто. Бесстрастный шкаф-секретарь ничего не поймет. Для него не существует никаких чувств, а роботами охраны и дверными автоматами кабинета диктатора управляет только этот безмозглый ящик. Сказать шкафу правду — значит наверняка получить отказ, потому что дурацкий автомат тотчас запишет в свою машинную память все обстоятельства дела и направит для расследования офицерам Сыска, которые ненавидят офицеров Охраны Крови. Диктатору рискнут доложить происшествие только после заключения офицеров Сыска, которые, конечно, оттеснят Грома Альта. И потому Гром Альт решил соврать шкафу-секретарю, выдумав версию о том, будто имеет для диктатора важнейшее сообщение, которое ему поручила передать сама Мада Юпи, встретившая его на пути к Мысу Прощания. Ведь она его двоюродная сестра! — Ты можешь сообщить мне содержание слов прекрасной Мады, — забубнил сундук, набитый электроникой. — Величайший из великих познакомится с этим, проверяя мои дневные записи. — Мне нечего сообщить тебе, заслуженный страж памяти. Я должен передать величайшему из великих, светлейшему из ярких один предмет. Если бы ты, страж памяти, мог сам отнести величайшему из великих этот предмет, я был бы спокоен. Проклятый шкаф еще долго упрямился, но потом все-таки уступил. Шкаф-секретарь бесстрастно доложил диктатору, что офицер Охраны Крови Гром Альт умоляет о приеме без посредства экрана. Диктатор был очень занят. У него было совещание высших военных чинов, которые, конечно, не были к нему допущены, а лишь присутствовали на экранах, расставленных в его кабинете. Накануне войны распада никто не имел доступа к Яру Юпи. Своих хозяев из Совета Крови он боялся, пожалуй, больше, чем подчиненных. Наконец совещание окончилось. — Офицер Охраны Крови Гром Альт, — проскрипел шкаф-секретарь, — ты можешь пройти в дверь, чтобы склонить колена перед светлейшим из светлых. Гром Альт, волнуясь, вошел в невзрачный кабинет диктатора, боясь поднять голову и взглянуть в лицо создателя «учения ненависти». Так же, как и брат, он всячески подражал диктатору в своей внешности. По ритуалу Гром Альт преклонил колено и, смотря в пол, дрожащим голосом рассказал о кровавой дорожке, ведшей в покои прекрасной Мады, и о трупах, обнаруженных им там. — Презренный робот Охраны! Что ты тут мелешь? — Пусть гнев твой обрушится на подлых убийц, замышлявших зло против тебя и твоей несравненной дочери, след которых мне лишь удалось обнаружить. Я скорблю об участи брата и счастлив, что твоя дочь не стала жертвой подлого заговора. — Заговора? — заорал диктатор и весь передернулся. Он стоял со сжатыми кулаками и безумными глазами смотрел на перепуганного офицера, который не знал, что теперь последует. Яр Юпи размышлял лишь мгновение. Открытие неумеренно ретивого офицера Охраны Крови могло спутать ему все расчеты, вынудить к отмене только что данных военным указаний. И Яр Юпи расхохотался. — Вот как?! — сквозь смех выкрикивал диктатор. — Ты приносишь мне весть о безмерном горе фаэтов, не смогших перенести разлуки с несравненной моей Мадой? — Я имел в виду совсем другое. — Безмозглое насекомое! Отвечай на мои вопросы. — Я трепещу. — Отчего умер Яр Альт, мой сверхофицер? — От отравленной пули. — Кто имел такие пули, кроме него самого? — Никто. — Так не ясно ли тебе, пресмыкающееся, что влюбленный в прекрасную Маду сверхофицер покончил с собой в ее комнате в знак своей безысходной тоски по ней? — Но труп няньки?.. — А разве та не была привязана к своей госпоже? Разве ее душонка не понимала, что с отлетом госпожи на другую планету она станет обычной круглоголовой, ничтожной и презираемой, как то и должно быть? — Как? И она сама себя? — поразился Гром Альт, вспоминая рану на горле Луа и весь дрожа от мысли, что не угодил диктатору. Да, он действительно не угодил Яру Юпи. Тот вовсе не был расположен сейчас, когда в любое мгновение могли погибнуть сотни миллионов фаэтов, выяснять, почему убиты всего лишь двое. Тем более что это могло задержать космическую экспедицию, призванную спасти жизнь Мады. «Однако этот молодчик из Охраны Крови едва ли смолчит». И диктатор ласково поднял с коленей трясущегося от страха офицера. — Мой добрый страж Гром Альт! У тебя есть все основания занять место покончившего с собой брата. Благодари судьбу, что истинные фаэты — рабы своих чувств. Если ты когда-нибудь полюбишь прекрасную фаэтессу и она не ответит тебе взаимностью, поступай так, как сделал твой старший брат. Но позволь мне, гордящемуся своей дочерью, которая способна пробуждать столь сильные чувства, отблагодарить тебя за верную службу и принесенное мне радующее сердце отца известие. Я покажу тебе сокровище своей коллекции цветов, равного которому нет на Фаэне. Эти цветы так же прекрасны, как фаэтессы нашей мечты. Вдохни их аромат. Гром Альт послушно подошел к нише, где виднелись изумительной красоты цветы, синие, как предночное небо, с золотыми искрами загоревшихся звезд. — Как тебе нравится этот запах, мой верный страж? — спросил Яр Юпи, отвернувшись в сторону. — Я никогда не вдыхал ничего более пленительного. Я чувствую необычайную легкость во всем теле. Я хотел бы летать. — Может быть, и ты когда-нибудь полетишь, как летит сейчас несравненная Мада. Если она откроет годную для жизни планету, то немало длиннолицых полетит туда, чтобы сделать новые материки континентами «высших». — Эти слова надо высекать на вечном камне. Каждая мысль здесь подобна взрыву распада, она так же сверкает и так же повергает ниц. — Запах цветов, несомненно, вызывает твое красноречие. Закажи себе камзол сверхофицера Охраны Крови. Счастливый Гром Альт, никак не ожидавший такого поворота дела, вылетел, как на крыльях, из кабинета диктатора. Если бы шкаф-секретарь хоть как-нибудь разбирался в чувствах живых фаэтов, он заметил бы необычайное состояние Грома Альта. Но шкаф был лишь машиной и просто отметил, сколько времени пробыл у диктатора посетитель. Совсем немного… И совсем немного времени понадобилось Грому Альту, чтобы почувствовать себя плохо. Он свалился в казармах Охраны Крови и умер в страшных мучениях. Автоматический секретарь тем временем приступил к докладу о состоянии военных сил после объявленной диктатором подготовки к началу войны распада. Но Яр Юпи в бешенстве отключил энергопитание назойливого шкафа: он наблюдал на экране за последними мгновениями старта экспедиции на Зему, мысленно провожая свою дочь. Всем своим существом он переживал расставание с нею и больно сжал ладонями виски. Он видел, как Мада с каким-то странным выражением лица обвела глазами космодром, задержалась взглядом на океане с белыми полосами пены на гребнях воли и вошла в подъемную клеть. За нею следом вошел и фаэт — очевидно, с того континента. На мгновение Яру Юпи стало неприятно от того, что кудрявый полукровка находится так близко к его дочери, но потом он вспомнил, что она все-таки останется живой. Он тяжело вздохнул. У него было ощущение, что он встал на крутую, скользкую плоскость. И не может удержаться. А внизу — бездна.
Аве Мар и Мада смотрели в открытую клеть сквозь решетчатую шахту. Океан становился все шире, горизонт его словно приподнимал тучи. Аве обернулся и увидел в противоположной стороне другой океан, живой океан из сплошных голов фаэтов с повернутыми к ракете лицами. Словно в непостижимой тесноте, символизируя перенаселение Фаэны, они были прижаты друг к другу. Нежданная тоска спазмой перехватила Аве горло. Вернется ли он когда-нибудь? Но он взглянул на Маду. Они сами выбрали этот путь, и пусть он будет не только путем их счастья. Аве еще плохо разбирался в истинных силах, толкавших Фаэну на войну. Он только от всей души пожелал, чтобы загадочная планета Зема оказалась пригодной для переселения на нее фаэтов и чтобы навсегда было покончено с опасностью войн распада. И Аве снова вспомнил Куция Мерка, который привел его сюда, свел с Мадой и отдал жизнь, по существу, ради их счастья. Мир ему!..
Пробитый пулями горб Куция Мерка не был донесен до цели, но запал замедленного действия, разрушаясь под влиянием воздуха, как бы отсчитывал последние мгновения мира на планете Фаэна.
Часть вторая ВЗРЫВ
«Эй, топоры, дубины, алебарды! Бей их! Бей Капулетти! Бей Монтекки!»В. Шекспир. «Ромео и Джульетта»
Глава первая МАЛЫЙ МИР
На космической базе Деймо был переполох. Инженер станции Тихо Вег, благообразный, рано поседевший, медлительный и задумчивый, смотрел на начавшуюся суету неодобрительно. Но не в его мягком характере было во что-нибудь вмешиваться: он во всем уступал жене Але Вег, а именно она придумала дать пир в честь прилетающего корабля «Поиск». Еще не отцветшей красавице Але Вег, названной Алой за изумительный цвет лица, наскучило у себя на Фаэне обучать звездоведению оболтусов из «высших». Она настояла, чтобы они с мужем отправились на космическую базу, куда брали только супружеские пары нужных специальностей. Они смогут вернуться к трем оставшимся на Фаэне детям обеспеченными до конца дней, и Тихо Вег наконец станет владельцем мастерских. Ала Вег, с породистым лицом «высшей», прямым тонким носом, короткой верхней губой и чувственным ртом, всегда высокомерно щурилась, считая себя с мужем первыми фаэтами базы. Однако жена начальника базы Нега Лутон, незаконно занявшая место Сестры Здоровья, не будучи врачом, придерживалась иного мнения. С поощрения мужа, Мрака Лутона, обрюзгшего самодура, она корчила из себя первую даму космоса и не упускала случая уколоть Алу Вег намеком на брошенных ею детей. Ала парировала удары, не щадя ни бесплодия Неги, ни ее непривлекательной внешности. Молодая, но дородная (ладная, как ее прозвали) повариха и садовница Лада, добродушная, с ласковой улыбкой на широком курносом лице, делала все быстро и споро, стараясь угодить всем. Мужа своего она обожала, гордясь тем, что он, Брат Луа, единственный из круглоголовых, благодаря положению матери в семье диктатора смог получить образование на Даньджабе — континенте «культурных». Он был послан на Деймо и как мастер на все руки, и вроде как бы представитель круглоголовых, которым предстояло перебираться на неприютную планету. Лада Луа с готовностью пошла за ним, чтобы обслуживать всех обитателей Деймо. Сигнал в браслете связи застал Ладу Луа в оранжерее, в прозрачном цилиндрическом коридоре, тянущемся на тысячи шагов. Кроме Лады, никто не ходил по этому коридору, потому что он находился на оси космической станции и в нем не было искусственной тяжести от центробежных сил, как в остальных помещениях базы. Садовница не ощущала своего веса, паря между воздушными корнями растений. Здесь местами роль почвы выполнял питательный туман с капельками нужных корням соков. Урожай в космосе снимался куда больший, чем на Фаэне. Сигнал застал Ладу Луа собирающей сладкие плоды для предстоящего пира. Цепляясь за воздушные корни, Лада Луа спешила на зов Алы Вег. Ей предстояло проплыть немалое расстояние сквозь переплетение воздушных корней, потом спуститься по шахте внутри спицы гигантского колеса, в кольцевом ободе которого размещались все помещения станции. Клеть в шахте словно падала в пропасть. Ощущение веса появлялось лишь в конце пути, при торможении. Клеть остановилась, и двери раскрылись сами собой. Лада Луа обрела нормальный вес и вышла в коридор, который, казалось, поднимался в оба конца. Однако никакого подъема преодолевать не приходилось. Ала Вег металась по своей каюте, возмущаясь неуклюжестью мужа, который, стоя на коленях, никак не мог приколоть к ее платью какую-то оборку. Лада Луа всплеснула руками от восторга. Ала Вег бесцеремонно выгнала мужа, и он отправился готовить встречу прибывающему кораблю, который предстояло заправить горючим. Он понимал, что Але Вег смертельно наскучили одинаковые дни, нудные обеды за общим столом, надоевшие до тошноты лица, одни и те же, много раз слышанные слова и растущая день ото дня неприязнь друг к другу. Тихо Вег старался понять жену, извинить ее слабости, объяснить их тоской по дому, по детям. Он и сам тосковал по ним. Если бы хоть один был с ними, он принес бы столько радости! Но на космических базах не допускалось присутствие детей. «Высшие», комплектуя персонал Деймо, сумели и здесь притеснить круглоголовых. Нега Лутон была бесплодна, Ала Вег уже имела троих детей и при своем возрасте, который скрывала, не решалась обзавестись четвертым. В результате запрет ложился лишь на молодую чету Луа, которые не могли произвести потомство ни на планете, ни здесь в космосе. Принарядив Алу Вег, Лада Луа побежала на сверкающую кастрюлями и циферблатами кухню, чтобы варить, жарить, запекать… Но браслет связи снова вызвал ее, на этот раз к Неге Лутон. Важная дама больше всего на свете любила удобства и роскошь. Ее муж, сверхофицер Охраны Крови, в полной мере предоставлял ей все это на Фаэне. И меньше всего супруги Лутон стремились в космос. Однако воля диктатора забросила их сюда. Лада Луа включила кухонные автоматы на заданный режим и помчалась к Неге Лутон.Когда космический корабль «Поиск», выйдя на орбиту Деймо, шел к станции для стыковки, Мада и Аве не отходили от иллюминатора. Огромный Мар выпуклым краем занимал больше половины окна. Светило Сол выглядело уже не просто самой яркой звездой-кружочком, а превратилось в ослепительный диск с пышной короной. На короткое время громада Мара закрыла собой светило, погрузив корабль в быстротечную ночь. Держась за руки, Мада и Аве встречали необыкновенную зарю своей новой жизни, ожидая, когда яркий и кудрявый Сол начнет подниматься из-за горба Мара. Черная поверхность пустынь становилась коричневой, и постепенно сменялись по высоте все нежнейшие оттенки исполинской радуги, которая не висела над омытыми лесами и равнинами, как на родной Фаэне, а охватывала полукругом пустынную планету, сливаясь с краями гигантского шара. У Мады захватывало дух. Она только молча пожала пальцы Аве. Потом радуга в одном месте засверкала, и фаэты увидели свою первую цель — Деймо. Он горел самой яркой звездой небосвода, быстро поднявшейся над радужной кромкой. Деймо по мере приближения становился гигантской неправильной формы глыбой, а скоро рядом с ней стала заметна небольшая звездочка, которая и была целью фаэтов — космическая база Деймо. Потом уже можно было различить, что эта звездочка представляет собой кольцо, наклоненное под небольшим углом к громаде Мара. Схожая с планетой Сат, она была спутником спутника планеты Мар. Наконец на это искусственное сооружение из металла, отражавшее лучи светила, стало больно смотреть, как на электрический разряд для сплава металлических частей. Первый пилот «Поиска», прославленный звездонавт «высших» Смел Вен, делал сложный маневр, чтобы выйти к станции по оси кольца и стыковаться с центральным отсеком. От станции в черноту небосвода яркой линией уходил серебристый хвост оранжереи. Когда «Поиск» подошел к базе Деймо, инженер Тихо Вег вызвал в центральный отсек Брата Луа, выполнявшего черную работу механика. Начальник базы Мрак Лутон не счел нужным подниматься в центральный отсек, чтобы «несолидно парить» там в невесомости. Он предпочел остаться в кольцевом коридоре, разгуливал там, важный и напыщенный, с заложенными за спину руками. Имя Мрак, полученное им в далекой юности, подтверждалось теперь даже его внешностью: одутловатое прямоугольное лицо, редкие седые волосы и маленькие подозрительные глаза под клочьями бровей, слегка вывернутые ноздри и серповидная линия рта с уголками вниз между обвисшими щеками. Он не задерживался у подъемной клети, а продолжал шествовать все в одном и том же направлении, пока наконец, пройдя все колесо станции, не показывался в коридоре с другой стороны. Зато все три фаэтессы, не в силах побороть любопытства, сошлись у подъемной клети. Первым в коридор вышел старец огромного роста: Ум Сат. Дамы почтительно склонили головы. Следом вышли два фаэта. Заросший по глаза волосами великан Гор Зем был бортинженером корабля и одним из его создателей. Он сильно сутулился, благодаря чему руки казались неимоверно длинными. Друзья его шутили, что он ростом, силой и обликом напоминает фаэтообразных предков. Однако его низкий, заросший волосами лоб скрывал недюжинный ум. Его новый друг Тони Фаэ, образованный, утонченный, пишущий стихи, имел круглый овал лица, тонкий нос, усики и натруженные письменами широко открытые глаза, прикрытые большими очками. Нега Лутон взяла под опеку фаэтообразного гиганта Гора Зема. Ала Вег — юношу поэта Тони Фаэ. Ум Сат сам подошел к круглоголовой Ладе Луа. — Не покажет ли ласковая фаэтесса, где можно отдохнуть? Лада Луа зарделась и, вне себя от счастья, повела великого старца в отведенную ему каюту. Ала Вег с задорным смехом побежала по коридору, жестом призывая Тони Фаэ догнать ее. Она ввела Тони Фаэ в уютную каюту и села в легкое кресло. — Итак, не правда ли, Тони Фаэ, у нас родство душ? Случайно ли, что мы оба звездоведы, чтооказались среди звезд и сидим рядом на расстоянии вытянутой руки? Тони Фаэ снял очки, чтобы лучше видеть вблизи. — Звезды сделали нас друзьями, не правда ли? — продолжала Ала Вег, отлично видя, какое производит впечатление на молодого гостя. — Ради всего, что я здесь вижу, стоило лететь к звездам, — пролепетал он, опуская глаза. — Я уже знаю, что вы поэт. Но вы еще и звездовед. Я хочу, чтобы у нас были общие взгляды. — Мне так хотелось бы этого! Они помолчали, глядя друг на друга. — Скоро будет пир. Мы будем сидеть рядом. — О да! — кивнул Тони Фаэ. — Только надо взять под свою защиту еще и Гора Зема. Он такой же беспомощный, как я. — Люблю беспомощных, — рассмеялась Ала Вег, ласково дотрагиваясь до руки Тони Фаэ. — Вы прелестное дитя, и я рада, что вы прилетели. Если бы вы знали, как мы все здесь надоели друг другу! Мрак Лутон, совершавший прогулку по коридору, словно на базу никто не прилетел, на самом деле точно соразмерял свой шаг. Из всех прилетевших главной персоной он считал дочь диктатора. И потому он подошел к подъемной клети в тот миг, когда из нее появились Мада, Аве и первый пилот корабля Смел Вен. Начальник базы прикидывал в уме: дочь диктатора уже после вылета с Фаэны вышла замуж за Аве Мара, сына правителя «культурных». Что это? Политика? — Да продлятся благополучные циклы жизни мудрейшего из мудрых, которому посчастливилось иметь такую дочь! — витиевато приветствовал он Маду и сообщил, что им с Аве отведены две превосходные каюты в противоположных отсеках станции. Мада вспыхнула: — Разве база Деймо не имела электромагнитной связи с кораблем «Поиск»? — гневно спросила она. Мрак Лутон развел руками. — Если на базе действуют обычаи «высших», — тоном приказа продолжала Мада, — то придется отвести нам с мужем общую каюту и тотчас же прислать туда круглоголовых Луа. Начальник базы почтительно склонился, насколько позволял живот: — Они существуют для услуг. Да продлятся циклы жизни и диктатора и правителя, — закончил он, впервые взглянув на Аве. Мрак Лутон сам отвел молодую чету в лучшую каюту базы, по пути показал помрачневшему Смелу Вену его помещение. Потом он нашел спустившихся из центрального отсека Брата Луа и Тихо Вега. Брату Луа он приказал найти жену и явиться вместе с ней к Маде и Аве. И только теперь заметил, что Смел Вен продолжает стоять у двери своей каюты. Мрак Лутон подошел к нему и услышал сказанные полушепотом слова: — Едва ли диктатор одобрит такое поспешное гостеприимство. — И Смел Вен исчез, захлопнув за собой дверь. Мрак Лутон тупо смотрел на отделанную пластиком панель. Брат Луа не только привел к Аве и Маде жену, но и принес чертежи. Это был невысокий, спокойный фаэт с тугой, лоснящейся кожей лица и сосредоточенными глазами. Сын Мадиной няни, он рос отдельно от матери, но всегда ощущал ее влияние. Она даже сумела сблизить сына и воспитанницу, даже подружить их. Однако скоро их встречи стали невозможными. Диктатор отгораживался от народа стенами. Мальчик узнал унижение и несправедливость. Впечатлительный и гордый, он все глубже уходил в себя. Он обладал редким упорством. Мать Луа внушила ему, что только знание заставит считаться с ним даже тех, кто угнетает круглоголовых. И он упорно боролся за крупицы знания. Так с самой ранней юности его лицо приобрело выражение твердости и сосредоточенности. Ладу Неп он полюбил еще до своего отъезда на Даньджаб, материк «культурных», для завершения там образования, на что, сдавшись на уговоры няни и Мады, наконец согласился Яр Юпи, правда имея на юношу свои виды. Несколько циклов Лада самоотверженно ждала своего нареченного, чтобы после его возвращения немедленно отправиться по приказу диктатора на космическую базу Деймо, созданную им для утверждения своего авторитета и будто бы для осуществления плана переселения на Мар круглоголовых. И вот теперь Брат Луа спешил поделиться с Аве и Мадой плодами своих раздумий, бессонных ночей, проведенных за чертежами. — Я намечал облегчить здесь жизнь круглоголовых, — торопливо, но твердо говорил он. — Намечал строительство глубинных городов с искусственной атмосферой. На поверхности Мара, среди пустынь, которые вы видите в иллюминатор, я планировал оазисы плодородия. Нужно лишь оросить их талой водой полярных льдов, доставляя ее по глубинным рекам. Их придется прорывать. — И он доверчиво посмотрел на слушателей. — Я так ждал подлинных знатоков знания! Мада подошла к Брату Луа. — Мы знаем друг друга с детства, и оба любили Мать Луа. — Почему любили? — насторожился фаэт, всматриваясь в Маду. Лада Луа, почувствовав сердцем тревожное, подошла к мужу. — Я… Я должна сказать вам все… — продолжала Мада. — Как? Начинается война? — в ужасе спросил Брат Луа. — Мать Луа пыталась предотвратить войну, — вдруг под влиянием какого-то наития сказала Мада. — И она погибла. Брат… — Погибла? — побледнел фаэт. — Ее убил негодяй Яр Альт. Но наша с тобой мать отомщена. Брат Луа уронил голову на стол с разложенными на нем чертежами и зарыдал. Мада держала Аве за руку, сама едва не плача. Лада Луа бросилась к двери. — Идет Мрак Лутон сзывать на пир, — прошептала она. — Он ничего не должен знать, — предостерегла Мада. Малый мир крохотного населенного островка Вселенной был подобен разобщенному, раздираемому враждебными силами большому миру планеты.
Глава вторая ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО
Самым сильным у Мады было ощущение света. Он яркой мозаикой падал наземь сквозь листву деревьев, стволы которых походили на сросшиеся корни. Вверху они раскидывались прозрачными шатрами, полными огней. Каждый плод там походил на маленькое светило. Поток пены, низвергаясь с каменного уступа, играл трепетной радугой. Гладкое озеро, питавшее поток, лежало тихое, пересеченное искрящейся дорожкой. По берегам росли причудливые деревья с золотыми яблоками. И вода манила Маду из глубины теми же яркими, чуть подернутыми дымкой плодами, до которых так легко дотянуться рукой. Она подумала, какими нелепыми выглядят в таком месте два громоздких, неуклюжих существа: передвигаются на задних лапах, держат туловище стоймя, но переваливаются при каждом шаге из стороны в сторону. Их крепкий корпус, с обручем на высоте бедер, украшен спиральным орнаментом, верхние и нижние конечности скрыты надувшимися пузырями, а голова спрятана внутри жесткого шара с щелевидными очками. По озеру плыли две огромные птицы с гордо изогнутыми шеями, они повернули головы с красными клювами и доверчиво направились к берегу. Из леса появилось несколько легких четвероногих животных. На головах у них росли те же диковинные деревья с корнями-ветками, только без плодов и листьев. Животные стали пить воду. На светлые пятна в тени древесных шатров мягко спрыгнул могучий зверь с зеленоватыми светящимися глазами. Шкура его сливалась со световой мозаикой. Гибкий, сильный, он неслышно направился к воде, не обратив внимания ни на рогатых обитателей леса, ни на странных пришельцев. — Я даже не испугалась, — сказала Мада через шлемофон. — Девственный, непуганый мир, — отозвался Аве. — А сколько здесь света! — Авторитеты Фаэны считали, что он может убить. — Только тьму, невежество, злобу. Мы нашли мир, где нет и не может быть зла и ненависти. Мада подошла совсем близко к водопою. Олененок с любопытством оглянулся, выскочив из воды, и ткнулся мокрой мордочкой в перчатку Мады. — Могла ли я о таком думать на Фаэне?! — воскликнула она. — Увы, не осталось им там места! — Они дети света. Открой щели очков, посмотри. Не бойся, глаз — самый приспосабливающийся орган. На Фаэне не поверят нашим рассказам. — Миллионы фаэтов ждут их. — Так не делаем ли мы здесь полдела? Зачем эта оболочка, отделяющая нас от нового мира? Я совсем открыла очки! — Мада, родная! — предостерег Аве. — Это опасно. — Мы нашли мир удивительной красоты, но не доказали, что можем жить в нем. — Надо помнить запрет Ума Сата. — Чего бояться? Незримых опасных существ? Но свет — лучшее лекарство против них. Я сама — Сестра Здоровья. Наши предки не задумывались, прививая себе болезнетворные микробы во имя избавления всех фаэтов от смертоносных болезней. Именно врач на Земе должен первым освободиться от скафандра. Это его долг! К тому же я хочу искупаться в озере. Разве мой Аве, покорявший океанские волны на дощечке, отступит сейчас? Проглоти таблетки, которые я тебе дала. Они защитят тебя от неведомого мира Планеты Света. И ее свет поможет нам. Сними скафандр! И помоги мне. — Зачем ты искушаешь меня, Мада? — Чтобы сделать первыми то, что все равно надо сделать. Ведь не можем же мы вернуться на Фаэну, так и не попробовав жить здесь по-настоящему свободно. А не в скорлупе. Говоря это, Мада сорвала золотое яблоко и протянула Аве: — Очисти мне его, пожалуйста. У него кожура яркая, как Сол, и прочная, как наш скафандр.Когда корабль «Поиск» стал приближаться к орбите Земы, участникам экспедиции все труднее становилось от яркого света Сола. Особенно жгучим он стал, когда корабль вышел на орбиту вокруг Земы. Мада установила, что атмосфера планеты поразительно схожа с фаэнской. Лишь углекислоты оказалось мало, и парникового эффекта здесь не было. Планета свободно излучала в пространство избыток солнечного тепла. Потому условия существования на ней оказались сходными с теми, какие были на Фаэне, как это предположил когда-то Аве Мар. Тони Фаэ, звездовед, с увлечением поэта наблюдал планету. Большая ее часть была залита водой, как бы заштрихованной рядами волн. Поверхность морей и суша поражали разнообразием цветовых оттенков. Но больше всего над Земой было облаков. Одиночные, они бросали на поверхность планеты отчетливые тени, а в туманных океанах там и тут можно было различить спиралеобразные вихри бушевавших внизу ураганов. Но нигде: ни на суше, ни на морском берегу — не было видно пятен городов с расходящимися от них щупальцами дорог. Это бросалось в глаза при взгляде на Фаэну из космоса. — Должно быть, мер-ртвая планета, — предположил бортинженер Гор Зем. — Живая! — воскликнул Тони Фаэ. — Зеленый цвет материков — это растительность. А другие оттенки… — То-то и дело, в их тайну не проникнешь. — Нет, почему же, — оживился Тони Фаэ. — Это легко! — Р-разве? — удивился Гор Зем. — Жрецы в древности считали, что каждое живое существо окружено ореолом излучения. Цвет его якобы позволял «психическому зрению» узнавать самые сокровенные мысли и чувства. — Жр-рецы сочли бы планету Зема за живое существо? — Чтобы составить ее карту, — засмеялся Тони Фаэ. — Что ж, пр-риступим. Вижу в гор-рном хр-ребте чер-рные пр-роемы! — Значит, Горы Злобы и Ненависти. — Вр-роде как на нашей Фаэне. Дальше тянутся гр-рязно-зеленые долины. — Долины Ревности. — А чер-рно-зеленые? — Низкий Обман. — Стоит ли начинать с таких мр-рачных названий? — Тогда смотри на большие просторы суши. — Яр-ркий зеленый цвет. — Жрецы считали его признаком житейской мудрости и тонкого обмана. — Будем снисходительны к Земе, назовем сушу Континентом Мудрости без всякого обмана. А вот узкое море, на котором словно свер-ркают кр-расные молнии. — Море Гнева. — У него р-розовый залив. — Залив Любви. — А вот побер-режье кр-расновато-кор-ричневое. — Берег Жадности. — Недур-рно для будущих земян. Может быть, с синим океаном будет лучше? — Океан Надежды. — Его голубой залив? — Залив Справедливости. — Уже лучше. А эти огнедышащие горы с кр-расным пламенем и черным дымом? — Вулканы Страстей. — Убедительно. А какого цвета ор-реол у твоего друга Гора Зема? — На карте планеты я назвал бы его Горой Силы и Щедрости. — Спасибо. Каков же ор-реол у нашего Ума Сата? — Ярко-голубой и золотисто-желтый. Такие места на Земе пришлось бы назвать высшими понятиями ума и чувств. Молодые фаэты, продолжая игру, незаметно составили первую карту Земы с забавными названиями, вспоминая при этом и участников экспедиции. — Что касается ореола Мады, — продолжал Тони Фаэ, — то это цветовая гамма зари в космосе. — А сам Тони Фаэ? Не пылает ли он со времени посещения Деймо яр-рко-красным ор-реолом? Тони Фаэ смутился. — Видишь, — продолжал Гор Зем, — я не хуже др-ревнего жреца распознаю твой ор-реол, — и лукаво рассмеялся. — Это не так трудно, — пытался защититься Тони Фаэ. — Можно вглядеться и в Аве, даже в Смела Вена. — Р-разве?.. Даже в Смела Вена? — Все мы пылаем красным цветом, — вздохнул Тони Фаэ, — только разных оттенков. — Так не назвать ли мор-ря именами влюбленных? — ухватился за озорную мысль Гор Зем. — Пусть уж лучше планета Зема носит название Вечных Страстей. Тони Фаэ верно сказал не только о планете Зема, но и о Смеле Вене. Если бы вокруг него был ореол излучения, то непременно огненно-красный. Любовь к Маде сжигала его, и вызванные ею чувства исполосовали бы его ореол черными и грязно-зелеными полосами. Баловень судьбы на Фаэне, прославленный звездонавт, любимец фаэтесс, с Мадой Юпи он даже не решался познакомиться, не раз любуясь ею на Великом Берегу. Он надеялся, что скорый отлет в космос излечит его, но… Мада оказалась рядом, чтобы унизить, уничтожить Смела Вена своим браком с ничтожным полукровкой, отец которого мрачными путями добрался до кресла правителя. Смел Вен, как и многие длиннолицые, не знал половины ни в чем. Потому он и стал прославленным звездонавтом, не страшась опасностей, потому полетел и на Зему. Он не был в юности злым или лукавым, но теперь пренебрежение Мады пробудило в нем скрытые стороны его характера. Видя счастье Мады и Аве, ненавидя их за это и страдая, он вынашивал скрытые планы мести, столь же лукавые, как и жестокие… Но сам он должен был оставаться вне всяких подозрений. Помогать ему будет сама планета Зема!.. Корабль «Поиск» с включенными тормозными двигателями гасил скорость без трения об атмосферу, не разогревая оболочки кабины. Процесс посадки конструктор корабля Гор Зем сделал, как он говорил, «зеркальным графиком подъема». Он не применял парашютных устройств, характерных для первых шагов звездоплавания фаэтов. Корабль мог так же медленно опускаться на поверхность планеты, как поднимался при старте. «Поиск» сел на три посадочные лапы, оказавшись выше самых больших деревьев, и опасно накренился. Автоматы тотчас выровняли его. Звездонавты приникли к иллюминаторам. Густой лес неведомых деревьев рос по обе стороны реки. Ум Сат объявил: — Зема, которая станет родиной наших потомков! Но пока следует воздержаться от снятия скафандров. Невидимый мир планеты еще не изучен. Через открытый люк сначала спустили приборы, а потом по сброшенной лестнице стали неуклюже выбираться странные фигуры, наряженные в жесткие скафандры. Мада и Смел Вен выходили последними. Смел Вен помогал Маде надеть шлем. — Неужели такая фаэтесса, как Мада Юпи… — Мада Мар, — поправила Мада. — Неужели такая фаэтесса, как Мада, может согласиться с Умом Сатом и обезображивать себя этим одеянием? — Ты, Смел Вен, подсказываешь отважный поступок, достойный тебя самого. — Нет ничего на свете, что страшило бы меня. Но я — пилот корабля, для Ума Сата необходимый элемент возвращения. Мада поморщилась от витиеватости его слов: — Считаешь себя самым ценным? Смел Вен сдержался, не в его интересах было раздражать Маду: — Ты сама — Сестра Здоровья и почувствуешь потребность сбросить это одеяние, едва войдешь в новый мир. Мада опустила забрало.
Над рекой разгоралась земная заря. В космосе звездонавты познакомились с ярким Солом, с его неистовым, жгучим светом. А здесь, в вечерний час их первого дня на Земе, можно было, не защищая глаз, смотреть на красноватый приплюснутый Сол, лишенный космической короны. Около овального диска стали собираться продолговатые тучи. Две из них, подойдя с разных сторон, соединились и разрезали Сол пополам. И тогда произошло чудо. Вместо одного над горизонтом повисло целых два продолговатых светила, одно над другим, оба багровые. Мада не могла оторвать глаз от этого зрелища, видя, как постепенно оба светила менялись в размере: нижнее погружалось в море леса, а верхнее, становясь все тоньше, превратилось в маленький срез диска и, наконец, исчезло совсем. Скрылась за тучей и нижняя часть светила. Теперь огнем полыхало само небо. И словно в алом, разлившемся выше туч океане висели лиловые волны, а совсем высоко, освещенный ушедшим Солом, сверкал раскаленными краями одинокий белый островок. Заря постепенно гасла, а облачко продолжало гореть не сгорая. А потом как-то сразу тьма упала на землю. Настала ночь, совсем такая же, как на Фаэне. И даже звезды были те же самые. Только не было у Земы великолепного ночного светила, подобного спутнику Фаэны Луа, которое так украшало фаэнские ночи. Зато особенно яркой была здесь планета Вен. Тони Фаэ показал Маде эту вечернюю звезду, засиявшую на горизонте, как искра в пламени зари. Она осталась самой яркой и на ночном небосводе. Долго еще звездонавты любовались небом Земы. Из леса доносились странные ночные звуки. Ум Сат предложил провести ночь в ракете. Мада неохотно вернулась в корабль, хотя там можно было освободиться от тяжелого скафандра. Она не могла отделаться от неприятного ощущения, вызванного словами Смела Вена. Наутро фаэты попарно разбрелись по лесу. В назначенное время должны были собраться у ракеты. Легли длинные тени. Приборы говорили, что посвежело. Скоро во второй раз предстояло увидеть земной закат. Аве и Мада запаздывали. Ум Сат тревожился. Тони Фаэ тщетно вызывал ушедших. Мада и Аве не отвечали, словно электромагнитная связь отказала. Гор Зем одну за другой выпустил две сигнальные ракеты. Они взвились в красочное вечернее небо, оставив за собой кудрявые хвосты. Красная и желтая петли долго плыли в небе. Тони Фаэ пошутил: — От красного к желтому — от любви к мудрости. Безнадежный зов. Гор Зем замахал на него вздутым рукавом скафандра. Смел Вен держался в стороне, словно ничего не произошло. Шлем скрывал его поджатые губы и опущенные глаза. Наконец случилось то, на что он рассчитывал: из леса выбежала Мада в мокром, облегающем костюме, какой надевался под скафандр. Скафандра на ней не было. Смел Вен вздрогнул и расширил щели своих очков. Это была та самая Мада, которую старались увидеть ваятели на Великом Берегу, которой любовался там и Смел Вен. Вскинутая голова на длинной шее, синие восторженные глаза. В каждой руке она держала по золотому яблоку. — Мы с Аве стали первыми жителями Земы! — возвестила Мада. — Это запишут в ее историю! Аве шел следом в таком же мокром, обтянутом костюме, как и Мада. Очевидно, они позволили себе искупаться. Он тоже нес два золотистых плода. Встретив укоризненный взгляд Ума Сата, он обратился к нему: — Пусть мы виновны, но теперь доказано, что фаэты могут жить на Земе. Планета прокормит их. Труд колонистов будет здесь щедро вознагражден. Перенаселению Фаэны конец! Ум Сат только посмотрел на Аве, и тот смущенно опустил голову. — Мы лишь провели опыт, который надлежало кому-нибудь провести, иначе незачем было лететь сюда. Смел Вен напрасно ждал много дней. Аве и Мада, первые жители Земы, пользовались всеми благами открытого ими рая и ничем не заболели. По истечении достаточного срока Ум Сат разрешил и остальным фаэтам снять скафандры. Чужая природа сразу приблизилась к ним: воздух, полный странных ароматов, яркий свет, незнакомый на Фаэне, и неведомые звуки из леса. Кто-то там шел, крался, прыгал с ветки на ветку, визжал, рычал. И вдруг все звуки смолкали, и из чащи на незваных пришельцев словно смотрела сама Тишина.
Глава третья ОБРЕТЕННЫЙ РАЙ
Ум Сат с какой-то особой печалью смотрел на своих спутников, стараясь не подходить к ним близко. Он сделал знак Смелу Вену и поднялся в ракету. Первый пилот «Поиска» нашел ученого уже лежащим на диване в общей рубке. Щеки его ввалились, мешки под глазами обвисли. Смел Вен встал поодаль, опустив уголки губ и подняв в изломе одну бровь. Его узкое лицо с огромными залысинами казалось еще длиннее из-за жидкой острой бородки. — Ощущаю общую слабость, — сказал старец. — Головной боли и сыпи нет. Возможно, все обойдется. Пусть Сестра Здоровья немного побудет со мной, остальные могут заниматься своими делами. И все же я считаю долгом передать руководство экспедицией тебе, командиру корабля. — Да будет так! — торжественно провозгласил Смел Вен, подтягиваясь, как на параде. — Я принимаю на себя всю власть! Отныне я распоряжаюсь всем. Тебе, старик, приказываю лежать. Где продукты, ты знаешь. Никому из подчиненных не позволю приблизиться к ракете. — Даже Сестре Здоровья? — тихо спросил Ум Сат. — Даже ей, — отрезал Смел Вен. — Она пригодится остальным, если они тоже заразятся. Ум Сат слабо усмехнулся и ничего не сказал. — Я удаляюсь, — заспешил Смел Вен. — Я смещаю тебя, — вслед ему сказал старик, но люк уже захлопнулся. Ум Сат устало закрыл глаза. Когда же он перестанет ошибаться? За что только его считают мудрым?Смел Вен собрал всех звездонавтов: — Ум Сат приказал мне передать вам, что лагерь переносится от ракеты в глубь леса. Поскольку старцу тяжело будет ночевать там, он поручил руководство лагерем мне, своему заместителю. — Но ведь ночью в лесу опасно, — заметил Тони Фаэ. Смел Вен презрительно посмотрел на него: — Я не знаю, кого больше украшает трусость: звездоведа или поэта? Тони Фаэ вспыхнул. За него вступился Гор Зем: — Остор-рожность полезна и р-руководителю. — Какой тут риск, — накинулся на него Смел Вен, — если мы попали в мир любви и согласия? — И он обернулся к Маде и Аве. — Кто же нам здесь угрожает? — поддержала его Мада. Аве молча кивнул головой. Исследователи, забрав все необходимое, вооружившись по настоянию Зема пистолетами, правда, с парализующими пулями, безопасными для жизни животных, направились в лес. Мада непременно хотела повидаться с Умом Сатом, но Смел Вен не позволил, торопя идти в лес, пока не стемнело. Лагерь разбили на берегу того самого озера, откуда брал начало поток, срывающийся в пропасть. На воде, подернутой перламутровой рябью, плавали белые птицы с изогнутыми шеями. — Для чего им такие длинные шеи? — спросил Тони Фаэ. — Чтобы доставать подводные водоросли, — ответила Мада. — Вполне мир-рное занятие, — заметил Гор Зем. В небе уже полыхала вечерняя заря, когда Смел Вен послал Маду и Аве осмотреть другой берег озера. Им пришлось перебираться через поток, перескакивая с одного камня на другой. Они шли, изредка нагибаясь под низкими ветками, одетые в черные облегающие костюмы, и восторженно смотрели по сторонам. И вдруг оба замерли. Впереди, закинув назад рогатую голову, промчался олень. За ним огромными мягкими прыжками гнался могучий зверь с пятнистой шкурой. Он настиг оленя и взлетел ему на шею. Тот с перекушенной сонной артерией сделал отчаянный скачок и повалился под дерево. Послышалось рычание. Зверь рвал жертву. Аве схватился за пистолет, чтобы перезарядить его не парализующими, а отравленными пулями. — Мы не смеем отнять здесь у кого-нибудь жизнь! — вмешалась Мада. — Не надо переносить сюда нравы Фаэны. — Боюсь, что они уже существуют здесь. — Но почему же? Отчего? — Законы развития жизни на планетах одни и те же. — А у водопоя? — слабо возразила Мада. — Там никто ни на кого не нападал. — Хищник не может только убивать животных. Он позволяет им жить, пить, плодиться, расти. Иначе ему потом нечего будет есть. Он как лесной скотовод: настигая на охоте слабейших, улучшает таким отбором стадо. Мада не возражала. Подавленная, она шла рядом с Аве, чувствуя его руку у себя на плече. Но вдруг он отдернул руки ударил себя по лбу. Мада непроизвольно сделала то же самое. Потом в недоумении посмотрела на свои пальцы, испачканные кровью. В лесу потемнело, и он наполнился жужжанием. Крохотные летающие существа накинулись на фаэтов и стали жалить их. Пришлось отбиваться сорванными ветками. Они застали в лагере Смела Вена одного. Он яростно бил себя по щекам и шее. — Гнусные твари! — ругался он. — Хоть прячься в скафандр. — Я жестоко ошибалась, — сразу начала Мада. — Только что мы с Аве видели в лесу убийство. Здесь убивают, как и на Фаэне! Надо скорее переносить лагерь обратно к ракете, на открытое место, где нет насекомых и хищников. — К ракете мы не пойдем, — отрезал Смел Вен. — Там нас поджидает более страшная смерть, которая уже подстерегла Ума Сата. — Как? — возмутилась Мада. — И ты, замещающий Ума Сата, не позволил мне, врачу, быть с ним? — Такова была его воля. Не только гнусные летающие твари или пятнистые хищники, но и скрытый микромир показал нам свои зубы. — Я иду к Уму Сату! — объявила Мада. — Вместе со мной, — добавил Аве. — Только трусы, найдя предлог, спасаются бегством! — вслед им крикнул Смел Вен, забыв о собственном лживом предостережении. Мада бежала впереди. Аве едва различал ее силуэт в наступившем сразу мраке. И вдруг сердце его больно сжалось. Ему показалось, что Маду остановило гигантское сутулое существо с длинными свисающими руками. Он выхватил пистолет, который так и не зарядил боевыми пулями, но заметил, что Мада вовсе не испугалась. Аве облегченно вздохнул. До чего же взвинтились нервы из-за лесной драмы! Он не узнал Гора Зема. А вон появился и хрупкий Тони Фаэ. Аве спрятал пистолет и тут только увидел рядом с Гором Земом по меньшей мере пять похожих на него фигур. Фаэтообразные звери сбили с ног Тони Фаэ и бешено сопротивлявшуюся Маду. Целой гурьбой они навалились на Гора Зема. Аве бросился к Гору Зему, но не мог отличить его среди похожих на него сутулых, мохнатых зверей. Они сами обнаружили себя и впятером накинулись на Аве. Фаэт не успел вынуть пистолета. Он лишь стряхнул с себя повисших на нем врагов. Они были крупнее Аве, но совсем не умели драться. Кулаками и ногами Аве разбросал напавших на него зверей. Двое из них корчились под деревом, остальные снова кинулись на Аве. Перебросив через себя одного из них, остро пахнущего потом и грязью, он увидел, как разделывается со своими противниками Гор Зем. Несколько мохнатых туш корчилось у его ног. Но все новые противники сваливались ему на плечи с дерева. Аве хотел крикнуть, чтобы он отбежал на открытое место, но лапа заткнула ему рот жесткой шерстью. Аве скрутил эту лапу так, что хрустнула кость. Мады не было видно. Тони Фаэ тоже. Только Гор Зем и Аве Мар продолжали неравную борьбу. — Дер-ржись, Аве! — крикнул Гор Зем. — Это местные р-родственники! Аве раскидал первых врагов, но не менее десятка новых особей накинулись на него. В его руки и ноги вцепились по четыре когтистые лапы.

Молодой фаэт собрал все силы, рванулся и повалился наземь, подминая под себя врагов. На кучу барахтающихся тел прыгнуло еще несколько мохнатых зверей. Аве чувствовал себя как в обвалившейся шахте: не мог ни шевельнуться, ни вздохнуть. Гор Зем, видя положение Аве, рвался ему на выручку. Но, пожалуй, легче было свалить плечом раскидистое дерево, под которым произошла свалка, чем прийти Аве на помощь. И тогда Гор Зем в неожиданном прыжке ухватился за нижнюю ветку. Два или три фаэтообразных, не уступавшие ему ростом, висели на его ногах. Ветка гнулась, грозя обломиться. Невероятным напряжением всех сил Гор Зем взобрался на ветку вместе с висящими на нем зверями. Они полетели оттуда вниз головами, дико воя. Еще двое словно ждали вверху Гора Зема, но были сброшены вниз. Гор Зем с ловкостью, на которую не способны были его мохнатые противники, буквально взлетел на верхние ветки дерева. Истошный визг и рев неслись снизу. Гор Зем прыгнул с верхней ветки и, казалось, должен был разбиться и попасть в лапы скакавших в исступлении зверей, но каким-то чудом ухватился за ветку соседнего дерева. Он легко взбежал по ней, хотя ветка и гнулась под его немалой тяжестью. Путь был освоен — единственное спасение от ревевшего внизу стада. Гор Зем не понял, почему никто из зубастых врагов ни разу не укусил его. Размышлять было некогда, и он продолжал свой бег по верхним ветвям. Ему могли бы позавидовать далекие предки, когда-то спустившиеся с деревьев Фаэны. Однако преследователи бежали внизу не менее быстро. И тут Гор Зем увидел подобие фаэнской лианы. Она спускалась с очень высокого отдаленного дерева и зацепилась за одну из близких к Зему веток. Гор Зем ухватился за живой канат и полетел вниз. На миг мелькнуло беснующееся стадо. Набрав скорость, как раскачивающийся маятник, он пронесся над головами преследователей, успев ударить ногой наиболее крупного из них. Отчаянный визг прозвучал ему вслед. Гор Зем увидел под собой водопад. Лиана перенесла его на другой берег. Он ухватился за ветку, спрыгнул вниз и побежал. Крики погони замолкли вдали. Очевидно, фаэтообразные звери боялись воды и не могли переправиться вслед за Гором Земом на другой берег потока. Гор Зем замедлил шаг и стал глубоко дышать, высоко поднимая грудь, и только сейчас обнаружил, что по рассеянности не взял с собой из лагеря пистолета, хотя сам же настаивал, чтобы каждый был вооружен. Ужас объял его. Теперь уже нет никого, кроме него. Надо бы спешить к ракете, но своим известием о гибели всех фаэтов он убьет там Ума Сата. Однако ничего другого не оставалось. Гор Зем решил дождаться рассвета, считая, что фаэтообразные звери — ночные и боятся дня. Он залез на дерево и устроился на верхней ветке. Представляя себе растерзанных друзей, он плакал от горя и беспомощности. Слезы застревали в бороде, всклокоченной после битвы, как у фаэтообразного. Временами ярость затмевала рассудок. И вдруг в слабом отблеске рассвета он увидел одного из ненавистных зверей, медленно шедшего внизу. Сутулый, почти одного с ним роста, он покачивался из стороны в сторону при каждом шаге. Его спина была покрыта шерстью. Зверь обернулся, и тут Гор Зем понял, что это фаэтообразная. Двигалась она на задних лапах, а передние свисали у нее до коленей. Время от времени она нагибалась, срывая растение или выкапывая корешок. Гор Зем задрожал от ярости, готовясь спрыгнуть на зверя и разделаться с ним. В этот момент что-то метнулось внизу, и фаэтообразная упала. Ее подмял под себя пятнистый зверь, о котором рассказывала Мада. Сам не зная почему. Гор Зем прыгнул вниз на пятнистого хищника. Зверь взревел, стараясь вырваться из-под свалившейся на него тяжести. Но Гор Зем сам вскочил и ухватил его за задние лапы. Гигант рванул на себя зверя, поднял в воздух на вытянутых руках и ударил головой о ствол дерева, потом отбросил недвижное пятнистое тело в сторону. Фаэтообразная поднялась на ноги и скорее с любопытством, чем со страхом, рассматривала Гора Зема. Он даже обиженно подумал: «Неужели я до такой степени похож на ее сородичей, чту даже не пугаю ее?» Она доверчиво подошла и сказала: — Дзинь. Да, она сказала! Эти звери произносили членораздельные звуки. Если они не были полностью разумны, то через миллион или больше циклов могли бы стать такими, подобно тому как стали разумными фаэты. — Гор, — сказал фаэт, ткнув себя в обнаженную волосатую грудь. Ворот ему разорвали до пояса. Фаэтообразная повторила: — Дзинь, — и показала на себя. Трудно сказать, какой мыслительный процесс происходил в ее низколобом, скошенном черепе. Однако чувству благодарности, присущее многим животным Фаэны, наверное, было доступно и ей. Очевидно, какая-то мысль овладела самкой Дзинь. Она схватила Гора Зема за руку и с невнятным урчанием повлекла за собой. Может быть, она тащила его в свое логово, признав и нем не только спасителя, но и повелителя? Гор Зем поморщился. Он хотел было прогнать ее и даже замахнулся. Но она так покорно ждала удара, что он раздумал ее бить. Его осенила мысль, что она может вывести его к стоянке своих сородичей. А вдруг его друзья еще живы? Можно ли упустить шанс прийти им на помощь? Тогда он подтолкнул ее, чтобы она шла вперед, и двинулся за ней. Самка Дзинь обрадовалась и побежала, оглядываясь на Гора Зема. Оба двигались быстро и скоро перебрались через все тот же поток. Она знала, где с берега на берег упало дерево. Воды Дзинь боялась. Потом они прошли через лагерь фаэтов на берегу озера. Гор Зем увидел следы яростной борьбы. Мешки и научные приборы были раскиданы, но жертв борьбы не было видно. Очевидно, Смел Вен не успел пустить в ход оружие и был захвачен зверями. Самка Дзинь посмотрела на Гора Зема, но тот крепко ткнул ее в спину. Очевидно, такое обращение больше всего было ей понятно. Она обернулась, оскалила зубы в подобии улыбки и радостно побежала вперед. Скоро она остановилась и сделала предостерегающий знак, если ее жест лапой действительно что-нибудь означал. Гор Зем осторожно выглянул из-за дерева, которое росло на краю оврага. На противоположном его обрыве виднелись пещеры, а внизу суетилось стадо мохнатых зверей, слышалось ворчание, рык, взвизгивание. Гор Зем увидел среди фаэтообразных хищников Смела Вена. Он гордо стоял среди них, облепленный множеством вцепившихся в него зверей. Почему-то они еще не убили его. И тут Гор Зем понял, что эти звери не умели связывать, они могли только держать пленника передними лапами, стоя на задних. А что, если они не убивают свою жертву, перед тем как сожрать, что, если они не любят падали? Внизу заорали фаэтообразные. Смела Вена свалили наземь, мохнатые туши сгрудились над ним, терзая его тело. Гор Зем не выдержал, ему стало плохо. А Смел Вен не издал ни стона, ни крика. Никогда не ожидал Гор Зем, что можно обладать такой сверхъестественной выдержкой. Ему стало стыдно собственной слабости. И он уже готов был спрыгнуть вниз, но увидел в пещере на противоположном обрыве Маду, Аве и Тони Фаэ. Очевидно, их не убили, чтобы тоже съесть живыми. Все они, как и Смел Вен, не были связаны. По четыре зверя держали каждого из них за руки и за ноги. Фаэты не могли и пошевельнуться. Гор Зем обернулся к самке Дзинь. Она отпрыгнула и легла наземь, делая вид, что уснула. Потом вскочила, показала лапой на пожиравших свою жертву зверей и опять бросилась наземь. Инженер понял. Самка Дзинь пыталась объяснить ему, что звери, насытившись, уснут. Самка Дзинь была права. Она хорошо знала своих сородичей. Скоро они улеглись вповалку и захрапели. Только стражи остались на месте, делая вид, что бодрствуют, но никли волосатыми головами. Гор Зем не очень надеялся на успех. Все же он отполз в сторону и неслышно перебрался через овраг. Подкравшись к пещере, где лежали пленники, он спрыгнул у ее входа. Ближе всех к нему оказался лежащий Аве Мар с бесполезным пистолетом на боку. Не успели осовевшие от еды стражи шевельнуться, как Гор Зем испробовал на них смертельные приемы, преподававшиеся по приказу диктатора Яра Юпи в школах для «высших». При утреннем свете он бил точно. Чувствительные места фаэтообразных были почти теми же, что и у фаэтов. Мохнатые звери валились без звука. Гор Зем выхватил у Аве Мара пистолет и в упор выстрелил в четвертого фаэтообразного, еще державшего Аве за руку. Пуля была парализующая, зверь скорчился в судороге и замер. Гром выстрела перепугал остальных стражей. Они отпустили Маду и Тони Фаэ. Мада воспользовалась этим и так ловко ударила одного из них, что он покатился по камням. Тони Фаэ не успел вздохнуть, как Аве и Гор Зем набросились на его ошеломленных стражей. Зем выстрелил еще несколько раз. Аве сбрасывал почти не сопротивлявшихся зверей на дно оврага. А там началась невообразимая паника. Звери не имели ни малейшего понятия о способах ведения войн. Они захватили пришельцев с единственной целью съесть их. Сожрав первую жертву, они мирно спали, не поставив никакой охраны. И теперь вдруг оглушительные удары грома, которых они всегда страшились. И к тому же еще и трупы сородичей падали, словно с неба. Стадо с криками рассыпалось, бросив убитых и искалеченных на дне оврага. Мада кинулась на грудь Аве Мара и разрыдалась. Тони Фаэ протянул руку своему другу и спасителю. Аве краем глаза увидел у входа в пещеру еще одного фаэтообразного, очевидно хотевшего напасть на Гора Зема сзади. Он тотчас прыгнул на выручку, но огромная рука Гора Зема удержала его: — Это самка Дзинь. Она помогла выр-ручить вас. Мада с изумлением рассматривала мохнатое животное, которое не скрывало своего восхищения силой и бесстрашием Гора Зема.
Глава четвертая НА ВЕРШИНЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Когда корабль «Поиск» стартовал в космос, тело Куция Мерка недвижно лежало в подземном коридоре. Но лужа крови под ним не высыхала, словно пронзенное стилетом сердце продолжало кровоточить. Вдруг рука Куция Мерка дернулась и, упав на рану, зажала ее: кровь свернулась, перестала течь. Прошло очень долгое время, когда Куций Мерк снова шевельнулся. Ни один из многих миллиардов фаэтов не смог бы выжить в его состоянии, ни один… кроме Куция Мерка. Куций Мерк происходил из семьи круглоголовых, бежавших с континента «высших» после разгрома Восстания Справедливости. Яр Юпи только начинал там Разгул Крови. Куций был еще маленьким мальчиком без собственного имени. Отец Куция Хром Мерк, подозреваемый в сочувствии учению Справедливости, был намечен Охраной Крови к уничтожению. У бедняков Мерков не было никаких средств, чтобы уплыть на корабле. Они совершили беспримерное путешествие втроем на плоту, сколоченном Хромом Мерком. Пробыв томительные дни в океане, претерпев и бури, унесшие их скудные запасы, и штиль с нестерпимой жаждой, избежав погони (никому из Охраны Крови не пришло в голову искать в океане плот!), вконец измученные, истощенные, они достигли берега Даньджаба. Но никто не готовил здесь теплой встречи беглецам. Им даже не нашлось работы на полях и в мастерских владельцев, равнодушных ко всему, что не сулило выгоды. Доведенные нищетой до отчаяния, Хром Мерк отважился на то, что прежде отверг бы с негодованием, — решил зарабатывать на врожденном уродстве сынишки. У Куция было два сердца. Такое «уродство» встречается исключительно редко. На континенте «высших» родители скрывали ненормальность сына, боясь, что его объявят неполноценным и уничтожат. Но здесь, на континенте «культурных», все, что могло вызвать даже нездоровое любопытство, способно было принести доход. Мальчика стали показывать в балаганах. Любопытная толпа валила в них. И каждый считал себя вправе ощупывать раздетого догола, перепуганного «урода». Его бесцеремонно поворачивали, к нему прикладывали холодные трубки то к груди, то к спине или противно прижимались к его коже мягкими ушами. Его заставляли приседать, плясать под общий хохот и гогот, потом снова рассматривали, выслушивали. Зеваки недоуменно качали головами, удивлялись и шли рассказывать, отчаянно привирая, о диковинном чуде, которое сами видели. Предприимчивый Хром Мерк сумел столько заработать, что стал владельцем сначала небольшой мастерской, а потом крупных мастерских, где тысячи фаэтов стали трудиться на него. Куций рос, со стыдом и отвращением вспоминая те дни, когда выставлялось напоказ его «уродство». Впрочем, оно принесло не только доход его отцу. Скоро выяснилось, что мальчик становится не по возрасту сильным и выносливым. По молчаливому согласию между сыном и родителями теперь его два сердца стали семейной тайной, чтобы не привлекать в школе к мальчику тягостного любопытства. И когда юноше в день его совершеннолетия давали новое имя (он назывался Хром Мерк-младший), его назвали Куцием за нескладную фигуру, кстати сказать, ставшую такой из-за того же второго сердца. Вскоре Куций понял, что может превратить свой недостаток в достоинство. Во время унизительной карьеры «балаганного чудища» Куций Мерк обрел черты характера, определившие его профессию. Необщительный, хитрый, язвительный, ненавидящий «высших» за океаном, он обладал редкой силой и выносливостью. И он обратил на себя внимание Особой Службы. Его нашли пригодным для разведывательной деятельности. Безупречное знание нравов и языка варваров позволяло ему не раз выполнять опасные поручения, пересекая (уже не на плоту) океан. Продвигаясь по тайной лестнице, умный и скрытный, расчетливый и решительный, сын владельца, отнюдь не разделявший учения Справедливости, он стал доверенным лицом крупных владельцев, подбиравших для себя удобных правителей. Предшественник Добра Мара так страшился войны распада, что готов был уступить диктатору Яру Юпи и потому стал неугоден владельцам. Куцию Мерку привелось предупредить в ту пору «друга правителя» Добра Мара, на каких условиях тот может стать правителем, — первым начать войну распада. Только так мыслили владельцы, входившие в Великий Круг, рассчитаться с владельцами из Совета Крови. Добр Мар, став правителем, искусно лавировал на грани войны. Когда же подошел срок его переизбрания и предстояло сделать предписанный ему шаг, он отослал Куция на авантюрную диверсию, рискуя ради собственных интересов даже жизнью сына. Куций Мерк был настолько видным разведчиком, что мог уклониться от такого задания. Но у него еще с детства были свои счеты с «высшими». Он не прощал им ни Разгула Крови, ни бедствий своей семьи, ни угнетения круглоголовых. Вот почему Куций Мерк стал «горбатым», таская на спине заряд распада для уничтожения Логова диктатора вместе со всей его техникой, доставшейся ему от недальновидных владельцев из Даньджаба. Куций Мерк делал рискованную ставку и проиграл, пав от стилета Яра Альта. Но Яру Альту не могло прийти в голову, когда он выдернул из его сердца стилет, что у горбуна есть еще одно сердце.Долго, очень долго приходил в себя Куций Мерк. Второе сердце продолжало биться. Только такой необыкновенныйорганизм мог победить. Однако из-за огромной потери крови Куций был слишком слаб. Придя в себя и поняв, что произошло, он прежде всего снял и осмотрел свой «горб». Он был пробит в нескольких местах. Взрыватель замедленного действия выведен из строя. Куций Мерк понял, что ему не спастись, и он отбросил «горб» в сторону. Жгучий голод погнал его вперед. Надо было хоть как-нибудь выбираться, хотя это и казалось немыслимым. Однако Куций был не таков, чтобы отступить даже в безнадежном положении. Превозмогая и боль, и спазмы желудка, он пополз по каменному полу, уверенный, что Стена преградит ему путь, и не поверил себе, когда увидел в ней щель. После борьбы биотоков мозга, когда Альт пытался мысленно открыть, а Луа закрыть дверь, никто не дал автоматам приказа задвинуть Стену. Так же были открыты и две следующие преграды, через которые пробегал спешивший Альт, а потом проползала умирающая Мать Луа. На знакомом повороте в дворцовый сад, куда так рассчитывал добраться Куций, путь ему преградила глухая стена. И он пополз по кровавому следу Луа. Полз, замирал в изнеможении и снова принимался ползти. И все-таки Куций был жив! За протекшие несколько часов космический корабль «Поиск» уже улетел с Мыса Прощания. Сам же Яр Юпи перешел в глубинный бункер, чтобы начать войну распада, на которую наконец решился. Дворец опустел. Охранные роботы понесли в глубинное помещение тяжелый шкаф с щелевидными прорезями, выключив при этом энергию, питающую автоматику дворца. И теперь стена перед Куцием чуть дрогнула. Он смог просунуть в щель пальцы и, к величайшему своему удивлению, убедился, что стена подается, уступает ему, раздвинулась настолько, что он смог проползти… Потом, когда он, сам не зная как, поднялся на ноги и прислонился спиной к стене, она снова дрогнула, двинулась, и Куций упал. (Вновь включилось энергопитание!) Куций лежал, стиснув зубы, и пытался понять, что произошло. И вдруг подумал, что начинается война распада, которую он так и не предотвратил. Он заставил себя подняться на ноги. В глазах потемнело, он зажмурился, некоторое время стоял покачиваясь, потом двинулся, держась за отделанные бесценным деревом стены. Они вывели его наконец в сад, благоухавший знаменитыми цветниками диктатора. Куцию очень хотелось лечь здесь и умереть. Он даже перестал думать о еде. Он решил, что война распада, видимо, все-таки еще не началась. Ведь не было слышно взрывов, а значит, надо было жить! И он не позволил себе отлежаться на песке аллеи, снова пополз, пока не поднялся с коленей на ноги. Он хотел добраться до «кровной двери», надеясь, что и она теперь открыта. Он не ошибся и смог выползти в руины часовни. Здесь в знакомой нише можно было дождаться темноты, а ночью добраться до стариков Нептов, друживших еще с родителями Куция. Жили они в бывшем шахтерском поселке близ Города Неги. Младшая их дочь Лада была замужем за круглоголовым, получившим образование в Даньджабе. Вдвоем они улетели на космическую базу Деймо. Только Куций Мерк с его неистребимой жаждой жизни мог добраться этой ночью до Нептов. Войдя к ним, он замертво упал у порога. Суетливые старики, оба полные, рыхлые, седые, похожие друг на друга, что бывает у долго живущих вместе супругов, с трудом перенесли его тяжелое, кровоточащее тело и уложили в угол на подстилку. Куций Мерк упустил из виду, что оболочка его «горба» была пробита пулями, и воздух подземелья проникал к запалу. Хотя взрывательное устройство и не было приведено в действие, все равно под влиянием воздуха оно через какое-то время должно было взорваться.
Этого взрыва со страхом ждал правитель Добр Мар, уставший прикидывать, когда же он может произойти. Взрыв, разрушив противоторпедную защиту, был бы сигналом к безвозмездному удару ракет с зарядами распада по Властьмании, как того хотели владельцы, давшие Добру Мару власть. Добр Мар на всякий случай укрылся в глубинном бункере, все же надеясь, что Куций Мерк будет убит, не успев взорвать свой «горб», и желанная Великому Кругу владельцев война отодвинется еще на какой-то срок. Правитель Даньджаба готовился к войне, но страшился ее. И больше всего он хотел, чтобы оружие распада осталось на месте и все бы как-нибудь обошлось… хотя бы до новых выборов. В подземелье во всех мелочах был воспроизведен роскошный правительственный кабинет, круглый, со сводчатым потолком и высоко расположенными овальными окнами, которые здесь никуда не выходили. В нишах под ними помещались экраны связи. Добр Мар изменился. В лице его не было былой твердости, в глазах — проницательности. Он стал говорлив и все время словно оправдывался перед кем-то. И даже сказал одному из военачальников с намерением, чтобы это стало известно многим: — История не забудет правителя, начавшего войну распада. Не так ли? — и посмотрел мимо собеседника. Добра Мара тревожил нежданный отлет Аве в космос, но не из-за судьбы сына, а из-за Куция Мерка. Почему тот допустил этот полет? И что с ним самим? Неужели погиб наконец?
Но все произошло не так, как ожидал правитель Добр Мар, и не так, как планировал его враг диктатор Яр Юпи. И не так, как рассчитывали владельцы из Великого Круга или из Совета Крови. Настал миг, когда запал в искусственном горбу Куция Мерка сам собой сработал. Произошел глубинный взрыв распада. Куций Мерк, сидя на кровати Нептов, почувствовал, как его подбросило. Заколебался пол хибарки, зазвенела посуда на жидких полках, упал со стены портрет диктатора Яра Юпи. Прозрачная пленка в окне разорвалась, и в убогую комнату ворвался шквальный ветер, опрокинул стол. Закружились листки с письменами, над которыми корпел старый Непт, вздумавший на склоне жизни учиться грамоте. Куций Мерк съежился, ожидая удара. Но потолок не рухнул. Куций заковылял к окну. Казалось, ничего не случилось. Но не стало видно привычного Куцию черного шпиля Храма Вечности. Одна бровь Куция Мерка поползла вверх. Он улыбнулся левой половиной лица, правая оставалась настороженной. Но вдруг лицо Куция Мерка вытянулось и глаза округлились, он побледнел. Прямо перед окном огромная цветочная клумба в центре площади приподнялась, и из-под нее стало выползать гладкое цилиндрическое тело с заостренным носом. Оно словно росло на глазах и превратилось в высокую башню. Через мгновение из скрытой под ней шахты повалил черный дым, и башня начала подниматься на огненном столбе. Потом она оторвалась от площади, набирая высоту и ложась на курс в сторону океана. Скоро кормовая часть ракеты превратилась в огненный крест, который становился все меньше, пока не обернулся сверкающей звездочкой. Затем и она исчезла. Волосы шевельнулись на голове Куция Мерка. Он уже знал, что не только здесь, а и в тысяче других мест континента вот так же, из глубинных шахт, из-под воды, где-нибудь, может быть, даже из зданий, вырываются страшные ракеты, чтобы смертоносной стаей нестись к Даньджабу. Куций Мерк был прав. Ракеты действительно, получив приказ автоматов, вырывались из своих укрытий и, заранее нацеленные в жизненные центры Даньджаба, мчались через океан. Одна из таких ракет поднялась из многоэтажного дома, где останавливались Аве с Куцием, а другая должна была взлететь прямо из святилища Храма Вечности, где была замаскирована под одну из колонн. Но Храм рухнул от глубинного взрыва «горба» Куция. Однако расположенный на большой глубине Центральный пульт автоматики защиты не пострадал. А его чуткие приборы, едва уловив излучение, вызванное взрывом распада, тотчас дали сигналы тысячам ракетных установок.
Диктатор Яр Юпи был перепуган сотрясением бункера. О происшедшем взрыве и ответной реакции автоматов он узнал по приборам и понял, что война распада началась раньше, чем он сам решился на это. Яр Юпи метался по тесному убежищу. Он жаждал действий. Но все уже было сделано без него. Он был один. Никто не мог его видеть, кроме бездумного шкафа-секретаря, неспособного понять радости и торжества диктатора. Яр Юпи, забыв собственные страхи, потирал руки, хихикал и приплясывал. Сознание того, что через короткое время города и промышленные центры Даньджаба будут уничтожены и десятки, а может быть, сотни миллионов враждебных фаэтов перестанут существовать, наполняло его сладостным волнением. Никогда не испытывал он подобного наслаждения. Раз война началась, пусть развертывается! Он достиг своей цели: повелевать жизнью и смертью (вернее, смертью!) на всей планете Фаэна! И он, перекашиваясь от нервного тика, отдернул занавес перед включившимися экранами. С них на него смотрели вопрошающие и растерянные военачальники. Яр Юпи впился безумным взглядом в подобострастные лица и, осененный вдохновением, крикнул с пеной на губах: — Что? Не ожидали? Все топтались на месте? Так знайте! Это сделал я! Я! Взорвал и Храм Вечности, и дворец, чтобы сработала автоматика! Что? Трусите? Он бегал по бункеру и орал, несмотря на то, что экраны один за другим гасли. По-видимому, военачальники не слишком были согласны с владыкой и предпочитали поскорее укрыться в бункерах, подобных диктаторскому. Когда включились тайные экраны членов Совета Крови, то на них виднелись перепуганные лица сбросивших капюшоны первых владельцев древнего континента.
Ракеты варваров, пролетая над океаном, вышли за пределы атмосферы. Их приближение сразу же было замечено неусыпными автоматическими наблюдателями вдали от целей, к которым летели ракеты. И без помощи военных или правителя Добра Мара сработала сама собой система ракетной защиты. Стая защитных ракет взвилась с Даньджаба и понеслась навстречу армаде распада. Они сами были начинены зарядами распада, предназначенными для взрывов вблизи летящих им навстречу снарядов. И в верхних слоях атмосферы, над океаном, один за другим происходили взрывы распада. Взрывные волны сбивали снаряды с курса или просто разрушали их. Изуродованные обломки, а порой и целые торпеды падали в океан, к великому ужасу моряков обоих континентов. Словно дождь метеоритов врезался в океан, поднимая к облачному небу столбы воды, походившие на лес диковинных деревьев, внезапно выросших в море. Более восьмисот снарядов было уничтожено автоматическими стражами Даньджаба. Но более двухсот продолжало свой полет. В эти первые мгновения войны распада в ней не принимал участия ни один фаэт, если не считать раненого Куция Мерка. Ни один из фаэтов не погиб в этом сражении машин. Но только в первые мгновения… Скоро Даньджаб стал содрогаться от взрывов распада в сотнях мест. Взрыв распада! Можно ли сравнить его с чем-нибудь?! Разве что со взрывом новых или сверхновых звезд или с загадочными процессами, которые наблюдали звездоведы на светиле Сол, когда огромные языки раскаленного вещества выбрасывались на расстояния, во многом раз превышающие диаметр светила. Распадалось само вещество, часть его переставала быть веществом, уменьшалась его масса. Энергия внутренней связи освобождалась и, переходя по законам природы в тепловую энергию, поднимала тепловой уровень в месте распада в миллионы раз. Все окружающее вещество, оставшись само по себе веществом, тотчас превращалось в рвущийся во все стороны раскаленный газ, сметающий все на своем пути. Но еще быстрее действовало излучение, сопутствующее распаду вещества. Пронизывая живые ткани, оно смертельно поражало их. И даже спустя долгое время после взрыва эти разящие излучения должны были губить всех, кто уцелел от огненного шквала или сокрушающего урагана. На месте каждого взрыва распада в первый миг возникал огненный шар, неизмеримо более яркий, чем светило Сол. Подобная сила света не была известна на сумеречной планете Фаэна. Этот яркий шар превращался в огненный столб, который становился белым стволом волшебно растущего, взвивающегося к небу исполинского дерева, где оно распускалось клубящимся шатром. Добр Мар, содрогаясь, видел на экранах связи, как росли эти зловещие грибы на месте цветущих городов. Ужас объял его. Обходя кабинет по кругу, он почувствовал, что его клонит в сторону, колени подогнулись, и он рухнул в кресло, едва успев схватиться за него. Что же случилось? Как враг опередил его? А Куций? Что же теперь с фаэтами, которые должны были избирать его на новый срок? Ведь они мертвы, мертвы! Нет тысяч, быть может, миллионов… сотен миллионов? Вбежавшие в его кабинет военачальники бросились помогать беспомощному старому фаэту с трясущейся головой… Он мычал и дергал левой ногой, правая нога, как и рука, стали мертвыми. Военачальники метались по круглому кабинету, вызывая Сестру Здоровья. Пытались наливать воду и разбивали стаканы. Никто еще не мог осознать во всей глубине создавшееся положение. Война распада, когда о ней говорили, казалась чем-то ужасным, но невозможным, вроде давней детской сказки. И даже теперь, когда зловещие грибы виднелись почти на всех экранах бункера, а многие экраны были черны, не работали, суетящимся фаэтам все же не хотелось верить, что там, наверху, все кончено. Это было где-то там, далеко, а здесь близким и зримым были слабость правителя, хлопотавшая около него Сестра Здоровья, неприятный запах лекарств. Подавленные военачальники не приняли никаких решений, не дали никаких команд. Команды были даны опять-таки автоматами. Диктатор Яр Юпи, у которого не было такой тайной связи с вражеским континентом, какая была через круглоголовых у Куция Мерка, не подозревал, что на Даньджабе действует не менее надежная автоматическая «система возмездия», чем у «высших». Приборы, отметив в воздухе излучение распада, сотрясение почвы Даньджаба от взрывов и тепловые удары, дали стартовые команды несчетным ракетным установкам, тоже замаскированным на дне моря, в глубинных шахтах, в горных ущельях. И теперь уже к Властьмании полетела через океан армада возмездия. Только Куций Мерк предвидел это. Он успел, едва поднялась на его глазах цветочная клумба, нырнуть в заброшенную шахту, в которой всю жизнь проработал Непт и над которой, когда она истощилась, построил свою хибарку. Куций Мерк укрылся в узком каменном колодце, спустившись по металлическим влажным скобам. Слабость словно исчезла. Нервное напряжение вернуло Куцию силы. Теперь он уже ничего не мог видеть, но он слышал и, казалось, ощущал всеми клетками тела страшный взрыв, потрясший местность. Сверху на Куция посыпались камни, один из них больно ударил в плечо. Но Куций судорожно держался за скобы. Даже сейчас он не сдавался.
Глава пятая КРАТЕРЫ В ПУСТЫНЕ
Ликующее торжественное известие о начале войны распада получила на космической базе Деймо Ала Вег. Перепуганная, не веря глазам, она перечитывала записанную автоматом электромагнитную реляцию, где сообщалось об ударе распада, обрушенном на Даньджаб — континент «культурных», об уничтожении всех его главных центров и десятков миллионов, если не больше, врагов. С одним лишь чувством, что, к счастью, взрывы распада произошли на чужом континенте и ее дети живы, Ала Вег побежала доложить о страшном событии начальнику базы Мраку Лутону. Он не сразу принял ее, напыщенный, важный, словно в его кабинет ломились десятки фаэтов, ждущих приема, заставил Алу Вег долго простоять за дверью, прежде чем впустил. Пробежав глазами протянутые ему письмена, он встал и закричал хриплым голосом: — Радость! Счастье нам! Да будут неисчислимы циклы счастливой жизни диктатора Яра Юпи! Наконец-то свершилось! Континент Даньджаба очищается от заселившей его скверны. Вбежала Нега Лутон и, взглянув на письмена, бросилась на шею Але Вег: — Какое счастье, дорогая! Наконец-то наша миссия здесь заканчивается, круглоголовым можно не переселяться на этот проклятый Мар, их расселят на освобожденных просторах Фаэны. Я так соскучилась по удобствам, слугам, изысканному обществу. Ведь и вы, дорогая? Ала Вег словно окаменела. — Разве война распада уже закончена? — еле выговорила она. — Разумеется, еще нет! — важно изрек Мрак Лутон. — Но в этой войне выигрывает тот, кто сделает более сокрушительный залп. И мы сейчас это тоже сделаем. — Кто мы? — не поняла Ала Вег. Мрак Лутон дал сигнал общей тревоги и перешел из своего кабинета в смежную большую каюту, где еще так недавно останавливались Мада и Аве. Скоро весь состав экипажа космической базы собрался вместе. Пришли робкий Тихо Вег и взволнованные, запыхавшиеся Брат и Лада Луа. Мрак Лутон зачитал полученную реляцию об уничтожении основных городов Даньджаба. Нега Лутон внимательно следила за выражением лиц собравшихся. От нее не ускользнул ужас Брата Луа. Его побледневшее лицо напоминало отполированную кость. Лада Луа зарыдала. Мрак Лутон прикрикнул на нее: — Я не потерплю измены, если она даже выразится жалостью к врагу. Приказываю немедленно направить автоматический корабль на базу Фобо. — Как? К врагам? — удивилась Нега Лутон. — С зарядом распада, — пояснил Мрак Лутон. — Это другое дело, — облегченно вздохнула Нега Лутон. — Стыдно ласковой госпоже так говорить! Ведь она же Сестра Здоровья! — не выдержала Лада Луа. — Молчать! — заревел Мрак Лутон. — Инженер Тихо Вег и подсобный служитель Брат Луа! Именем диктатора приказываю снарядить зарядом распада космический корабль базы и направить его для автоматического полета к базе Фобо. — Заряд распада? — переспросил Тихо Вег. — Но ведь его нет на базе. Мрак Лутон расхохотался, его дряблые щеки затряслись. — Не будь наивным, инженер Тихо Вег! Заряд распада ты найдешь в космосе в конце оранжереи, куда он доставлен под видом запасной кабины корабля. — Я протестую, глубокомыслящий Мрак Лутон! — воскликнул Брат Луа. — Благословенный диктатор Властьмании заключил с правителем Даньджаба соглашение. В космосе не может быть никакого оружия распада. — Измена! — заорал Мрак Лутон. — Ты арестован, круглоголовой изменник! Инженер Тихо Вег, скрути руки смутьяну. Тихо Вег нерешительно поглядывал на жену. — Если война распада началась, значит… Очевидно, все договоры недействительны, — робко произнесла она. Тихо Вег неохотно повиновался. Вместе с Мраком Лутоном они втолкнули Брата Луа в кабинет начальника. Мрак Лутон запер дверь. — Теперь быстро в оранжерею! — скомандовал он Тихо Вегу. — Я предусмотрел, чтобы заряд распада был под рукой!.. Тихо Вег взглянул на жену и понуро поплелся к подъемной клети. — Базу объявляю на чрезвычайном положении. За каждое ослушание теперь уже не арест, а отравленная пуля! — И Мрак Лутон потряс пистолетом. — Ласковый господин, умоляю пощадить моего мужа! Он не знал, что договор теперь не действует, — бросилась к начальнику базы Лада Луа. — Все марш по местам! — заорал Мрак Лутон. — Звездовед Ала Вег докладывает мне о всех наблюдениях в космосе и держит электромагнитную связь. А тебе, круглоголовая, место сейчас на кухне. Мрак Лутон в изнеможении упал в кресло. Его прямоугольное лицо с обвисшими щеками побагровело, шея вспухла. Он рвал воротник, ему не хватало воздуха.На другой марианской орбите, на станции близ спутника Фобо, известие о начале войны распада принес инженер Выдум Поляр. Его умное, всегда словно застывшее в настороженном внимании лицо теперь выражало ужас и растерянность. Свое имя он получил за раннюю склонность к изобретательству. Когда-то он строил шагающий парокат, изготовил магнитную застежку для одежды, пружинные сапоги для бега и получил тонкую ленту из высушенной древесины, которую в другое время и на другой планете называли бы бумагой. Его друг и талантливый рукодел Аль Ур всегда помогал ему, неунывающий, маленький, подвижный, считавший Выдума непризнанным гением. Он и сейчас сопровождал его, вбежав следом за ним к начальнику базы, чтобы поддержать требования друга. Нашелся и еще один фаэт, приметивший неудачливого изобретателя, — Доволь Сирус, крупный владелец. Он не прочь был заработать на способностях Выдума Поляра и по совету супруги женил его на дочери от своего первого брака Свете, мягкой и тихой девушке, во всем покорной властной мачехе, которая жестко руководила семьей, добиваясь ее могущества. Доволь Сирус, холеный фаэт, с тяжеловатой облысевшей головой, крупными чертами лица и тонкими губами, испуганно встретил Выдума Поляра. Обычно равнодушный, всегда готовый согласиться с собеседником, он словно олицетворял собой процветание, довольство и покой. А сейчас покой нарушился. Глазки его растерянно бегали. Услышав сообщение Выдума Поляра, он тотчас дал вызов в оранжерею садовнице, своей супруге Власте Сирус. Выдум Поляр горячо убеждал начальника базы: — Я готов сам повести корабль к Деймо, готов взять жену и Милу Ур. Ее муж останется с вами, чтобы следить за механизмами. Космос объявлен мирным. Начавшаяся война распада — общее наше несчастье, мы должны разделить его с персоналом Деймо. Доволь Сирус согласно кивал, поглядывая на дверь. Света была его любимицей. По настоянию своей громогласной жены Власты Доволь Сирус использовал на Фаэне предвоенный психоз, чтобы добиться влияния в Даньджабе у Добра Мара. Он даже получил от него генеральский чин. Правда, когда война распада стала близкой, Власта Сирус заставила генерала Сируса бежать подальше от планеты Фаэна, стать начальником космической станции, забрав с собой и падчерицу, и ее неудачливого мужа. — Вы полетите, а как же мы? — неуверенно спросил Доволь Сирус. — Мы вернемся, едва обсудим с нашими несчастными братьями с Фаэны, что делать дальше… — Что тут за прогулки обсуждаются? — послышался зычный голос вошедшей Власты Сирус. — Я никуда не пущу Свету. Я ей за мать. — Но, дорогая, — возразил начальник станции. Власта, высокая, костистая, упершись в бока руками, закричала: — К варварам нашу Свету? Ну, Милу Ур куда ни шло! Она с детства склонна к приключениям, танцовщицей была. А что, если на Деймо наш корабль примут за торпеду? У них ведь есть, как и у нас, защитные ракеты… — Но, дорогая?.. — «Дорогая, дорогая»! — передразнила Власта. — Дорогая дочь у нас. Ее и надо спасать! И Власта Сирус метнула на мужа уничтожающий взгляд из-под сросшихся бровей и поджала тонкие губы. Но, дорогая… Обещаю тебе. Корабль наш непременно полетит к базе Деймо. И мы вместе с тобой, только с тобой, решим состав его экипажа. Власта Сирус хлопнула ладонью по столу: — Вот именно мы с тобой. И это будет самый надежный состав! Надо беречь наши жизни! Беречь! В этой войне главное — выжить!.. — И она ненавидящим взглядом обвела всех трех фаэтов. — Выжить!..
Брат Луа метался по кабинету, превращенному в тюрьму, беспомощно ломая руки. Тихо Вег безропотно выполнял задание, даже не задумываясь, что заряд распада в запасной кабине корабля может быть плохо экранирован и опасен для фаэта, приблизившегося к нему. Чтобы добраться до запасной кабины, ему пришлось пролететь всю оранжерею сквозь воздушные корни, словно старавшиеся задержать его. Но он, цепляясь за них, разгонял свое невесомое тело, чтобы возможно скорее выполнить приказ начальника, подтвержденный кивком головы самой Алы Вег. О судьбе своих детей он старался не думать, как и вообще ни о чем: ни о фаэтах базы Фобо, ни о самом себе. Но о том, что космических кораблей на базе только два, он невольно подумал. Сумеют ли шестеро улететь на родную планету в одном корабле? Конечно, нет! Он лишь трехместный. Видимо, придется ожидать еще одного корабля с Фаэны. Запасная кабина, похожая на конический колпак, плавала неподалеку от длинной сигары корабля, привязанная к нему тросом. Тихо Вег, надев скафандр и закрепив себя тросиком, оттолкнулся ногами от шлюза оранжереи и полетел в серебристую чернь космоса. Он промахнулся и не сразу попал в цель. Пришлось, перебирая руками по фалу, возвращаться назад и прыгать снова. На этот раз он оттолкнулся лишь одной ногой, чтобы сделать прыжок более направленным. Запасная кабина показалась ему шероховатой, как метеорит. Тихо Вег прилип к ней и пополз к основанию конуса, где был закреплен трос, идущий к космическому кораблю. Тихо Вег зацепился за металлическую скобу снаружи запасной кабины и, выбирая трос, тянущийся к кораблю, стал подтягиваться к нему вместе с кабиной. Через некоторое время кабина соприкоснулась с кораблем. Тихо Вег приготовился к нелегкой работе. Но, к величайшему своему изумлению, заметил, что соединение частей корабля сделано с расчетом мгновенной замены. Оказалось, что достаточно одного прикосновения к месту скрепления, чтобы внутри сработали автоматы и старая кабина легко отделилась от корабля и поплыла к звездам. Так же легко новая кабина встала на ее место. Тихо Вег забрался внутрь, чтобы настроить автоматику полета. Сюрприз и здесь ждал инженера: ему ничего не требовалось менять в уже сделанной настройке. Бесчувственный голос автомата предупредил его об этом, едва он коснулся пульта. Тихо Вегу понадобилось лишь включить автоматику полета и вернуться в оранжерею. Уже из оранжереи он увидел, как засверкали дюзы ракеты и она, сделав строго рассчитанный поворот, взяла безукоризненно выверенный машинами курс к Фобо. Тихо Вег вздохнул. Он только выполнял свой долг. О том, хорошо ли был экранирован заряд распада, он так и не подумал. Когда Тихо Вег вышел из подъемной клети в коридор станции, его встретила бледная, трясущаяся Ала Вег. — Что случилось, несравненная? — спросил Тихо. — Наши дети!.. Дети!.. — только и могла выговорить Ала Вег и разрыдалась. В руках она держала табличку с письменами нового сообщения электромагнитной связи. Тихо Вег прочитал и покачнулся, оперся рукой о дверь подъемной клети. Письмена сообщали, что стаи торпед распада Даньджаба ответно обрушились на континент «высших». Имеются разрушения и жертвы… Но Яр Юпи предвещает победу и требует ликования. В коридор выбежал Мрак Лутон, размахивая руками: — Диктатор жив! Диктатор жив! Совет Крови продолжает борьбу! По местам! Здесь космический форпост! — Разве может наш наблюдатель быть на месте? — ехидно заметила появившаяся следом за ним Нега Лутон. — Ей надо беспокоиться о судьбах родственников, а не о выигрыше войны. Ала Вег сверкнула глазами и скрылась в обсерватории. Тихо Вег остался стоять в коридоре. Он никак не мог осознать, что происходит, не мог поверить, что родной Город Неги, быть может, лежит в развалинах, а его дети… Он побрел следом за женой в обсерваторию. — Слезы мешают мне наблюдать, — обернулась к нему Ала Вег, — замени меня у прибора. Странная звездочка появилась вот в этом квадрате. — Может быть, это наш запущенный корабль с зарядом? — Нет, он в другом месте. Тихо Вег стал помогать жене, и они скоро установили, что неизвестная звездочка не подчиняется обычной небесной механике и словно сама избирает себе траекторию полета. Вызванный тревожным сигналом, Мрак Лутон ввалился в обсерваторию, подозрительно вглядываясь в супругов Вег: — Известия с Фаэны? Приказ диктатора? Указание Совета Крови? — Нет, — ответила Ала Вег. — Связь потеряна. Нет связи и с базой Фобо. — С Фобо? — заорал Мрак Лутон. — Измена? Кто смел связываться с Фобо, с вражеской крепостью в космосе? — И он выхватил пистолет, угрожающе размахивая им. — Я только докладываю, что связи нет. Прежний канал замолк, словно там что-то случилось. — Пока еще не случилось? Но скоро случится! Ты смотришь за полетом нашей торпеды? — Она летит точным курсом. Но… — Что еще? — Навстречу летит неизвестный корабль. Видимо, с Фобо. Направляется как будто к нам. Может быть, персонал их станции, обуреваемый ужасом, летит сюда? Мрак Лутон расхохотался: — Чтобы сдаться? Сесть нам на шею? Жрать наши продукты? Дышать нашим кислородом? Или они хотят спастись от карающей торпеды? — Но они могли не знать, что мы выпустили ее. — Зато я знаю, что к нам летит их корабль. Инженер Тихо Вег, приказываю запустить ракету защиты. Летящий к нам корабль уничтожить. — Как уничтожить? — запротестовала Ала Вег. — Но там же могут быть живые фаэты? — «Живые фаэты»! — передразнил Мрак Лутон. — Можно подумать, что в нашем корабле, летящем с зарядом распада, сидят живые фаэты! Я приказал. Послать защитные ракеты, сбить, уничтожить! — Мрак Лутон в исступлении топал ногами и размахивал пистолетом. Тихо Вег скрылся из обсерватории. Где находятся ракеты защиты, он знал. На них не распространялось соглашение о Мирном космосе. Они были ближнего действия и не могли достать другой базы. Но идущую к базе Деймо цель они способны были сами найти в космосе и поразить. Чтобы привести в действие это оружие защиты. Тихо Вегу не понадобилось спускаться в оранжерею. Достаточно было пройти на Центральный пульт станции Деймо. И он запустил ракеты защиты, когда летящий с базы Фобо корабль стал хорошо различим, походя на сверкающую в лучах Сола точку. Инженер вернулся к жене в обсерваторию поникший, обессиленный. Ему казалось, что он совершил нечто ужасное. Ала Вег не могла побороть своих слез. — Там фаэты, там могут быть живые фаэты, — без конца твердила она. — И никаких сведений с Фаэны. — Не может быть, чтобы наши дети погибли, — сказал Тихо Вег, не имея ни малейшего довода в пользу сказанных слов. Он прильнул глазом к окуляру и увидел, как в космосе сверкнула словно вновь рожденная звезда. Это взорвалась одна из ракет защиты, посланная навстречу кораблю с Фобо. На большом экране, куда проектировалось изображение, было видно, как после этого взрыва корабль-звездочка круто пошел к поверхности Мара. Он был сбит с орбиты силой взрыва, но не разрушен. В обсерватории собрались все фаэты базы, за исключением запертого Брата Луа. Мрак Лутон сам сходил за ним. — Пусть, пусть! — сказал он, вталкивая Луа в обсерваторию и показывая в иллюминатор на громаду Мара. — Пусть своими глазами посмотрит. — Ты так уверен, что это его образумит? — тихо спросила Нега Лутон. Ее муж самодовольно усмехнулся: — Я слишком хорошо знаю внутренний мир фаэтов, чтобы ошибиться. Иначе не был бы сверхофицером Охраны Крови. Шестеро фаэтов с Деймо видели, как в космосе сверкнула и вскоре потухла еще одна звездочка. — Они сбили нашу торпеду! — затопал ногами Мрак Лутон. И потом на поверхности Мара один за другим произошли два взрыва распада. В красноватых пустынях взвились в небо хорошо различимые из космоса стволы сказочных деревьев, распустившихся клубящимися шатрами. На песчаные просторы легла отчетливая тень сначала от одного, а потом и от другого исполинского гриба. — Что я вам говорил! — заорал сверхофицер Охраны Крови Мрак Лутон. — Они первыми хотели уничтожить нас. Их корабль с зарядом распада взорвался первым. А вы тут распустили нюни, болтали о живых фаэтах. — Начальник базы прав, — вздохнул Тихо Вег. — Он видит души фаэтов. — Инженер Тихо Вег! Прекрати болтовню. Я сам знаю, чего стою. Спеши снова в оранжерею и снаряди последней торпедой еще один корабль. — Но ведь у нас не останется больше кораблей, — попробовал возразить Тихо Вег. — Победа! Любой ценой победа! Корабль пришлют за нами, как за героями войны распада, с победившего континента «высших». — Повинуюсь, — сказал Тихо Вег, украдкой взглянув на Алу Вег. Но та сидела с опущенной головой, уронив в отчаянии руки. И Тихо Вег отправился снаряжать еще один корабль-торпеду. Однако этот второй корабль-торпеда тоже был сбит ракетами «культурных», защищавших Фобо. А с Деймо выла выпущена вторая партия защитных ракет, чтобы отбить еще один сверкавший в лучах Сола корабль, который мог быть тоже начинен зарядом распада. И оба эти корабля — и с Фобо, и с Деймо — взорвались почти рядом в пустынях Мара. На месте их взрыва сначала поднялись уродливые грибы на дымчатых ножках, а потом, когда дым рассеялся, сверху можно было увидеть кратеры в пустынях Мара, которых не было прежде. — Как удивились бы звездоведы, — упавшим голосом сказала Ала Вег, — если бы обнаружили на Маре подобные кратеры. Тихо Вег никак не реагировал на эти слова. Он едва добрался из Центрального пульта, откуда запускал ракеты защиты. Теперь же он почувствовал себя совсем плохо. Ему казалось, что в кораблях погибли летевшие к ним дети.
Глава шестая СУД
Куций Мерк, скрывшись в глубокой заброшенной шахте, уцелел во время взрыва распада. Грохот вверху давно утих. Под ногами было сыро. Сверху, словно отсчитывая мгновения, падали капли. Куцию казалось, что они отмеряют бесконечное время. Он сидел без сил и мыслей, в дремоте или обмороке. И только голод заставил его подняться на ноги. Но он боялся увидеть то, что ждало его наверху, боялся даже представить себе это. Звонко падали капли — единственные звуки, говорившие, что мир еще существует. Мир? Какой мир? Мертвых луж и мертвых капель? Жгучий голод погнал Куция по скользким металлическим скобам. Некоторые из них качались. Куций мог сорваться на дно колодца. И все было бы кончено… Но металлические скобы выдержали. Далеко вверху — синий кружок. Странно! Лачуга Нептов построена прямо над стволом шахты. Небо! На нем звезды! Неужели ночь? Куций продолжал подъем. Кружок вверху становился больше и светлее, звезды постепенно исчезали. Но вовсе не потому, что наступал день. Просто сказывался эффект затененной трубы, когда из колодца днем видны звезды. Круг над головой рос — и они исчезали. Куций выбрался на поверхность. Светило Сол было в зените. Никакой хибарки Нептов не существовало. Очевидно, ее смело, когда на плечи Куция сыпались камни. Фаэт огляделся — и замер. Не только хибарки Нептов не было — не осталось ни одной, лачуги круглоголовых. Все вокруг превратилось в грандиозную свалку мусора, жалкого скарба, поломанной мебели и битого щебня. Вдали косо торчала зубчатая стена. Куций побрел к ней. И сразу же наткнулся на первые трупы. Фаэты были убиты ураганом, пронесшимся после взрыва распада. Многие были погребены под развалинами лачуг, многих пронесло по воздуху и расшибло о препятствия. Так случилось со стариками Нептами. Куций узнал их изуродованные тела по одежде. Озноб пробежал у Куция Мерка по спине. Он достаточно много слышал об оружии распада, но никак не мог представить себе, что после взрыва все так выглядит. Стена, до которой он дошел, оказалась частью огромных мастерских в пригороде Города Неги. Здание рухнуло, похоронив и машины и фаэтов, работавших здесь. На его месте уродливой грудой высился холм битого камня. Неужели никто не уцелел? Тяжелыми ударами бились в груди Куция Мерка два сердца, отдаваясь в висках. Для чего только зажило раненое? Сам не зная зачем, может быть, чтобы встретить хоть кого-нибудь живого, Куций побрел по Городу Неги. Голод, заглушенный первым ужасом, снова дал о себе знать. Ум Куция был потрясен, а инстинкт заставлял разыскивать в груде щебня съестное. Два гороподобных вала серыми барханами вздымались по обе стороны бывшей улицы. В одном месте под оплавленными камнями ему почудились банки, он стал разрывать кучу и наткнулся на торчащую руку. Он не мог заставить себя продолжать раскопки и пошел дальше между дюнами посыпанного пеплом щебня. У него было ощущение, что он бредет по грандиозному отвалу строительного мусора.
Куций никогда не думал, что разрушения могут быть столь полными. Нельзя было даже различить контуры былых строений. О том, чтобы найти в свалке камней что-нибудь съестное, нечего было и думать. Голод терзал Куция. И это сочетание ужаса с муками голода было противоестественным. Он был сам себе противен. Однако чувство еще более сильное, чем голод и ужас, начало овладевать Куцием. Кто виноват в содеянном? Кто сделал войну распада целью своего учения, кто превратил Даньджаб в такую посыпанную пеплом пустыню? Лютая ненависть к диктатору Яру Юпи овладела Куцием, переполнила все его существо, затмила все, что он знал, даже условия Великого Круга владельцев о развязывании войны распада, переданные им когда-то Добру Мару. Куций Мерк не справился со своим заданием! Пульт автоматики остался цел. Яр Юпи первым начал войну распада! Взобравшись на конус щебня, Куций увидел океан. Берег его был изуродован гигантским кратером, залитым теперь морской водой. Очевидно, торпеда распада взорвалась в порту. Огромную воронку окружал кольцевой вал, засыпавший часть руин. Должно быть, тучи песка и ила взмыли во время взрыва со дна в воздух, а потом выпали высушенным пеплом на развалины. Ненависть, ужас и безысходность гнали Куция все дальше. Капризы взрывной волны причудливы. В одном месте он наткнулся на срез каменного холма с дырами окон и бесформенными пятнами. Подойдя ближе, Куций различил груду железного лома, вдавленного в стену. Он видел перед собой остатки пароката, проезжавшего здесь во время взрыва. Рядом на оплавленном камне светились пятна, отдаленно напоминавшие фигуры фаэтов. Куций передернул плечами: «Белые тени прохожих!» Сами прохожие испарились от немыслимого жара, а их тени от вспыхнувшей на месте взрыва звезды отпечатались на стене менее оплавленными, чем вся ее поверхность, силуэтами, уродливыми изображениями тех, кто еще недавно жил… Куций не выдержал. Он побежал обратно. Под ноги ему попался камень и покатился по хрустящему шлаку мостовой. Разбитая банка с чем-то съедобным! Он поднял ее. Внутри оказался уголь. Небывалый жар обуглил все ее содержимое, превратив в черную слитную массу. Куцию хотелось добраться до центральных кварталов. Но он уже знал, что увидит там: тени на стенах, если камни не свалены в бесформенные кучи, и валы, валы щебня… И Тогда Куций принял решение. Пережитое помутило его сознание. Ни один фаэт в здравом рассудке не решился бы выполнить сумасбродный, зародившийся в его воспаленном мозгу план. Куций знал, что обречен, — смертоносные лучи давно уже пронизали его тело. Скоро это скажется. Времени оставалось совсем немного. Надежды выжить — никакой! Да и не было желания жить среди мертвецов. Однако он считал себя обязанным выполнить последний долг. С присущим ему упорством он пошел назад через груды щебня, чтобы выйти к Великому Берегу, где океанская волна еще так недавно свела Аве и Маду. Чем дальше от места взрыва, тем больше было надежды найти что-нибудь съестное. Домашняя ящерица с обугленной кожей лежала под стеной совсем так, как трупы Нептов. Ласковая, быстрая, ловкая ящерица была, конечно, общей любимицей в погибшей семье. Куций горько усмехнулся. Сверхофицер Охраны Крови встретил его на корабле, обозвав пожирателем падали. Думал ли он, что окажется прав? Только ночью добрался Куций до Храма Вечности, вернее, до горы камней, лежавших на его месте. Если причиной взрыва был его «горб», то в воронке можно отыскать вход в подземелье. Куций был уверен, что энергосистема выведена из строя и автоматы дверей не действуют. Он оказался прав в одном и ошибался в другом. Только утром удалось ему отыскать вход в глубинный коридор, где произошел взрыв. Галерея была менее завалена камнями, чем все вокруг, поскольку газы вырвались из нее, как из ствола орудия. Исступленная воля Куция помогла ему откопать этот вход в подземелье, где он был «убит» Яром Альтом. Став прежним Куцием, разведчик крался вдоль стен, освещая путь карманным фонариком. Но вдруг яркий свет зажегся сам собой. Это и обрадовало Куция Мерка и испугало. Если энергопитание глубинных помещений действует, ему не пройти сквозь закрытые стены. Но диктатор Яр Юпи жив! Он продолжает слать на Даньджаб торпеды распада. Куций Мерк не имел права отступать. Глухая стена встала перед ним. Когда Куций выползал отсюда наружу, стены были раздвинуты, значит, это другой путь, очевидно ведущий в глубинное Логово диктатора. Тщетно пытался Куций Мерк раздвинуть стены, протискивая в щель подобранный им наверху кусок металла. Холодный пот выступил у него на лбу. Он не мог отступить, не мог! И он вперил полный ненависти взор в спиральный орнамент проклятой стены. И стена раздвинулась. Куций был искушен в технике автоматов, запоминающих биотоки мозга. Он сразу понял, что они программировались на особенно яркую черту характера избранных фаэтов. Для самого Яра Юпи, которому, конечно, должны были повиноваться все автоматы, такой подавляющей все остальные чертой была ненависть. Ей подчинялись и «кровные двери», настроенные и на доброту Мады и ее няни. Но у Куция сейчас ненависть, видимо, не уступала диктаторской. Вот автоматы Логова и сработали. Куций побежал по освещенному коридору. Всякий раз, когда стена преграждала ему путь, ненавидящий взгляд Куция раздвигал ее. После крутого спуска коридор делал поворот, выходя в просторное помещение, напоминавшее дворцовый зал ее сводчатым потолком. В нем не было никакой мебели, кроме высокого шкафа со светящимися вертикальными прорезями. Навстречу ринулись два огромных робота с кубическими головами и многосуставными щупальцами. Куций догадался, что он у цели. Бункер диктатора! Ненависть делала Куция Мерка непобедимым. Он сам бросился навстречу роботам, приказывая им следовать за собой. И роботы повиновались, запрограммированные на подчинение главному чувству диктатора. Куций Мерк остановился перед шкафом-секретарем, не допуская мысли, что тот может ослушаться. — Открыть дверь в кабинет! — приказал он, вперив взгляд в светящиеся щели машины. Техника фаэтов была столь совершенна, что улавливала их настроения. Эта высота развития оказалась и ее уязвимой стороной. Шкаф-секретарь, сделанный в Даньджабе, был всего лишь машиной, всегда послушной воле своего владельца диктатора Властьмании. Эту волю он узнал теперь в Куции и подчинился ей. Дверь в кабинет Яра Юпи открылась. Яр Юпи вскочил из-за стола и перепуганно уставился на коренастого незнакомца с шеей борца и усмехающимся лицом. — Кто ты? — крикнул диктатор и весь передернулся. — Судья, — холодно ответил Куций, наступая на диктатора. Если бы Яр Юпи не боялся так панически живых фаэтов,удалив их от себя, план Куция был бы невыполним. Но сейчас все получилось так, что Куций оказался с диктатором лицом к лицу. Осипшим от страха голосом Яр Юпи закричал: — Роботы! Роботы Охраны! Роботы вбежали, готовые к действиям. — Скрутите ему руки! — с ненавистью приказал им не диктатор, а Куций Мерк. Яр Юпи негодовал, лягался, визжал, приказывая роботам подчиниться ему, но в излучении его мозга преобладал страх, а не знакомая роботам ненависть. Роботы бездумно скрутили диктатору руки. — Ты величайший преступник всех времен! — возвестил Куций Мерк, встав перед связанным диктатором. Он считал себя единственным уцелевшим, действующим от имени всех погибших. — Во мне — ненависть всех жертв твоего преступного учения, целью которого ты сделал уничтожение, а смыслом — ненависть. Но есть ненависть еще большая, чем твоя. Эту ненависть я обрушиваю на тебя от имени истории разума! — Молю о пощаде, — заныл диктатор Яр Юпи. — На Фаэне мало осталось в живых. Я буду скромно трудиться, как последний круглоголовый, признаю учение Справедливости, стану разводить цветы. Ты взгляни только, какая у меня выведена красота! Пойдем к нише, познаем вместе аромат этих цветов. — Замолчи. Я не дам тебе издохнуть от запаха собственных цветов. Готовься к самой позорной казни. Я включу все экраны и на глазах твоих сообщников повешу тебя. Куций Мерк сорвал занавеси, скрывавшие экраны. Экраны включились. Перепуганные военачальники и члены Совета Крови беспомощно взирали с них. Куций деловито оторвал от занавеси шнур, ловко сделал на нем петлю и, вскочив на стол, приладил веревку к крюку, на котором висел освещающий стол светильник. Петля оказалась как раз под самой лампой. Пришлось сдвинуть в сторону стол. Потом Куций, как безвольную куклу, поставил приговоренного, трясущегося от страха Яра Юпи на диктаторское кресло. Роботы отошли в сторону, безучастно взирая на происходящее. Куций заметил, что на некоторых экранах военачальники прикрыли глаза рукой, а с некоторых фаэты, откинув балахоны, со злорадством наблюдали за казнью. — От имени Истории, — объявил Куций Мерк и выбил из-под диктатора его кресло.
Добр Мар лишь временами приходил в себя, полулежа в столь неудобном для такой позы правительском кресле. Все экраны в бункере были черны, не работали. Тускло горели светильники запасного освещения. Около правителя продолжали суетиться военачальники и замученная Сестра Здоровья. Ее звали Вера Фаэ. У нее наверху погибли все родные: отец, мать, муж, трое девочек, все, кроме сына, улетевшего с космической экспедицией на Зему. Вера Фаэ была в отчаянии. Она черпала силы лишь в уходе за больным правителем. Добр Мар потерял дар речи. Ни язык, ни правая рука, ни нога у него не действовали. Он мог общаться только взглядом. Его понимала одна Вера Фаэ. Иссохшая, поседевшая за последние часы, с заплаканными глазами, она не потеряла ласковости прикосновения и задушевного голоса врача, на которые только и реагировал правитель. Его некому было заменить. «Друг правителя», который по закону должен был сделать это, погиб наверху, как и миллионы фаэтов. Военачальники через Веру Фаэ доложили правителю, что запасы торпед израсходованы. А на континент продолжают сыпаться торпеды варваров, не оставляя на нем ни одного живого места. Правитель Добр Мар сделал усилие двинуться. Сестра Здоровья заглянула ему в глаза, силясь прочесть его мысль. Подошел начальник оружия распада. Ему доверили страшное средство нападения потому, что он был известен своей трусостью и нежеланием принимать собственные решения. Вот и сейчас он во что бы то ни стало хотел получить письменное согласие правителя на взрыв последней, но сверхмощной подводной установки распада, которая была когда-то доставлена под руководством Куция Мерка к Великому Берегу, почти в самое то место, где катались на волнах Аве и Мада. Добр Мар не понимал пышно разодетого генерала, а тот, срываясь на фальцет, убеждал Сестру Здоровья: — Уничтожение глубинного Логова диктатора — единственное спасение. Такова была воля Великого Круга. Добр Мар устало закрыл глаза. — Он согласен! Согласен, — обрадовался генерал-горбун. Но Добр Мар снова открыл глаза и, силясь что-то сказать, смотрел на свой стол. Вера Фаэ взяла с него какие-то пластинки с письменами и поднесла их к его глазам. При виде одной из них добр Мар опустил веки. Вера Фаэ показала пластинку генералу. — Это мне известно! — петушиным голосом закричал тот. — Почтенный старец Ум Сат, изобретя оружие распада, хотел ограничить его применение и запугивал фаэтов якобы возможным взрывом всех океанов планеты. Добр Мар закрыл глаза. — Правитель Добр Мар согласен? — допытывался генерал, — Сестра Здоровья может подписать от его имени документ, разрешающий взрыв подводной установки распада? — Как же я могу сделать это, если правитель сам напомнил о предостережении великого старца? — Наивная выдумка! Будто бы вся вода океанов под влиянием сверхсильного взрыва разом взорвется, выделив энергию, как при взрыве сверхновой. И будто в некую крохотную сверхновую звезду превратится вся наша планета. — Разве не страшно? — спросила Сестра Здоровья. — А что может быть страшнее того, что уже произошло? Надо остановить диктатора Властьмании любой ценой. Подводный взрыв у Великого Берега вызовет землетрясение, разрушит там глубинный бункер. В океане вал достигнет неба и обрушится на место Логова, затопив его. Если Сестра Здоровья убедит правителя, он согласится. Для взрыва нужен его письменный приказ. Только он ответствен за все. Сестра Здоровья вгляделась в мутные глаза больного. Тот закрыл их. — Он согласен, наконец-то согласен! — завопил генерал, схватив безжизненную руку правителя, приложил ее к пластинке. — Взрывать! — тонким голосом закричал генерал и, волоча ногу, выбежал из кабинета с пластинкой в руках. Его провожал испуганным взглядом Добр Мар. Он что-то хотел сказать и не мог. Сестра Здоровья спохватилась, пыталась остановить генерала, но правителю стало худо, и ей пришлось помогать больному, вытирая перекошенное гримасой, покрытое каплями пота лицо. Генерал вернулся. Приказ был передан. Взрыв произойдет… — Я ни за что не отвечаю! — фальцетом выкрикнул он.
Глава седьмая ЗВЕЗДА НЕНАВИСТИ
Всякая Сестра Здоровья несет в себе черты матери. Стремление помочь больному, материнское отношение к страдающему существу, по-детски беспомощному, а потому близкому, даже родному, боролись теперь в Маде с острой, неоправданной, как она считала, тоской по дому. Не понимая этой тоски, отвергая ее, она самоотверженно ухаживала за Умом Сатом, жизнь которого едва теплилась. Обросший седой бородой, с проникновенными, тоскующими (конечно, по Фаэне!) глазами, он недвижно покоился на ложе. Его болезнь задерживала возвращение «Поиска», разжигая в Маде и ее товарищах тоску по Фаэне. Но, как Сестра Здоровья, она должна была стать выше собственных переживаний, и она ухаживала за старцем, стараясь победить его неведомую болезнь, спасение от которой, быть может, было в скорейшем возвращении. Однако возвращаться с тяжелобольным Умом Сатом нечего было и думать. И Мада усердно лечила его, она была при нем не только Сестрой Здоровья, но и душеприказчиком. Открывшись ему в своей тоске по Фаэне, она услышала в ответ страшное признание старца о возможном взрыве всех океанов Фаэны в результате войны распада. Мада содрогнулась, зажмурилась и протестующе замотала головой. Приняв на себя часть тревог старца, она облегчила его состояние, уверяя, что до такой катастрофы дело дойти не может и они еще вернутся на свою Фаэну, где их так ждут. По поручению Мады Аве и Гор Зем уходили в лес на охоту. Она не позволяла трогать запасы, предназначенные на обратный путь. Обратный путь! Это было целью, мечтой, страстным желанием не только одной Мады. Тони Фаэ по ее указанию бессменно находился около аппаратов электромагнитной связи, которая по странной причине прекратилась. Оборвалась нить, связывающая «Поиск» с родной планетой. Мада утешала Тони Фаэ, что виной всему атмосфера Земы, не пропускающая электромагнитных волн с Фаэны и Мара. Тони Фаэ бредил возвращением. Он не знал сна. Иной раз, задремав у аппарата, он просыпался в холодном поту, то слыша голос матери, Веры Фаэ, зовущей его, то голос Алы Вег, смеющейся над ним. Однако аппараты молчали. Бывало, что Тони Фаэ не выдерживал. Тогда ласковая рука Мады ложилась ему на вздрагивающее плечо, и ее спокойный, мягкий голос убеждал, что состояние атмосферы Земы изменится, надо ждать, и он услышит желанный сигнал. Но Ума Сата нельзя было так утешить. Мада знала его мысли о войне распада, терзавшие его еще до отлета с Фаэны. По той же причине был мрачен и Аве. Теперь это был уже не тот впечатлительный юноша, который так поразил Маду, взлетая на океанские волны. Он изменился и внешне и внутренне. Отпустив на Земе усы и бороду, он выглядел много старше, спокойнее, увереннее, сильнее. Мада знала, что, посылая мужа на охоту, она толкает его навстречу опасностям. Но, думая обо всех, она не могла поступать иначе, верила в его силу, ловкость, отвагу. Поэтому, когда Аве принес однажды, помимо отбитого у хищника оленя, еще и пятнистую шкуру с замершей в оскале пастью, Мада не удивилась, сочла это естественным. Аве был мрачен. Он ничего не говорил Маде, но она все знала! И она боялась не столько того страшного, что где-то там, далеко, может произойти, сколько за своих «детей», которых здесь опекала, хотя этими детьми были Аве, сам Ум Сат, Тони Фаэ, Гор Зем. Огромный длиннорукий и сутулый фаэт не менее тяжело, чем другие, переживал разлуку с родной планетой. Первобытный образ жизни, который они с Аве, как основные добытчики, вынуждены были вести, был неприятен и даже оскорбителен для талантливого инженера. Бродя среди сросшихся стволов в чужепланетном лесу, Гор Зем не переставал строить грандиозные планы технических свершений, которые некому было здесь исполнять: не было ни мастерских, ни помощников, а потому не могло быть прогресса, цивилизации. Вокруг простирался чужой, первозданный лес. Иной раз мелькнут в нем рога или пятнистая шкура хищника. Кто кого? Гор Зем упрямо мотал головой. Нет! Такая жизнь не для него. Не хочет он уподобиться своим предкам с дубинами и каменными топорами, как бы ни походил на них внешне. Он не уподобится дикарям эпохи камня. Пусть другие фаэты колонизуют иные планеты, а он вернется к мастерским, парокатам, ракетам и небоскребам!..Ясной звездной ночью, отчаявшись услышать сигнал электромагнитной связи, Тони Фаэ стал искать среди звезд тусклую Фаэну, словно надеялся увидеть световой сигнал. И он увидел его! Молодой звездовед не поверил глазам, кинулся к звездной карте: туда ли он смотрит. Нет, ошибки не было. Фаэна должна была проходить именно это созвездие. Между Альтом и звездой Вег. Очевидно, маленькую звездочку затмила яркая вспышка сверхновой. Где-то неимоверно далеко за пределами Галактики, произошла очередная космическая катастрофа, и свет взорвавшейся когда-то звезды наконец дошел и до Сола и его планет. И лишь случайно сверхновая затмила Фаэну. Теперь нужно ждать, когда планета, совершающая по небосводу несходный со звездами замысловатый путь, выйдет из сияния сверхновой и загорится в стороне своим, обычным слабым, но таким родным, зовущим светом. Однако сверхновая, сияя ярче всех остальных светил, если не считать дневного Сола, словно не желала отпускать Фаэну. Она перемещалась по небосводу не как звезда, а как… планета. Дух перехватило у Тони Фаэ. Он принялся будить Гора Зема, но тот никак не просыпался, только рычал во сне. Проснулся Аве Мар и прильнул к окуляру прибора. Да, в ночном небе горела необыкновенно яркая звезда. Ее было отчетливо видно и простым глазом, она была украшением ночи. Но что-то было в ее сиянии, что заставляло тревожно биться сердце Тони Фаэ. Аве все понял сразу. Он давно носил в себе доверенную ему Умом Сатом тайну о таящейся в океанах опасности. И вот теперь… Из большой каюты, где спал Ум Сат, появилась Мада. На ней не было лица. Она пока лишь подозревала, но, взглянув на мужа, поняла все. — Милый Тони Фаэ, — сказала Мада. — Приготовься к самому худшему. Скажи, твоя новая звезда движется по небосводу, как должна двигаться Фаэна? — Непонятно, но это так. — Фаэны больше нет, — мрачно сказал Аве Мар и обнял за плечи Маду. — Вернее, нет прежней населенной Фаэны, — поправила Мада. — На ее месте ненадолго зажглась звезда. Тони Фаэ смотрел на Маду и Аве испуганными глазами, он снял очки и стал тщательно протирать их. — Как так нет Фаэны? А как же мама? — Молодой звездовед совсем по-детски смотрел на Маду, словно она должна была рассеять страшный сон. — Почему ненадолго зажглась? Да нет! Просто они нашли способ дать нам сигнал? — Милый Тони Фаэ! Это действительно сигнал нам… — Я же говорил! — обрадованно воскликнул молодой фаэт. Аве стоял с опущенной головой. — Сигнал, что нам некуда возвращаться, — через силу выговорил он. — Что тут пр-роисходит? — послышался раскатистый бас Гора Зема. Аве Мар вобрал в легкие воздух. — Война распада, которой мы все так страшились, очевидно, произошла на нашей несчастной Фаэне. И ее цивилизация покончила самоубийством. — Что за р-редкостная чепуха! — закричал Гор Зем. — Оставьте в покое нашу цивилизацию. Она подарила нам все, что мы здесь имеем. — Этого слишком мало, чтобы продолжать здесь жизнь. — Вот уж чего не собир-раюсь! Тони Фаэ бросился к своему другу, как тогда, в пещере… — Они говорят, что… — всхлипывая, как ребенок, говорил он, — что на Фаэне погибла жизнь, что планета временно вспыхнула как звезда. — Это невозможно, — спокойно возразил инженер. — Тут какая-нибудь ошибка наблюдения. Война р-распада может погубить все население планеты, не спор-рю. Но не в состоянии уничтожить планету как космическое тело. Масса есть масса, она не исчезнет. И что такое — вр-ре-менно вспыхнула? Мада вопросительно посмотрела на Аве. — Надо спуститься к Уму Сату, — сказал тот. — Еще тогда, на Фаэне, он доверил мне тайну одной из реакций распада вещества. Если в морской глубине произойдет взрыв необычайной силы и уровень тепла повысится до критического предела, то вся вода, собранная в океанах, разом распадется на кислород и водород, а тот превратится в гелий, освободив при этом столь большую энергию, что планета на время этой реакции вспыхнет как звезда. — Пр-роклятье! — прошептал инженер. — Ум Сат предупредил об этом и правителя Добра Мара, и диктатора Яра Юпи. Очевидно, его не послушали. — Если взор-рвались ср-разу все океаны, то планета должна не только вспыхнуть, — сказал инженер. — Под влиянием удар-ра со всех сторон она должна р-раско-лоться на части… — Чтобы потом развалиться, — подтвердил Аве Мар. — И через несчетные циклы ее осколки, сталкиваясь и дробясь, разойдутся по кругу на былой орбите Фаэны. — Как вы можете все это говорить! — сжав кулаки, закричал Тони Фаэ. — Ведь там же была моя мама, мои сестренки… — Там была и моя мать, — грустно ответил Аве Мар. Тони Фаэ зарыдал. Гор Зем притянул его к себе, похлопывая по плечу. Аве и Мада обменялись взглядами и этим сказали друг другу больше, чем могли передать словами. Потом взялись за руки. — Так вот почему не было электромагнитной связи, — сквозь рыдания говорил Тони Фаэ. — Там началась война. — И на базах Мар-ра! — громыхнул Гор Зем. — Может быть, и там тоже, — печально подтвердил Аве Мар. — Нет, нет! — запротестовал Тони Фаэ, испуганно смотря на Аве мокрыми от слез глазами. — Там этого не может быть! Аве пожал плечами. — Там тоже фаэты. — Там Ала Вег! — крикнул Тони Фаэ. — Она не такая. — Успокойся, Тони Фаэ, — ласково сказала Мада. — Я думаю, нам все-таки нужно сказать Уму Сату о гибели Фаэны. — Жалкие пожир-ратели падали! Как могли они не сбер-речь того, что имели? Они погубили миллиар-рды жизней! Насколько выше, гуманнее местные фаэтообразные! Крича это. Гор Зем в ярости метался по кабине наблюдения. — Успокойся, друг Гор Зем, — сказал Аве. — Трудно перенести ужас, обрушившийся на всех, кто потерял не только близких, но и… — Гор-рода, поля, р-реки, леса, мор-ря, океаны! — взревел Гор Зем. — Да. И океаны, — печально подтвердил Аве Мар. Гор Зем чуть ли не с ненавистью уставился на него. Потом вздохнул и уже тише сказал: — Да, вам легче… Вас двое. — Нас пятеро, — сказала Мада. — Если стар-рец перенесет удар. — Он слишком давно готовился к нему, — ответила Мада. — Он все предвидел. — Это я не пр-редвидел ничего. Мечтал о новых космических кор-раблях, о необычайных гор-родах на новых планетах, о небывалых машинах, которые зар-рождались в моем мозгу. — Придется все это делать на Земе, — тихо сказала Мада. Гор Зем загремел неестественным смехом: — Забудьте р-р-раз и навсегда о цивилизации, забудь о всякой технике. Готовьте себе дубины и каменные топор-ры. Если у тебя будут дети, ты не сможешь их научить ничему, что знали несчастные фаэты. Цивилизация — это мастер-р-ские, фаэты, котор-рые р-работают в них. Цивилизация — это письмена, хр-ранящие сокровища мысли. Всего этого больше нет, нет, нет! И быть здесь уже не может! Инженер кричал в исступлении. Его молодой друг был испуган этим приступом ярости, но внимание его отвлеклось сигналом электромагнитной связи. Лампочка вызова мигала. Звездовед бросился к аппарату: — Наконец-то! Сейчас кошмар рассеется. Видите, они заботятся о нас, хотят сообщить, что вспыхнула сверхновая, и совсем не на Фаэне. Как только мы могли предположить!.. Фаэты следили за Тони Фаэ, и каждый старался сохранить хоть капельку надежды. Наконец в кабине зазвучал грудной голос фаэтессы. Тони Фаэ сразу узнал его, это был голос Алы Вег: — «Поиск»! «Поиск»! «Поиск»! Слышите ли вы меня? Нет большего несчастья, чем то, что свершилось. У нас всех отныне нет родины. Планета Фаэна взорвалась по непонятной причине, хотя еще недавно была цела, несмотря на бушевавшую на ней войну распада. «Поиск»! «Поиск»! «Поиск»! Военные действия между Деймо и Фобо прекращены. Если вы тоже воевали между собой, то прекращайте борьбу. Нет больше «культурных», нет больше «высших», есть лишь три горсточки несчастных фаэтов, лишенных родины. Живы ли вы? Хоть бы вы были живы! Можно ли жить на Земе? Аве Мар погасил в кабине наблюдения свет. Теперь яснее было видно звездное небо и горящую в нем новую звезду, зловещую звезду Ненависти.[2]
Часть третья ОСКОЛКИ
А где ж враги — Монтекки, Капулетти? Вас бич небес за ненависть карает…В. Шекспир. Ромео и Джульетта
Глава первая СУМЕРКИ
В иллюминатор «Поиска» зловеще светила новая звезда. Потрясенные фаэты молчали. Вдруг Гор Зем вскочил: — Техника! Пр-роклятая техника! Во всем виновата она. Я, Гор-р Зем, последний из инженер-ров Фаэны, пер-рвый отр-рекаюсь от ее цивилизации! В лес! В лес! В пещер-ры! Дикие фаэты на дикой Земе! — гремел он, и пена появилась в уголках его губ. — Если кто-нибудь откажется покинуть р-ракету, я свер-рну ему шею. Пусть ни одна металлическая деталь не напоминает несчастным, что они были когда-то культур-рными! Насколько выше, благор-роднее звер-ри! Друзья старались успокоить инженера, еще не допуская мысли, что у него помутился рассудок. — Гор Зем, пойми, — убеждал Аве. — У пяти оставшихся на Земе фаэтов может быть только одна цель — не просто выжить, а сохранить цивилизацию, передать наследие разума грядущим поколениям… — Р-разве? — зарычал Гор Зем, вперив тяжелый взгляд в Маду. Мада смущенно отвернулась. — После нас на Земе должны жить культурные фаэты, — подтвердил Аве Мар. — И наш долг — сохранить им знания, которыми сами обладаем. — Высокопар-рная чепуха! — взревел Гор Зем. — Я ненавижу эти слова и ненавижу все эти пр-риборы, меня бесит даже пр-рикосновение к пр-роклятому металлу. — Гору Зему придется пересилить себя, — повысил голос Аве Мар. — Он инженер и останется инженером на Земе до конца дней. Гор Зем захохотал: — Чтобы твои сыновья научились у меня делать ор-ружие из стенок р-ракеты? Чтобы они убивали сначала звер-рей, а потом себе подобных? — Никогда фаэты Земы не будут убивать фаэтов! — возмутился Аве Мар. — Самое страшное, если мы сейчас согнемся от горя. Нет! Только энергия, вера в себя и выдумка смогут спасти осколок расы фаэтов. — Р-ради чего? — мрачно спросил Гор Зем. — Ради торжества разума! — Опять высокопар-рные слова! Чего ты хочешь? — Чтобы ты продумал, в каком строении будут жить фаэты в лесу, какие аппараты и детали надо перенести отсюда в новый дом и как постепенно разбирать ракету — единственный источник металла на Земе. — Разбирать? — испуганно переспросил Тони Фаэ. — Да, — подтвердил Аве Мар, — космический корабль уже не понадобится. Фаэты станут делать из его стенок топоры, ножи, наконечники копий и стрел. Металла для этой цели хватит на много поколений. К тому времени ученики Гора Зема и их потомки научатся отыскивать здесь руду и выплавлять металл. Цивилизация должна сохраниться! Мада с восхищением посмотрела на мужа. Сколько раз он вставал перед нею совсем иным, все более сильным и твердым, знающим, каким путем идти! — Грязный себялюбец! — взревел Гор Зем. — Он хочет заставить нас служить своим еще не р-родившимся отпр-рыскам! Хватит с меня безумного служения диктатор-ру, котор-рый стр-ремился к войне р-распада и р-развязал ее. Нет! Я не потер-рплю здесь никакой власти над собой! Я не желаю выполнять ничьих указаний, тем более повелений отпр-рыска пр-равителя Даньджаба. — Гор Зем, дорогой, — мягко вмешалась Мада, кладя руку на его огромную волосатую кисть. — Подумай, что ты говоришь. У нас здесь нет ни диктаторов, ни правителей, ни их детей. Есть лишь фаэты, объединенные общим горем и судьбой. Не ты ли мечтал о мастерских на Земе? У тебя будут здесь мастерские, в которых будем работать мы, твои товарищи, а потом… — Она посмотрела ему в глаза и добавила: — Я выращу тебе помощников. Гор Зем насупился, недобро смотря из-под вздыбленных бровей. Материнский тон Мады немного успокоил его. Но ненадолго. Скоро он снова впал в бешенство и, уже не слушая никого, стал ломать рычаги управления кораблем, согнул их, силясь вырвать из гнезд. Чтобы спасти фаэтов, а также и самого безумца и сохранить в целости оборудование корабля, Мада распорядилась запереть Гора Зема в переходном шлюзе, которым пользовались для выхода из корабля в космос. Шумная борьба с силачом Гором Земом отвлекла фаэтов от общего несчастья. Близкое заслонило далекое. И только после того, как люк задраили за Гором Земом, Аве Мар и Тони Фаэ, обессиленные и опустошенные, упали в кресло у пульта. Тяжело дыша, они уныло смотрели перед собой. Мада хлопотала около аптечки. Она решила сделать Гору Зему укол и вызвать шок, который привел бы его в чувство. Однако все попытки войти в шлюз к больному лишь вызывали у того новые приступы буйства. Даже пищу ему не удавалось передать. Так горестно начались первые дни вечного изгнания фаэтов. Внизу, в общей каюте, умирал виднейший ученый Фаэны, вверху, в шлюзе, бесновался последний оставшийся инженер. Тони Фаэ совсем пал духом. Во время очередного сеанса электромагнитной связи с Деймо он снова услышал голос Алы Вег. Он был далеким и печальным. Ала Вег говорила о бесцельности существования, о тяжелой болезни мужа, о том, что ничто не изменилось и начальник базы по-прежнему ненавидит чету круглоголовых. Она сказала, что презирает жизнь. Ей страшно подумать, какое расстояние разделяет их с Тони Фаэ. Стоит ли жить? И она предложила Тони Фаэ одновременно с нею покончить с собой во время следующего сеанса связи. И Тони Фаэ не выдержал, согласился. Он похитил из аптечки Мады баллончик с дурманящим газом, большая доза которого была смертельна. Подышав немного, он впал в блаженное состояние, не мог стоять на ногах, качался, пел глупую песенку про ящерицу, которая сама съедает собственный хвост, потом свалился и уснул. Мада догадалась, в чем дело, нашла у него спрятанный баллончик и отняла его. Когда он проспался, ему пришлось убедиться, что Мада умеет разговаривать отнюдь не ласково. Тони Фаэ впал в апатию. Все вокруг казалось ему тоскливым и унылым. Даже сама природа изменилась. Красочных закатов на Земе не стало. Ночь сменялась тусклым днем. Не переставая моросил дождь, и клочковатая серая пелена цеплялась за верхушки деревьев на уровне иллюминатора кабины управления. Золотых яблок в лесу не осталось. Сумерки спустились на Зему, напоминая фаэтам их родную сумеречную планету. Уныние и тоска, казалось, могли бы убить во всех фаэтах желание жить, как это случилось с Тони Фаэ. Однако Мада, в которой природа пробудила ответственность за всех, и больных и здоровых, не могла предаваться отчаянию. Надо было выхаживать Ума Сата, всех накормить, приглядеть за Тони Фаэ, ласковым взглядом ободрить Аве. Аве Мар держался достойно. У него были обязанности, которые некому, кроме него, было выполнять: надо было охотиться в лесу. Гор Зем не мог теперь помогать ему. Аве уходил из корабля, оставляя Маду в вечной тревоге, но всегда возвращался засветло и с добычей. Волею обстоятельств ему, страстному стороннику сохранения цивилизаций погибшей Фаэны, приходилось вести самый первобытный образ жизни. Огнестрельным оружием он перестал пользоваться, сохраняя боеприпасы для более ответственных случаев. Он смастерил себе лук и тренировался, выпуская стрелы. Используя свою природную силу, он так натягивал тетиву лука, что стрела с самодельным металлическим наконечником насквозь пробивала толстую ветку дерева. Однажды Аве Мар принес пронзенную стрелой большую жирную птицу. Оберегая покой Ума Сата, звездонавты собрались в кабине управления, тихо переговариваясь. Мада принялась неумело ощипывать охотничий трофей, радуясь, что из него можно приготовить хороший бульон больному. Тони Фаэ налаживал аппаратуру электромагнитной связи, рассчитывая на сеанс, о котором договорился с Алой Вег. Мада предупредила его, что, если и дальше он будет себя глупо вести, она запретит поддерживать связь с Деймо. Тони смущенно опустил голову. Аве Мар, расслабив мышцы, отдыхал от нелегкого дня, проведенного под дождем в лесу. Мада оглянулась на иллюминатор и вскрикнула. Снаружи смотрела оскаленная морда фаэтообразного. Плечи и грудь его были покрыты вьющейся шерстью, из-под которой просвечивала кожа. Безумные глаза не выражали никакой мысли. Только Аве Мар сразу понял, что перед ним спускающийся по веревке Гор Зем, а вовсе не забравшийся сюда зверь. Очевидно, безумец изодрал на полосы свою одежду и свил из них веревку. Открыв люк для выхода в космос, он выбрался наружу и теперь спускался по оболочке корабля. Аве Мар, стремясь обогнать его, бросился к переходному люку, пронесся через общую каюту и исчез в нижнем шлюзе. Он скатился по вертикальной лестнице, едва задевая руками за перекладины. Но как ни проворен был Аве Мар, у Гора Зема было преимущество во времени. Аве Мар еще только выбирался из нижнего люка, а беглец уже повис на конце самодельной веревки. Ни один здравомыслящий фаэт не рискнул бы спрыгнуть с такой высоты. Но безумец не рассуждал. Он свалился наземь, промелькнув перед Аве Маром, подскочил внизу, как на пружинах, и побежал к лесу. Гор Зем, ни в чем не отдавая себе отчета, вбежал в лес прямо на тропинку, протоптанную зверями к водопою. После дождей она раскисла, и ноги его скользили и разъезжались. Но он чувствовал только одно: за ним гонятся. И он прыгнул в сторону, на полянку, неузнаваемую после дождей, покрытую мутными металлическими лужами, исчезавшими в тумане. Гор Зем не подозревал, что под мокрой зеленью здесь таилось вспухшее от влаги болото. Беглец нырнул в стелющееся по траве облако и исчез. Аве Мар, преследовавший его по пятам, остановился. Но тотчас ринулся назад. Его ноги захлюпали по жиже. Он сделал несколько осторожных чавкающих шагов и вдруг увидел в туманной дымке Гора Зема. Тот словно сел в зеленую траву. Над нею виднелся только его торс и голова. Аве Мар не сразу понял, что Гор Зем провалился по пояс в трясину. Еще недавно Аве Мар, житель благоустроенных городов Фаэны, ездивший на парокате по великолепным дорогам, не подозревал, что можно вот так сразу провалиться по пояс в почву. В это болото Аве забрел еще несколько дней назад, когда полили дожди. Но присущая ему брезгливость, вызванная чавкающей под ногами, дурно пахнущей грязью, спасла его, заставив обойти коварную полянку с тусклыми лужами. Теперь же он не мог отступить и бросился на помощь Гору Зему. Однако ноги его сразу ушли по колено в топь. Он сделал движение, чтобы выбраться, и понял, что сам проваливается в трясину. К счастью, он был не так тяжел, как Гор Зем, кроме того, находился ближе к краю болота. Избегая резких движений, он сразу лег и ползком стал выбираться, как бы плывя по топкой поверхности, покрытой мокрой травой. Почувствовав под собой более плотную почву, Аве Мар поднялся, обернулся и увидел Гора Зема. Над травой приподнимались только его плечи и расставленные руки, которыми он цеплялся за какие-то корни. Инженер сумел повернуться к Аве Мару лицом. Из тумана смотрели его выпученные, остекленевшие глаза. Каждое движение фаэта затягивало его все глубже. Аве Мар физически ощутил его ужас и невольно остановился, но прочел в глазах погибающего такой упрек, что содрогнулся. Аве резко повернулся назад, отполз немного и, едва почувствовал под собой твердую почву, вскочил на ноги, добежал до ближнего дерева и сорвал свисавшую лиану. Когда он вернулся в распластавшееся над травой облако, то с трудом различил в нем косматую голову и простертые руки. При виде Аве Мара округлившиеся глаза Гора Зема ожили, в них мелькнули мольба, надежда, даже радость. Аве Мар бросил тонущему конец лианы. В глазах того отразилось понимание, и он ухватился за лиану. Теперь предстояло невероятное — вытащить такого великана, как Гор Зем, из трясины. Никакой силы Аве Мара не хватило бы для этого. Но Аве Мар вместе с лианой принес еще и отломанную от дерева корявую ветку. Он воткнул ее в твердую кочку и стал наворачивать на нее лиану, как на ворот. Поворот за поворотом он постепенно вытягивал Гора Зема. Тому удалось наконец лечь и поползти, как перед тем делал Аве. Наконец, выпачканный грязью. Гор Зем поднялся во весь рост. — Ты неплохой инженер-р, Аве Мар-р, — сказал Гор Зем. — Благодар-рю тебя. И эти слова были для Аве Мара важнее любого диагноза. Он уже понял, что смертельная опасность, которой подвергся в болоте Гор Зем, была необходимым нервным шоком, избавившим его от безумия. Гор Зем словно проснулся. — Что случилось? Как я попал сюда? Р-разве мы не охотились с тобой вместе? Кто р-раздел меня? Твоя жена пр-римет меня за фаэтообр-разного. — Она будет счастлива! Ты был тяжело болен. — Р-разве? — удивился Гор Зем. — Впр-рочем… мне снились кошмар-ры. Будто диктатор-р засадил меня в тюр-рьму… — Все позади. Не думай больше об этом. Есть задачи поважнее. Жить в ракете дальше нельзя. Приходится доставлять наверх воду и пищу. Старец не может выйти на воздух. — Так надо выстр-роить в лесу дом. — Признаться, я не знаю, как это делать. Я только теоретик. — Однако теор-ретик быстро сообр-разил, как соорудить вор-рот. С таким помощником легко сколотить в лесу дом. Я уже вижу, как нам его делать.Мада не поверила глазам, видя, как мирно беседуют возвращающиеся Аве Мар и недавний безумец Гор Зем. — Ничего не понимаю, — прошептал Тони Фаэ. — Может быть, помочь Аве Мару скрутить его? — Нет же, нет! — воскликнула Мада. Чутьем Сестры Здоровья она поняла, что даже годы лечения и ухода могли бы не дать такого результата, как что-то происшедшее в лесу.
…В лесу слышался непривычный стук топоров. Огромная сутулая самка Дзинь, отжимая длинными руками свою мокрую рыжую шерсть, подкрадывалась к месту, где могучий чужак, расправившийся с Пятнистым Ужасом и многими сородичами самки Дзинь, убивал теперь деревья, но не ел их. Притаившись в чаще, присев и держась передними лапами за пятки, она наблюдала, как он и другой, с шерстью только на голове, стучали по дереву странными палками с будто мокрыми блестящими концами. Сила их была так велика, что дерево валилось, как убитый зверь. Потом чужаки сдирали своими дубинками с дерева шкуру, отламывая все ветки, и дерево становилось прямым и гладким. Визжавшей палкой они укорачивали дерево, потом подтаскивали его к другим, убитым прежде, и заставляли срастаться с ними. Так они помогали подниматься с земли огромному дереву, пустому внутри. Оно походило на пещеру. Едва чужаки кончали стучать палками, самка Дзинь скрывалась в чаще, чтобы снова прийти сюда завтра на призывный стук. Гор Зем и Аве Мар не подозревали, что за их работой следят. Они сбивали сруб, задуманный Гором Земом без всяких металлических креплений. Работа близилась к концу. В дом, куда скоро должны были перебраться звездонавты, предстояло перенести многие приборы и аппараты с корабля «Поиск». И вот Аве Мар и Гор Зем пришли за всем этим на корабль. Чтобы не мешать Уму Сату и не стучать в общей кабине, они сразу поднялись в рубку управления. Гор Зем с помощь Аве Мара взялся выламывать рычаги и стержни, на которых крепились аппараты электромагнитной связи. И тут вдруг всегда тихий, деликатный Тони Фаэ взъярился. — Пусть Гор Зем и Аве Мар сначала убьют меня! — истерически выкрикнул он. — Но я не дам испортить что-либо в космическом корабле. Гор Зем захохотал, как во время недавнего припадка безумия. — Ты хочешь, малыш, чтобы я отплатил тебе и, скр-ру-тив р-руки, засадил бы в пустующий шлюз? Мне жаль тебя. Пойми, что никому больше не нужен мой «Поиск», я пер-рвый начну ломать его. Отойди, милый Тони Фаэ. — Сначала убей своего былого друга! Аве Мар удивленно обернулся к Маде. Лицо ее было тревожно, глаза печальны. — Пр-рочь с дор-роги! — взревел Гор Зем. — Остановитесь, — послышался слабый голос из люка. В кабину управления, преодолевая слабость, поднялся Ум Сат. (Гор Зем невольно застыл перед Тони Фаэ, так и не отодвинув его в сторону.) — Остановитесь, — повторил Ум Сат. — Космический корабль «Поиск» неприкосновенен. Все меняется в жизни фаэтов. Им нужно избрать себе новый путь. И снова Аве Мар посмотрел на тревожно печальную Маду. Гор Зем застыл в недоумении. Тони Фаэ бросился к аппаратам электромагнитной связи.
Глава вторая БУНТ В КОСМОСЕ
Ала Вег понимала, что ее муж умрет. Подговорив Тони Фаэ вместе с нею покончить с жизнью, она приготовилась к предстоящему сеансу электромагнитной связи — похитила у Мрака Лутона пистолетный патрон с отравленной пулей. Тихо Вег медленно умирал. Совсем облысевший, даже без бровей и бородки, он тихо лежал на койке в общей каюте Вегов и пристально смотрел на жену, словно откуда-то издалека. Ала Вег не могла выдержать этого взгляда глазниц на голом черепе и убегала в обсерваторию. Она подходила к аппаратам электромагнитной связи и долго смотрела на пулю с коричневыми усиками, которую спрятала на пульте между приборами. Она боялась, что не сможет сжать ее в кулаке, хотя где-то там, на далекой Земе, влюбленный в нее юноша Тони Фаэ должен был одновременно с ней уйти из жизни. Она боялась нанести умирающему мужу этот последний удар. Противоречивые чувства терзали Алу Вег. Она не могла оправиться от сознания, что дети ее погибли. Однако звездное расстояние, которое давно отделяло ее от них, приглушала в ней теперь отчаяние. И в то же время звездное расстояние до Земы, с большим запозданием доносившее до нее голос несчастного юноши, не мешало ей кружить ему голову и даже уговаривать его покончить с жизнью вместе с нею. Но Тихо Вег был тут, рядом, страдал и смотрел на нее из небытия огромными печальными глазами. Ала Вег много плакала и совсем забросила наблюдение звезд. Да и кому это теперь было нужно!.. Инженер Тихо Вег скончался в обеденное время так же тихо, как и существовал. Жена находилась подле него, бессильная чем-нибудь помочь. Его голая голова с тенями запавших глаз, обтянутая кожа лица и оскал отвалившейся нижней челюсти действительно напоминали череп. Когда Ала Вег поняла, что мужа больше нет, припадок ярости овладел ею. Распахивая перед собой двери, она шумно ворвалась в общую каюту, где обедали супруги Лутоны и Брат Луа. Лада Луа подносила им кушанья. Мрак Лутон, рыхлый, обрюзгший, но напыщенный, важно восседал во главе стола. — Я обвиняю тебя, Мрак Лутон! — с порога закричала Ала Вег. — Ты убил моего мужа Тихо Вега, заставив его снаряжать торпеду распада, даже не защищенную снаружи от смертоносных лучей заряда. Мрак Лутон побагровел. Его обвисшие щеки надулись, маленькие глазки забегали. — Бунт? — захрипел он. — Я не потерплю! Молчать! Кто подговорил тебя, длиннолицую, к неповиновению? — Мой муж Тихо Вег умер. Встаньте. Почтите его память и прокляните его убийцу, который сидит во главе этого стола. Брат Луа и Лада поднялись. Нега Лутон замешкалась, сделала вид, что ей неудобно встать с кресла, но все-таки встала. Мрак Лутон остался сидеть, бешено вращая глазами и ощупывая пистолет, который держал в руке под столом. — Здесь нет неповиновения, глубокомыслящий Мрак Лутон, — примирительно сказал Брат Луа. — Есть только горе и отчаяние фаэтессы, этого нельзя не уважать. Мы все разделяем твое горе, Ала Вег. Инженер Тихо Вег был хорошим фаэтом и сам никогда бы не стал посылать торпеды распада к станции Фобо. — Что? Измена? Вы забыли, что вся власть в космосе принадлежит мне, преемнику диктатора Яра Юпи. Не забудьте, что мне подчинен и корабль «Поиск». Только я могу от имени Совета Крови приказать ему вернуться, чтобы доставить всех на Зему, где мы можем всласть пожить. — Ты ошибаешься, глубокомыслящий Мрак Лутон, — возразил Брат Луа. — На корабле нет горючего, чтобы перебросить на Зему всех нас. Не хватит его и на базе. На Фобо горючего еще меньше. — Куда делось все горючее? Вы с инженером Тихо Вегом головой отвечали за него! — Глубокомыслящий Мрак Лутон забыл, что инженер Тихо Вег по его приказу заправил горючим два корабля-торпеды, посланных к Фобо. Такое же безумство совершили и на базе Фобо. — Безумство? Молчать! Как ты смеешь, круглоголовый, осуждать наместника диктатора? Я, сверхофицер Охраны Крови, остаюсь им в космосе! Ты арестован! Я пристрелю тебя, как взбесившуюся ящерицу! — Мудрый мой супруг, умоляю, — вмешалась Нега Лутон. — Зачем пускать в ход пистолет? После смерти нашего дорогого инженера круглоголовый остался единственным фаэтом, разбирающимся в оборудовании станции. Его долг — обслуживать нас. — Ты права, Нега. Благодари ласковую госпожу, круглоголовый! Ты отделаешься лишь заключением в моем кабинете. Марш! Брат Луа покорно пошел впереди начальника станции, который подталкивал его в спину дулом пистолета. Когда оба фаэта вышли из общей каюты, Ала Вег обратилась к оставшимся фаэтессам: — Разве мало гибели Фаэны? Почему ее осколок должен идти тем же пагубным путем? Власть, диктат, убийства? — Чего же ты хочешь, несчастная? Восстать против моего мужа? — вспылила Нега Лутон. — Ты сама остановила его. Если он убьет Брата Луа, то среди нас не будет никого, кто смог бы разобраться в механизмах станции, а Лада Луа может отказаться кормить нас. И все мы погибнем из-за твоего старого безумца. — Не подговариваешь ли ты меня к бунту? — ядовито осведомилась Нега Лутон. — Пусть к бунту! — истерически подтвердила Ала Вег. — Если бунт спасет нас, мы пойдем на него. — О каком спасении может идти речь, если космических кораблей на базах нет? — упорствовала Нега. — Есть «Поиск». Он может прилететь сюда. — Зачем? Чтобы прибавить нам голодных ртов? Или потому, что среди звездонавтов есть юнец, приглянувшийся наконец-то овдовевшей Але Вег? — Замолчи, ядовитая змея! Додумайся своим мозгом ящерицы до того, что Брат Луа запроектировал глубинное поселение на поверхности Мара. В таком убежище там, на поверхности Мара, остатки фаэтов могли бы продолжать жизнь. — Это не жизнь, а прозябание. — Я давно хотела сказать, — вступила Лада Луа, — что плодов в оранжерее мало. А на поверхности Мара мой муж хотел выращивать множество питательных растений. Их хватило бы не только на нас, но и на наших детей. — О каких детях идет речь? — затопала ногами Нега Лутон. — Ты забыла, курносая толстуха, о законе, запрещающем иметь в космосе детей. — Мой муж сказал, что теперь прежние законы недействительны. У нас будет ребенок. — Преступники, — сразу осипшим голосом зашипела Нега Лутон. — Они хотят обездолить нас. Еды, кислорода здесь лишь на шестерых, не больше! — Тихо Вег умер, — грустно сказала Ала Вег. — Даже если вместо него родится маленький Луа, база будет существовать. Но нужно думать о будущем. Придется спускаться на поверхность Мара. — Ну конечно, тебе подадут корабль, как парокат крупному владельцу, — съехидничала Нега Лутон. — Это я беру на себя, — заявила Ала Вег. — Но прежде всего надо лишить Мрака Лутона власти. — Что? — захлебнулась от негодования Нега Лутон. — Ты сама понимаешь, бывшая знатная дама, что без четы Луа тебе не прожить, хотя бы твой муж и стал стрелять отравленными пулями во все стороны. Вы с ним оба ничего не смыслите ни в технике, ни в звездоплавании. Сейчас все должны решить мы, фаэтессы. — Что решить? — Кто будет править базой. — Я не предам своего мужа. — Тогда предашь себя. — Но он ни за что не согласится расстаться с властью. У него оружие. — Фаэтессы все смогут, если будут действовать сообща. — Я во всемподдержу ласковую Алу Вег, — заверила Лада. — Решайся, Нега Лутон. Тебя станут кормить и обслуживать по-прежнему только в одном случае, если ты выступишь вместе с нами. — Но я… — все еще колебалась Нега Лутон, с ненавистью смотря на неумолимую Алу Вег. Широко распахнув дверь, с видом победителя ввалился Мрак Лутон. Он выпячивал огромный живот и надувал щеки, чтобы они не выглядели дряблыми. — Мрак Лутон! — объявила Ала Вег. — Ты низложен нами с поста начальника базы! Мрак Лутон рухнул в кресло, тараща на Алу Вег заплывшие глазки. — Что ты сказала, безумная? — Я говорю от имени всех фаэтесс базы. Ты должен покориться нам и пойти в свой кабинет, ожидая своей участи. Брат Луа будет заниматься механизмами базы, поскольку нам нужно дышать и пользоваться энергией. Если ты сейчас убьешь кого-нибудь из нас, то тем самым обречешь на гибель и самого себя. Нега Лутон согласно кивнула головой. — Как? И ты… Нега? — только и мог выговорить Мрак Лутон, вперив, взгляд в свою горбоносую супругу. — Мрак, я только забочусь о нас же с тобой. Я добилась, чтобы они обслуживали нас и обеспечивали всем необходимым. Мы будем на положении владельцев. — Я не согласен! — заорал Мрак Лутон, выхватив пистолет. Однако выстрелить он не решался. Ала Вег и Лада Луа наступали на него, Нега держалась позади. Мрак Лутон нехотя поднялся и, размахивая, пистолетом, стал отступать. Так все они вышли в коридор. Мрак Лутон, злобный, растерянный, пятился к двери своего кабинета, а две фаэтессы теснили его. Нега Лутон робко замыкала шествие. — Я еще рассчитаюсь с вами! Я уступаю из милосердия. Паршивого круглоголового выпущу вам только затем, чтобы он занялся грязной работой. Но я не слагаю с себя данной мне власти. Этого вы не заставите меня сделать! — Мы поговорим с тобой. Мрак Лутон, завтра. А сегодня ты все хорошо обдумаешь в своем кабинете. — Но я не успел пообедать. Пусть мне принесут оставшиеся блюда сюда. — Мы отложим твой обед до завтра. На голодный желудок думается лучше. Возможно, мы еще немного убавим кислорода, поступающего в твой кабинет. Но не сразу, потому что ПОКА мозговые клетки должны у тебя работать нормально, чтобы ты мог смириться. — Ты не фаэтесса, Ала Вег, а чудовище. — Мой муж, которого ты убил, не согласился бы с тобой, Мрак Лутон. — Я никого не убивал. Я верой и правдой служил диктатору и выполнял его указания. У меня был его тайный приказ на случай начала войны распада. Я ни в чем не виноват. Я могу показать табличку с письменами. — Это когда мы будем тебя судить. А пока ты просто низложен. Ала Вег открыла кабинет начальника и выпустила оттуда недоумевающего Брата Луа. Мрак Лутон с деловым видом как ни в чем не бывало вошел к себе и с достоинством уселся за стол, делая вид, что принимается за неотложные дела. Ала Вег заперла снаружи дверь и пригласила Брата Луа в общую каюту. — Мы должны выбрать нового начальника базы, — объявила Ала Вег. — Зачем? — запротестовала Нега Лутон. — Я помогла вам освободить Брата Луа. Надеюсь, он поддержит меня. Я рисковала своим семейным счастьем. Вы, фаэтессы, должны оценить это. — Твой муж — преступник, убивший моего мужа ради того, чтобы в нарушении соглашения о «Мирном космосе» затеять войну распада между космическими базами Мара. — С Фобо тоже послали к нам торпеды распада, — оправдывалась за Мрака Лутона его жена. — Мы могли защищаться, но не нападать. И тогда Тихо Вег остался бы жив. — Ты ослеплена своим горем, Ала Вег. Я понимаю тебя сердцем фаэтессы. Но можно ли ныне говорить об одной смерти, когда погибли миллиарды фаэтов? Пойми, Мрак Лутон необходим нам как начальник базы. Нам нужно выжить. Командир корабля Смел Вен подчинится только его приказу, чтобы прилететь за нами. — Разве ты забыла, что Тони Фаэ сообщил нам о гибели Смела Вена? Кроме того, начальник экспедиции был не он, а Ум Сат. — Гибель Фаэны лишила меня памяти и рассудка. На что же ты надеешься, Ала Вег? — На фаэтов Земы: они не оставят нас. Но для этого Мрак Лутон должен быть низложен. Брат Луа смущенно слушал фаэтесс. — Тогда пусть начальницей базы будет ласковая Ала Вег, — предложила Лада Луа. — Ни за что! — выкрикнула Нега Лутон. — Успокойся, бывшая знатная дама. Я не претендую на это. Начальником базы должен быть тот, кто покажет путь фаэтам к дальнейшему существованию. — Кто может сделать это, кроме моего мужа Мрака Лутона? — Ничтожный Мрак Лутон способен лишь на угрозы. Он даже убивать теперь не решается, боясь за свой толстый живот. Он только мразь, а не вождь будущих мариан. — Мариан? — Да, мариан, то есть тех фаэтов, которые будут жить на Маре в глубинных городах, запроектированных Братом Луа. — Не хочешь ли ты сказать, что начальником базы должен стать круглоголовый? — возмутилась Нега Лутон. — Какое счастье, что супруги Лутон не смогут оставить на Маре потомков, — с нескрываемым презрением сказала Ала Вег. — Уж не думаешь ли ты, Ала Вег, оставить потомство? С чьей помощью? — Замолчи, злобная ящерица! Я потеряла трех детей и мужа, а ты потеряла только свою совесть. — Я не согласна, чтобы Мрака Лутона кто-либо заменил на его посту. — Тогда ты отправишься к своему супругу, чтобы обдумать положение вместе с ним. — Я не кончила обедать. — Ты окончишь свою трапезу вместе с супругом… завтра. Если вы оба одумаетесь. — Это насилие!.. — Брат Луа, — обратилась к освобожденному фаэту Ала Вег. — Мы избираем тебя начальником базы. Мы сейчас же установим связь с обитателями Фобо, узнаем, как поступили они. Все вместе мы будем умолять «Поиск» прилететь за нами. — «Поиск» сможет только спустить нас всех на поверхность Мара, — сказал Брат Луа. — Я возьму на себя всю заботу и ответственность. Раса фаэтов и их цивилизация должны быть сохранены. У меня давно готовы проекты сооружений, которые общими усилиями всех оставшихся в живых фаэтов можно будет осуществить. Маленький фаэт торжественно стоял перед фаэтессами, принимая на себя новую миссию. Подумав, он добавил: — Однако все будет зависеть от того, согласятся ли фаэты «Поиска» оставить щедрую и цветущую Зему, чтобы лететь для новых тяжелых испытаний нам на выручку. — Я буду умолять их! — воскликнула Ала Вег. — Никто не поступится своим счастьем, — сказала Нега Лутон. — Брату Луа бессмысленно быть начальником. Никто не прилетит на базу, никто не переправит нас на поверхность Мара. — Не у всех там такие же мягкие сердца, как у ласковой Сестры Здоровья, — сказала Лада Луа. Нега Лутон поперхнулась от изумления: как осмеливается так говорить о ней эта ничтожная круглоголовая, но тут же спохватилась — Лада ведь теперь жена нового начальника базы. И Нега Лутон сдержалась. — Я лишь тревожусь о всех нас, — наконец, как бы оправдываясь, сквозь зубы процедила она. — Наступает время сеанса электромагнитной связи, — объявила Ала Вег. И она вышла из общей каюты, направляясь в обсерваторию. Усевшись, за пульт, она увидела перед собой серебристую пулю с коричневыми острыми усиками. Фаэтесса гадливо взяла ее пальцами за тупую часть и выбросила в люк отходов, откуда она попадет в космос. Зажглась сигнальная лампочка вызова. — Бедный Тони Фаэ! Он думает, что в последний раз в жизни вызывает Деймо, — вслух сказала Ала Вег, хотя около нее не было никого. В обсерваторию вошел Брат Луа и объявил: — Мрак Лутон сейчас сообщил по каналу внутренней связи, что он согласен обменять свой пост начальника базы на обед, который не успел доесть. — Даже его собственный ненасытный живот против него, — отозвалась Ала Вег. — Как новому начальнику мне придется принять участие в сеансе электромагнитной связи с Земой, с фаэтами «Поиска». — Но позвольте мне, Брат Луа, начать сеанс связи. Я постараюсь найти слова убеждения. — Первое слово твое, — согласился новый начальник. Сигнальная лампочка на пульте замигала. Ала Вег включила аппаратуру связи.Глава третья ВО ИМЯ РАЗУМА
Ум Сат, тяжело дыша и горбясь, опустился в кресло перед пультом. Его морщинистое лицо, обросшее густой белой бородой, заметно осунулось, глаза глубоко запали, но смотрели с прежним пристальным и печальным вниманием. Он попросил Тони Фаэ включить для пришедших из леса запись последнего сеанса электромагнитной связи. И снова в кабине зазвучал глубокий грудной голос Алы Вег: — «Поиск»! «Поиск»! «Поиск»! Фаэты Земы! Вас умоляют о помощи ваши братья, заброшенные на искусственную пылинку среди звезд. Вокруг холодная и беспредельная пустота космоса. Нет под нами твердой почвы, мы питаемся плодами оранжереи, которая разрушается неистощимыми потоками летящих после взрыва Фаэны частиц. Нам не прожить здесь, если вы не придете на помощь. «Поиск»! «Поиск»! «Поиск»! Фаэты «Поиска», вспомните, что вы кровь от крови, плоть от плоти тех, кто дал жизнь и вам и нам! Прилетайте на вашем корабле, который мы считаем также и нашим. Прилетайте во имя любви, которая навсегда останется началом будущей и вечной жизни. Фаэты не должны погибнуть. Помогите нам во имя Разума, наследие которого мы должны сохранять. «Поиск»! «Поиск»! «Поиск»!.. Голос Алы Вег затих. Фаэты переглянулись. Ум Сат вопрошающе смотрел на Аве Мара и Гора Зема. Гор Зем подошел к Тони Фаэ и положил ему на плечо свою огромную руку. — Др-руг мой Тони Фаэ! — сказал он, словно дело было только в нем одном. — Мольба наших бр-ратьев с Деймо останется гор-рькой и безответной, р-разрывая нам сер-рдце. Я думаю, что не следует больше поддер-рживать электр-ромагнитную связь с космосом. — Как? — воскликнула возмущенная Мада. — Отвернуться от наших несчастных братьев? — Мы не можем помочь им, — возможно мягче постарался сказать Гор Зем. — Пр-рилетев на базу, мы стали бы там лишь нахлебниками, уничтожая пр-родукты и воздух для дыхания. — Но они рассчитывают, что корабль «Поиск» спустит их на поверхность Мара, — запротестовал Тони Фаэ. — Увы, — мрачно продолжал Гор Зем. — Это так же неосуществимо, как и наше пер-реселение на Деймо. Мы смогли бы долететь до космической базы, но у корабля не хватит гор-рючего, чтобы опустить на повер-рхность Мар-ра и затор-рмозить р-ракету. Колонкой цифр, написанных на пластиковой пластинке, Гор Зем убедительно доказал полную невозможность лететь к фаэтам Деймо. Аве Мар, Тони Фаэ и Мада отлично все поняли. Один лишь Ум Сат, по-видимому, не смог дослушать его до конца. Ему стало плохо, и старца пришлось уложить на этот раз в рубке управления. Мада принялась хлопотать около него, чтобы привести в чувство. Понадобилась вода. Ее не оказалось, запасы были израсходованы. Пришлось поднимать ее снизу. Доставив воду. Гор Зем стал настаивать на том, чтобы немедленно перебираться всем в готовый дом в лесу. — Лесной воздух скор-рее вылечит стар-рца, — убеждал он. Было решено, что только Тони Фаэ останется около аппарата, чтобы в следующий сеанс электромагнитной связи сообщить фаэтам Деймо о невозможности прилететь к ним на «Поиске». Тони Фаэ был сосредоточенно молчалив. Мада боялась за него. Она тщательно заперла аптечку, чтобы баллончик с дурманящим газом снова не попал к нему в руки, и заставила Аве Мара забрать все патроны с отравленными пулями. Печально спускались звездонавты по вертикальной лесенке из нижнего шлюза, словно навеки прощаясь с кораблем. Ум Сат, которого хотели понести на руках, отказался от помощи и даже сам пошел к лесу, опираясь на Маду. Тропинка, по которой шли фаэты, неся захваченные с корабля вещи, стала скользкой. Гор Зем едва не упал. — Не свор-рачивайте в стор-рону, — заботливо предупредил он. Среди деревьев показался сруб с односкатной крышей. В свое время Аве Мару, привыкшему к круглым строениям Даньджаба, этот дом показался бы нелепым, но теперь смена круглой ракеты на прямоугольный сруб казалась ему правильной. Он даже облегченно вздохнул — у них есть убежище на долгие циклы их предстоящей жизни. Внезапно в проеме окна метнулась рыжая тень. Аве Мар схватил за руку Гора Зема. Тот и сам заметил неладное и решительно направился к дому. Дверь в нем еще не была сделана. На пороге Гор Зем столкнулся с огромным фаэтообразным зверем с оскаленными клыками. Фаэт бросился вперед, не разобрав, что это самка Дзинь скалит зубы в подобии улыбки. Он схватил незваную гостью за лапу и ловким приемом перебросил ее через себя так, что она полетела на ближние пни. Вскочив, она с воем помчалась в лес. Так было отбито «покушение» фаэтообразных на сооруженный фаэтами дом. Фаэты вошли в дверь. Гор Зем брезгливо поморщился — смрадно пахло нечистоплотным зверем. Мада открыла окна, чтобы проветрить помещение. — Наконец-то, мы дома, — с облегчением сказала она. — Опасаюсь, — заметил Ум Сат, — что фаэтам еще долго придется доказывать, что они здесь дома. — Пусть эти гнусные твар-ри еще раз попр-робуют сюда сунуться! — зарычал Гор Зем. — Я испугался, что ты убьешь непрошеного гостя, — признался Аве Мар. — Я сделал бы так, если бы мне не показалось, что это самка Дзинь, котор-рой мы так обязаны. — Дзинь? — насторожилась Мада. — Вот как? — Располагайтесь, — предложил Гор Зем. — Я пойду встр-речу Тони Фаэ, а то как бы его не встр-ретил кто-нибудь другой. Мада улыбнулась ему вслед. Такая дружба фаэтов радовала ее. Аве принялся мастерить дверь, ловко орудуя самодельным топором. Ночью фаэтообразные могли бы напасть на спящих фаэтов. Загораживая окна и дверь, он раздумывал над дальнейшей судьбой поселенцев: худо, если им придется жить здесь в постоянной осаде. На Маду обстановка в доме, когда в окнах вместо решетки появились колья, произвела угнетающее впечатление. Но, глядя на спокойного Аве, она сама прониклась его уверенностью. Сумерки сгущались. Мада не находила себе места, думая о Тони Фаэ и Горе Земе. Судьба далеких фаэтов Деймо тоже не давала ей покоя. Как бы ей хотелось, чтобы оставшиеся в живых фаэты были все вместе! Мада выглядывала между кольев в окно. В лесу совсем стемнело. Уставший от перехода Ум Сат крепко спал. Мада дала ему немного подышать дурманящим газом из желтого баллончика. Аве любовался только что сделанной дверью, неказистой, но прочной, и впервые запер ее. Мада с сожалением посмотрела на это сооружение. — Аве, не ты ли говорил, что фаэты должны сберечь цивилизацию своих предков? — Конечно, я всегда буду говорить это. — Как же тогда мы, носители цивилизации, могли во имя собственного блага бросить в космосе близких нам фаэтов? Неужели нет способа переправить их сюда? Хоть бы найти здесь горючее!.. Аве Мар печально вздохнул: — Даже найденное здесь горючее не помогло бы. Мы не смогли бы переработать его, как это делали в топливных мастерских Фаэны. Где взять множество труб и перегонных шаров? — Неужели инженер Гор Зем ничего не сможет придумать? — Едва ли… — Разве нельзя прилететь на Деймо и общими усилиями расширить оранжерею, усовершенствовать механизмы и все-таки жить всем вместе? Я боюсь оставаться здесь, на враждебной Земе. Она совсем не такая, какой показалась в первый день. Помнишь водопой, олененка рядом с мирным хищником? А теперь? Дверь со скрипом открылась. Мада вздрогнула и схватила Аве за руку. В проеме двери стоял Гор Зем. Он пропустил в дом растерянного, подавленного Тони Фаэ. Мада бросилась к нему и, прижав его к себе, разрыдалась. — Был сеанс связи? — спросил Аве Мар. Немного успокоившись. Тони Фаэ ответил: — Лучше умереть, чем слышать слова Алы Вег, которые вырвались у нее в ответ на наш отказ прилететь к ним. — Р-разве это отказ? Это невозможность, — вставил Гор Зем. — Она рыдала. Еще никогда не передавали по электромагнитной связи рыдания. Не было сил слушать! Зачем только Мада отняла у меня желтый баллончик!.. — Успокойся, родной Тони Фаэ. Я сейчас дам тебе немного подышать из этого баллончика. Видишь, как хорошо спит Ум Сат. — Как я могу спокойно спать, если там, на Деймо, Ала Вег, потеряв всякую надежду, утратила веру в силу любви. Я, не задумываясь, полетел бы к ней. Аве и Мада переглянулись. Мада ласково успокаивала Тони Фаэ. Гор Зем впал в мрачность, сидя у кольев окна. Из леса несло сыростью. Снова начался дождь. Фаэты никогда не могли представить себе, что с неба может литься столько воды. На Фаэне не бывало ничего подобного. Тони Фаэ уснул, но беспокойно метался и стонал во сне. Аве Мар присел к грубо сколоченному столу и, взяв расщепленную ветку дерева, стал наносить на ней какие-то знаки. Гор Зем, ссутулившись, огромной глыбой сидел у окна. Он спал. Мада, обессиленная всем перенесенным за день, примостилась на ложе неподалеку от спавших рядом Ума Сата и Тони Фаэ. Аве Мар старался как можно меньше расходовать энергию переносного фонарика. Он погасил его и засветил лучину, смастерив ее из смолистой ветки, подобной той, которую расщепил, чтобы писать. Утром дождь наконец прекратился. Ветер разогнал тучи, и в новый дом фаэтов заглянуло светило Сол. Сквозь листву деревьев просвечивала, переливаясь на воде, перламутровая дорожка. Мада, едва проснувшись и начав хлопотать по хозяйству, сразу заметила в Аве перемену. Гор Зем был в дурном настроении. Мада предложила всем немудреную еду, экономя принесенные с корабля запасы. — Если бы вы слышали ее голос, — сказал, ни к кому не обращаясь, Тони Фаэ. Гор Зем взорвался: — Себялюбцы! Они думают только о себе! Кто дал им пр-раво тр-ребовать от нас такой жер-ртвы, как отказ от жизни на щедр-рой планете? И это делают те, которые пытались взор-рвать др-ругую такую же, как и у них, космическую базу! Если бы я р-решал вопрос, лететь ли к ним, я не р-разрешил бы! Мада со страхом уловила в раскатах его баса знакомые интонации. Тонн Фаэ горестно взглянул на друга. — Они не все виноваты. Надо делать разницу между начальником базы, сверхофицером Охраны Крови, и ни в чем не повинными Алой Вег и круглоголовыми супругами Луа. — И есть еще ни в чем не повинные фаэты на Фобо, — вставила Мада. — Сколько бы их ни было, р-разве можно им помочь? — буркнул Гор Зем. — Это не совсем так, — внезапно вставил Аве Мар. Все обернулись к нему. Даже лежавший на лавке возле стола Ум Сат попытался приподняться на локте. — Ночью я сделал некоторые вычисления, которые мог бы проверить Гор Зем, инженер. — Специалист по пер-рвочастицам пр-рове-рял инженер-ра, создателя кор-рабля «Поиск»? — мрачно осведомился Гор Зем. — Прости меня, Гор Зем, но я проверил твои расчеты и согласился с ними. — Ну вот!.. Я р-рад, — вздохнул облегченно Гор Зем. — Как жаль! — отозвался Тони Фаэ. — И все же расчеты Гора Зема можно продолжить. — Р-разве? — резко обернулся к Аве Мару Гор Зем. — Его расчеты строились на том, что к Деймо должны полететь все фаэты «Поиска». — Ну конечно! Можем ли мы разделяться? — воскликнула Мада. — Однако только такое разделение спасло бы цивилизацию Фаэны. — Пусть Аве Мар пояснит свою мысль, — попросил Ум Сат. — Чтобы сберечь горючее корабля «Поиск», нужно подняться в нем не пятерым, а только двоим. Тогда остаток топлива вместе с запасом горючего на Деймо и Фобо позволит доставить на Мар фаэтов космических баз. Конечно, вернуться на Зему «Поиск» уже не сможет. — Значит, — воскликнул Тони Фаэ, — кроме пилота Гора Зема, с ним может полететь еще один фаэт! — Кор-рабль может вести и Аве Мар-р, — заметил Гор Зем. — Ведь он так р-ратовал за сохр-ранение культур-ры погибшей Фаэны. Мада тревожно смотрела на мужа. — Я не успел посоветоваться с Мадой, но она может сейчас сказать свое мнение. Во имя Разума я готов остаться на Земе, если Мада останется со мной. Правда, после отлета «Поиска» жить здесь придется на положении дикарей, которые в дальнейшем вынуждены будут топоры и наконечники стрел делать из камня. — Я готова остаться со своим Аве, — сказала Мада, — как готова была бы лететь с ним на Деймо. — Значит, я могу полететь с Гором Земом! — с нескрываемой радостью прошептал молодой звездовед. — Нет, — решительно возразил Аве. — Если уж идти на великую жертву во имя Разума, то продолженную цивилизацию фаэтов на Маре возглавить сможет, только великий старец Фаэны, первый ее знаток знания Ум Сат. Тони Фаэ уронил голову на руки. Ум Сат с участием посмотрел на него и сказал: — Я стар и болен. Стоит ли рассчитывать на меня, говоря о новой цивилизации на Маре? — Не жить же великому старцу дикарем в первобытном лесу? — возразил Аве. — Это удел более молодых. — Я на все согласен, — убитым голосом выговорил Тони Фаэ. — Р-ручаюсь, не будет так! — неожиданно ударил кулаком по столу Гор Зем. — Ум Сат, конечно, полетит на кор-рабле «Поиск», чтобы возглавить цивилизацию мар-риан. Им пр-ридется пр-рименять технику космических баз. Без техники мар-риане не выживут. Но с великим ученым на Мар-р полетит не инженер-р Гор-р Зем, а Тони Фаэ, его др-руг. — Но ведь я не умею водить космические корабли! — не удержался от возгласа взволнованный Тони Фаэ. Мада с восхищением посмотрела на Гора Зема. — Р-разве я не пр-рав? — продолжал Гор Зем. — Остающимся на Земе будет не легче, чем улетающим на Мар-р. В этом пр-роклятом лесу пр-ридется бор-роться за каждый шаг. Тони Фаэ тр-рудно будет защищать здесь семью Аве и Мады. — Но ведь я не умею водить космические корабли, — печально повторил Тони Фаэ. — Научишься! Пусть в этом пер-рвом срубе, сколоченном на Земе, начнет свою р-работу и первый ее универ-рситет. В нем будет один только студент, но тр-ри пр-рофессора: великий ученый Ум Сат, его пр-рославленный ученик Аве Мар-р и скр-ромный инженер-р Гор-р Зем. — Два профессора потом станут дикарями, — с улыбкой сказал Аве Мар, — Гор Зем показал нам сейчас, что такое настоящая дружба. Я берусь во всем помочь Тони Фаэ, чтобы тот смог улететь на Деймо вместе с Умом Сатом. Ум Сат поднялся со своего ложа. — Как бы ни тяжела была история грядущих поколений земян и мариан, хорошо, что она начинается с таких светлых чувств! По морщинистому лицу старца текли слезы.Не было страшнее дня, чем тот, когда корабль «Поиск» должен был стартовать с Земы в космос. Остающиеся на Земе Аве Мар, Мада и Гор Зем старались не показать виду, чего им стоят проводы улетающих. Гигантская ракета остроконечной башней возвышалась над лесом. Наступало последнее мгновение прощания.

Старец поочередно обнял двух крепких и сильных фаэтов, остающихся на чужой планете. Смогут ли они выжить? Потом к нему подошла Мада. Припав к его седой бороде, она подняла голову и что-то сказала. Старец привлек ее к себе и поцеловал в волосы. — Аве Мар уже знает об этом? — Нет еще, — отозвалась Мада. — Пусть Разум останется жить в ваших потомках! Подошедший Аве Мар понял все без слов. Он благодарно обнял жену. Когда Ум Сат следом за Тони Фаэ с трудом поднимался по вертикальной лестнице, он обернулся и крикнул: — Обучайте их хотя бы письменам! Гор Зем тоже понял все и горько усмехнулся: — Пр-риемам охоты учить пр-ридется, а не письменам. И каменные топор-ры делать. Старец скрылся в люке. Трое фаэтов, отойдя от стартующего корабля, подняли в знак последнего приветствия руки. Они навечно провожали тех, кто во имя Разума увозил от них наследие цивилизации Фаэны. Из-под ракеты рванулись клубы черного дыма. В густом лесу деревья были усыпаны мохнатыми зверями. Со злобным любопытством наблюдали они за своей двуногой добычей, которую предстояло съесть в овраге. Самые сильные из фаэтообразных схватят безволосых и не дадут им вернуться в их «пещеру без камней». И вдруг под гладким каменным деревом, в котором скрылись один и другой безволосые, загромыхал такой страшный гром, что даже самые свирепые фаэтообразные свалились с веток. А потом из-под гладкого дерева повалили черные тучи, как перед водой, падающей сверху, и засверкал бьющий огонь. Звери кинулись врассыпную. Путь к дому осиротевших фаэтов на Земе был очищен. На этот раз они смогли вернуться в свое убежище, не подозревая, что, разогнав врагов, их улетевшие друзья оказали им последнюю услугу.
Глава четвертая ПАУКИ В БАНКЕ
Корабль «Поиск», забрав всех фаэтов со станции Деймо, приближался к Фобо. Через иллюминатор уже виднелась заметно разгорающаяся звездочка.Выдум Поляр, инженер Фобо, стал новым начальником базы. Когда на Фаэне началась война распада, а с Фобо и с Деймо были посланы по две торпеды распада, молодые фаэты Фобо, настаивавшие на мирном рейсе космического корабля на Деймо, возмущенные поступком начальника базы, еще до гибели планеты Фаэны и до сообщения с Деймо о происшедших у них переменах сместили Доволя Сируса. Доволь Сирус не сопротивлялся. Он даже охотно сдал полномочия Выдуму Поляру, считая, что вот теперь-то он обретет покой, а все заботы лягут на плечи изобретателя. Но он жестоко ошибся. На Фобо прилетел «Поиск» со всеми фаэтами Деймо и Умом Сатом с Тони Фаэ с Земы. Выдуму Поляру вместе с Алой Вег привелось сесть рядом с Умом Сатом, чтобы вынести приговор военным преступникам. Ум Сат объявил ими супругов Лутон и Сирус. На вогнутых стенах каюты висели пейзажи Фаэны, леса, лужайки, реки, города, моря… которых уже не было. Перепуганные и возмущенные, никак не ожидавшие такого поворота событий, обвиняемые сидели перед судьями на черной скамье, а позади них у серебристых стен стояли все остальные фаэты космоса. Космическая станция всегда вращалась вокруг своей оси. В иллюминаторах с неумолимой последовательностью то появлялся, то уплывал гигантский шар планеты Мар. И зловещие красновато-коричневые тона планеты странной быстротечной ночью сменяли в каюте дневные блики светила Сол. Ум Сат оказался фаэтом железной воли. На Земе он тяжко болел и окончательно поправился лишь в пути. Теперь он, огромного роста, седовласый и седобородый, энергично встал во главе колонии фаэтов. И первое, что он сделал, — это отдал под суд преступников войны в космосе. Теперь он спокойно сидел за столом, мерно постукивая по нему пальцем. Начался допрос. Власта Сирус, недобро усмехаясь, сопротивлялась изворотливо и яростно: — У самозваного суда нет никаких прав судить нас. В космосе нет законов, и нельзя выносить приговоры. — Закон — воля фаэтов, находящихся здесь, — твердо ответил Ум Сат. Его насупленные брови не предвещали подсудимым ничего хорошего. Он многозначительно взглянул на пейзажи в рамках, кем-то замененных на черные. Старый ученый внушал Выдуму Поляру огромное уважение. Он не походил на других знатоков знаний, не признававших Выдума Поляра. Напротив, он интересовался его изобретениями и сразу предложил ему совершенствовать проект Брата Луа. Власту Сирус, несмотря на напускной гонор, знобило. Она выглядела жалкой, хоть тон ее и был вызывающим: — Тогда ищите преступников войны среди руководителей космических баз, а не среди служанок. Эти слова Власты Сирус вызвали общий смех фаэтов, знавших истинную роль огородницы Фобо. Генерал Доволь Сирус, задыхаясь от обиды на жену, вынужден был подтвердить, что решение послать к Деймо торпеды было подсказано ему Властой Сирус. Когда его спрашивали, он хоть и с трудом, но поспешно вскакивал. Сейчас он был очень огорчен, всячески подчеркивая это: — Меня можно судить только за слабость характера в семейной жизни, а не за военные действия. Я только деловой фаэт. Генеральский чин мне дали для фирменной марки военных мастерских. Как деловой фаэт, я собирался приобрести часть территории Мара, чтобы потом выгодно продавать участки переселенцам. — И он доверительно улыбнулся. — Кого заставил ты снарядить торпеды распада? — в упор спросила его Ала Вег. — Я снарядил их сам. — Это было безопасно? — продолжала допрос Ала Вег. — Вполне. Заряды торпед были хорошо защищены от излучения. — Значит, ты, ничем не рискуя, шел на уничтожение Деймо? — неумолимо загоняла подсудимого в тупик Ала Вег. — Приходилось считаться со страхом. Я имею в виду прежде всего страх жены, Власты Сирус, — ответил Доволь Сирус, вытирая пот с лысины. — Я была права, не доверяя фаэтам Деймо, — вставила Власта Сирус. — Они первыми хотели уничтожить наш Фобо. — А сама Власта Сирус не замышляла ли того же против Деймо? — спросил Выдум Поляр. Власта Сирус из-под сросшихся черных бровей с презрением посмотрела на неудачника зятя, осмелившегося судить ее. — На войне — не на пиру! — с вызовом бросила она. — Разве подсудимая не знала о соглашении «Мирный космос»? — напомнил Ум Сат, спокойно наливая себе воды в чашу и жестом позволяя Доволю Сирусу сесть. — Откуда об этом знать простой огороднице, которая для блага фаэтов несет службу в космосе? — опустила глаза Власта. Тут даже ее покорный супруг снова вскочил и крикнул: — Об этом здесь знали все! — Зачем же тогда ты захватил на базу торпеды распада? — ехидно осведомилась Ала Вег, смотря в глаза бывшему начальнику базы Фобо. — Фаэтам Деймо нельзя было доверять, — обезоруживающе улыбнулся ей Доволь Сирус. — А что может сказать о своем проступке бывший начальник базы Деймо, сверхофицер Охраны Крови Мрак Лутон? — спросил Ум Сат. Мрак Лутон тяжело поднялся. — Я не прозябаю под чьей-либо подошвой. Я — солдат. И выполнял данные мне предписания. Вот приказ диктатора Яра Юпи. Я обязан был его выполнить в случае начала войны распада. Меня нельзя судить за честность солдата. Виновен диктатор Яр Юпи, нарушивший этим приказом подписанное им же самим соглашение, но никак не его офицер. — Мрак Лутон положил на стол пластинки с письменами. — Ты, Мрак Лутон, знал, что заряд распада не защищен и находиться около него смертельно опасно, и все же толкнул на верную гибель моего мужа Тихо Вега? Мрак Лутон усмехнулся и пожал полными плечами. — В бою офицер послал солдата вперед. Шла война. — Ссылка на войну неосновательна, — заметил Ум Сат. — Ее не должно быть ни на планете, ни тем более в космосе, ибо война — неоправданное преступление. — Даже если она ведется во имя защиты? — с вызовом спросил Мрак Лутон. — Оружие распада — это оружие нападения. Оно никогда не может быть оборонительным. — Создателю оружия распада, конечно, виднее, как теперь его называть, — ехидно заметила Власта Сирус. — Может быть, правильнее было бы судить того, кто придумал это оружие, а не тех, кто вынужден был его применить. Но судит он! — И она с напускной горечью тяжело вздохнула. — Что ж! Судите меня, Ума Сата, знатока вещества, за то, что я обнародовал свое открытие сразу на двух континентах, надеясь, что страх перед гибелью всего живого остановит безумие войн, судите меня за то, что я не запретил опасные знания, как сделал бы сейчас. Но те, кто, уцелев в космосе, во вред другим использовал эти знания, должны ответить за свои преступления. Старец остался самим собой. Он по-прежнему не был знатоком глубин жизни, ему все еще казалось, что достаточно наказать виновных и запретить на вечные времена опасные знания — и зло будет устранено. Но он был старейшим из уцелевших, в честности его никто не мог усомниться, и потому он судил виновников войны распада в космосе. В голосе его звучала непривычная жесткость, глаза мрачно горели. Власта Сирус вся сжалась от его слов, словно от ударов. По лицам судей трудно было угадать, что ждет подсудимых. В отличие от Власты Сирус Нега Лутон была совершенно подавлена тем, что ее судит… Ала Вег!.. К столу судей вышла Лада Луа. Она смущалась и не знала, куда деть свои красные руки. — Ласковая госпожа Нега Лутон ни в чем не повинна. Когда понадобилось свергнуть начальника базы, она была с нами, фаэтессами Деймо. — Подтвердит ли это Ала Вег? — спросил Выдум Поляр. — Я подтверждаю это, — к величайшему изумлению своей соперницы сказала Ала Вег. — Мрак Лутон был в бешенстве из-за непокорности жены. Ее вина только в том, что ей хотелось стать первой дамой базы. Нега Лутон вспыхнула. Лучше бы ее осудили, чем заставляли слушать такие слова. Она готова была испепелить судей взглядом. Ала Вег сидела с опущенными глазами, Тони Фаэ, стоя позади всех фаэтов, любовался ею. Как она прекрасна и как справедлива!
Великий старец Ум Сат зачитал приговор суда. Доволь Сирус, Власта Сирус и Мрак Лутон, виновные в запуске торпед распада с целью уничтожения космических баз, приговаривались к заключению на станции Фобо. На Мар их не возьмут. До конца своих дней они будут сами себя обслуживать — им оставят необходимые механизмы и оранжерею. Нега Лутон оправдана и будет взята на планету Мар. Мрак Лутон, выслушав приговор стоя, затопал ногами: — Это насилие! Это беззаконие! Преступление! — В уголках его растянутого рта появилась пена. Он схватился за сердце и повалился в кресло. Доволь Сирус испуганно смотрел на него, потом заныл: — Умоляю, не оставляйте с нами безумца, верните его на Деймо… Ведь это сверхофицер Охраны Крови. У него руки по локоть в крови. — Нас безжалостно хотят погубить фаэты, корчащие из себя справедливых, — выкрикивала Власта Сирус. — Так пусть же они улетают! Это мы изгоняем их с базы! Ссылаем в мертвые пустыни! Ссылаем! Ссылаем! Ссылаем! Фаэты понемногу расходились, стараясь не смотреть на осужденных. К судьям подошла Нега Лутон. — Я благодарю за то, что вы оправдали меня. Но я прошу оставить меня вместе с осужденными. Выдум Поляр внимательно и неприязненно посмотрел на Негу Лутон. Он не верил, что ей хочется остаться с этим обрюзгшим, толстым фаэтом, задыхающимся от злобы. Скорее здесь простой расчет: на базе придется меньше работать, чем на неприютном Маре, где заставят сооружать глубинные убежища для фаэтов и их потомков. Выдум Поляр был прав, однако не учел еще той ненависти к Але Вег, которая руководила сейчас Негой Лутон.
Понадобилось много времени, чтобы проект Брата Луа, обогащенный многими техническими выдумками Выдума Поляра, был закончен. Глубинное поселение с искусственной атмосферой, постоянно очищаемой и обогащаемой кислородом, можно было построить. Корабль «Поиск» готовился в свой последний рейс. База Фобо навсегда останется искусственным спутником планеты Мар. То, что на планету опускалось не тринадцать, а лишь девять фаэтов, позволяло им захватить с собой значительно больше груза, технических приспособлений, инструментов и таблиц с письменами, которые будут изучать будущие мариане. Выдум Поляр, предвидя голод в металле, необходимом для постройки глубинных убежищ с искусственным воздухом, предложил сбросить на поверхность планеты часть станции Фобо. Предстояло разобрать треть ее конструкций и присоединить к ним одну из оставшихся защитных ракет. Станция Фобо была много больше станции Деймо. Уменьшение ее помещений ничем не могло отразиться на дальнейшей жизни осужденных. Кстати сказать, все они наотрез отказались принимать участие в этих работах, предоставляя будущим марианам справляться самим. Часть металлических труб, составлявших коридоры и помещения пустующих лабораторий, отделилась от станции. Заторможенные реактивной силой защитной ракеты, они должны были сойти с орбиты станции и, уменьшив скорость по сравнению с первой космической для Мара, начать падение на планету. Ее атмосфера еще больше должна была затормозить падающий металл, не вызвав, однако, его сгорания из-за разреженности и малого содержания кислорода. Вся намеченная Выдумом Поляром операция заняла довольно значительное время, в течение которого фаэты жили все вместе. Однако осужденные сторонились остальных и относились к ним враждебно. Поэтому прощание мариан и осужденных не было печальным. Скорее и та и другая группы фаэтов испытывали облегчение. Ум Сат и Тони Фаэ первыми перешли на корабль «Поиск». Оба они думали об Аве, Маде и Горе Земе, самоотверженно уступивших свое место в корабле фаэтам баз. Каково-то им на Земе? Выдержат ли они борьбу с фаэтообразными? Затем через шлюз центрального отсека базы на корабль перебрались и все остальные улетающие. Ала Вег подошла к Тони Фаэ. — Мы вступаем в новый мир вместе, — сказала она, опуская ему руку на плечо. Молодой фаэт чуть не задохнулся. Небывалые испытания ждали их впереди, а он был счастлив. Тони Фаэ предстояло определить точно, куда упали запасы металла, которым будут пользоваться будущие поколения мариан. Ум Сат приказал посадить корабль «Поиск» возможно ближе к упавшему на Мар металлу. На первое время глубинное убежище придется вырыть самим. В дальнейшем, быть может, удастся найти естественные пещеры, в которые переберутся уже будущие поколения. Тони Фаэ, вспоминая уроки, полученные от друзей на Земе, начал постепенную расстыковку корабля и центрального отсека станции Фобо. Он подумал: «Приблизится ли когда-нибудь еще к этой станции какой-либо космический корабль и когда это будет?» В центральном отсеке не было никого из остающихся на Фобо. Нега Лутон и Власта Сирус заперлись в своих каютах. Мрак Лутон, заложив руки за спину, разгуливал по кольцевому коридору, куда выходили двери подъемных клетей. Он обдумывал, как захватить власть на станции Фобо. Опасным противником он считал не пресыщенного Доволя Сируса, а Власту. Он мысленно закрепил всех за участками, оставляя за собой общее руководство. Придется жить много, очень много циклов.
…Возможно, фаэтам ничего не было известно о поведении пауков в банке, пожирающих друг друга. Поэтому суд в космосе, оставляя виновных на станции Фобо, может быть, и не руководствовался этим примером, однако… Доволь Сирус стал летописцем Фобо. Он торжественно писал мемуары, которые, на его взгляд, правдиво расскажут о трагедии Фаэны и ее космических колоний. Очень много времени спустя они действительно кое в чем помогли установить судьбу осужденных.
Глава пятая ГОЛЫЙ ВОЖАК
Когда ночью в доме фаэтов раздался писк ребенка, Дзинь была рядом в лесу. Она подкралась к окну и, присев и ухватившись передними лапами за свои пятки, стала слушать. Почуяв возвращавшихся охотников, она прыжком скрылась в зарослях и уже оттуда оглянулась на окно с кольями. Так в доме фаэтов появился первый коренной земянин. По традиции фаэтов, его нужно было назвать усеченным именем отца — Ав или просто Авлик. Мада души не чаяла в своем первенце. Часто, обняв жену за плечи, Аве подолгу смотрел на маленькое беспомощное существо. — Пер-рвый пар-рень на Земе! — радостно громыхал Гор Зем. — Это хор-рошо, что пер-рвым родился пар-рень! Скор-рее бы рос, чтобы я научил его многим пр-ремудростям, которые должен знать настоящий фаэт. Гор Зем был замечательным товарищем. Скромный, деликатный, тихий, несмотря на свой раскатистый бас, он трогательно оберегал Аве и Маду. — В вас — будущее гр-рядущей цивилизации, — говорил он. Фаэтообразные после громового старта «Поиска» некоторое время, видимо, боялись фаэтов и не приближались к ним. Но постепенно страх забывался. Звери осмелели и не раз попадались Аве и Гору Зему во время охоты в лесу, даже похищали порой их охотничьи трофеи. Из предосторожности фаэты решили ходить только вместе. Этим и воспользовались фаэтообразные. В сумерки, когда Мада, оставшись одна дома, вышла к озеру за водой, три или четыре мохнатых зверя бросились к загороженным окнам и стали выламывать колья. Услышав крик ребенка, Мада встревожилась и побежала, расплескивая воду из самодельного сосуда, потом вовсе бросила его. Дверь дома была заперта, но крика Авлика за ней не было слышно. Мада распахнула дверь и похолодела от ужаса. Выломанные из окна колья валялись на полу. Ребенка не было. Смрадно пахло нечистоплотным зверем. Мада сразу узнала этот гнусный запах. Схватив что-то с полки и даже не закрыв за собой дверь, Маде выскочила в чащу, где метнулось что-то рыжее. Мада не отдавала себе отчета в своих действиях. Ее вело лишь материнское чувство, заменившее и отвагу, и силу, и даже холодный расчет. Чутье ей подсказало, что похитивший ее Авлика фаэтообразный зверь несет его к пещерам, чтобы там растерзать… Непостижимо, как она догадалась, каким путем побежит зверь, даже учла, что тот боится водных переправ. Сама она дважды перебралась через делавший петлю поток, прибежала к оврагу раньше похитителей. Самка Дзинь, прижимая к волосатой груди орущего ребенка, спрыгнула с дерева. Еще издали услышав крик своего сына, Мада бросилась ей навстречу. Могучий зверь непроизвольно повернул назад, но Мада одним прыжком настигла его. Тогда самка Дзинь обернулась и оскалила клыки. Мада смело пошла на мохнатого зверя, хотя ему, казалось, ничего не стоило переломить хрупкую противницу пополам. Но фаэтесса была сильна разумом. Мада не зря на мгновение задержалась в доме, схватив что-то с полки. У нее не было огнестрельного оружия, но она сжимала в кулаке патрон с серебристой пулей, стараясь не уколоться о ее коричневые усики. Самка Дзинь все еще не отпускала похищенное дитя. Она угрожающе протянула к Маде свободную лапу. Мада увернулась и, подскочив к Дзинь, ударила ее в грудь. Одного удара хрупкой фаэтессы оказалось достаточным, чтобы огромный зверь грохнулся на спину, лапы его свело судорогой, глаза закатились. Мада вырвала ребенка, не сразу заметив, что он тоже скрючился и затих. Она побежала, но дорогу ей преградили еще две фаэтообразные, которые сопровождали самку Дзинь в набеге. Мада бесстрашно бросилась вперед, одной рукой прижимая к себе окаменевшее тельце. Обе фаэтообразные одна за другой были повержены ее точными ударами. Они упали. Лапы их скрючились, морды перекосились. Мада бежала прежним путем, не переводя дыхания. Водяные брызги потока немного привели ее в себя. Потом в первый развзглянула на Авлика и закричала. Она осторожно положила на камни застывшее тельце и, сотрясаясь от рыданий, стала рвать на себе волосы. Кто-то тронул ее за плечо. Мада обернулась и увидела склонившегося к ней Аве. Он услышал в лесу ее крик и примчался сюда. Поодаль стоял готовый отразить нападение Гор Зем. Аве без слов понял все. — Как это случилось? — сдавленным голосом спросил он. Мада сквозь слезы рассказала о нападении фаэтообразных. Она шла рядом с Аве, прижимая к груди окаменевшего Авлика. До самого дома они не сказали ни слова. — Неужели нет противоядия? — заломив руки, воскликнула Мада, уложив ребенка на его маленькое ложе. Аве стоял у полки и пересчитывал боеприпасы. Потом обернулся к Маде: — Пусть Мада согреет скорее сына. К счастью, здесь не хватает не отравленной, а парализующей пули. От тепла Авлик быстрее придет в себя. Гор Зем старательно восстанавливал заграждение в окне. Первый крик очнувшегося Авлика был не меньшей радостью для Мады, чем его первый писк, не так давно раздавшийся в этом доме. — Значит, и фаэтообразные тоже очнутся, — заметила Мада. — Это плохо, — отозвался Гор Зем. — Пр-роведали сюда дор-рогу!Гор Зем оказался прав. Фаэтообразные совсем обнаглели и начали вести настоящую войну против пришельцев. Несколько раз звери открыто нападали на охотников, которым удавалось отбиваться лишь с помощью огнестрельного оружия. А запасы боеприпасов были невелики. Их едва ли могло хватить на несколько местных циклов. Гор Зем придумал приделывать пули к наконечнику копья, чтобы поражать зверей, не теряя пуль. Эту мысль зародил в нем отчаянный поступок Мады в схватке с самкой Дзинь. Аве настоял, чтобы пули были только парализующими, а не отравленными. Он не хотел истреблять фаэтообразных, коренных жителей Земы. Гор Зем недовольно ворчал, но в конце концов согласился. Однако эта мягкость фаэтов привела, пожалуй, к еще большей ожесточенности и настойчивости фаэтообразных. Сознание, что после схваток с пришельцами, лишь внезапно заснув, они остаются живы, развило в зверях чувство безнаказанности. Дело дошло до того, что стадо повело планомерную осаду дома. Охотники не могли выйти на промысел и вынуждены были каждый раз разгонять свирепых фаэтообразных, ожидавших за порогом. Гор Зем стал решительно настаивать на уничтожении врагов. — Аве прав, — возражала ему Мада. — Разве мы можем перенести на Зему страшные принципы несчастной Фаэны? Не фаэтообразные пришли к нам, а мы, незваные, — к ним. Может быть, можно найти с ними общий язык? — Р-разве? — удивился Гор Зем и задумался. Положение совсем ухудшилось. Фаэтообразные не походили уже на тех тупых, беспомощных зверей, которые впервые схватили пришельцев в лесу, чтобы сожрать живьем. Теперь ими словно руководила воля и мысль, внушенная кем-то более разумным. Они вели борьбу на уничтожение или изгнание фаэтов. Мада уже не могла выйти одна из дома за водой или золотыми яблоками. На нее всегда могли свалиться с дерева мохнатые туши, готовые задушить или растерзать. Пораженные парализующим оружием, они приходили в себя, чтобы назавтра напасть снова. Их наглое упорство было поразительно и, может быть, в самом деле рождалось чувством безнаказанности. Очевидно, звери могли понять только грубую силу и смертельную опасность. — Надо пер-ребить их всех, — решил Гор Зем. Но Мада и Аве не соглашались. — Лучше уйдем отсюда, — предложила Мада. — Это их место. Они вправе изгнать отсюда незваных гостей. — Р-разве уйдешь от них? — мрачно усомнился Гор Зем. — Помните, через верхний иллюминатор «Поиска» виднелись снежные горы? Мы уйдем туда, где фаэтообразным слишком холодно. Они не пойдут за нами. — Ты не имеешь пр-рава р-рисковать р-ребенком, — загромыхал Гор Зем. — Но в одном ты пр-рава. Кто-то должен уйти отсюда. Или фаэты, или фаэтообразные.
С этих пор Гор Зем стал часто исчезать из дома и возвращаться без обычных охотничьих трофеев. Аве и Мада не спрашивали его, куда он ходит, считая, что ему самому надлежит об этом сказать. А он тайком пробирался к оврагу с пещерами. Выбрав надежное убежище, он подолгу наблюдал жизнь фаэтообразных. Он приметил огромного мохнатого фаэтообразного, который, очевидно, был вожаком стада. Не он ли руководил войной с пришельцами? На редкость крупный и свирепый, он безжалостно расправлялся с каждым, кто не угождал ему. Однажды он страшно избил самку Дзинь, которую Гор Зем безошибочно узнавал среди других зверей. Однако не только сила возвышала его над всеми остальными фаэтообразными. Должно быть, мозг его был более развит, чем у остальных особей. У фаэтообразных еще не появилось разумной речи, но они все же общались между собой с помощью односложных звуков, отличающихся главным образом интонацией. Побитая самка Дзинь убежала из пещеры и наткнулась на притаившегося в чаще Гора Зема. В первый миг она испугалась, но потом молча присела неподалеку от него, ухватившись передними лапами за свои пятки, и стала издавать тихие, жалобные звуки. Видя, что самка Дзинь при виде его не поднимает шума, Гор Зем не ударил ее копьем с парализующим наконечником. У него зарождался безумный по своей дерзости план, и Дзинь могла пригодиться ему. И теперь каждый день, когда Гор Зем являлся в свое убежище, которое он выбрал между двумя сросшимися стволами деревьев, самка Дзинь уже ждала его там. Она стала как бы его сообщницей. Гор Зем ничего не мог объяснить ей. Но она поступала именно так, как он того хотел. Своим звериным чутьем она угадывала его желания. Несколько раз, когда кто-либо из фаэтообразных приближался к убежищу Гора Зема, самка Дзинь вскакивала, угрожающе кричала и жестикулировала, отгоняя непрошеного зверя. Скоро опасный план Гора Зема окончательно созрел. Он решил открыть его друзьям. Выслушав его, Мада решила, что у него новый припадок безумия, и предложила сделать ему укол и вызвать шок, который привел бы его в чувство. Но Гор Зем был непреклонен. — Р-решение одно, — твердил он. — Нужно пр-рогнать отсюда стадо, увести пр-рочь. Они пр-римут меня за своего. Я достаточно на них похож и знаю их привычки. С непокор-рными быстро справлюсь. Стану у них тир-раном, пр-равителем, диктатором. И с пользой для них. Научу их уму-р-разуму. Переубедить Гора Зема оказалось невозможным. Он считал задуманное им своим долгом друга. — Так пр-росто нам войны не выигр-рать, — говорил он. — Я уведу их в гор-ры. Когда они там обоснуются, я вер-рнусь к вам. У вас уже будет куча детей. Буду ваших р-ребят делать настоящими фаэтами. И Гор Зем стал собираться на свой подвиг, словно на прогулку. Собственно, ему нечего было брать с собой. Аве не мог отпустить его одного и решил поддержать его огнестрельным оружием из укрытия, если события повернутся не так, как рассчитывал Гор Зем.
Аве Мар шел, как того потребовал Гор Зем, на некотором расстоянии от него, чтобы не спугнуть самку Дзинь. Они крепко обнялись, выйдя из дому, и молча простились. А Мада плакала на пороге, провожая Гора Зема. Дзинь сидела в своей обычной позе. Она ждала. Аве издали наблюдал за странной сценой. Гор Зем, подойдя к фаэтообразному зверю, дружелюбно, даже радостно встретившему его, сбросил с себя костюм фаэта. Он был покрыт густыми волосами, но рядом с мохнатым зверем все-таки выглядел почти голым, хотя общими контурами тела, ростом, широкими плечами и сутулостью отдаленно напоминал фаэтообразных. В темноте его можно было бы спутать с ними, но, конечно, не днем и не в сумерки. Так, по крайней мере, казалось Аве Мару, страшившемуся за своего друга. Но тот, безоружный, бесстрашно пошел вместе с самкой Дзинь в овраг. Аве сжимал в руке пистолет, чтобы прийти на помощь Гору Зему, уже подходившему к той самой пещере, откуда он выручал своих друзей из плена. Аве видел, как встречавшиеся самке Дзинь фаэтообразные сначала не обращали на ее спутника никакого внимания. Потом заметили в нем что-то необычное и стали собираться по двое, по трое, чтобы разглядеть чужака с редкой шерстью, которого привела с собой самка Дзинь. Наконец вернулись с охоты остальные. Гор Зем в сопровождении самки Дзинь храбро подошел к ним. Самка Дзинь стала выкрикивать какие-то звуки, приседать, падать на камни и вскакивать. Должно быть, она объясняла, что создает новую семью, и представляла остальным своего избранника. Избранник не слишком понравился фаэтообразным. Крайний из них встал, бесцеремонно отодвинул самку Дзинь и ударил передней лапой чужака. Вернее, он только хотел ударить. Не успел он и дотянуться до него, как взлетел в воздух и грохнулся оземь в нескольких шагах. С рычанием он вскочил на четыре лапы и прыгнул на обидчика, как пятнистый хищник. Но чужак встретил его таким ударом, что тот с воем завертелся на камнях. Остальные отнеслись к происшедшему, казалось бы, с полнейшим равнодушием. Однако никто больше не посмел потягаться силой с новичком. Любопытно, что Гору Зему достаточным оказалось снять свою одежду, чтобы звери не узнали в нем былого врага и даже не отличили от себе подобных. Всходило солнце. Начинался великолепный рассвет, который так поразил фаэтов в первые дни пребывания на Земе. Но фаэтообразные не любовались им, они укладывались спать в своих пещерах. Только один особенно крупный зверь, с отталкивающей мордой, с вывернутыми ноздрями и торчащими изо рта коричневыми клыками, бродил от пещеры к пещере, словно проверяя что-то. Едва ли его разум был настолько развит, чтобы он на самом деле был способен что-нибудь проверять. Может быть, он просто бесцельно бродил от пещеры к пещере. Однако любой зверь, которого он заставал снаружи, спешил укрыться в темноте под сводами. Аве не покидал своего наблюдательного поста, боясь за судьбу Гора Зема. Он просидел так целый день, отлично понимая, как тревожится за него Мада. Он ждал и боялся встречи Гора Зема с вожаком. Вожак появился раньше других и гортанным криком стал сзывать других зверей. Фаэтообразные нехотя выбирались из своих убежищ, потягиваясь и зевая. Вышел и Гор Зем, который теперь по сравнению со всеми остальными выглядел чуть ли не щуплым. Вполне понятно, что звери косились на пришельца. Но он не стал ждать, пока кто-нибудь нападет на него, а сам проявил свой неуживчивый нрав. Ни с того ни с сего он напал на довольно безобидного фаэтообразного, ловко сбив его с задних лап и сбросив на дно оврага. Другой возмутился таким поведением новичка, но здорово поплатился за это. Гор Зем бурей налетел на него и, прижав к каменной стене, стал так бить его головой о камни, что тот взвыл. Тут рассерженный вожак решил призвать буяна к порядку. Он гневно зарычал, но на новичка это не произвело никакого впечатления, он сбил с лап и сбросил вниз еще одного зверя. Терпение вожака лопнуло. Он схватил увесистый камень и бросил его в бунтаря. Этого ни Гор Зем, ни Аве Мар никак не ожидали. Аве едва не выстрелил, целясь в вожака, но сдержался, увидев, что Гор Зем ловко уклонился от камня. Этому фаэтообразному известно применение орудий! Значит, по уровню развития он стоит выше обычного зверя! Аве не знал, как поступит Гор Зем, но тот не раздумывал. Он тоже схватил камень и куда удачнее послал его в противника. Вожак подпрыгнул и зарычал от бешенства, кинувшись к Гору Зему. Но тот и сам бросился навстречу врагу. Фаэтообразные сгрудились у каменной стены, наблюдая ожесточенную схватку. Огромный вожак, по сравнению с которым новичок был просто мелким зверем, подмял его под себя. И тут Аве осенило, как он должен поступить. Фаэтообразные взвыли от восторга при виде такого поединка и урока, который преподает вожак пришельцу. Из-за общего крика хлопок выстрела не был слышен. Аве не промахнулся, целясь в косматую спину вожака пониже могучей шеи. Гор Зем, придавленный тяжелой тушей, понял, что произошло. Словно продолжая схватку, он поднял на вытянутых руках тяжелого, сведенного судорогой врага и сбросил его с каменного уступа на дно оврага. Фаэтообразные загалдели, стараясь заглянуть вниз. Если сброшенные перед тем Гором Земом противники оправились от ушибов и благополучно поднялись на уступ, теснясь теперь в задних рядах стада, то вожак остался лежать недвижным. Аве сделал на Земе первый выстрел боевым патроном. Вожак был мертв. Самка Дзинь ловко спрыгнула на дно оврага и стала бешено выплясывать около поверженного тела. Гор Зем, раздавая тумаки и затрещины, а то и сбивая с задних лап, загнал всех фаэтообразных обратно в пещеры. Он отменил военный поход, очевидно объявленный его предшественником. Непостижимая сила чужака убедила зверей, что сопротивляться ему бесполезно. Аве подумал: «Тиран захватил власть. Теперь он станет обучать фаэтообразных пользоваться дубиной, сделает их охоту более удачной, стадо перестанет голодать и будет довольно своим новым вожаком». Так в стаде фаэтообразных появился голый вожак. Больше Аве и Мада ничего не могли узнать о Горе Земе. Но их самоотверженный друг сдержал свое слово — он увел куда-то стадо фаэтообразных. Больше мохнатые звери не досаждали одиноким фаэтам.
Глава шестая ЗАВЕЩАНИЕ ВЕЛИКОГО СТАРЦА
Поляр, прапраправнук первого изобретателя мариан Выдума Поляра, которого на Маре чтили наряду с Братом Луа, создателем первого пещерного убежища, унаследовал от своего далекого предка дерзкий и проницательный ум, чуждый всяческих запретов. Это был молодой марианин с красивым, спокойным и уверенным лицом, прямым подбородком и кудрявой головой на характерной для мариан длинной и крепкой шее. Он не признавал в жизни препятствий, готовый сокрушать их. Учился он легко и жадно, ставя учителей в тупик своими вопросами. Ему казалось, что перечитанные им письмена что-то утаивают, когда речь идет о происхождении мариан. Томе Поляр, надев скафандр, без которого мариане не могли дышать в атмосфере Мара, часто бродил по пескам пустыни. Он искал в горных отрогах подходящую пещеру для лаборатории. Мысленно он уже ставил в ней дерзкие опыты с веществом. Однако пока что у него ни приборов, ни пещеры для исследований не было. Когда-то первобытным марианам повезло. Они нашли в горах разветвленную сеть пещер с протекавшей по ним подземной Рекой Жизни. Вероятнее всего, его предки пришли из отдаленной области Мара, где прежде существовали другие условия: можно было дышать прямо в атмосфере и по поверхности планеты там текли реки (как сейчас в пещерах). Потому в легендах и говорилось о неправдоподобно больших водных просторах. Ведь в глубинном городе каждая капля Реки Жизни была драгоценностью. Воду даже получали искусственно, добывая нужные материалы из шахт, пробитых в дальних пещерах. Вода, наряду с найденным в недрах металлом, была основой марианской цивилизации. Из-за малого содержания кислорода в атмосфере металл был самородным. Это несколько смущало Томе Поляра. Ведь его далекие предки дышали прямо в воздухе. Однажды Томе Поляр наконец обнаружил удобную маленькую пещеру с узким входом, который легко было превратить в шлюз. Возбужденный и радостный, он спустился на песчаную равнину, чтобы оттуда прямым путем добраться до оазиса культурных растений, а дальше — в глубинный город. Томе Поляр в своей короткой жизни не знал иных пейзажей, кроме мертвых марианских песков. Они были его родными и казались прекрасными. Порой он пытался вообразить, идя по ним, что шагает по дну сказочного водяного моря древних мариан. Но его скептический разум брал верх над фантазией. Он не мог вообразить безусловно невозможного. Томе Поляр рассчитывал вернуться в город не один, а с Эной Фаэ, самой чудесной марианкой из всех существующих на планете. По крайней мере, такой она казалась Томе Поляру. Он знал, где найти ее, и направился к зарослям питательных растений, орошаемых водой глубинной реки. Из древних сказаний Томе Поляр знал, что у полюсов планеты вода будто бы есть даже на поверхности и при низком тепловом уровне скапливается там в виде твердого покрова. Временами же этот покров тает под лучами светила. Красивая сказка! Если бы она подтвердилась, мариане смогли бы когда-нибудь доставлять талую воду полюсов к своим оазисам. Но пока сказочные скопления твердой воды Мара если и существовали, то неимоверно далеко от глубинного города мариан. Местные растения показались бы жителям сказочной страны Фаэны чахлым кустарником. Но Томе Поляру они представлялись непроходимой чащей, в которой с трудом можно было различить несколько фигур в скафандрах. Все они могли показаться одинаковыми, но только не Томе Поляру. Он без труда узнал Эну, собиравшую плоды. Она была единственным существом на Маре, которому Томе Поляр мог доверить свои сокровенные мысли. И он решился на это именно сегодня. Вдвоем с Эной они смогут начать исследования в новой пещере и перевернут марианскую цивилизацию. Гибкая, несмотря на тяжелое одеяние, марианка собирала плоды. Томе Поляр подошел к кустам. Эна Фаэ узнала Томе Поляра и, сделав ему знак рукой, пошла за ним. Они не включали электромагнитной связи в шлемах скафандров, чтобы их голоса не стали слышны всем. Они понимали друг друга без слов. История любви Томе и Эны была трогательно проста. Их свел Великий Случай, словно выполнявший закономерную необходимость. Они встретились во время празднования конца учения. Молодежь танцевала и пела в одной из дальних пещер. Сталактиты каменными сосульками свисали со свода навстречу тянущимся к ним с пола иглам сталагмитов. Местами уже сросшись, они образовывали причудливые колонны, как бы подпиравшие свод. Освещенные так, что они казались почти прозрачными, эти пещерные колоннады, уничтоженные в других пещерах при возведении построек, делали место праздника молодежи волшебным. Молодые мариане веселились здесь от всей души, для забавы надевая на себя герметические шлемы скафандров, чтобы их нельзя было узнать. Томе Поляр умудрился увлечься своей партнершей по танцу, даже еще не увидев ее лица. Ему казалось, что оно должно быть прекрасным, настолько звучен и нежен был ее даже приглушенный маской голос. И когда Эна сняла свой шлем, она оказалась именно такой, как он ждал. Прямой, слегка скошенный назад лоб, продолжавший линию носа, удлиненные, чуть приподнятые к вискам глаза, рыжеватые волосы с тяжелым пучком на затылке, с трудом вмещавшимся в шлеме скафандра… Такова была его новая знакомая Эна Фаэ. Что-то было в ней от ее прабабки Алы Вег, о которой ни Томе, ни Эна не имели никакого представления. Любовь вспыхнула одновременно в молодых марианах, словно два факела были поднесены к огню. Молодые мариане прошли через приемный шлюз, который всегда вызывал недоумение у Томе Поляра. Зачем было делать его целиком металлическим (это при вечном голоде на металл!), округлым и вытянутым вверх, подобно древним небоскребам легендарной страны Фаэны. Может быть, первые мариане хотели поставить памятник красивой сказке? Конечно, Томе Поляр не разделял суеверий, утверждавших, что башня когда-то летала между звезд, ни от чего не отталкиваясь; легенда была рождена непривычной формой сооружения, служившего входным шлюзом в город. Настоящий памятник в городе был только один — Великому Старцу. Изваянный из сталагмита древний Старец стоял во весь свой огромный рост, с ниспадающей на грудь каменной бородой и загадочно-проницательными темными впадинами глаз. С годами на каменной скульптуре образовались новые натеки, которые как бы сглаживали (как в памяти) черты великого марианина прошлого, называвшего себя фаэтом. Памятник Великому Старцу стоял в Пещере Юных. Сюда и направлялись, освободившись от скафандров, Томе Поляр и Эна Фаэ. Казалось, ничто не могло встать между ними, помешать их светлой любви и счастливой совместной жизни. Однако Томе и Эне пришлось пройти через тяжелое испытание. У памятника Великому Старцу, по традиции мариан, давались клятвы любви и верности, а также выбирался труд, который отныне будущие супруги принимают на себя. На Маре молодые мариане сочетали сами себя узами брака, который, по их представлениям, никого другого не касался. Здесь влюбленные должны были объявить друг другу, какой жизненный путь они избирают. — Эна! — сказал Томе. — Нет большего счастья для меня, чем быть с тобой всегда не только в семье, но и на работе. Я хочу, чтобы ты была мне верной помощницей в научных исследованиях, которые я задумал. — Готова ли я для этого? — усомнилась Эна, восторженно смотря на избранника. — Мне будет достаточно, чтобы ты была рядом в нашей пещере-лаборатории. — В какой пещере? — оживилась Эна. — Нам дадут какой-нибудь малый зал? — Нет. Я нашел себе пещеру в горах. Мы сами оборудуем ее. Сделаем шлюзы и возьмем туда механизмы восстановления воздуха от запасных скафандров. — Но зачем это? — удивилась Эна. — Разве нельзя найти пещеру в глубинном городе? — Опыты, которые мы будем проводить, опасны. Мне никто не верит, но я подозреваю, что вещество склонно к распаду на еще более мелкие частицы, чем «неделимые», из которых состоит вещество. — Вещество склонно к распаду? — в ужасе переспросила Эна. — Да, я пришел к этой мысли. Конечно, это только научное предчувствие, не больше. Мы с тобой дадим здесь клятву обогатить мариан энергией распада. — Нет, — твердо сказала Эна Фаэ. — Ты безумен в своих стремлениях. — Но почему? Неужели ты встанешь в ряды тех, кто не понимает меня? — Слушай, что я скажу тебе как марианка. Нам, марианкам, вынашивающим в себе новые поколения мариан, завещан приказ Великого Старца, у памятника которому мы стоим. — Великий Старец завещал великую силу знания! Что же еще? — Иди за мной, — скомандовала Эна. Томе послушно пошел следом за ней. Эна повела его извилистым ходом. Круто спускаясь, он вывел их в сталактитовый зал, который, очевидно, находился как раз под залом Юности. Эна показала на свод: — Вот отсюда, как бы пройдя сквозь каменную толщу указующей рукой Старца, спускается сталактит. Он указывает на письмена. Под сталактитом действительно лежала каменная плита, сделанная из основания удаленного сталагмита. Наплывы на ней тщательно счищались. — Прочти! — приказала Эна. Некоторые места в надписи показались Томе Поляру особенно странными. — «Никогда мариане, потомки фаэтов, не должны касаться тех областей знания, которые привели к гибели прекрасной Фаэны. Никогда они не должны стремиться узнать, из чего состоит вещество, никогда не должны пытаться осуществить движение без отталкивания. В этих запретах — залог жизни грядущих поколений, которые надо избавить от горя из-за знания». Томе повернулся к Эне: — Какое нелепое суеверие! За что только этого старца могли назвать великим? Что общего между строением вещества и движением без отталкивания? Кроме того, решающим надо считать, в чьих руках находится знание. — Я слишком мало знаю, чтобы спорить с тобой, — сказала Эна, — но то, что известно сегодня благоразумным, завтра может стать достоянием совсем других. Потому соблюдение Запретов Великого Старца возложено на марианок. Этот наш долг превыше всего. Запретного никто не должен знать. — Как это так — превыше всего? — возмутился Томе. — Выше любви? Эна потупила глаза: — Да, мой Томе, даже выше любви. — Я не узнаю тебя! Томе Поляр не терпел возражений, в особенности если они не подкреплялись доводами рассудка. Все, что казалось ему необоснованным, он презирал и отвергал. Эти черты характера воспитали в нем с раннего детства его родители, которых он смутно помнил (он был младшим из девяти детей). Впоследствии эти черты развились благодаря выдающимся способностям Томе Поляра, позволявшим ему с насмешкой отклонять непонимание. Но не встретить отклика у своей избранницы было для Томе Поляра слишком тяжело. Он, избалованный судьбой, не хотел верить ушам. Помрачнев, он заносчиво сказал: — Я не ожидал, что любовь твоя так тускла, что меркнет при первой вспышке суеверия. — Ты должен дать клятву, — звонко потребовала Эна, и голос ее отдался под сводом пещеры. — Ты должен дать клятву, что никогда больше не будешь стремиться узнать тайну вещества, которое якобы склонно к распаду. — Как я могу дать такую клятву, если только к этому и стремлюсь! — Я думала, что ты стремишься ко мне… Томе Поляр опешил. Он готов был ждать в брачной церемонии с Эной Фаэ чего угодно, но только не этого безрассудного упрямства. Он не знал, что в его избраннице говорят поколения фаэтесс, заложивших в нее заботу о потомстве. Возможно, что страшная катастрофа Фаэны пробудила в изгнанницах, спустившихся на Мар, какую-то новую черту, которая должна была обеспечить жизнь мариан. Это выразилось в соблюдении Запретов Великого Старца, распространявшихся абсолютно на всех. Трагедия Фаэны не должна была повториться. Эна поняла, что Томе Поляра можно только убедить. Она села с ним рядом на камень близ сталактита с письменами и тихим, грустным голосом рассказала все, что знала от матери о гибели Фаэны. Но раздосадованный Томе Поляр не хотел слушать. Трагический рассказ марианки казался ему невежественной сказкой, полной бессмысленных предрассудков. Чего стоит только одно утверждение, что спасшиеся от гибели фаэты якобы прилетели со своей планеты в каком-то снаряде, который будто бы двигался, ни от чего не отталкиваясь. Кстати, возможный распад вещества совершенно правильно не связывался с подобным движением. Томе Поляр, убедившись, что Эна ставит выдуманный долг марианки, якобы спасающий население Мара от грядущих катастроф, выше своей любви к нему, решил, что она его не любит. Будучи вспыльчивым и самолюбивым, к тому же не признающим полумер, он порвал со своей возлюбленной и один ушел из сталактитовых пещер. Однако поступить так сгоряча оказалось куда легче, чем жить потом без Эны. Томе Поляр затосковал. Население глубинного Города Жизни (он назывался так по имени пещерной Реки Жизни) было не столь велико, чтобы Томе и Эна могли избегать друг друга. Напротив, они постоянно встречались, и Эна казалась Томе Поляру еще прекраснее. Он стал искать с ней встречи, но Эна была далекой и холодной. Во всяком случае, ей удалось создать у Томе Поляра такое впечатление. Томе Поляр страдал. «Она просто угнетена невежественными поверьями», — старался он оправдать перед собой Эну. Вскоре он убедился, что жить без Эны не может. К этому времени развеялись и мечты создать себе лабораторию в далекой пещере. У него не было сил одному оборудовать ее, а мариане, к которым он обращался за помощью, отказывались, ссылаясь на противодействие своих жен. По-видимому, те были в плену тех же нелепых заблуждений, что и юная Эна. Томе Поляр был в отчаянии. Древние предания сжимали его кольцом, словно перехватывая дыхательные трубки скафандра. Цивилизация на Маре развивалась своеобразно. Получив наследие более древней культуры, мариане в основном все силы отдавали не борьбе с представителями животного мира, поскольку атмосфера планеты была неблагодатной для развития иных видов, а борьбе с суровой природой. Жить можно было только в убежищах с искусственным воздухом, выходить на поверхность планеты в скафандрах. Растения хорошо прививались в оазисах, но их приходилось искусственно орошать, ухаживая за ними опять-таки в скафандрах. Борьба разумных существ между собой осталась только в памяти давних поколений, воплотившись в долге марианок. Эна, быть может, как никакая другая марианка, почувствовала всю тяжесть этого долга. Она страдала больше Томе Поляра, потому что могла отказаться от своего долга во имя любви. Но она не делала этого, ни на мгновение не усомнившись, что защищает от гибели все население Мара. И все-таки она первая позвала Томе Поляра в Пещеру Юных. Томе Поляр обрадовался. Он уже не рассчитывал на их общую клятву у памятника Великому Старцу. Он просто хотел видеть ее. Эна явилась к любимому во всеоружии хитрости всех своих прабабок, живших не только на Маре. Она прекрасно знала о его неудачных попытках оборудовать пещеру и изготовить задуманные им приборы. Она принесла с собой выращенный в оазисе цветок. — Разве не важнее сейчас все силы мариан отдать борьбе за воду? — говорила она, перебирая пальцами лепестки. — Я бы хотела, чтобы мой Томе (она сказала МОЙ ТОМЕ, и у него сладко сжалось сердце) смог заложить основу огромной работы будущего — создать глубинную искусственную реку, которая принесет талые воды полюсов к новым оазисам. Разве это не важнее, чем поиски условий распада вещества, запрещенные Великим Старцем? Листья, цветы, плоды!.. У Томе Поляра был живой ум. Ему было достаточно намека, чтобы представить себе грандиозные сооружения будущей ирригационной системы, столь же сказочной, как сказочны ледяные покровы полюсов. Кроме того, Томе Поляр готов был на все, лишь бы вернуть Эну. — Я сдаюсь, моя несравненная Эна, — сказал он, беря у нее цветок. — Пусть уж я лучше отправлюсь к полюсам в поисках талой воды, чем потеряю тебя. Так соединились Томе и Эна, преодолев легшую между ними преграду, и так похоронена была внезапно возникшая среди мариан идея о распаде вещества. Завет Великого Старца был выполнен.…На Фобо борьба за власть шла между Властой Сирус и Мраком Лутоном. Она закончилась в пользу непримиримой фаэтессы, когда Мрак Лутон, умело доведенный ею до сердечного припадка, скоропостижно умер. Вслед за тем неосторожно отравилась плодом, заботливо выращенным Властой в оранжерее, и Нега Лутон, не желавшая уступить первенства. Оставшиеся на Фобо его коренные жители Сирусы еще много циклов жили, опостылев друг другу. Когда Доволь Сирус в преклонном возрасте заболел, Власта, «желая облегчить его страдания», убавила поступление кислорода в его каюту, а потом «сердобольно» перекрыла кран совсем. Власта Сирус продолжала мемуары мужа и, доведенная до отчаяния, не имея подле себя никого, кем можно было бы повелевать, покончила с собой, выбросившись без скафандра в космос. Ее окоченевший труп, сохраненный абсолютным холодом межпланетного пространства, стал вечным спутником станции Фобо и был обнаружен миллион или более земных лет спустя.
Эпилог ГОВОРЯЩИЙ ЗВЕРЬ
О предки, предки! Кто вы?Тони Фаэ, первый поэт мариан(ранний период творчества)
Ав не достиг зрелости и все еще носил усеченное имя отца, а его младший брат — детское имя Авик. Ав был стройным и сильным мальчиком, походил на отца, унаследовав его длинную и крепкую, как ствол дерева, шею, кудрявую голову и решительный, раздвоенный ямкой подбородок. Чуть приподнятые брови и ясный взгляд делали его лицо спокойным и пытливым. Он любил носить шкуру пятнистого хищника, перекидывая его зубастую голову через плечо себе на грудь. Ав стал первым помощником отца, которому все труднее было прокормить охотой большую семью. Ав ловко владел луком, без промаха пробивал любую ветку на дереве, сам сделал себе острый каменный нож, который был ничем не хуже отцовского, металлического. Владел он и копьем с острым, им самим обработанным каменным наконечником. У него был еще и сменный металлический наконечник с серебристым острием и коричневыми усиками. Он не знал, откуда отец взял такой диковинный наконечник, и берег его для особо трудных поединков, когда требовалось метким ударом сразить опасного врага. Мать предостерегала его от этих схваток и никак не могла приучить себя к тому, что сын постоянно подвергался опасностям в лесу на охоте. Но мальчик только посмеивался, восхищая сестру Ма. Однажды с дерева на него свалилось огромное пресмыкающееся с длинным могучим телом без лап. Оно несколько раз обвило юношу, сдавив в смертельном объятии. Ав охотился один, вдали от отца, кричать было бесполезно, да и невозможно, он не мог даже вздохнуть. Тогда он поступил, как учил его отец: напряг все мышцы, не давая змее, обвившей его, раздавить ребра. Борьба была молчаливой. Мальчик понял, что погибает. Не раз наблюдал он из зарослей, как змея душила свои жертвы. Мальчик не знал, долго ли он выдержит. Раздался хруст: переломилось копье, прижатое вместе с рукой к его боку. Зубастая мертвая голова пятнистого хищника, перекинутая через его плечо, служила Аву своеобразным карманом или сумкой. Там между челюстями хранился запасной наконечник копья. Если бы дотянуться до него! Змея, обвившись вокруг его тела, перекатывалась вместе с ним по земле. Мальчик все еще был жив, через силу напрягая готовые сдать мышцы. При этом он старался улучить миг, когда пасть хищника на шкуре окажется обращенной к земле. К счастью, змея сама переворачивала жертву, чтобы измотать ее. Надежда Ава оправдалась — запасной наконечник копья выпал. Он видел его совсем близко, но не мог дотянуться сдавленной рукой. Временами змея ослабляла свои кольца, чтобы обмануть противника, дать ему расслабиться и потом сдавить с новой силой. Ав улучил мгновение, когда смог шевельнуть кистью руки, и ухватил в траве наконечник с острыми усиками на конце. Тут змея, видимо, решила разом покончить с сопротивляющейся добычей и сжала кольца так, что Ав потерял сознание. Когда он пришел в себя, то почувствовал, что по-прежнему сдавлен длинным мускулистым телом, но оно не пульсировало, как во время борьбы. В мертвой его хватке было действительно что-то мертвое. Оказывается, даже без сознания Ав продолжал напрягать свое тело, сопротивляясь сжатию. Теперь он расслабился, стараясь стать возможно тоньше, и стал постепенно выползать из застывших колец мертвой змеи. Так, уцелев и победив в единоборстве страшную змею, Ав мог к своему совершеннолетию получить имя, связанное с этой победой. Но пока что он был мальчишкой, смелым, ловким и пытливым, но мальчишкой, которому лишь предстояло стать мужчиной. Он мечтал об этом времени, развивая в себе отвагу и силу. Хотя он и стал охотником, он все же рос добрым и никогда не убивал зверей без крайней нужды. Ему доставляло наслаждение любоваться с дерева, как резвятся маленькие зверята около своего логова. Это были четырехлапые зубастые звери, не умевшие лазить по деревьям. У них были длинные морды, стоячие уши и пушистые хвосты. Нападали они только на мелких зверей. Однако в случае надобности стаей вступали в бой и с крупными обитателями леса. Это навело Ава на мысль, что хорошо бы приручить таких зверенышей. Ведь отец рассказывал о домашних ящерицах на Фаэне, которая представлялась Аву далекой, сказочной страной, откуда, как птицы, прилетели его родители. Маленькие зверята резвились на лужайке, хорошо видимой Аву с верхушки дерева. Серенькие комочки катались по траве, кувыркались, рычали и без конца боролись между собой. Или гоняли без устали по поляне друг за другом. Ав присмотрел себе щенка. Спрыгнул вниз не хуже змеи и ухватил перепуганного звереныша. Тот царапался и кусался, но Ав прижал его к груди и побежал, уткнув его зубастую мордочку в шкуру пятнистого хищника, которой прикрывался. Он принес притихшую от тепла его тела добычу домой, накормил и стал приручать зверька. Мать очень удивилась его поступку. Младшие братья и сестры были в восторге. Маленький звереныш играл с ними. Он быстро подрастал и привязался к Аву. Видимо, он был нисколько не хуже домашних ящериц Фаэны. Ав решил научить подросшего щенка охотиться вместе с ним. Отец смотрел на его затею с усмешкой, но не препятствовал опытам сына. Ав назвал своего будущего четырехпалого помощника Динг.
Несчастье случилось после того, как Аву присвоили на домашнем торжестве имя в честь его победы над змеей — Змей. Змей настоял, чтобы мать отпустила вместе с ним на охоту Авика. Ему уже пора становиться помощником-добытчиком. Младший брат был вне себя от радости, готовый всюду следовать за старшим. Разумеется, Дингу предстояло сопровождать их. Обладая изумительным нюхом, он чуял добычу даже раньше, чем Змей замечал ее.
…Вернулся с охоты Змей один. Мать рвала на себе волосы и в исступлении крикнула ему: — Ты убил его, убил моего Авика! Змей побледнел при этих словах. Они были несправедливы. Змея нельзя было обвинить в таком преступлении, хотя какая-то часть вины и лежала на нем. Братья шли по лесу. Динг бежал впереди. Вдруг он остановился и зарычал. Шерсть на нем поднялась дыбом. И в то же мгновение на него сверху свалилась огромная мохнатая туша. Змей только слышал от отца о фаэтообразных, которые в раннем детстве похищали его. И вот теперь зверь, похожий на тех, кого описывал отец, схватил Динга. Тот завизжал, потом захрипел и замолк. Мохнатый зверь помчался, унося свою добычу. Змей, не подумав о брате (в этом была его страшная вина!), кинулся преследовать похитителя. Все же зверь был проворнее. Однако Змей обладал характером настойчивым. Он не хотел и не умел отступать, как в свое время юная Мада Юпи, его мать. Острым охотничьим чутьем он отмечал, где пробежал зверь. Пусть медленнее, чем беглец, но он безошибочно шел по его следам. Змей обнаружил мохнатого зверя под раскидистым деревом, где тот вообразил себя в безопасности и пожирал бедного Динга. Бешеный гнев овладел Змеем. Он даже не выпустил стрелу. Ослепленный яростью, не в силах сдержать себя, он бросился на него и застиг врасплох. Зверь оказался не таким большим, как почудилось Змею вначале. Змей был много сильнее, а главное, опытнее своего противника. Кроме того, он знал отцовские приемы борьбы. Наглый зверь был повержен и беспомощно лежал рядом с изуродованным трупом Динга, которого не успел сожрать. Змей готов был прикончить врага, как вдруг тот сказал: — Р-разве р-разумные убивают лежачих? Змей отскочил и в ужасе спросил: — Кто ты, говорящий зверь? — Я — р-разумный ср-реди земян. Зверь говорил на родном для Змея языке фаэтов, но с непривычным раскатыванием звука «р». Но все же он говорил. Ошеломленный Змей отпустил говорящего зверя. Ему хотелось расспросить его, откуда он, кто научил его языку фаэтов? Но зверь, назвавший себя разумным и умевший говорить, был к тому же еще и хитер. Едва Змей отпустил его, готовый продолжать беседу, как его мохнатый противник вскочил на задние лапы, подпрыгнул и оказался на нижней ветке дерева. Через мгновение он исчез в листве. Обескураженный Змей сначала бросился в погоню за своим собеседником, но потом остановился в глубоком раздумье. И только теперь он испугался за брата Авика: что с ним? Должно быть, мальчик отстал, пока он гнался за говорящим зверем. Глуша тревогу, Змей побежал обратно по едва заметным следам, которые привели его сюда. Змей мог пробегать огромные расстояния, не задыхаясь. Но сейчас он чувствовал, что ему не хватает воздуха, легкие готовы были разорваться, а сердце выскочить из груди. И все-таки он не сбавил бега, пока не добрался до злополучного места, где был похищен бедный Динг. Опытному глазу молодого охотника сразу стала ясна разыгравшаяся здесь драма. Авик показал себя настоящим фаэтом, хотя и был еще мальчиком. Судя по следам схватки, он отчаянно сопротивлялся. Но напавших было много, и они справились с мальчуганом. Змей нашел путь, каким они унесли его. Долгое время он преследовал похитителей, пока не убедился, что время упущено и догнать их невозможно. На лес спустились сумерки, и, спотыкаясь о корни, Змей в полном отчаянии побрел домой. Руки его бессильно свисали вдоль тела, голова упала на грудь. Так он вернулся в этот трагический день домой один и обо всем рассказал матери.
…Мада обезумела от горя и крикнула, будто он убил Авика. Она имела в виду, что он ответствен за гибель брата, но гордый Змей вспылил. Может быть, в нем взыграла кровь не только матери, но и деда. Он был уязвлен брошенным ему обвинением. Если мать способна была на такой упрек, то он уйдет в пещеры и будет отныне жить отдельно. Мада была слишком убита горем, чтобы опомниться и удержать сына. Она лежала на пороге дома с распущенными волосами и через пелену слез и вечернего тумана, напоминавшего утраченную Фаэну, видела, как скрылся за деревьями ее любимый первенец. Но ей грозила еще одна утрата. Мимо нее проскользнула гибкая фигурка старшей дочери Ма. Девушка, не раздумывая, пошла следом за Змеем. Вернувшись с охоты ночью, Аве был поражен унынием, с которым встретили его домашние. Узнав о двойном несчастье — гибели Авика и уходе из дома старших детей, Аве помрачнел, запустив руку в густую седеющую бороду. — Пусть я не права, и, конечно же, я не права, — говорила Мада мужу. — Как Змей и Ма сумеют прожить одни? Ты должен вернуть их. — Это необходимо сделать, — ответил Аве. — Им одним не отбить нападения фаэтообразных, возобновивших войну с нами. И первая добыча, наш бедный Авик, только усилит их ярость и упорство. — Я не хочу этому верить! — запротестовала Мада. — Если Гор Зем так долго жил с ними и кое-чему научил их, они могли похитить нашего Авика, чтобы он тоже учил их. Но Змея и Ма ты должен вернуть. — Я найду их, — пообещал Аве и задумчиво добавил: — Хорошо, если ты права в отношении Авика. Как истинно мужественный фаэт, он старался не показать жене виду, как убит всем случившимся. — Заботит меня этот говорящий зверь. — У меня на него вся надежда! — подхватила Мада. — По словам Змея, он говорит так, как говорил наш незабвенный друг Гор Зем. — Это меня и беспокоит. — А меня радует. Ведь чувство благодарности было не чуждо даже самке Дзинь. Говорящий зверь, кто бы он ни был, может спасти Авика. — Это, наверное, ученик Гора Зема. Ты сама говорила, что Гор Зем, став вожаком, стремился многому обучить зверей. — Но почему они вернулись? Может быть, Гора Зема уже нет в живых… Он или не допустил бы их сюда, или пришел бы к нам. — Кто знает, что случилось за эти долгие годы с нашим другом… — вздохнул Аве Мар. — Может быть, им нужен новый вожак и они пришли за фаэтом? — сказала Мада. — Я найду Змея, и сним вместе мы отыщем новое стойбище фаэтообразных. Может быть, встретимся с Гором Земом или даже с нашим уцелевшим Авиком. В крайнем случае поймаем кого-нибудь из говорящих зверей и расспросим. Однако Аве не удалось осуществить свой план. Змей и Ма ушли куда-то очень далеко. В ближних пещерах их не оказалось. Хорошо, если они не стали добычей фаэтообразных. Может быть, где-то в другом лесу они положили начало новой стоянке потомков фаэтов на Земе. Оскорбленный охотник не простил матери ее упрека, хотя в какой-то степени и заслужил его. Ничего не известно было и об Авике. Жизнь семьи Аве и Мады продолжалась. Словно на смену погибшему Авику и ушедшим детям у Мады родились близнецы, мальчик и девочка, и мать ушла по горло в заботы о них. Да и других забот у нее было более чем достаточно. Она готовила пищу на всю семью, вместе с младшими дочерьми выделывала шкуры, чтобы сшить с помощью сухожилий примитивную одежду и обувь для подрастающих детей и для себя с Аве. Нужно было собрать лекарственные травы, в которых Мада уже знала толк не только потому, что была когда-то Сестрой Здоровья. Она выхаживала всех членов своей большой семьи. Не оставалось времени помогать Аве в охоте. После трудового дня в спустившейся темноте, поддерживая огонь в очаге и растирая каменным пестиком в каменной ступке собранные за день зерна, Мада рассказывала детям сказки. Она ничего не выдумывала, она просто вспоминала свою жизнь на Фаэне. Но для маленьких земян, живших в дремучем лесу, рассказы о домах, достающих облака, или о самодвижущихся комнатах, поднимавшихся даже в воздух как птицы, и даже об управляемой звезде, на которой родители спустились на Зему, звучали удивительной, несбыточной и невозможной сказкой. Эти сказки о невозвратном прошлом слушал сквозь дремоту свалившийся от усталости на ложе и Аве Мар. Он слушал и не мог понять, снятся ли ему фантастические сны или он вспоминает под влиянием слов уже седой, но все еще прекрасной Мады давно забытые картины. И под мерный рокот бесконечно любимого голоса первый фаэт на Земе задумывался о том, что ждет его детей и внуков. Вернутся ли сюда фаэтообразные? Неужели отпущенный на свободу Змеем говорящий зверь в благодарность за это не только спасет Авика, но и уведет отсюда фаэтообразных, как это сделал когда-то Гор Зем? Или нет уже в живых ни Гора Зема, ни Авика, и война с фаэтообразными возобновится? И кто выживет в этой схватке? Кто заселит планету разумной расой: потомки фаэтов или потомки фаэтообразных? В процессе развития они станут походить на теперешних фаэтов. Или закон развития всего живого надо рассматривать шире, чем думали на Фаэне. Распространить его с одной планеты на все населенные миры! Всюду могут появиться разумные существа и могут переселяться на те планеты, где разумные еще не успели появиться. Они вступят там в борьбу с менее развитыми. Не в этом ли смысл всеобъемлющего закона борьбы за существование, в котором Разум должен иметь преимущество? И Аве решил историю своей семьи выбить письменами на скале в горах, куда ходил охотиться. Когда-нибудь его разумные потомки прочтут запись. Но на кого они будут походить?
Книга вторая СЫНЫ СОЛНЦА
Нет ничего выше и прекраснее, чем давать счастье многим людям!Людвиг ван Бетховен

Часть первая МИССИЯ РАЗУМА
И ветвью счастья и цветком любви украшен Древа Жизни ствол. Но корни!.. Без них засохнет ветвь, падут цветы. Мечтай о счастье, о любви и ты, но помни: корень Жизни — ДОЛГ!Тони Фаэ, первый поэт мариан(ранний период творчества).
Глава первая СЕРДЦЕ НЕБА
Звезды были так ярки, что казались совсем близкими. Особенно самая блистательная из них. Вечерняя Звезда (Тлау-ицколь-пентакаухтли). Она единственная из всех ночных светил даже ночью отбрасывает тени. Если долго глядеть на нее, можно рассмотреть не просто сверкающую искру драгоценного камня в головном уборе бога Ночи, но и крохотный горящий диск, его глаз. Порой он суживается, становясь изогнутым как лезвие ножа для резки сладких стеблей. Однако видеть это дано лишь зорким жрецам-звездочетам. Главный из них Толтекоатль (Змея Людей) в известные только ему ночи поднимался на вершину ступенчатой пирамиды, возвышавшейся над городом Толлой. И оставался наедине со звездами, в расположении которых умел читать будущее, исходы войн, славу или позор вождей. Великий Жрец носил искусно сделанную прическу, внушавшую ужас: его волосы, склеенные кровью жертв, были уложены в виде змеи, имя которой он носил. Его огромный крючковатый нос нависал над выпяченной верхней губой и непропорционально маленькой челюстью. Глаза с недобрым блеском были приподняты к вискам, а брови повторяли линию скошенного назад лба — след заботы о будущей красоте новорожденного, череп которого зажимался специальными дощечками. Самый младший сын Гремучего Змея — Верховного Вождя Толлы — не удостоился подобных забот. Будучи седьмым (да еще от побочной жены, бывшей рабыни) ребенком, он не мог претендовать на наследование власти, и его череп оставили без изменений. К тому же его волосы не были черными, как подобает вождю, а светлыми. И потому, уже став юношей, Топельцин, сын Верховного Вождя, многим казался безобразным: длинное лицо, высокий лоб, прямой нос и волосы цвета выгоревшей ткани. Однако девушка Шочикетсаль (Мотылек) была иного мнения. Гремучий Змей (Мишкоатль) совсем не казался ей привлекательнее своего сына, хотя нос его и был горбат, волосы, роскошно украшенные яркими перьями, благородно черны, лоб великолепно скошен чуть ли не под прямым углом к линии носа, а нижняя челюсть безукоризненно мала. Шочикетсаль, тайная дочь Верховного Жреца, с удлиненными темными огненными глазами, иссиня-черными блестящими волосами и в меру скошенным лбом, была красой своего племени. В ту звездную ночь, когда ее отец на безлунном еще тогда небе открывал будущее, глядя на звезды, Мотылек и Топельцин под этими же звездами нашли свое счастье. Для Топельцина не было в Толле девушки желаннее, чем Шочикетсаль. Молодые люди поклялись друг другу в нежной любви и не знали препятствий, мешающих их браку и вечному счастью. Топельцин видел в Мотыльке воплощение женственности, восхищался ее царственной красотой, но в то же время угадывал под этой мягкостью свирепость ягуара, в любой момент способного на смертельный для жертвы прыжок. Но Мотыльку не нужны были жертвы. Они были нужны ее отцу. И в эту ночь… Змея Людей считался знатоком звезд и особенно одной — Провозвестницы людских бед, которую жрецы называли Сердцем Неба. Эта звезда раз в семь лет из тусклой звездочки превращалась в ослепительное светило, не уступающее самой Вечерней Звезде — Тлау-ицколь-пентакаухтли. Ее светящийся диск, зловещий блеск которого предвещал скорый Удар Сердца Неба, удар, содрогающий Землю и приносящий неисчислимое горе людям. Верховный Жрец, глядя на Сердце Неба, уже не раз предсказывал землетрясения, наводнения и голод. И всякий раз, когда его прорицания сбывались, еще больше укреплялась его власть над людьми. И вот Сердце Неба снова грозно разгоралось. Приближались дни Великих жертв, призванных смягчить яростный гнев бога Небес. Змея Людей, не ожидая рассвета, стал спускаться по высоким, достававшим ему до бедра ступеням, направляясь во дворец Верховного Вождя. Гремучий Змей не обрадовался ночному визиту жреца, но был вынужден во всем блеске выйти в освещенный факелами зал, устланный коврами из птичьих перьев. Он сел в желтое кресло, металл которого в отличие от камня не тускнел, как и слава Гремучего Змея.
Об этом чудесном свойстве металла и сказал Змея Людей, льстиво приветствуя владыку. — Однако не для того, чтобы сказать об этом, ты пришел сюда, жрец, забыв об отдыхе, необходимом твоему хилому телу. — О владыка смертных, перед которым трепещут все варварские племена, грозящие Толле с севера, и юга. Настал день Большого Пророчества. Ничтожный жрец прочитал по звездам будущее. Оно ужасно! — Великие охотники не боятся шипения змей, — усмехнулся Верховный Вождь. — Угроза исходит не от Змеи Людей, а от Сердца Неба. Близится его страшный удар, от которого содрогнется весь мир. Надо умилостивить богов. — Чего же хочет ненасытный жрец, волосы которого окаменели от пропитавшей их крови? — вспылил владыка. — Опять войны? — Только дальновидный вождь мог сразу угадать истину! Нужна война, и пусть загрохочут боевые барабаны. Гремучий Змей вернется с вереницей рабов, связанных одной веревкой. — Старость и страх лишили жреца рассудка. Гремучий Змей не желает верить пустым гаданиям. Живя в мире, владыка смертных построил здесь город дворцов и храмов с улицами прямыми, как лучи солнца. И он не поведет на смерть своих воинов, чтобы разгневать умиротворенные племена и вызвать их ответный удар, от которого когда-нибудь падет великолепная Толла. — Пусть не гневит богов мудрый, но безумный вождь! Скоро он сам будет молить жалкого жреца о заступничестве, когда несчастья страшнее всех набегов обрушатся на Толлу и подвластные ему земли. Не так ли было семь лет назад? Смиренный жрец оказался прав. Но тогда Гремучий Змей еще не был так заносчив и послушно приводил к священной пирамиде пленных, захваченных в боях. — Вождь проливал кровь вооруженных людей в бою, а жрец взрезает грудь беззащитных рабов, которые могли бы трудиться для его же богов, воздвигать пирамиды или строить дороги для народа Толлы, очищать леса для новых посевов. — Пусть опомнится вождь! — Гремучий Змей не пойдет войной на соседей. И не позволит никому, даже Великому Жрецу, подрывать основы государства, созданные трудом всей жизни владыки смертных. — Гремучий Змей пожалеет об этом, хотя он и равен богам на Земле, — процедил сквозь редко посаженные зубы Великий Жрец и, пятясь, вышел из зала.
…Следующий день был ясным и солнечным, хотя утром внезапно разразилась гроза. Люди собирались на главной площади города Толлы у подножия пирамиды храма бога Неба. Глашатаи возвестили, что Великий Жрец провозгласит Скорбные Пророчества. Топельцина, жившего в одной из задних комнат дворца, разбудили крики на площади. Он быстро оделся и даже без обычного убора из черных перьев, прикрывавших его светлую голову, вышел на площадь. Толпа бурно приветствовала своего любимца. Он был кумиром всех, кто увлекался священной игрой в мяч. Топельцин не стал прославленным воином, поскольку его отец давно не вел войн, но в ритуальных игрищах своей необыкновенной выносливостью, силой и меткостью заслужил славу первого игрока. Он давно бы стал вождем игрового отряда, если бы не был сыном Гремучего Змея. Столь знатному юноше не подобало рисковать своим сердцем, которым расплачивались вожди проигравших. Топельцин рассеянно смотрел поверх голов, отыскивая единственное лицо, которое ему больше всего хотелось бы увидеть. Мотылек тоже проспала в это утро, и ее разбудил шум на площади. Она подбежала к дворцу, увидела Топельцина и стала протискиваться к нему. Вскоре она добралась до любимого. Незаметно держась за руки, они стали пробираться к пирамиде, чтобы яснее услышать слова прорицания. Оно могло быть только самым счастливым. Так сказали им звезды. На вершине пирамиды появился Великий Жрец. Снизу казалось, что голос Змеи Людей вещает прямо с неба: — Горе людям Толлы, горе! Великие несчастья надвигаются на них. Пусть бегут былые любимцы богов от огненных рек, которые вырвутся из жерл дымящих гор, спасаются от бурлящих рек, что выйдут из берегов, пусть плачут обездоленные над возделанными полями, которые нечем будет напоить. Пусть готовятся все изнывать от зноя и жажды, умирать от голода. Нет больше благодатных войн, которые обогащали людей Толлы и приводили к жертвенным камням пленных, чьи горячие сердца были угодны богам. Ныне все не так! И боги не прощают их забвения. Горе людям Толлы, горе! Стон прошел по толпе. Множество горестно воздетых рук заколебались в воздухе, как тростник на ветру. Великий Жрец продолжал: — Ничтожный заступник тех, кто чтит богов, умолял бога Неба смилостивиться над людьми Толлы, он обещал ему богатую жертву в десять тунов горячих сердец. Но как слабому жрецу, бескорыстно любящему людей Толлы, выполнить это обещание? Доблестные воины Толлы ныне сладко отдыхают на коврах из птичьих перьев и пьют дурманящую пульке, погружаясь в «калан». Недостойный жрец решил призвать десять раз по двадцать юношей, чтобы они добровольно отдали свои сердца богу Неба, спасая тем свой народ от великих несчастий. Пусть прекрасные юноши сейчас же взберутся на первую ступень пирамиды, и завтра в полдень, когда солнце заглянет сквозь священное отверстие в крыше храма, чтобы полюбоваться подвигом героев, они один за другим взойдут на жертвенный камень, переходя с него на небесную твердь. Снова стон прошел по толпе. Топельцин и Мотылек взглянули друг на друга. Потом они перевели взгляд на первую ступень пирамиды, куда должны были взобраться двести самых сильных и прекрасных юношей. Мотылек, словно боясь чего-то, крепко сжала мизинцем палец Топельцина, а тот прошептал: — До каких пор будет существовать этот позор людей, недостойный даже ягуаров? Девушка испуганно посмотрела на его каменное лицо. Великий Жрец терпеливо ждал, с презрением смотря вниз, потом воскликнул: — Слабый заступник смертных знал это! Люди отдают свои сердца не сами, а по выбору богов. Змея Людей запросил богов и получил ответ. Возрадуйтесь! Десять тунов молодых сердец может заменить на не тускнеющем от крови блюдце одно только сердце, если оно принадлежит самому красивому, самому сильному, самому знатному юноше города Толлы. Топельцин чувствовал, как дрожит рука Мотылька. Он с улыбкой повернулся к ней: — Он сказал «самому красивому», значит, с черными волосами и скошенным лбом. Шочикетсаль кивнула. — Преданный людям Толлы их заступник запросил богов, кто угоден им, — продолжал Великий Жрец. — И они ответили: тот, кто любим в городе больше всех, кто сумел показать свою силу и ловкость, даже когда нет войн, кто по родству ближе всех к самому могущественному человеку Толлы. И третий раз застонала толпа. — Топельцин признан счастливейшим из смертных! — гремел голос жреца. — Его избрали боги. Только его сердце может заменить целых десять тунов сердец его сверстников. Топельцин и Мотылек почувствовали, как отхлынула от них толпа. Теперь они стояли вдвоем перед грозной каменной громадой. Одетые во все черное жрецы уже спешили к Топельцину. До завтрашнего полдня он будет первым человеком Толлы. Великий Жрец и Верховный Вождь станут униженно прислуживать ему на вечернем пиршестве, которое устроят в его честь. Его оденут в лучшие одежды, перед ним будут танцевать искуснейшие танцоры, прекраснейшие девушки Толлы станут его наложницами. Мотылек в ужасе смотрела на Топельцина. Он стоял как гипсовое изваяние, недвижный и бледный. Жрецы в черных хламидах оттеснили Мотылька от Топельцина и водрузили ему на голову великолепный убор из драгоценных перьев. Заботливо и цепко взяли жрецы избранника богов под локти и повели через живой коридор из павших ниц людей Толлы. Только Мотылек осталась стоять. Она крикнула: — Шочикетсаль разожжет сейчас гнев владыки Толлы, если ему дорог сын. И он будет умолять своего отца пощадить ее любимого. Топельцин обернулся и в последний раз улыбнулся ей. Мотылек кинулась во дворец к Гремучему Змею. Он уже знал все, но на его мрачном лице ничего нельзя было прочесть. Жизнь одного человека (даже его собственного сына) слишком мало значила в борьбе с жрецами. Старый вождь сказал: — Пусть не горюет девушка. Владыка смертных обещает, что она станет женой его сына. Мотылек просияла, как Вечерняя Звезда. — Шестого, — добавил Гремучий Змей. — Горе Великому Жрецу, если не исполнятся его предсказания. Не помня себя девушка бросилась к пирамиде, чтобы добраться до своего отца. Но женщинам не разрешалось подниматься по священным ступеням, и жрецы не пустили ее. Тогда она стала требовать, чтобы и ее принесли завтра в жертву богам! Ведь Великий Жрец призывал желающих отдать свои сердца. Жрецы молчали. Всю ночь простояла Мотылек у нижней ступени пирамиды. Она слышала шум пира, доносившийся из дворца. Она с ужасом думала, что во главе пирующих сидит ее Топельцин и что его ласкают красивейшие девушки Толлы. Горе и ревность одновременно терзали несчастную Шочикетсаль. Гордость не позволяла ей стать наложницей избранника богов. Но никто не помешает ей взойти с ним на жертвенный камень. Таков закон богов. Жрецы молчали, но она добилась того, что оказалась у самого основания пирамиды. Люди многозначительно переглядывались, указывая на нее. Она не знала, что ее прекрасные волосы, прямые и иссиня-черные, стали совсем белыми. Но лицо Мотылька было по-прежнему молодо и прекрасно. Седые волосы лишь оттеняли ее красоту. Сам Великий Жрец, увидев, что произошло с его дочерью, возвестил, что бог Неба одарил ее серебром своих звезд и этим отверг ее желание принести себя в жертву вместе с Топельцином. Закон богов был нарушен — Змея Людей, несмотря на свою жестокость, все-таки любил свою дочь. Солнце неуклонно приближалось к роковой для Топельцина точке на небосводе. Жрецы в черных одеждах торопили юношу, ведя его к пирамиде. На нем уже не было роскошных одежд, а его обнаженное тело покрывала лазоревая краска. Он шел с высоко поднятой головой среди толпы, лишь вчера преклонявшейся перед своим кумиром, а теперь безропотно отдавшей его жрецам. При виде Мотылька с волосами еще более светлыми, чем у него, он удивленно раскрыл глаза и замедлил шаг. Но жрецы стали грубо толкать его к священным ступеням. К счастью, бедная Мотылек не видела, как подвели Топельцина к жертвенному камню, как повалили его. Четыре жреца вцепились в его руки и ноги, оттягивая их вниз. Светловолосая голова юноши откинулась назад, его широкая грудь выпятилась. Для Великого Жреца Змеи Людей не было большего наслаждения, чем распластать острым ножом натянутую кожу, запустить руку в рану, вырвать бьющееся сердце и поднять высоко над головой. Змея Людей с хриплым счастливым криком бросил на золотое блюдо окровавленное, но все еще пульсирующее сердце. Жрецы торопливо столкнули лазоревое тело с крутого склона пирамиды, и оно полетело вниз, ударившись о мощеную площадь. Толпа шарахнулась в стороны, а неизвестно откуда выскочившие жрецы в черных балахонах схватили тело и утащили его в глубину пирамиды.
Глава вторая НЕБЕСНАЯ СТРАННИЦА
Я, Инко Тихий, носивший впоследствии имена Кетсалькоатля и Кон-Тики, предпослал рассказ о Топельцине своему повествованию о Миссии Разума потому, что судьба и даже имя несчастного юноши странно переплелись с моей жизнью с того самого времени, когда к Мару стало приближаться космическое тело, которое жрецы Толлы называли Сердцем Неба, а марианские звездоведы — Луа. Вместе с нашим учителем, великим звездоведом Вокаром Несущим, мудрым, но сварливым марианином, не терпящим чужих мнения, и моим другом Нотаром Криком, красивейшим и умнейшим юношей Мара, которого все попросту звали Нотом Кри, мы готовились к проверке тревожных предположений Вокара Несущего о возможном столкновении планеты Луа с Маром. Все население глубинных городов с волнением ожидало результатов наших наблюдений. Одна из звездных труб была вынесена из обсерватории прямо под открытое небо, где видимость в разреженной атмосфере Мара была много лучше, чем через прозрачный колпак. Но, конечно, дышать таким воздухом никто не мог. Недаром на Маре, если не считать остродышащих ящериц, не встречалось других представителей животного мира, кроме неведомо как попавших сюда мариан. Редкая атмосфера Мара была слабой защитой от падающих метеоритов. Мы, звездоведы, вычислили, что за сутки на всю планету выпадает столько больших и малых космических тел, что, собранные вместе, они составили бы куб со стороной в пятьдесят шагов. К счастью, большинство метеоритов сгорало в атмосфере, и опасными были лишь наиболее крупные из них. Конечно, звездовед, работающий в скафандре, рисковал, но не больше, чем любой марианин, трудившийся в оазисах, орошаемых искусственными глубинными реками, прорытыми многими поколениями мариан. Я усердно наблюдал в трубу все ярче разгоравшуюся звездочку Луа, отмечая ее причудливое движение среди других звезд. Она летела по удлиненной неустойчивой орбите, испытывая на себе влияние встречных планет, с одной из которых когда-нибудь могло произойти столкновение. Такая опасность повторялась каждые три с половиной цикла (через семь земных лет). Купол обсерватории примыкал к обрывистым скалам потухшего вулкана, изобиловавшим пещерами, где расположился наш глубинный город. От кольцевых гор тянулась каменистая пустыня, изъеденная кратерами когда-то упавших метеоритов. Вдали синели заросли оазиса. Вдруг темная ночь озарилась. Ощущение слепоты, острая боль в груди и удушье закрыли от меня мир. Довольно крупный метеорит, как установили впоследствии, врезался в каменистую почву недалеко от той звездной трубы, в которую я смотрел. Он взорвался, подобно сказочной бомбе фаэтов. Выброшенный из нового кратера камень сорвал с меня заплечные баллоны, а острый осколок метеорита, порвав скафандр, резанул мне грудь под ребрами (глубокий шрам так и остался на долгие годы). Поверженный, ослепленный, я упал, раскинув руки, заставив себя затаить дыхание, как при нырянии. Мой друг Нот Кри, как и я увлекавшийся своеобразным спортом — нырянием без скафандров на поверхность планеты, выскочил из обсерватории без шлема и под градом сыпавшихся осколков побежал ко мне. Нужно было обладать его тренировкой, чтобы поднять меня и без единого глотка воздуха донести до обсерватории. Мы оба упали без сознания к ногам Вокара Несущего, который убедился, что рана моя не смертельна. Вместе с пришедшим в себя Нотом Кри он зашил ее с искусством жрецов здоровья древности. Подземным переходом меня перенесли в глубинный город, где я потом и очнулся. Мы были друзьями с Нотом Кри, хотя отличались друг от друга во всем, если не считать того, что оба были честолюбивы. Правда, было еще одно, в чем мы сходились с Нотом Кри: мы оба были влюблены в Кару Яркую (Кару Яр, как ее все звали). Нот Кри и я постоянно соревновались. Надо сказать, что наш учитель в большинстве случаев предпочтение отдавал не мне. Я был слишком неуравновешенным, слишком вольно для изучающего обращался со знаниями, допуская домыслы и фантазию. Признаюсь, фантазия, пожалуй, была моей и самой сильной, и самой слабой стороной. Она привела меня к звездам, она же заставила увлечься предысторией мариан, загадка появления которых на нашей малопригодной для жизни планете давала богатую пищу воображению. Серьезные звездоведы не прощали мне того, что все метеориты, падающие на Мар, а также малые космические тела, расположенные по круговой орбите между Маром и Юпи, я представил себе осколками когда-то существовавшей планеты Фаэна. По их же мнению, Фаэне еще предстояло образоваться, поскольку все планеты якобы когда-то возникали из сталкивающихся метеоритов. Жизневеды, в свою очередь, отлучили меня от Знания за то, что я допускал, будто мариане могли попасть на Мар с другой планеты, где богатство жизненных форм позволило появиться и высшему разумному существу. Знание Мара утверждало: мариане — продукт развития глубинных существ, на высшей своей ступени вышедших (в скафандрах) на поверхность планеты. Я страдал, но продолжал увлекаться древними сказками о фаэтах, будто бы живших на планете Фаэна, погубленной ими во время чудовищной войны с применением неведомой энергии. Нот Кри, всегда согласный с Вокаром Несущим в спорах, безжалостно высмеивал меня даже в присутствии Кары Яр. А спорили мы с ним по любому поводу. Например, о происхождении планеты Луа. Ее признавали «гостьей», залетевшей в нашу планетную систему, я же считал ее бывшим спутником Фаэны. Когда Фаэна взорвалась, а потом развалилась на части (породив от их столкновения в дальнейшем потоки метеоритов), она уже не могла удержать былого спутника, и Луа оторвалась от нее, обретя собственную удлиненную и неустойчивую орбиту. Хотя, с точки зрения звездоведения, в моей гипотезе все было достаточно обосновано, она отвергалась учеными, так как, по мнению авторитетов, планеты взрываться сами по себе не могли. Этот довод и привел Нот Кри. Кара Яр всегда слушала нас с нескрываемым интересом, переводя взгляд своих синих глаз с одного на другого. Кара Яр была очаровательнейшим существом. Небольшой выпуклый лоб, четко очерченный профиль, выразительные, всегда готовые улыбнуться губы и вопрошающие глаза под приподнятыми дугами бровей. — Неужели, Инко Тихий, ты веришь в фаэтов? — как-то спросила она. — И что разумные существа отнимали у кого-то жизнь? — Кара Яр передернула плечами. Нот Кри торжествующе посмотрел на меня. — Кошмары извращенной фантазии, — едко заметил он. — Нашим предкам пришлось бы переделывать своих потомков хирургическим путем, дабы лишить их наследственной дикости. — Не думаю, чтобы мариан переделывали таким образом. — Так отчего же мы с тобой склонны победить друг друга, но не уничтожить? — У меня есть гипотеза, но я боюсь, что ты ее высмеешь. — Прошу, расскажи о ней, — вмешалась Кара Яр. Я принялся отстаивать довольно странную для мариан теорию: — Характер фаэтов, наших пращуров, зависел от условий их жизни. Возможно, не умея, как мы, изготовлять пищевые продукты, они пользовались питательными веществами, накопленными самой природой в живых организмах, и для получения их употребляли в пищу трупы животных, умерщвляя их ради этого. Видимо, убийство было для них обыденностью и даже незаменимым средством к существованию. — Как? — ужаснулась Кара Яр. — Они пожирали друг друга? Нот Кри расхохотался: — Поистине дикая гипотеза о диких нравах. Надобно тебе сказать, Инко Тихий, что Знание установило существование двух миров: растительного и животного. И, помимо искусственного получения питательных веществ, только растительность может служить пищей животным. Это общеизвестно. На Маре нет иных примеров. — Но на Фаэне могло быть, — парировал я. — Так что же произошло с потомками фаэтов на Маре? Почему они перестали питаться друг другом? — ехидно спросил Нот Кри. — Потому что, переселившись на Мар, они могли выжить в новых условиях, только все вместе борясь с суровой природой. Существовать в искусственно созданных условиях здесь, на Маре, можно было лишь тоже искусственно, заменив былую щедрость природы Фаэны. Понадобилось опять же искусственно воспроизвести в местных пещерах процессы получения питательных веществ, которые создавались в естественных условиях на освещенной светилом поверхности планеты. — Ах, вот как! — продолжал насмехаться Нот Кри. — Ты любишь факты. Пожалуйста; состав необходимого для дыхания воздуха в наших глубинных поселениях поддерживается искусственно. Так же пришлось воспроизводить процессы выращивания питательных веществ уже не в живых организмах, как было прежде на Фаэне, а в котлах и трубах. Общественное устройство мариан прежде всего служило именно этим целям. Иначе мариане не выжили бы. И теперь каждый марианин воспитывается для служения всем, получая взамен необходимое для жизни в пределах разумного самоограничения. Никто не вдохнет воздуха больше, чем вместят его легкие, никто не съест больше, чем нужно организму, не потребует больше костюмов или скафандров, чем сможет надеть, или келий больше, чем может заселить вместе с семьей. И конечно, ни о каком убийстве здесь никогда не могло и не может быть и речи. Вот почему новые условия и воспитание сделали мариан во всем равными друг другу и совсем иными, чем их предки, фаэты. Ныне нам известно, что именно из-за разных условий жизни животные стали непохожими на растения. — Какая нелепость! — снова расхохотался Нот Кри. — Поистине прав наш учитель, предостерегая изучающих от фантазии, ведущей в тупик безответственности. Так обычно кончались наши споры с Нотом Кри. На меня надевался «позорный скафандр скудости знания», и Каре Яр предоставлялось признать меня побежденным. Но она все-таки была загадкой для нас с Нотом Кри. Я замечал, как загорались внутренним светом ее глаза, едва разговор заходил о сказочных фаэтах. Она не присуждала никому из нас победы и не предпочитала никого из нас. Когда я стал поправляться после ранения осколком метеорита, Нот Кри привел Кару Яр навестить меня. Желая подбодрить страдающего, он сказал, что наши с ним наблюдения Луа принесли Мару успокоение. На их основе математические устройства вычислили, что Луа не столкнется с Маром. Более того, угрожавшей нам Небесной Странницы отныне больше не будет. — Как так не будет? — удивился я. — Обретя неустойчивую орбиту между Земой и Веной, она столкнется с планетой Зема на одном из расширяющихся витков, — ответил Нот Кри. Я не знаю, чем объяснить все, что потом произошло. Вероятно, моим болезненным состоянием. После слов Нота Кри я впал в беспамятство и стал бредить, твердил что-то о кровных братьях по разуму, о нашем долге спасти их. Когда я пришел в себя. Кара Яр держала мою руку, и мне было от этого так радостно и хорошо, что не хотелось открывать глаза. Эти мгновения повернули всю мою судьбу, совместили ее с оборванной на Земе жизнью юноши Топельцина, о котором я говорил ранее. Однако, прежде чем поведать о себе, я должен рассказать о марианах, вырастивших меня и сделавших таким, какой я есть, со всеми стремлениями и недостатками. Глубинные города мариан издревле управлялись Советами Матерей. Матери всегда почитались в семье, городе, на всей планете. Матери производили нас на свет, матери воспитывали в духе общества мариан. Спустя много лет мне привелось узнать на Земе, что некоторые из маленьких земян (людей) по воле случая воспитывались животными, которые усыновляли их. Дети развивались, взрослели, но оставались зверями, даже если и попадали потом к людям. То, что делает человека человеком, закладывается матерью (или воспитателями, заменявшими ее) до шестилетнего возраста. Если в эту пору ребенок не подвержен человеческому влиянию, если его не стараются с помощью воспитания сделать человеком, то он уже никогда не станет им, несмотря ни на какую наследственность. Этим я объясняю, почему мы, мариане, воспитанные матерями, а потом учителями в духе выполнения Долга перед всеми, ставим этот Долг выше всего. Древнейшие стихи Тони Фаэ, одного из наших сказочных героев, воспринимались нами с раннего возраста как основной закон жизни:Глава третья ОТСТУПНИЦА
Но Кара Яр больше не пришла. Вскоре я окончательно поправился, и не было уже повода навещать меня. Однако я все время мыслями был с нею, потому что моя младшая сестренка Ива Тихая лишь о ней и говорила, и только этим я отвлекался от преследовавших меня мыслей о неотвратимой гибели Земы. Ива была в том возрасте, когда влюбляются во всех. И она была влюблена: в мать, в меня, в Нота Кри, но особенно в Кару Яр. Та казалась ей совершенством. Иве хотелось во всем походить на Кару Яр: в изящной одежде, в смелой прическе, в стремлении все узнать, в обаятельной простоте общения. Но, на беду свою, некрасивая и бледная Ива Тихая была совсем иной, чем Кара Яр. Мона Тихая, наша мать, статная, все еще привлекательная, всегда знала, чего хочет. Ива же ничего не знала ни о себе, ни о своих желаниях. Она страдала оттого, что у нее нет заметных способностей, которые сделали бы ее достойной прочих мариан, и ей казалось, что она им в тягость. Иве было рано так строго судить себя, но она хотела походить на Кару даже в ее неудовлетворенности собой. Ведь Кара Яр страдала оттого, что не может отдать Городу Долга особо ценных способностей, к сожалению и не проявившихся у нее. Кара Яр была лишь рядовым инженером энергетической установки Дня и Ночи, использующей разность тепловых уровней поверхности Мара в дневное и ночное время. А ей хотелось сделать что-нибудь значительное. Хотелось этого и Иве. Вместе с другими марианами мы (Нот Кри, Ива Тихая, Кара Яр и, конечно, я) увлекались бегом без дыхания. Сначала мы долго тренировались в заброшенных галереях, пробитых в горах давними поколениями. Мы пробегали по покинутым улицам немалые расстояния, приучая себя почти не дышать. Особая, выработанная нами система дыхания позволяла использовать запас воздуха в легких, делая лишь один вдох на старте и следующий уже после финиша. Сначала пробегались десятки шагов, потом расстояния все увеличивались. Мы с Нотом Кри соперничали и здесь, попеременно добиваясь успеха. Потом тренировки перенесли на поверхность Мара, где дышать было невозможно. Такие игры были опасны, но они развивали в марианах многие качества: отвагу, выдержку, выносливость, наконец, способность какое-то время действовать в атмосфере Мара без скафандров, а это имело немалое практическое значение. Собственно, этому увлечению я и обязан был своей жизнью. Однако марианки (первая из них Кара Яр, а вместе с нею и Ива) задумали овладеть большим, чем способность находиться в чуждой среде. Имея перед собой пример живущих на поверхности остродышащих ящериц, они хотели постепенно приучить и свой организм к такому же острому дыханию, чтобы наши потомки смогли выйти из глубинных убежищ на поверхность, победив неуклонное вырождение расы. Марианки не просто бегали в непригодной для дыхания атмосфере Мара, они пытались в ней дышать. Конечно, это не давало ощутимых результатов. Мариане не смогли бы уподобиться остродышащим ящерицам, как не смогли бы уподобиться рыбам ловцы жемчуга, впоследствии увиденные мною на Земе… Несчастная Зема своей грядущей трагической судьбой занимала тогда все мои помыслы. Я не знал покоя. В своем воображении я видел яркую, цветущую Зему с непроходимыми зарослями диковинных растений, с широкими реками, текущими по поверхности, более того — с колоссальными водоемами, уходящими за горизонт!.. На берегу таких водоемов я представлял себе прекрасные города с прямыми, как лучи солнца, улицами, с великолепными зданиями, где наши братья по разуму жили в сооруженных, а не выдолбленных в грунте кельях. Самые величественные здания, как мне казалось, располагались там на искусственных холмах с уходящими вверх уступами. С их крыш наблюдали звезды и среди них ту, которая, постепенно разгораясь, грозила неминуемой гибелью всему живому на планете. А это живое кипело бурной и шумной жизнью. У подножия исполинских холмов с полированными скатами толпа земян собиралась, чтобы передать горожанам чудесные плоды, выращенные на обширных полях. Прекрасные земянки, принимая дары Земы, выбирали также и красивые украшения из сверкающих камней, собранных для них в горах. И все они дышат там воздухом лесов и полей на поверхности планеты не потому, что они обладают острым дыханием, как наши ящерицы, а потому, что этот воздух подобен былому воздуху погибшей Фаэны. Земяне не устают любоваться скульптурами и картинами на стенах зданий, поклоняясь истинной красоте. И вот наступит грозный миг, когда одна из слабо светившихся звездочек превратится сначала в небольшой, а потом во все более заметный диск, который сравнится с дневным светилом. И тогда скажется тяготение приближающегося небесного тела. В безмерных водоемах может подняться такая волна жидкости, которую просто нет возможности представить себе на Маре, она обрушится на прибрежные города, сметая здания, людей, животных. Одновременно содрогнется сама планета Зема, словно поеживаясь от предчувствия беды, рухнут возведенные на ее поверхности здания, остатки их провалятся в глубокие дымящиеся трещины. Оживут огнедышащие горы, известные нам и на Маре, но куда более страшные на Земе. Из них будут выброшены, как от сказочного взрыва распада, клубы дыма и раскаленные камни. А из жерл, извергающих пламя гор, польется расплавленная магма, подобная первичному состоянию породы на только что образовавшейся планете. Огненные реки потекут по склонам, сжигая все на своем пути. Они дойдут даже до городов, расположенных у подножия гор, и ворвутся на улицы, уже раньше засыпанные выброшенным из недр планеты пеплом. В этих горячих осадках погребенные земяне испарятся, оставив в застывающей массе пустоты по форме их тел. Однако эти жертвы земян будут ничтожны по сравнению с тем, что их ждет дальше. Зловещий диск в небе, светясь не только ночью, но и днем, станет пугающе расти. Еще сильнее содрогнется планета, будто передернув плечами. При этом огромные пространства суши уйдут под воду — так много этой бесценной для нас жидкости разлито по ее поверхности. Из океанов появятся другие, бесплодные участки суши и выпучатся горными хребтами. Огромные массы испарившейся воды поднимутся в виде паров и капелек в воздух и пронесутся над поверхностью планеты неистовыми струями, подобно нашим пылевым бурям. Но вместо каждой песчинки, как у нас, там будет капелька воды. Я не знал еще тогда, как назвать подобные водоизлияния с неба. Впоследствии я слишком хорошо познакомился с ними. Небесная Странница, следуя путем, вычисленным нашими математическими устройствами, летела прямо на Зему, попав в зону ее притяжения. Обе планеты падали друг на друга. И еще один мир обречен был погибнуть в катастрофе, вызванной преступлением, совершенным миллион лет назад фаэтами. Когда столкновение произойдет, то два тела составят одно. Вся энергия движения Луа по закону неизменности суммарной энергии перейдет в тепло, оно разогреет столкнувшиеся планеты и превратит их в общую расплавленную массу, по сравнению с которой огненные реки магмы даже не ручейки, даже не брызги… Всямасса океанов, которые на Фаэне якобы когда-то взорвались, здесь превратится в пар. Спустя какое-то время вся эта парообразная оболочка охладится и выпадет на поверхность планеты чудовищными ливнями, заполнив водой впадины новой уродливой несферической планеты, слипшейся из двух тел. На этой безобразной массе мертвых пород не останется никаких признаков жизни, и наш теряющий атмосферу Мар с его бедными кустарниками, жалкими остродышащими ящерицами и укрывшимися в недрах марианами покажется цветущей планетой Жизни, несмотря на свое увядание. Этот длительный кошмар, отражая мои дневные мысли, как бы иллюстрировал их ночью. Он повторялся каждую ночь. Ива видела, что со мною происходит, хотя я и не рассказывал ей о своих видениях, и стала настойчиво уговаривать снова заняться бегом без дыхания. Я отмахнулся было от сестры, но она близко к сердцу приняла мой отказ: — Если для тебя, Инко Тихий, существует Великий Долг, то ты должен сделать это… не только для меня. Я почувствовал в ее словах какой-то скрытый смысл и согласился. Стараясь пересилить гнетущее меня отчаяние, я стал по ночам бегать по заброшенным галереям вымершей части нашего города, чтобы восстановить былую спортивную форму. Сначала я пробегал по триста шагов. По поверхности Мара, куда Ива неотступно тянула меня, надо было пробежать тысячу шагов до спортивного убежища среди марианской пустыни. Там спортсмен мог передохнуть и набрать в легкие воздух для обратного пути к шлюзу города. После первых трехсот шагов в голове у меня помутилось, перед глазами поплыли темные круги, я готов был упасть и вынужден был вздохнуть. Я понял, что еще не готов для тренировки, которую требовала от меня Ива. Но я был настойчив и упорен. Скоро я пробегал четыреста шагов без второго вдоха, потом пятьсот и, наконец, тысячу и даже тысячу двести. Это удалось, конечно, не в первую, даже не во вторую или третью ночь, но удалось. Дежурившие в городском шлюзе пожилые мариане отнеслись к нашему с Ивой желанию бежать в пустыне без дыхания неодобрительно. Однако не в правилах мариан было чем-нибудь ограничивать молодежь. Нас беспрепятственно выпустили, но я заметил, что один из шлюзовых мариан стал поспешно надевать скафандр, чтобы вовремя прийти на помощь. Я бежал навстречу яркому диску в нашем фиолетовом небе, думая, что моя Ива бежит следом за мной. Она могла дольше моего пробыть без дыхания, но я бегал быстрее. На полпути я обернулся и, к своему изумлению, увидел, что Ива возвращается к городскому шлюзу. Обернувшись, она сделала знак рукой, чтобы я продолжал бег. Я добежал до цилиндрического спортивного убежища, пролетел через вращающийся тамбур, жадно вдохнул в себя наполнявший убежище годный для дыхания воздух и услышал знакомый голос: — Это я хотела, чтобы ты прибежал сюда ко мне, Инко Тихий, Кара Яр! Одетая в серебристый облегающий спортивный костюм, она была, как мне показалось, особенно прекрасна. Кара Яр взяла меня за руку: — Бедный Инко Тихий, я заставила тебя не дышать целых тысячу шагов. Я хотел ответить ей, что готов совсем не дышать, лишь бы смотреть на нее, но, к счастью, удержался от этой глупости, продолжая жадно глотать воздух… — Ты еще не можешь прийти в себя? — Не могу, — признался я. — Ива ничего не сказала тебе о Великом Долге? — Сказала. — И ты не понял, что это имеет прямое отношение ко мне? — Нет. — Ты поймешь, когда узнаешь, что довериться при нашем разговоре я не могла даже заброшенным галереям города. Я никогда не понимал Кару Яр до конца. Не понимал ее и сейчас. На миг я вдруг почувствовал себя счастливым. Но она улыбнулась мне… Улыбки бывают разные. Эта улыбка сразу привела меня в себя. — Скажи, Инко, ты все еще бредишь гибелью Земы, как тогда на ложе после ранения? Я кивнул. — Расскажи, — потребовала Кара Яр. Я пересказал Каре Яр некоторые из своих ночных видений. Она слушала содрогаясь. — Это ужасно, — наконец сказала она, поведя плечами. — Я тоже думала об этом, но не так зримо. — И ты тоже? — удивился я. — Потому я и попросила Иву прислать тебя сюда. — Я здесь. — Тогда слушай. Есть Великая Тайна, которую хранят марианки в течение полумиллиона циклов Мара. Кара Яр вдруг прислушалась, подошла к вращающемуся тамбуру, словно в нем кто-то мог спрятаться. — Что это за тайна марианок? — спросил я. — Да, что это за Великая Тайна марианок? — раздался голос Нота Кри, вышедшего из тамбура. Кара Яр с вызовом посмотрела на него. А он перешел на глубокое дыхание и спокойно сказал: — Я встревожился за Инко Тихого, ибо он побежал без дыхания впервые после ранения. И не сразу вернулся. Потому я почел своим долгом последовать за ним. — Спасибо тебе, Нот Кри. Ты готов был спасти меня. — Но, оказывается, тебя приобщают здесь к Великой Тайне, каковую не знал еще ни один марианин. — Если не считать Великого Старца, завещавшего марианкам хранить его Запреты, и если не считать тебя, — высокомерно сказала Кара Яр. — Как? — удивился Нот Кри. — Ты намереваешься и меня приобщить к этой тайне? — Да, теперь и тебя… и всех мариан! — с вызовом бросила Кара Яр. — Великий Старец был фаэтом, впервые вступившим на Мар. Он хотел оградить мариан от несчастий, выпавших на долю обитателей Фаэны. — Эти сказки мы слышали, — усмехнулся Нот Кри. — Тайна заключается в том, что это не сказки, а подлинная история наших предков. От ее повторения и оберегали марианки своих детей. Нот Кри пожал плечами. — Подлинная история? — вмешался я. — Значит, энергия распада действительно существовала? И можно двигаться в пустоте без отталкивания, лететь на другие космические тела? Кара Яр опустила голову и кивнула. — Престранно, — заметил Нот Кри, — отчего же именно марианкам дано было знание этих тайн? И в чем смысл их сохранения? — Марианки давали жизнь новым поколениям, и для них было естественным оберегать будущие жизни даже ценой собственной. На Маре никого не убивают, но марианка сама не сможет жить, если нарушит завет о том, что мариане никогда не должны возвращаться мыслью к проблеме распада вещества, чтобы не использовать ее друг против друга, как сделали это их предки — фаэты. И никогда мариане не должны знать принципа движения без отталкивания, рождающего снаряды смерти, пусть для них это навсегда останется только сказкой и не вспыхнет мечтой. Кара Яр кончила. Я бросился к Ноту Кри и обнял его: — Ты мой друг! То, что открыла нам Кара Яр, показывает марианам путь к спасению земян, наших братьев по крови и разуму! Нот Кри осторожно и ласково освободился от моих объятий: — Ежели бы я верил старым сказкам, я согласился бы с тобой. Но все равно усомнился бы в возможности повторить долгий путь предков. — Да, марианки полмиллиона циклов скрывали даже само существование Великих Тайн, — снова заговорила Кара Яр. — Они охраняли опасные знания даже ценой собственного счастья. Правда, не всегда это бывало так. И я расскажу вам историю, которую в назидание передавали из поколения в поколение матери дочерям. — Поистине сегодня день необычных сюрпризов, — заметил Нот Кри. — Попробуем почувствовать себя марианками. — Это история горестной любви и горькой гордости. В обычном пересказе она известна как трагедия молодых людей, погибших из-за любви друг к другу, в чем из-за гордости не признавались. — Эта история знакома нам с детства, — заметил Нот Кри. — Да, с детства, — согласилась Кара Яр. — Но матери передают дочерям уже не сказку, а предупреждение. Мео с Этой на самом деле любили друг друга, и гордость завела их в пустыню. Но не потому, что они не признавались в своих чувствах. Они хотели и могли быть счастливыми. И для этого пришли к статуе Великого Старца дать обет общего жизненного пути. Но Эта, глядя на каменное изваяние с ниспадающей на грудь бородой, вспомнила о Запрете Великого Старца на опасные знания. Из-за них ведь погибла прекрасная планета Фаэна, разорванная чудовищным взрывом на куски. В неоглядной своей гордости, забыв о Долге, Эта решила помочь своему возлюбленному оставить в знании Мара незабываемый след. И она открыла ему суть Великой Тайны, сказала о том, что «неделимые», составляющие вещество, способны к распаду, освобождая скрытую в них энергию, с которой не сравниться даже внутреннему теплу Мара. — Но если распад вещества не сказка! — не удержался я от возгласа. Кара Яр холодно посмотрела на меня, на Нота Кри и продолжала: — Честолюбивый гордец все понял, но назвал Запреты Великого Старца невежественным суеверием. Уединившись в далекой пещере, он осуществил опыты, которые знакомы были лишь далеким предкам мариан, обитавшим на погибшей Фаэне. Узнавая об успехах любимого. Эта все больше терзалась сознанием того, что нарушила обет охранения Великих Запретов, который дает каждая марианка своей матери. И скоро жизнь стала невмоготу нарушительнице. Она покаялась Совету Матерей, который предоставил ей самой судить себя, и однажды дверь шлюза, пробитая в отвесной скале, открылась, и девушка, стройная, как тонкий сталагмит, ринулась в пустыню. Полосы ее развевались, не прикрытые шлемом, голова опрокинулась, рот открылся в исступленном дыхании. Через прозрачные створки за нею в ужасе наблюдали шлюзовые. Они не хотели выпускать ее, когда она без скафандра рвалась наружу. Но появились две одетые во все черное марианки из Совета Матерей и остановили шлюзовых. Из шлюза так же без скафандра выбежал молодой марианин. Глотая удушливый воздух, он едва добежал до тела подруги и замертво рухнул рядом. Печально смотрели на погибших влюбленных шлюзовые и марианки из Совета Матерей. Потом они облачились в скафандры и вышли в пустыню за уже окоченевшими телами. Обитателям глубинных городов было объявлено, что Мео и Эта умерли от любви, не подозревая о взаимности. Такое предание, как вы знаете, и передавалось из поколения в поколение на протяжении почти полумиллиона циклов. Но на самом деле причина гибели влюбленных была совсем иной. Кара Яр умолкла. — Это самая прекрасная сказка, которую я когда-либо слышал, — усмехнулся Нот Кри.Глава четвертая ТАЙНИК ДОБРА
С детства я любил наивную сказку о заброшенном глубинном городе, статуе Великого Старца и Тайнике Добра и Зла. Мне казалось, что там в каменном мешке растет чудо-дерево с черно-золотистыми плодами. Повернешь плод одной стороной — и познаешь добро, другой — зло. Надо только очень сильно пожелать добра ближним — и камни пропустят к волшебному дереву. Но, к сожалению, это была только поэтическая сказка! Наш шагающий вездеход напоминал двух исполинских мариан в уродливых скафандрах, несущих носилки с пассажирской кабиной. Он бежал по пустыне, оставляя цепочку следов. Уходили назад скалы, камни и бесчисленные кратеры. Прилети к нам сейчас кто-нибудь из космоса, подобно древним фаэтам, нелегко было бы нас отыскать в редких глубинных городах. Вдали виднелся лежащий на песке черный камень — память давней трагедии, о которой рассказала Кара Яр. Я невольно вспомнил недавний Суд Матерей.Мона Тихая, величественная в своей седине, строго оглядела Матерей Совета и подсудимую Кару Яр. — Всем ведома эта повесть, полмиллиона циклов плакала молодежь над судьбой влюбленных, погибших от любви. Но все было не так! Нарушили оба Великий Долг, основу жизни мариан. Марианка открыла своему любимому Великую Запретную Тайну древних фаэтов и дала ему возможность пойти верным путем для повторения былого открытия предков, а потому опасным и запретным. И снова энергия распада могла погубить планету, на этот раз Мар. Совет Матерей горевал тогда, осуждая преступление марианки. Но сама она решила, что не имеет права жить. Ее друг тоже произнес себе смертный приговор, и они погибли. Так была спасена цивилизация мариан. Матери Совета молчали. — И вот ныне, — продолжала Мона Тихая, — пещеры Города Долга вопиют о нарушении Великой Тайны марианкой Карой Яр, о чем сообщил марианин Нот Кри, против воли своей узнавший запретное. Обвиняемые: Кара Яр, Нот Кри и Инко Тихий! Вас судит Совет Матерей. Встаньте! В большой пещере собрались члены Совета Матерей, не похожие друг на друга марианки, одни уже увядшие, другие в зрелой красоте, спокойные или встревоженные, хмурые или с ободряющей улыбкой, спрятавшейся в уголках сжатых губ. Кара Яр, Нот Кри и я, Инко Тихий, перешли к каменной стене с волнистыми натеками. Мона Тихая, первая из Матерей Совета, грозно смотрела на нас: — Кара Яр! Горюет ли совесть твоя, что ты нарушила Великий Запрет, поставив под угрозу цивилизацию мариан? — Нет, не горюет, — звонко ответила Кара Яр. Мона Тихая нахмурилась: — Тогда пусть ответствует Нот Кри. Слышал ли он о Великих Запретах, о которых, кроме марианок, знают лишь высшие знатоки Знания, избегающие запретных путей? — Совместно с Инко Тихим я услышал о Запретах от Кары Яркой в спортивном убежище, каковое расположено в тысяче шагов от шлюза, — подтвердил Нот Кри. — Я не поставила этим под удар марианскую цивилизацию! — перебила его Кара Яр. — Вот ты как рассуждаешь. — Прямые черные брови Моны Тихой сошлись под седыми волосами. — Значит, тебе безразлично, случится здесь война распада или нет?
Песчаные столбы — предвестники близкой бури за окном вездехода — отвлекли меня от воспоминаний. Песок взметнулся узкими языками, потом они слились в песчаную реку, по которой шагающая машина словно переправлялась вброд. Серое вспененное море сливалось с побуревшим небом. Потом к низким пыльным тучам стали подниматься закрученные темные колонны, мчась нам наперерез. Нот Кри заставлял вездеход то бежать, то кидаться в сторону, обходя колонны. Немало крутящихся столбов едва не задели нас. Однако один из них вдруг рванулся вбок и рухнул на вездеход. Роботы были сбиты с ног, кабина опрокинулась. Мы беспомощно сидели на окнах, а оказавшиеся над нами такие же окна были темны, засыпанные песком. Кара Яр улыбнулась: — Как замечательно, Инко Тихий! Моя мать, Мона Тихая, сильно ушиблась, но не подала виду. Другая Мать Совета, Лада Луа, носившая имя сказочной героини, переходила от одного к другому, стараясь всем помочь. Электромагнитная связь оборвалась. Внешние детали вездехода были поломаны. — Надо идти в Город Жизни пешком, — решила Кара Яр. — Не дело говоришь, — отозвалась Мона Тихая. — Сама природа против нами задуманного. Не смеем мы идти. Здесь нас отыщут. Сюда помощь придет. Нот Кри почтительно присоединился к Моне Тихой. Я, конечно, поддержал Кару Яр. Решающее слово было за Ладой Луа. — Попросту сказать — лучше идти, чем лежать, — с виноватой улыбкой предложила она. Выбираться было нелегко, приходилось рыть все время осыпавшийся ход, заполняя песком кабину. Глядя на Кару Яр, выгребавшую песок из крутого хода, я вспомнил ее гордый ответ Суду Матерей.
— Война распада у мариан? Нет! Полмиллиона циклов назад фаэты были правы, запретив потомкам изучать опасные проблемы. Но похожи ли сейчас мариане на предков, погубивших Фаэну? Пожирают ли у нас куски трупов? Могут ли убить, чтобы насытиться? Гул возмущения пронесся по пещере. — Но дело не в том, поедают ли у нас части трупов или нет, — продолжала Кара Яр. — Диктатор Яр Юпи не ел ничего живого. Однако это не помешало ему уничтожить миллиарды жизней. У фаэтов основой существования была борьба между собой. У нас — взаимопомощь. И преступление говорить здесь о войне?.. Мона Тихая прервала Кару Яр: — Преступление? Кого ж винишь ты? — Вас, Матери Совета! Вас, кто бездумно принуждает марианок тормозить развитие цивилизации! — Умолкни, Кара Яркая! Моя мать повернулась ко мне: — Ты ведал, Инко Тихий, что склонил неопытное сердце к преступлению? — Кара Яр не способна к преступлению! — горячо ответил я. — Я лишь рассказал ей о том, что грозит Земе при столкновении с Луа, и повторю это Совету Матерей. — Я видел, как ошеломлены были Матери Совета, слушая о наводнениях и землетрясениях, гибели городов и наконец всей планеты. — Спасти Зему и ее обитателей может только взрыв распада на Луа, который отклонит ее с опасного пути. Поднялась Лада Луа. — Слова Кары Яр и Инко Тихого ранят любое сердце. Вам и во сне не привидится убийство. Как же нам примириться с гибелью миллионов сердец? Мона Тихая осталась суровой: — Пусть звездовед Нотар Крик поведает, отвечают ли нам на призывы разумные с Земы? — Попытки установления электромагнитной связи с Земой делались в течение более чем тысячи циклов. Весьма прискорбно, но, по-видимому, на Земе некому ответить нам. — Там могут не знать электромагнитной связи, — возразил я. — Безответственно допустить, что фаэты на Земе одичали, забыв достижения предков, — настаивал Нот Кри. Лада Луа почти просительно посмотрела на меня. — На щедрой планете, где в изобилии воздух и пища, — начал я, — собирать плоды и убивать животных для еды куда проще, чем поддерживать цивилизацию с помощью технических средств. Да их и не осталось на Земе после отлета на Мар корабля «Поиск». А вот наши предки на Маре могли выжить только с помощью технических устройств, необходимых для того, чтобы дышать и есть. Вот почему былая цивилизация фаэтов вместе с электромагнитной связью сохранилась на Маре, а не на Земе. — Так можем ли мы осудить Кару Яр и двух мариан? — обратилась Лада Луа к Моне Тихой. — Что предлагаешь ты, добрейшая? Или ты признала обвиняемой себя, а отступницу Кару Яркую — судьей и обвинителем? — Настаивать я не решусь, — развела руками Лада Луа. — А я настаиваю! — воскликнула Кара Яр. — Знания предков надо открыть и для спасения земян, и для счастья мариан. — Ради своего счастья мариане не будут знать проклятой тайны распада вещества, — произнесла Мона Тихая. — А по-моему, лучше решить так, — сказала Лада Луа. — Разделим две тайны. Откроем одну — Тайник Добра и Зла. Пусть смельчаки летят на Зему проверять, есть ли там братья по крови и разуму. А тот страшный распад останется запретным, пока не понадобится для спасения живых. — Готов лететь, — предложил я. — И я, — подхватила Кара Яр. — Я полагаю, что риск полета на Зему все же лучше, чем гибель без скафандра в пустыне Мара, — заметил Нот Кри. Так Совет Любви и Заботы вместо вынесения приговора обвиняемым решил открыть нам тайник фаэтов… И вот на пути к тайнику почти у цели пылевая буря засыпала наш вездеход. Прорыв за ночь ход в песке от выходного люка, мы все-таки к утру выбрались на поверхность бархана. В лучах светила Сол пустыня походила на мгновенно застывший бурный океан. Нам приходилось перебираться через валы-барханы, таща за собой запасные баллоны с кислородом. Наконец вдали над скалами показалась круглая башня с заостренным торцом. Мне вспомнился звездный корабль, высеченный древними сказочниками в нашей детской келье. Это был входной шлюз Города Жизни! В древние пещеры мы вошли в скафандрах. Тягостное чувство оставлял покинутый город с мостами через высохшее русло древней реки. Огромное впечатление произвели на нас мастерские с исполинскими машинами, которые нужно было только запустить, чтобы они начали работать, как десятки тысяч циклов назад. Именно здесь я ощутил высоту нашей технической цивилизации, которая в состоянии была поддерживать искусственную (именно искусственную) жизнь глубинной расы мариан. Я переглянулся с Карой Яр. Мы не сказали ни слова, но поняли друг друга: на этих и подобных машинах, если понадобится, можно будет изготовить даже то, что хотим мы найти в Тайнике Добра и Зла, когда это понадобится. Далее мы видели древние лаборатории, не уступавшие своим оборудованием современным. Да, Мар был готов к великому заданию, смысл которого мы мечтали найти в тайнике. Мона Тихая уверенно вела нас по галерее. Мы освещали путь холодными факелами из светящихся камней, заряженных Карой Яр в энергетическом поле установки Дня и Ночи. Мона Тихая свернула в сторону, и мы вошли в большую пещеру, где прежде танцевала молодежь, вступая в жизнь. За сотни тысяч циклов пещера преобразилась. Сталактиты, свисавшие со свода, срослись с каменными натеками сталагмитов, образовав столбы. Напрасно протискивались мы среди колонн отыскивая статую Старца. — Увы, — вздохнула Мона Тихая. — Сердцем скорблю. Сделали что могли. Нет ни статуи, ни тайника… — Не служит ли это доказательством того, что сказки фаэтов только сказки? — заметил Нот Кри. Кара Яр рассматривала одну из колонн: — Из чего была сделана статуя Великого Старца? — Из сталагмита, — мрачно ответила Мона Тихая. — Значит, над статуей свисал сталактит. И капли, стекая с него, оставляли на статуе высохший след. Когда мариане ушли и перестали очищать статую, камень постепенно поглотил ее всю. Мона Тихая пожала плечами. Кара Яр не сдавалась: — Свет холодных факелов просветит колонны. Надо уловить тень исчезнувшей скульптуры. Только в третий раз, просвечивая весь лес колонн, мы уловили (скорее воображением, чем зрением) фигуру Старца. Под нею в нижней пещере когда-то лежала плита с письменами. Сейчас она тоже была поглощена каменным столбом. Нам нужен был не этот столб, а стена перед ним. Фаэты умели создавать механизмы, реагирующие на определенное чувство. Вот почему камни могли открыться перед тем, кто способен был на подвиг во имя добра. Кара Яр радостно вскрикнула. Она нашла на стене спиральный барельеф. По преданию, именно на подобную спираль нужно было смотреть, чтобы воздействовать на эти механизмы. В наше время на Маре существовали подобные устройства, в особенности когда машина должна была прийти на помощь марианину. Достаточно ему было встревожиться, автоматы тотчас принимали меры. Мона Тихая встала перед спиралью и устремила на нее взгляд. Лоб ее прорезала поперечная морщина. Камни не дрогнули. Никто не мог сомневаться в том, что Мона Тихая желала добра близким. И все же… К ней на помощь подошла добрейшая Лада Луа. Они обе напряженно смотрели на спираль — все безрезультатно. — Увы! — вздохнул Нот Кри. — Сказка остается сказкой. — Нет! — возмутилась Кара Яр. — Надо соскоблить верхний слой камня, чтобы облегчить механизмам работу. Кара Яр бросилась к стене, схватив острый инструмент. Я стал помогать ей. Снова Мона Тихая и Лада Луа пробовали дать мысленный приказ стене открыться. Камни оставались недвижными. Я не смел думать, что у меня стремление к добру больше, нежели у других, но я решил попробовать. Я подошел к своей матери. Она нахмурилась. Я подумал, что шлем ведь может не пропускать или ослаблять излучение мозга, и сбросил с себя шлем. Я был тренирован в беге с нырянием и теперь вложил всю силу желания спасти обитателей Земы в свой взгляд. Моя мать поспешила тоже снять шлем, чтобы помочь мне. Я яростно смотрел перед собой. Спираль помутнела, даже будто закрутилась. Но я, не дыша, все же смотрел. Если механизмы древних настроены на излучение, подобное моему, то они должны сработать, должны!.. Я покосился на свою мать. Мог ли я подозревать в чем-нибудь такого светлого поборника добра, как она? И все же я должен признаться, что у меня зародилось смутное подозрение. Конечно, из лучших побуждений, но Мона Тихая могла препятствовать открытию тайника, давая механизмам мысленный приказ не открываться! Но когда мы оба сняли шлемы, наши воли стали противоборствовать. Однако она, менее тренированная к способности не дышать, не выдержала и опустилась на пол пещеры. Лада Луа бросилась ей на помощь. А я сам, почти теряя сознание, вперил взгляд в спираль, мысленно заклиная древние механизмы открыться. — Трещина! Я вижу трещину! — вдруг закричала Кара Яр. Нот Кри недоверчиво подошел к стене и без особой радости подтвердил произошедшие в ней изменения. Мона Тихая была уже в шлеме. Об этом позаботилась Лада Луа. А я только теперь надел шлем, чтобы вздохнуть. Устройство тайника было простым. Стена открывалась тяжестью противовеса, который удерживался от падения автоматическим устройством. После сигнала жидкость вытекала и, разъедая подпорку, позволяла силе тяжести открыть стену. Расчет был точен. Ни тяжесть, ни химические способности элементов не изменятся и за миллионы циклов! Другое дело сама дверь. Каменные натеки мешали ей открыться, несмотря на тяжелый противовес. И все же скала словно треснула от моего неистового взгляда! Вместе с Нотом Кри мы вставили в трещину рычаги. И часть стены наконец опрокинулась внутрь, прикрыв собой еще один тайник, о котором мы тогда не подумали. Холодные факелы осветили внутренность скрытого в скале помещения. Пещера была выложена изнутри серебристыми металлическими листами, прочно соединенными между собой. Посередине тайника росло чудо-дерево моих детских грез! Конечно, это было не дерево, а подставка для хранения пластин с письменами и чертежами, которые не лежали друг на друге, чтобы за миллион циклов не повредиться, а висели как сказочные плоды легендарного дерева. Нот Кри и Кара Яр жадно набросились на эти пластинки. Я оглянулся и увидел, с каким разным чувством смотрят на нас Матери Совета. Если взгляд Лады Луа был радостным, то у Моны Тихой потухшим, тревожным… — Прискорбно, — вздохнул Нот Кри, — но открытие тайника ничего не даст. — Как так — ничего не даст? — возмутилась Кара Яр. — Я основательно изучил чертежи, — продолжал Нот Кри. — И не вижу, как в нужный срок построить в глубинных мастерских хотя бы один корабль типа «Поиск». Мона Тихая оживилась и с надеждой посмотрела на меня. Заметив мое состояние, она словно взглядом пыталась остановить меня. Но я не мог отступать, хотя понимал, какую боль ей причиню. — Так и не надо его строить! — воскликнул я. — Как же так — не надо? — изумилась Кара Яр. Мона Тихая просияла, только в уголках глаз у нее осталась настороженность. Она словно не верила своему счастью. — Корабль «Поиск» существует! — продолжал я. — Мы только что прошли через него. Древние фаэты использовали корабль как шлюз. А мы полетим на нем! — Как ты догадался, Инко Тихий? — обрадовалась Кара Яр. — С гребня бархана шлюз выглядел космическим кораблем со старой детской картинки. Из вездехода я бы этого не заметил. Кара Яр бросилась мне на шею, а Мона Тихая заплакала. Это так не вязалось с ее суровым обликом, что все мы растерялись, в особенности Кара Яр. Я подошел к матери, а она, грустно глядя на меня, сказала: — Я боюсь. Боюсь я, мой Инко, что навсегда улетишь ты от меня.
Глава пятая МИССИЯ РАЗУМА
Еще в детстве мне доставляло радость выйти в скафандре ночью из шлюза и любоваться небосводом. Потому я и стал звездоведом. Но ничего не шло в сравнение с видом через иллюминатор: ни марианское ночное небо, ни волшебно близкие в зеркале звездной трубы космические тела! До чего же, оказывается, непрозрачна марианская атмосфера! Пылевой слой, остающийся после песчаных бурь, не позволял видеть звезды такими, как они есть! И только в космосе я ощутил их во всей первозданной красе. И они были разноцветны! Ни на Маре, ни потом на Земе не видел я подобной красоты. Мы летели среди звезд на древнем, восстановленном нами космическом корабле «Поиск», используя отрицавшееся прежде на Маре движение без отталкивания. Высокая техника мариан позволила в короткий срок изготовить нужное топливо по записям на пластинах. Мы заняли место шестерых фаэтов, полмиллиона циклов назад искавших на этом же корабле новую планету взамен родной, погибшей… Нас тоже было шестеро: три марианина и три марианки, одна из которых носила древнейшую фамилию первой фаэтессы Мара (по прямой линии происходя от нее!), словно знаменуя своим именем причину, побудившую нас на этот рейс. Это была Эра Луа, дочь добрейшей Лады Луа. До сих пор я не могу понять, как случилось, что она полетела с нами. Эра была тихой и робкой девушкой. На ее лице с правильными мягкими чертами всегда лежал налет легкой грусти. В юности нам, ее сверстникам, не удалось увлечь ее любимым спортом — бегом без дыхания. Она откровенно боялась опасностей и уступала место более сильным и смелым. И вдруг она сумела настоять на своем участии в полете, проявив неожиданное упорство. Эра была врачом. Конечно, она не могла спорить с Карой Яр в яркости, не говоря уже об энергии и отваге, но взгляд ее огромных матово-черных глаз напоминал о поговорке, которую я услышал уже на Земе: «Чем темнее ночь, тем ярче день». Она была необычайно впечатлительной, и первое же испытание, которое выпало ей на долю наряду со всеми нами, далось ей труднее всех. Огромный, наполовину освещенный шар Мара занимал большую часть окна. Хорошо просматривались горные цепи, пустыни, нагромождение кратерных образований вулканического и метеоритного происхождения. В известной степени Мар действительно напоминал блуждающую планету Луа. Светило Сол, обретшее здесь, в космосе, огненную корону, было по другую сторону корабля, и мы без помех могли наблюдать, как быстро вместе с высотой над горизонтом набирает яркость двойная звезда. То, что она двойная, стало заметно не сразу. Это был так хорошо известный нам, марианским звездоведам, спутник Мара Фобо, но, оказывается, вместе с ним по орбите, всегда скрытой от наблюдателей Мара, двигался еще один спутник. В отличие от глыбы осколка, неведомо почему не упавшего на Мар, чтобы образовать там еще один из обычных кратеров, спутник спутника оказался искусственной звездой! Он скоро превратился в ослепительное кольцо, наклоненное к радужной оболочке громады Мара. Невольно припоминалась планета Сат с ее удивительными природными кольцами. В свое время я прилежно изучал спутники Мара Фобо и Деймо, но мог ли я предположить, что вблизи них есть еще космические тела, да еще и искусственного происхождения! Высказать это при учителе Вокаре Несущем — значило нанести ему незаслуженное оскорбление. Мы назвали искусственный спутник близ Фобо базой Фобо. Он представлял собой исполинское колесо с толстым закругленным ободом и массивными спицами, внутри которых, очевидно, двигались подъемные клети, доставляющие обитателей в служебные помещения. В ободе благодаря вращению космического колеса должно было создаваться ощущение привычной тяжести. Определив размеры обода и скорость его вращения, я тотчас вычислил, какова была погибшая планета Фаэна, обладавшая такой гравитацией. Оказалась она размером почти вдвое больше Мара, приближаясь по объему к Земе. Колесо станции как бы сидело на длинной оси, уходившей серебристой нитью к звездам. Это была древняя оранжерея, где фаэты выращивали съедобные плоды. По другую сторону от нее к колесу станции примыкал громоздкий барабан из соединенных в обойму цистерн для горючего. Со смешанным чувством восхищения и грусти смотрели мы на древнейшее сооружение, откуда фаэты покинули космос, чтобы переселиться на Мар и дать жизнь потомкам. Скоро мы должны были увидеть внутренность сооружения, где полмиллиона циклов назад жили наши предки фаэты. Мог ли кто-нибудь из нас подумать, что мы увидим их самих! Эра Луа первая заметила ничтожную песчинку, которая почти сливалась с серебристым массивом станции. Пилот нашего корабля инженер Гиго Гант, в короткий срок овладевший управлением «Поиска», отыскивал место стыковки с базой Фобо. Письмена фаэтов указывали, что корабли причаливали в центре барабана с баками, напротив оранжереи. По мере того как Гиго Гант подкрадывался к космическому сооружению, на наших глазах серебристая песчинка превратилась в свободно летящую рядом со станцией, одетую в серебристую одежду (но не в скафандр!), сохраненную холодом и пустотой межзвездного пространства фаэтессу. Она по своей воле, как мы потом узнали, стала вечным спутником станции. Нас поразило ее надменное, застывшее во властном высокомерии лицо, сросшиеся в гневную прямую брови, серебристые неприбранные волосы. Прочтя потом воспоминания ее мужа, дополненные ею самой, мы узнали, что видели Власту Сирус, осужденную пожизненно оставаться на станции вместе с другими виновниками войны распада между космическими базами. После смерти (не без ее участия) остальных осужденных Власта Сирус не выдержала полного одиночества и выбросилась в космос без скафандра. Эра Луа, еще ничего не зная о преступлениях фаэтессы, ставшей космической мумией, рыдала. Она даже отказывалась войти с нами в космическую станцию после того, как Гиго Ганту удалось причалить к ней. — Я не могу, Инко Тихий. Я боюсь увидеть еще кого-нибудь из них. Почему не все спустились на Мар? Как это жестоко! — Из каких же соображений ты, Эра Луа, настояла на своем участии в Миссии Разума, если не находишь в себе сил встретиться с первой же загадкой? — язвительно осведомился Нот Кри. Моя сестра Ива Тихая стала утешать Эру Луа. — Я готова на все во имя Миссии Разума, — сказала Эра сквозь слезы. — Я готова пожертвовать собой ради живых братьев, если мы найдем их. Но не заставляйте меня встречаться с мертвыми, пусть им даже миллион циклов. Я не вынесу этого. Оставлять Эру Луа на корабле одну мы не решились. С ней вызвалась побыть Ива. Нот Кри, Гиго Гант, Кара Яр и я перешли через носовой шлюз корабля в центральный отсек станции. Магнитные подошвы наших башмаков звонко щелкали по металлу, удерживая нас от парения в невесомости. Воспользоваться спицей, в которой когда-то двигалась клеть подъемного устройства, доставлявшего фаэтов в обод колеса, мы не могли. Энергетические источники здесь давно иссякли. Пришлось подниматься, вернее, спускаться по другой спице, где были обыкновенные лестницы. Первым, как руководитель Миссии Разума, двигался я, за мной Кара Яр, потом Нот Кри. Шествие замыкал великан Гиго Гант.Инженер Гиго Гант был из того глубинного города, где мы в последний раз пополняли запасы кислорода на пути к заброшенному Городу Жизни. Я помню, как он подошел ко мне и моей матери, смущенно глядя сквозь очки с высоты своего огромного роста, и, теребя рыжую бороду, сказал: — Если вам нужен будет инженер, который может быть и грузчиком и сиделкой, возьмите меня с собой! Мы вспомнили о нем, когда был открыт Тайник Добра и Зла и надо было решать вопрос, как восстанавливать «Поиск». Гиго Гант примчался в заброшенный город на вездеходе, не посчитавшись с песчаной бурей. Это он нашел все оборудование с корабля «Поиск». Внимательно осмотрев и изучив остов «Поиска», служивший с незапамятных времен городским шлюзом, сравнив его с найденными в тайнике чертежами, Гиго Гант уверенно заявил: — Фаэты не могли уничтожить оборудование корабля. Если они сохранили даже его корпус со всеми креплениями неизвестных нам приборов и аппаратов, несмотря на голод в металле, который должны были ощущать, то логично с их стороны было бы надежно спрятать и само оборудование корабля. С той же логичной последовательностью обследуя помещение тайника, дверь в который опускалась на пол, как я уже говорил, он догадался, что, открываясь внутрь, она одновременно закрывает вторую часть тайника. Совместными усилиями мы приподняли опрокинувшуюся на пол стену и действительно обнаружили под ней скрытую пещеру. Пещера была наполнена приборами и аппаратами, в назначении которых стали с увлечением разбираться Гиго Гант и Нот Кри. Но чем светлее становилась улыбка на широком и добродушном лице Гиго Ганта, тем сдержаннее, холоднее был Нот Кри. — Почему ты помрачнел? — допытывался у него Гиго Гант. — Ведь нет сокровища большего, чем то, что в наших руках! Мы без промедления установим все это на сохранившемся корпусе корабля и полетим. Нот Кри озабоченно покосился на Мону Тихую. — Истинный разум, друг мой, призван заглядывать дальше, глубже, и я озабочен тем, что здесь десятки тысяч деталей. Их нужно будет изготовить в наших мастерских для второго корабля типа «Поиск», которому надо будет вылететь на Луа, ежели разведка «Поиска» подтвердит существование наших разумных братьев на Земе. — Что ты хочешь этим сказать? — простодушно спросил Гиго Гант. — Полагаю, что соорудить на Маре второй корабль неизмеримо труднее, нежели собрать из готовых деталей первый. — Ты прав, — живо отозвался Гиго Гант. — Но, логически продолжая твою мысль, приходишь к выводу, что трудность сооружения корабля значительнее, чем полет на нем. — Потому я и намерен выбрать для себя наитяжелейший путь. — Вот как! — иронически воскликнул Гиго Гант. — Путь от пещеры к пещере!.. — Я готов принять на себя руководство строительством нового корабля. Более того. Путь мой поведет не только от пещеры к пещере, но и на Луа, куда я полечу на новом корабле, дабы опасными взрывами распада изменить ее орбиту. Гиго Гант, извиняющимся жестом прижав руки к груди, церемонно раскланялся. Кара Яр не выдержала: — Тебя, Нот Кри, можно понять и так, что ты уклоняешься от полета с нами потому, что второй полет может и не состояться. — Как можешь ты так говорить! — возмутился Нот Кри. — Кто смеет так подумать обо мне, никогда не дававшем повода к подобным подозрениям. — Это не подозрение. — Я рад, что ты не подозреваешь… — облегченно вздохнул Нот Кри. — Это уверенность, — отрезала Кара Яр. Обе Матери Совета слышали этот разговор. — Пусть не терзает Нота Кри беспокойство о сооружении второго корабля, призванного лететь на Луа, — сказала Мона Тихая. — Чтобы успокоить всех, я объявляю, что сама буду наблюдать за постройкой нового «Поиска» и сама полечу на нем. — Ты? — изумилась Лада Луа. — Пристало ли это первой из Матерей? Имеет ли она на это право? — Она не имеет права только доверить тайну взрыва распада никому, кроме себя, — решительно сказала Мона Тихая. Так и случилось, что Нот Кри все-таки остался в составе нашей экспедиции. Но как попала в нее Ива? Помню, как я удивился, увидев ее среди немногих допущенных на Совет Матерей, в той самой сталактитовой пещере, где когда-то судили меня, Нота Кри и Кару Яр. Ива робко попросила, чтобы ей позволили сказать. Она очень волновалась: — Я только вступаю в жизнь, но я… всегда мечтала принести окружающим пользу. У нас на Маре все очень хорошо устроено. Так хорошо, что заметную пользу очень трудно принести. Надо иметь выдающийся ум. А я — самая незначительная из марианок. У меня нет никаких способностей. Позвольте мне, помогите мне оказаться в таких условиях, чтобы даже я могла сделать большое. Я хорошо бегаю без дыхания. Я обещаю быть старательной помощницей любому участнику полета. Позвольте мне… помогите отдать нашим братьям по крови и разуму свою ничего не значащую жизнь. Я буду очень счастлива… Мона Тихая с суровым лицом поддержала дочь, хотя ей сделать это было труднее всех. Это произвело решающее воздействие на остальных Матерей, и Ива Тихая была включена в состав Миссии Разума. Впоследствии, претерпев с участниками этой Миссии немало невзгод, я задумывался над тем, исходя из каких принципов комплектовался ее состав. Очевидно, если это поручено было бы марианам, подобным мне или Ноту Кри, они комплектовали бы экипаж «Поиска», сообразуясь с холодным расчетом — пользой, какую может оказать каждый участник экспедиции. Другое дело Матери. Для них чувства участников Миссии. Разума были главным, а все остальное побочным. Если Ива, моя сестра, любила брата, не говоря уже о ее готовности отдать себя делу Миссии, то это было решающим аргументом в ее пользу. То же самое и в отношении Эры Луа. Матери угадывали то, что мне предстояло узнать много времени спустя в самых тяжелых условиях в пору бедствий на Земе. Вот почему две такие марианки, как Эра и Ива, оказались среди нас. Я не говорю о Каре Яр, которая вошла в состав Миссии Разума как одна из ее организаторов. Совет Матерей стал тщательно обсуждать задачи нашей экспедиции. — Мне кажется, — сказал Нот Кри, — что основным нашим заданием надлежит считать выяснение вопроса, есть ли на Земе разумные обитатели, сколь они похожи на нас, и незамедлительное сообщение об этом на Мар. Задерживаться на планете ради тех похвальных, но едва ли выполнимых целей, о которых здесь говорила Ива Тихая, на мой взгляд, нецелесообразно. Я рассчитал и хочу познакомить со своими расчетами Совет Матерей, Совет Любви и Заботы: есть полная возможность обойтись без строительства нового корабля, поскольку вылет «Поиска» и достижение им Земы чрезвычайно приближены находками нашего замечательного инженера и философа Гиго Ганта. Ежели мы обнаружим на Земе разумных ее обитателей и без промедления вернемся на Мар, то сможем успеть на этом же корабле вылететь на Луа, дабы произвести там взрывы распада. Мне пришлось возразить на его длинную речь: — То, что предлагает Нот Кри, не будет Миссией Разума. Это будет лишь трусливой вылазкой и поспешным бегством с Земы от наших братьев, которым грозит смертельная опасность. Я думаю, что мы, мариане, не можем так поступить. Уж коль скоро мы достигнем обитаемой планеты, уровень цивилизации на которой может быть ниже нашего, то должны помочь им подняться на более высокую ступень культуры. — Не хочешь ли ты, Инко Тихий, сказать, что нам долженствует непременно погибнуть вместе с обреченными земянами на их незадачливой планете? — не сдержавшись, выкрикнул Нот Кри. — Нет, я не хочу этого сказать. Но когда Мона Тихая произведет взрывы распада на Луа, мы должны быть с нашими братьями по крови и разуму, чтобы поддержать их и убедить, что мариане помогут им, спасут их! — Может быть, ты, Инко Тихий, намереваешься построить там глубинные города, похожие на наши марианские, и укрыться в них вместе с наиболее ценной частью населения Земы? — Нет, Нот Кри. Миссия Разума совсем в ином, как я ее понимаю. Матери поправят меня, если я не прав. Наша Миссия — нести Знание, Счастье и Веру в будущее нашим братьям по крови и разуму, а не спасать избранных. Спор продолжался. Нот Кри становился все язвительней. Кара Яр, уверенная и холодная, стояла на моей стороне. СоветЛюбви и Заботы, Совет Матерей принял решение: наша Миссия Разума должна не только разведать Зему, но и помочь ее разумным обитателям (если они там есть), помочь им поднять их цивилизацию (если она уступает нашей), способствовать устройству их общества на справедливых началах, давно восторжествовавших на Маре (если оно еще не существует на Земе). Последней к нашей экспедиции примкнула Эра Луа, о которой я уже говорил. Только много позже, чем члены Совета Любви и Заботы, уже на Земе я понял, что руководило этой изумительной девушкой, которой нужно было преодолеть не только все трудности, выпавшие на общую нашу долю, но и победить саму себя. Она, оставшись на корабле, не ощутила, как мы, перебравшиеся на Фобо, двойной, пригибающей к полутяжести, не видела внутренних помещений станции. Меня они ошеломили своей продуманностью, свободой исполнения, не связанной с выдалбливанием келий и использованием пещер. Я поражался высоте культуры фаэтов и пожалел, что Ива с Эрой не видят их творений. Я лишь не мог понять, как сочеталось все это с самоубийственной войной распада, которую фаэты развязали.
Глава шестая ПЛАНЕТА ЖИЗНИ
Корабль «Поиск» проходил через плотные слои атмосферы. Гиго Гант был прирожденным пилотом. Не только с помощью автоматов, но и благодаря безошибочному чутью он тормозил корабль трением об атмосферу ровно настолько, чтобы не перегреть его оболочку. В иллюминаторах проносилось бушующее пламя, словно мы спускались чуть не на само светило Сол. В кормовых иллюминаторах виднелось другое пламя. Оно с неиссякающей силой било из направленных сейчас вперед жерл двигателя. Мы словно отталкивались от выброшенных вперед раскаленных газов и тем тормозились. В этом и заключался принцип движения без отталкивания (от неподвижной среды). Мы как бы создавали ее струей газов впереди себя. Поверхность планеты скрывал плотный слой облаков. Кое-где виднелись голубые, зеленые, коричневые и желтые пятна. Сверху слой облаков казался белой пустыней, сверкавшей в лучах здешнего неистового светила Сол, которое на Земе зовут Солнцем. В дальнейшем я тоже буду так называть его. Облака были парами воды! На Маре это даже трудно представить, и ничто тогда не могло так поразить наше воображение, как это открытие! Не найти знакомого марианам образа, чтобы передать, как выглядели эти земные облака. Вначале я увидел их сверху, потом долгие годы не уставал любоваться ими снизу. Разглядывая в первый раз облачный покров, я подумал, что, может быть, это море. Однако мне вспомнились наши пустыни и полярные шапки, впервые увиденные нами во время полета. Ведь на Маре до нас не летали! Облачный покров напомнил наши пустыни полюсов. Местами здешняя белая пустыня становилась гористой (как и на Маре). Ослепительные холмы поднимались причудливыми клубами, отбрасывая резкие тени. Вдаль тянулись ровные ряды белых барханов. Потом корабль вошел в облачный слой и вырвался из него уже почти над самой поверхностью планеты. Долго в иллюминаторы ничего не было видно, кроме туманных полос. И внезапно внизу открылось зеленое море с расплывчатой дымкой по всему исполинскому кругу горизонта. Вода! Мы были готовы к этому, понимая, что придется выбрать для посадки сушу. Ведь Зема должна так отличаться от Мара, где, кроме суши, ничего нет!.. Однако вода ли внизу? Эра Луа вскрикнула от радости. Она работала с прицельным анализатором и только теперь поняла, что это растения! Нот Кри сейчас же усомнился в этом. А Кара Яр, ухватившись за металлическую раму иллюминатора, восхищенно смотрела вниз, вся подавшись вперед. Гиго Гант заметил в зеленом море желтый островок. Это оказалась поляна, покрытая цветами. На нее-то, в облако серого дыма от двигателей, потом и сел мягко, как на подушку, наш корабль «Поиск». Жадно прильнули мы к окнам, не веря глазам. Можно ли было представить себе такое щедрое, расточительное богатство жизни! Заросли растительности превосходили всякое воображение. Деревья и сросшиеся с ними кустарники переплетались внизу непреодолимой зеленой сетью, через которую можно было лишь прорубаться острым оружием. Какими жалкими по сравнению со всем этим выглядели наши марианские заросли в оазисах! И сразу же мы заметили живые существа. Они были синие, красные, оранжевые и суетились на ветках, срывались с них, распуская в стороны конечности, покрытые любопытными образованиями, позволявшими использовать плотность воздуха для летания. Они были разной величины и самых ярких раскрасок. Некоторые из них, совсем крохотные, быстро двигая летательными конечностями, которые на Земе зовут крыльями, почти стояли в воздухе, будто на них не распространялось местное, столь тягостное для нас тяготение. Когда сквозь поредевшие облака пробилось солнце, они засверкали всеми переливами радуги. Нам не терпелось выйти из корабля. Гиго Гант, посоветовавшись со мной, выбрал для посадки эту поляну цветов. Сверху мы с ним заметили вдалеке не то скалы, не то сооружения, быть может, даже город земян. Не следовало сразу появляться там. И мы опустились в зарослях. Смолк рев двигателей, но непосильная тяжесть продолжала придавливать нас к полу кабины, словно перегрузка торможения еще не кончилась. Каждому казалось, что он взял на плечи одного из спутников. Особенно тяжко было нетренированной Эре Луа. Она держалась мужественно, а я утешал ее, что в скафандре с манипуляторами ей будет легче. — А я уже боялась, что мне здесь и шага не сделать, — улыбнулась она в ответ. Конечно, выходить можно было только в скафандрах. У нас в них был нелепо устрашающий вид. Достаточно было посмотреть на моих спутников, чтобы убедиться и этом. Это не были привычные нам марианские легкие скафандры, это были тяжелые скафандры фаэтов, в которых они побывали на Земе. Их было шесть. Один из них был рассчитан на гиганта Гора Зема и, к счастью, так же хорошо подошел Гиго Ганту, как мне впору был костюм Аве Мара. Состав воздуха Земы был вполне пригоден для дыхания. Большое содержание кислорода должно было помочь нам в преодолении местной двойной тяжести. Мы знали, что нам придется защищаться от неведомого мира болезнетворных существ. Правда, фаэты передали нам в письменах, как они приспособились к чуждым условиям, и дали рецепты пилюль, которые нам изготовили врачи на Маре. Я смотрел на Эру Луа и не узнавал ее ловкой, изящной фигурки. Жесткий костюм с ободом на уровне бедер, надутые штанины, вмещающие в себя манипуляторы для ног, пузыри рукавов, где помещались манипуляторы, умножающие силу рук. На плечах — заглушенные заслонками люки для осмотра плечевых механизмов. Герметический шлем со щелевидными очками, защищавшими фаэтов, непривычных к столь яркому свету, от неистового сияния земного солнца; широкий воротник, свободно пропускающий голову в шлем, внизу которого — дыхательный фильтр с множеством дырочек; цепные застежки, скрепляющие воротник шлема со скафандром и соединяющие его части; наконец, сам скафандр: жесткий, непроницаемый, украшенный излюбленными фигурами фаэтов — спиралями. Кстати, если вдуматься, то фигура эта совсем не случайна. Ведь любое разумное существо, где бы оно ни обитало в звездном мире, узнает в ней образ галактики. На груди скафандра были две выпуклости, скрывавшие приборы электромагнитного поиска и усилители звуков. Мир звуков, непостижимых для марианина, обрушился на нас, ошеломил, опьянил… Заросли жили. Лес был наполнен живыми существами! Перед нами было самое пышное изобилие жизненных форм, не идущее в сравнение с бедной и скудной планетой Мар, миром безводных пустынь, выбитых в скалах пещер и единственного зверька — остродышащей ящерицы. В лесу было темно, хотя в верхних ветвях деревьев царил свет. Ниже, куда проникали лишь солнечные пятна, был вечный сумрак, а у земли — настоящая ночь. Там светились огоньками глаза неведомых зверей. По совету древних фаэтов мы были вооружены. Но только парализующим, а не убивающим оружием, готовые применить его для защиты в случае крайней необходимости. Первое животное, которое мы рассмотрели, заставило гулко забиться мое сердце. Я первым увидел его, а вслед за мной Эра Луа. Из чащи, с одной из нижних веток, на нас смотрело лицо… марианина! Да, марианина или фаэта, но словно изуродованное насмешливой природой. Лицо, а вернее, морда, заросшая короткой темной шерстью и обрамленная белой кромкой волос по всему овалу; круглые обводы глаз и сами глаза, тоже круглые, опушенные словно сединой. Это мохнатое существо висело на гигантской мускулистой руке с пятью могучими пальцами. Задние, болтавшиеся в воздухе конечности были короче, но тоже имели развитые, как на руках, кисти с пятью пальцами. Неужели это и есть наши братья по крови и разуму? Ради них мы и прилетели сюда? Какими же чудищами должны были выглядеть мы в их глазах! Я сделал шаг по направлению к местному жителю, дружелюбно протянул ему вместо руки манипулятор. Но существо, громко защелкав, с непостижимой ловкостью перепрыгнуло с ветки на ветку и скрылось в сплетениях листвы. Мы с Эрой Луа, которая не отходила от меня, обменялись мыслями по поводу странного существа, отдаленно напоминавшего фаэтов или мариан. Неужели на Земе неуклонное развитие и приспособление организма к местным условиям могло настолько изменить облик фаэтов? Ведь мы, мариане, внешне не отличаемся от фаэтов, что стало ясно после встречи с космической мумией, сохранившей в неприкосновенности все древние черты… — Мы создавали в пещерах Мара условия Фаэны, — заметила Эра. Я понял все, что она хотела этим сказать, и содрогнулся от мысли, что наши братья по крови и разуму именно таковы, как висящее на руке мохнатое существо. Местные условия сделали их такими! — Как же нам убедить взобравшихся ныне на ветки потомков фаэтов, что мы их братья и пришли помочь им? — скорее самого себя, чем Эру, спросил я. — Никакой одежды, — чисто по-женски, но не без логичности заметила Эра. — Если это действительно потомки разумных, то бедняги совсем одичали. Эра подметила верно. Конечно, одежда характеризует уровень цивилизации. Впрочем, это зависит от условий существования, от климата. В теплом поясе, куда мы опустились, разумным могли и не требоваться одежды или скафандры, предохраняющие от холода или атмосферы. О дожде мы тогда и понятия не имели. — Инко, Инко! — услышал я в шлемофоне переданный электромагнитной связью голос Кары Яр. — Здесь лежит настоящий фаэтообразный, почти голый. Он, кажется, парализован. Нужна Эра, ее врачебная помощь. Мы с Эрой быстро, насколько нам позволяли неуклюжие скафандры с манипуляторами, переваливаясь с боку на бок, заковыляли к другой стороне поляны, обогнув посадочные лапы космического корабля. Наперерез нам спешили Гиго Гант с Ивой. Я убедил всех ходить только пирами во избежание неожиданностей. Я готов был увидеть уже знакомое, заросшее шерстью существо с длинными передними конечностями и кистями рук на задних, однако увидел почти голого, лишь в набедренной повязке самого настоящего марианина (или фаэта!), распростершегося перед громоздким скафандром Кары Яр. Неужели Нот Кри, несмотря на мое дружеское предостережение, применил парализующее оружие против местных жителей? Но я оказался не прав, подумав так о Ноте Кри. Какие бы, у меня ни были к нему претензии на Маре, как бы мы ни расходились там с ним во взглядах, во время путешествия он был примером отваги, находчивости, выдержки. Да, именно выдержки! Они натолкнулись на земянина, и Нот Кри сдержался от первоначального намерения заполучить экземпляр разумного с помощью парализующего оружия. Да это и не понадобилось! Земянин страшно испугался чудовищ, какими мы должны были ему представиться. Оказывается, он видел из зарослей, как мы спустились на огненном хвосте в своей чаше с неба и вышли потом из огня и дыма. Вид наш превосходил даже изощренное воображение жрецов, рисовавших для устрашения народа своих богов. Фантазия все-таки отталкивается от знакомого, известного, видоизменяя, преувеличивая, соединяя знакомые черты. А мы… Я представляю, как испуган был примитивный и суеверный земянин, скрывавшийся в чаще от себе подобных (как потом узнали), чтобы не быть убитым на жертвенном камне. Появление «богов» с неба он воспринял как возмездие «беглецу священного алтаря». Он вообразил, что мы прилетели специально за ним. И он упал без чувств к ногам «богов». Кара Яр подумала, что он парализован. Но Эра Луа скоро установила, что у бедняги просто нервный шок. Мы с интересом рассматривали его мускулистое, тренированное тело спортсмена, покрытое безобразными рисунками, и рассуждали. — Это, несомненно, потомок фаэтов! Он такой же, как мы, только более красивый, — решила Кара Яр. — Не спеши так думать, Кара Яр, — возразил Нот Кри. — Строго говоря, в пользу этого мало доказательств. Внешнее сходство еще ни о чем не говорит. Разумные существа могли развиться здесь, на Земе, из более примитивных, достигнув наиболее благоприятной для зарождения разума формы. Естественно, что эта форма может совпадать с той, которую достигли фаэты на Фаэне. Кара Яр не стала спорить с Нотом Кри. Забегая вперед, должен сказать, что он так и остался до конца при этом своем мнении. — Чтобы решить этот спор, надо познакомиться с внутренним миром земянина, — предложил я. Мы решили перенести его в корабль и там привести в чувство. Ведь через нашего нового знакомого можно было установить связь с теми, ради которых мы прилетели сюда. Гиго Гант взвалил себе на плечи нашего гостя (Не хочу сказать — пленника) и понес его к кораблю, даже не включив, как он признался, ножные манипуляторы. Ему хотелось скорее приспособиться к земным условиям, и, надо отдать ему должное, он преуспел в этом. Бесчувственного земянина внесли в общую каюту и положили на ложе. Эра и Ива первые освободились от скафандров, мы помогли им в этом, чтобы они, накинув халаты, скорее оказали помощь земянину. Потом стал снимать скафандр и я. Хочу остановиться на этом, потому что мое разоблачение произвело на земянина необычайное впечатление. Мои спутники уже привыкли к тому, что мне приходилось обнажать свое тело. Для нас, спортсменов Мара, это было естественным. Я не успел надеть на себя обычный костюм, когда земянин пришел в себя. Он обвел каюту глазами, увидел склонившихся над ним женщин Эру и Иву, увидел исполинское чудовище со снятой головой, каким показался ему Гиго Гант, освободившийся лишь от шлема. Из скафандра выглядывало его рыжебородое лицо в очках. Рядом с ним вылезал из скафандра (снимая с себя кожу!) Нот Кри, недоверчиво смотревший на нашего гостя. А я, сбросив скафандр, полуобнаженный, подошел к нему. Кара Яр наблюдала за всем происходящим, стоя у люка с парализующим оружием в руках, недоверчивая и решительная. Кто знал, что могло произойти. Но того, что произошло, никто не мог предположить. Сначала земянин в ужасе смотрел на превращение «богов», похитивших его, потом перевел взгляд на меня. Лицо его, искаженное сначала ужасом, преобразилось. Страх, надежда, радость попеременно отразились на нем. Он упал на колени и протянул ко мне руки. — Топельцин! О Топельцин! — возглашал он. Мы не понимали, что хотел он сказать этим словом. Но хорошо, что он умел говорить! Он ударял себя в грудь и, словно пытаясь что-то пробудить в моей памяти, кричал: — Чичкалан! Чичкалан! Оказывается, как мы потом узнали, это было его имя, что означало «Пьяная Блоха». Блоха — это местное насекомое, обладающее необыкновенной способностью очень высоко прыгать (и кусаться). Понятие же «пьяная» добавлялось в знак приверженности умеющего высоко прыгать земянина к одурманивающему средству, приближающему его на время к уровню примитивных существ. Чичкалан подполз ко мне на коленях и протянул руку. Я удержался, чтобы не отступить, не понимая, чего он хочет. А он дотянулся до моего шрама на груди, следа ранения осколком метеорита. Ощупав его и убедившись, что шрам приходится как раз под моим сердцем, он закрыл ладонями лицо и зарыдал, непонятно приговаривая: — Топельцин! Пусть Топельцин узнает Чичкалана, своего друга. Без Топельцина игровой отряд проиграл. И Чичкалан бежал от жрецов. Мы недоуменно переглядывались. Земянин что-то хотел передать нам своими несомненно членораздельными звуками. Но что?Глава седьмая ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Чичкалан оказал нам неоценимую услугу в изучении языка земян. Впоследствии мы узнали, что жители Земы, или Земли, как они называют свою планету, говорят на множестве языков, живя разобщенно и враждебно. Мы не подозревали, что наша Миссия Разума встретится с такой серьезной трудностью. Накануне столкновения планет мы могли влиять своим присутствием лишь на небольшую группу людей, не имея никакой надежды на связь с другими материками. — Следует признать полную несостоятельность нашей задачи, — настаивал Нот Кри. — Что даст наша деятельность на ничтожной точке огромной планеты? Мы установили ее обитаемость разумными существами (вероятно, местного происхождения) и должны незамедлительно вернуться на Мар с этим сообщением. Наш долг будет выполнен. Однако все остальные участники Миссии Разума, и прежде всего мы с Карой Яр, не согласились с Нотом Кри. Было решено доложить о наших открытиях Совету Матерей с помощью электромагнитной связи, а самим войти в непосредственный контакт с жителями города Толлы, откуда бежал наш гость Чичкалан. Нам на Маре не приходилось изучать чужие формы общения. Все там говорили на одном языке, по-видимому образовавшемся от слияния двух древних языков Фаэны. И все же методика овладения чужепланетной речью была разработана «изучающими» еще на Маре. Это облегчило наше положение на Земе. К тому же нам повезло с помощником. Чичкалан считал, что выполняет волю «богов», и беспрекословно покорялся им. Мы усыпляли Чичкалана внушением, и с ним устанавливался непосредственный мысленный контакт. Мы узнавали его детски наивную психологию, но, главное, каждому его слову соответствовал определенный образ, характеристика или действие. И мы начинали применять чужие слова, понятия, наконец даже обороты речи. Скоро язык Мара почти перестал для нас существовать, мы заставили себя на какое-то время отказаться от него, общаясь между собой только на языке земян. Наш простодушный «учитель» даже не понимал, что это он научил нас говорить по-земному. Он воображал, что «боги» владеют людской речью, потому что прежде жили на Земле. Меня же он продолжал считать сыном Верховного Вождя Гремучего Змея, своим другом Топельцином, принесенным в жертву Сердцу Неба для смягчения его гнева. Тем не менее блуждающая звезда Луа, как мы зовем ее на Маре, сотрясла тогда Зему, вызвав тяжелые бедствия. Когда я уже смог свободно общаться с ним, Чичкалан сказал мне: — Если любимец народа Толлы воскрес и вернулся на Землю (этим названием планеты на языке земян я отныне и буду пользоваться), прилетел вместе с другими богами, повелевая Летающим Змеем, то он и есть бог Кетсалькоатль! Кетсалькоатль на его наречии означало Пернатый или Летающий Змей. Тщетно я пытался объяснить ему, что мы — жители другой планеты. Мои слова лишь еще больше убедили его в том, что я бог Кетсалькоатль, воплотившийся в тело принесенного в жертву богам юноши. И он убеждал меня: — Чтобы осчастливить людей Толлы, Топельцину надо милостиво признаться, что он вернулся к ним в образе бога Кетсалькоатля. Ему будут радостно поклоняться, его будут благоговейно слушать. Слушать во всем! «Слушать во всем!» Было над чем задуматься. Ведь это совпадало с задачей нашей Миссии Разума! Однако смею ли я обманывать наивных невежественных людей? Я попытался объяснить это Чичкалану, но он не понял меня: — Какой же это обман? Если юного Топельцина убили на глазах у Чичкалана, а Топельцин теперь снова жив, да еще и со шрамом под сердцем, то это может быть лишь по воле богов. Они вернули Топельцину сердце и взяли его в свою семью. Чичкалан сразу узнал Топельцина. Когда понадобится возвестить народу Толлы о возвращении Топельцина в образе бога, то его узнает не только Пьяная Блоха. — Кто же еще? — поинтересовался я. — Как кто? — с хитрецой сказал Чичкалан. — Или Топельцин забыл там на небе свою любовь, девушку Шочикетсаль? На местном языке это имя означало Летающий Цветок или Мотылек. — Уж она-то сможет доказать, что бог со шрамом под сердцем — это ее любимый, — продолжал Чичкалан. — Женщины в таком деле не ошибаются. Я поежился: эта встреча отнюдь не радовала меня. Неожиданную позицию занял Нот Кри. — Ты не имеешь права отказаться от подобного предложения, — внушительно заговорил он на нашем родном языке. — Уж ежели мы решились вопреки здравому смыслу выполнять безрассудную задачу Миссии Разума, то не можем считаться с такими несообразностями, как щепетильность. Чтобы учить земян разуму, надлежит пользоваться любой возможностью, дабы заставить их повиноваться. — В самом деле, Инко Тихий, — вмешалась Кара Яр. — Ты лишь временно позволишь называть себя богом Кетсалькоатлем. Когда люди поверят тебе, изменят свой образ жизни, откажутся от ужасных человеческих жертвоприношений, ты откроешь им, что все мы лишь пришельцы с другой планеты. — Инко, — тихо сказала Эра Луа. — Я дрожу от одной мысли, что похожий на тебя юноша был зарезан на жертвенном камне. Если ты станешь, пусть временно, «богом», то сможешь запретить убийства. Отчего же тебе не назваться Кетсалькоатлем. Разве не в этом твой Долг? — Милый Инко, — добавила Ива, — с ними, наверное, надо обращаться как с маленькими детьми. Если им понятнее, что ты какой-то там «бог», которого надо слушаться, то пусть будет так. — Доказывать людям на их теперешнем низком уровне развития, что их планета была заселена когда-то фаэтами с погибшей Фаэны и что современные люди — их потомки, а мы — прилетевшие к ним братья по крови, едва ли логично, поскольку не сможет никого убедить, — заключил наш философ Гиго Гант. Так было решено, что я в сопровождении остальных «богов» явлюсь в Толлу под видом воскресшего Топельцина, ставшего богом Кетсалькоатлем. Мне было стыдно обманывать земян, но я не мог не согласиться со своими товарищами, что это был самый простой и надежный путь к невежественным умам жителей Толлы. Чичкалан, узнав о нашем решении войти в Толлу, без всяких колебаний заявил: — Воскресшего Топельцина будут ждать как бога. Чичкалан сам объявит о нем жрецам. — Но Чичкалана зарежут на камне, — на языке земян испуганно сказала Ива. Чичкалан замотал головой: — Боги добры, потому что они не люди. Люди все жестоки. Но Чичкалан не боится их. Пусть его даже схватят и потащат на жертвенный камень. Великий бог Кетсалькоатль отменит жертвоприношение. — А если не успеет? — спросила Эра Луа. — Если не успеет, — беспечно ответил Чичкалан, — то он на небе вернет Чичкалану сердце и сделает его таким же приближенным к себе богом, как и тех, других, кто побывал на жертвенном камне. Он был уверен, что все мы прежде жили на Земле! — Чичкалан знает, как сделать, чтобы люди Толлы узнали божественного Топельцина, — продолжал он. — Первое — это женщина! Пьяная Блоха приведет ее сюда тайно от всех. — А второе? — поинтересовался Гиго Гант. — Второе? — Земянин хитро улыбнулся и посмотрел на меня. — В игровом отряде Чичкалана не было игрока быстрее и искуснее Топельцина. Он еще не был богом, а его уже боготворили жители Толлы, любящие великолепное зрелище священной игры в мяч. Эра Луа с тревогой посмотрела на меня. — Очень может быть, что тебе придется сыграть для них в мяч, — не без иронии сказал Нот Кри. — При любимце народа Топельцине игровой отряд Чичкалана никогда не проигрывал. Но не стало Топельцина, и Чичкалану пришлось бежать от жрецов, которые хотели тащить его на жертвенный камень. Возможно, что я несколько растерянно посмотрел на своих товарищей. И встретился взглядом с Эрой Луа. — Мне кажется, — смущенно сказала она на нашем родном языке, — Инко должен остаться самим собой. Не надо девушку, которую приведет наш гость, делать еще более несчастной. Разве не лучше открыться ей во всем. Ведь она женщина, поймет все и станет нашей союзницей. Кара Яр пожала плечами. Ива поддержала Эру Луа. — Главное, показать себя на игровом поле, — заметил Гиго Гант, — займемся твоей тренировкой. — Словом, Инко Тихий, тебе предстоят серьезные испытания, — заключил Нот Кри. Мы проводили Чичкалана. — Пьяная Блоха ходит как ягуар, — заверил он. — Легче увидеть тень звезд, чем Чичкалана в ночной Толле. И он исчез в сельве.Мы уже выходили из корабля без скафандров, привыкая дышать воздухом Земли. Это было непередаваемое ощущение. Свежий, пряный, пьянящий воздух был насыщен ароматами, о которых мы не могли иметь представление на Маре! Изобилие кислорода обжигало, но давало силы для преодоления двойной тяжести Земли. Нам помогало то, что почти все мы занимались таким тяжелым спортом, как бег без дыхания. Мы были выносливы и упорны. Легче всех стал на Земле человеком, то есть освоился с ее обстановкой, воздухом, тяжестью, Гиго Гант. Труднее всех пришлось бедной Эре Луа. Если все мы добивались своей цели волей, физической силой и неустанными упражнениями. Эра Луа добивалась ее бесконечным терпением и готовностью переносить любые тяготы. Чичкалан неожиданно вынырнул из чащи, когда мы бродили возле корабля. Я сразу заметил Чичкалана, искренне обрадовался ему и встревожился. Было хорошо то, что он вернулся, но он вернулся, очевидно, не один. Предстояло мое первое испытание. Как-то я его выдержу? — Эра Луа будет рядом с Топельцином, — сказала Эра Луа, называя меня земным именем. — Богиня забыла, что такое земная женщина! — воскликнул Чичкалан. — Она ближе к ягуару, чем мужчина, хотя у нее и нет клыков. Но так только кажется. Мы не очень поняли Чичкалана. — Если девушка должна узнать своего любимого, то лишние свидетели не нужны, — заметила Кара Яр. Как она была холодна! Без всякого сожаления она отправляла меня в объятия земной девушки. Я вскинул голову, как принято делать, судя по Чичкалану, у полных достоинства людей, и направился в сельву. Там Мотылек ждала Топельцина. В чаще я увидел девушку. Ее смуглое лицо было как бы выточенное ваятелем, стремившимся выразить затаенное горе и сдерживаемую силу. Но больше всего поражали ниспадающие на ее плечи совершенно седые волосы, заколотые у висков простым, но искусным украшением. Услышав мои шаги, она резко повернулась, глаза ее расширились и замерцали. Чичкалан отстал, наблюдая за нашей встречей издали. — Мотылек! — Я протянул к ней руки. Она с горестной улыбкой смотрела на меня. Очевидно, она подметила во мне что-то чужое, может быть, мою бородку. Недаром Нот Кри настаивал, чтобы я удалил ее. У местных жителей, как выяснилось, не было растительности на лице. Но я неверно истолковал взгляд Мотылька. Оказывается, именно эта бородка, которая могла достаться мне лишь от бородатых предков через мою «мать», плененную рабыню, прежде всего убедила Мотылька, что я Топельцин! — Топельцин! — воскликнула она, бросилась ко мне, прильнула к груди и заплакала. Ее крепкие плечи вздрагивали, а мои ладони ощущали их тепло. Она плакала, дитя Земли, не подозревая, что плачет на груди своего бесконечно далекого брата, лишь случайно похожего на ее погибшего возлюбленного. — Мотылек верит, что Топельцин вернулся? — спросил я, готовый все рассказать этой милой и несчастной девушке. Но я не был готов к проявлению такой буйной радости и нежности, которые земная девушка обрушила на меня. Она гладила мое лицо, бороду, брови, волосы, заглядывала мне в глаза и тихо смеялась. — А годы, годы идут даже и на небе, — сказала она, внимательно изучая мое лицо. — Мотылек тоже очень постарела? И столько неподдельного счастья было в ее словах, в ее улыбке, в ее слезах, катившихся по смуглой коже, что я не в силах был сказать ей, что по совету Эры приготовился открыть. Я не мог, не мог еще раз отнять у нее возлюбленного. Мы уселись с Мотыльком на горбатом корне, взявшись за руки, и ничего не говорили. В этом молчании было мое спасение. Если бы мне нужно было говорить, я лгал бы. Молчать было легче, хотя это тоже был а ложь. Но эта ложь приносила счастье чудесной земной девушке. Я почувствовал на себе чей-то взгляд, обернулся и увидел Эру Луа. Она поспешно отвернулась. Я успел заметить, что у нее вздрагивают плечи. Подошел Чичкалан. Счастливая Мотылек протянула ему руку, и он упал на колени, чтобы прикоснуться лбом к ее пальцам. — Чичкалан — подлинный друг, — сказала она. — Он снова сделал Мотылька счастливой. — И она звонко засмеялась. И этот девичий ее смех так не вязался с ее сединой, что я почувствовал острую жалость к ней. — Сверкающая Шочикетсаль — избранница бога. Сам бог Кетсалькоатль спустился к ней с неба, — сказал Чичкалан. — Мотылек пойдет за ним куда угодно? Хоть на жертвенный камень. — Жертвенных камней — позора людей — больше не будет! — решительно сказал я. Мотылек восхищенно посмотрела на меня. — Он бог! — провозгласил Чичкалан. — Только бог Кетсалькоатль может сказать такое, что повергнет в ужас и трепет всех жрецов. Шочикетсаль узнала его? — Да, Мотылек узнала моего Топельцина. И не потому, что он лицом такой же, каким был перед ударом Сердца Неба, хотя и немного постарел с тех пор. — Почему же еще? — спросил я. — Потому что Топельцин тоже говорил о жертвенных камнях, как о позоре Толлы. Больше никто этого не мог бы сказать. Так еще раз несчастный погибший юноша помог мне пойти в его родной город под его именем, чтобы принести народу разумное. Я почувствовал прилив внутренних сил. Я выполняю великий Долг, ради которого Миссия Разума прилетела на Землю с далекого Мара. Люди Земли должны приобщиться к древней культуре своих предков, должны… любой ценой.
Часть вторая СЫНЫ СОЛНЦА
В человеке, при появлении его на свет, нет ни выраженного зла, ни выраженного добра, а есть только возможность и способность к тому и другому, что развивается в нем средой, где он живет, и воспитанием в семье и обществе.Роберт Оуэн
Глава первая БЕЛЫЙ БОГ
— То-пель-цин! То-пель-цин! Рев толпы перекатывался по трибунам, по обе стороны ткалачи — площадки для ритуальной игры в мяч. Горожане Толлы, вскочив с мест, тряся разноцветными перьями головных уборов и размахивая руками, орали во всю глотку: — То-пель-цин! То-пель-цин! Литой мяч из упругой смолы дерева ачанак с такой силой перелетал через лекотль — черту, разделявшую площадки двух игровых отрядов, — словно каждый раз срывался с вершины пирамиды. Попав в одного из игроков, он способен был не только сбить его с ног, но и убить на месте. Но игроки были опытны, проворны и выносливы. Они отбивали смертоносное упругое ядро, посылая его обратно на половину противника. Прикосновение мяча к каменным плитам площадки каралось штрафным очком, а передача мяча своему игроку воспрещалась под угрозой жертвенного камня. Отбивать мяч можно было только локтями, защищенными стеганой броней, коленями в наколенниках или тяжелыми каменными битами, зажатыми в правой руке. От удара такой биты летящий мяч переламывал нетолстую каменную плиту. А ненароком попав в зрителей, миг искалечить их, не защищенных игровой одеждой. Потому для безопасности скамьи были высоко подняты над игровым полем. Сочувствующие двум сражающимся отрядам обычно рассаживались по обе стороны игрового поля, бурно переживая за своих любимцев, тем более что к случае поражения им грозил узаконенный грабеж. Победители имели право ворваться на враждебную трибуну и отобрать у тех, кто ратовал за побежденных, все, что приглянется: дорогие украшения, красивые головные уборы и даже части праздничной одежды. В отряде Чичкалана сегодня играл, как бывало, Топельцин, любимец народа, чудесно воскресший, узнанный красавицей Мотыльком. Вождь игрового отряда, скрывавшийся от жрецов в сельве, сам видел, что он, как бог, спустился с неба на Огненном Змее в сопровождении грома без дождя. Белокурый бородатый бог, снизошедший до игры с людьми, подобно им, был наряжен в головной убор из черных перьев и упругие панцири из подбитой хлопком кожи ягуара на локтях, коленях и шее. Такая защита предохраняла не только от разящего мяча, но и от ударов боевых деревянных мечей с остриями из вулканического стекла, годясь и для игроков и для воинов. Боги устами жрецов присуждали победу тому или другому отряду по числу штрафных очков. Но бесспорная победа достигалась броском мяча сквозь одно из поставленных на ребро каменных колец, вделанных в стены под трибунами по краям черты, разделявшей игровое поле. Попасть в кольца было чрезвычайно трудно (отверстие едва пропускало мяч). К тому же и опасно. Кольцо изображало свернувшегося священного попугая гаукамайя. Прикосновение к нему даже мячом считалось кощунством и грозило крупным штрафом. Искушенные в математике жрецы подсчитывали очки и не останавливали игры, пока мяч не пройдет сквозь кольцо. Требовалось лишь, чтобы игроки и зрители держались на ногах, а солнце освещало игровое поле. Поэтому противники разящими ударами мяча старались измотать друг друга, вывести из строя побольше игроков. На риск броска сквозь кольцо решались только в крайнем или особо благоприятном случае, когда игрок оказывался у стены прямо перед кольцом.
Толпа ревела. Белый бог не только доказал, что он вернувшийся на Землю прославленный Топельцин, но и сумел поднять священную игру до уровня божественной и заставил всех затаить дыхание. Таких приемов игры еще никто не видел, так играть мог только бог! Гремучий Змей восседал на царственной циновке над каменным кольцом гаукамайя и спокойно созерцал зрелище, которое приводило в неистовое волнение, восторг, даже опьянение всех окружающих. Всех, кроме Змеи Людей, который тоже каменным изваянием высился над кольцом противоположной трибуны. Когда Чичкалан вернулся из сельвы, объявив о сошествии с неба бога Кетсалькоатля, Змея Людей приказал схватить его и распластать на жертвенном камне. Он не хотел слушать его болтовни, потому что не верил ни в каких богов, которым служил, и не допускал мысли, что человек, сердце которого он вырвал собственными руками, будто бы жив и вернулся с зажившим шрамом на груди. Он увидел в этом ловко подстроенную интригу. Возможность такой интриги почувствовал и ненавидевший жреца владыка Гремучий Змей, едва девушка Мотылек, упав к его ногам, поведала о возвращении возлюбленного. Гремучий Змей потребовал привести к нему Чичкалана в сопровождении Великого Жреца. Змея Людей, сдерживая бешенство, вынужден был сопровождать Пьяную Блоху к трону владыки. Войдя в просторный зал, устланный коврами из птичьих перьев, первый жрец сразу же стал грозить владыке гневом богов, если им тотчас не будет принесен в жертву Чичкалан, а также и белокожие обманщики, которых тот якобы повстречал, в сельве. — Зачем Змея Людей грозит гневом тех, кого никто не видел, если народ сам сможет лицезреть живых богов? Не лучше ли попросить их самих, — сказал Гремучий Змей, — смягчить гнев, которого Змея Людей так страшится? — Как может доказать белый бродяга, что он бог? — в ярости воскликнул Великий Жрец. — Пусть владыка смертных прикажет сорвать с Чичкалана путы, которыми скручены его руки, — взмолился Чичкалан, стоявший перед вождем на коленях. — И пусть владыка смертных прикажет игровому отряду Чичкалана сыграть на игровом поле вместе с Топельцином. Народ, наблюдая священную игру, сразу узнает Топельцина и признает в нем бога. Гремучий Змеи затянулся дымом трубки, которую не выпускал изо рта. — В священной игре в мяч не раз решались важнейшие споры между жрецами и правителями городов. Пусть и сейчас боги скажут свое слово на игровом поле.
Гремучий Змей, сидя на циновке власти и невозмутимо попыхивая трубкой, в которой разжег крошеные листья табака, чтобы вдыхать в себя их дурманящий дым, слышал всеобщие возгласы «То-пель-цин!». Он ничем не показал, что очень доволен. Теперь Великий Жрец будет сокрушен, его постигнет кара, с которой не сравнится смерть на жертвенном камне или от боевого мяча. Меж тем белокожий бородатый игрок перешел на площадке к невиданным приемам. Он перестал пользоваться битой, чтобы сильными ударами литого мяча наносить вред партнерам. Улучив миг, когда мяч летел к нему, он отбросил загремевшую по каменным плитам биту и вовсе не отбил мяч, как полагалось, а схватил его на лету, зажав локтями. Дальше произошло невероятное. Кетсалькоатль закинул руки за голову, продолжая сжимать локтями мяч (в этом не было нарушения правил, он касался мяча лишь локтями!), потом легким, точно рассчитанным движением, которое Инко Тихий под руководством Гиго Ганта и Чичкалана несчетное число раз отрепетировал в сельве перед тем, как появиться в Толле, бросил мяч в кольцо. Мяч прошел через отверстие и упал к ногам оторопевшего вождя противоположного игрового отряда. Тот подумал лишь о грозящем ему теперь жертвенном камне, а не о хитроумном новшестве, внесенном богом в поединок на ткалачи. Так закончилась священная игра. Топельцин был не только всенародно узнан, но и провозглашен тут же на игровом поле богом Кетсалькоатлем. Это поспешил сделать сам Великий Жрец, боявшийся отстать от других. Надо было и при живом боге сохранить свое положение первого жреца. Толпа неистовствовала. К ногам Кетсалькоатля летели богатые головные уборы и ценные украшения. Люди Толлы ничего не жалели для вернувшегося в образе бога любимца. Простодушные, как дети, воспитанные в суеверии, они восприняли появление умершего как нечто естественное для богов, а потому готовы были беспрекословно повиноваться явившемуся к ним божеству, как воплощению силы и власти. Змея Людей встревожился. Как бы этот «живой бог» из сельвы не захотел теперь мстить Змее Людей за будто вырванное когда-то его сердце. Надо было действовать, и Великий Жрец дал знак жрецам. Те вышли вперед и затрубили в морские раковины, требуя тишины. Змея Людей провозгласил: — Горе людям Толлы, горе! Пусть внимают они словам великого и страшного пророчества, прочитанного по звездам. Едва ступит на Землю бог Кетсалькоатль, потребует он себе в жертву сердца самых знатных, самых заслуженных и богатых людей Толлы: и мужчин, и женщин, и девушек, и детей. Горе людям Толлы, горе! Пусть владыка пообещает белому богу много тунов сердец пленников и рабов, а пока смиренный жрец Змея Людей поспешит вырвать для Кетсалькоатля сердца двух вождей игровых отрядов, одного проигравшего прежде, а другого поверженного сегодня. Гремучий Змей сделал знак рукой, и три его телохранителя с разрисованными боевой краской лицами, в стеганых боевых куртках протрубили в морские раковины, пронзительными звуками заглушив последние слова жреца. Заговорил Гремучий Змей: — Да станет известно людям Толлы, а также смиренным служителям богов, что владыка смертных Гремучий Змей с распростертыми объятиями любви и мира принимает вернувшегося к нему сына в образе бога и на склоне своих лет складывает с себя бремя Верховного Вождя, которое так долго нес. Он передает это бремя власти своему сыну Топельцину, который отныне будет носить имя Кетсалькоатля, живого белого бога и владыки смертных. Ошеломленные горожане Толлы повскакали со скамей, не зная, чего им ждать дальше. Другое дело Змея Людей. Он рассчитывал на правах Великого Жреца по-прежнему представлять перед народом богов, узнавая желания тех, кого провозгласили сейчас богами на Земле. Но если бог становится одновременно и владыкой, то… Теперь вся надежда была на тайную дочь. Ведь самозванец из сельвы вынужден был признать ее своей возлюбленной. Усиленный священным камнем голос жреца снова зазвучал над трибунами: — Пусть примет всесильный бог и вождь Кетсалькоатль смиренный дар смертных, владыкой которых он стал. Проворные жрецы сейчас поднесут ему на золотом блюде два желанных ему трепещущих сердца, бившихся во время славно закончившейся священной игры. — Пусть замолчит лукавый жрец! — раздался незнакомый ясный и сильный голос, который, оказывается, принадлежал белому богу. Он встал рядом с Гремучим Змеем, не позволив тому подняться с циновки. — Пусть замолчит лукавый жрец, и пусть знают люди Толлы, что никогда больше не прольется человеческая кровь ради жертвы богам, ни одно сердце больше не вырвут из груди живого человека и не бросят на нетускнеющее блюдо желтого металла. Кетсалькоатлю предложено править Толлой, и он с сознанием долга перед людьми принимает переданную ему власть, чтобы обратить ее на благо всех. Жестокость отныне объявляется вне закона, как неугодная и богам, и людям Земли. Горожане переглянулись. Почему белый бог сказал о всех людях Земли, а не о людях Толлы? И почему он назвал Великого Жреца лукавым, унизив его перед всеми, хотя тот только что провозгласил Кетсалькоатля богом? Однако люди Толлы не умели рассуждать, они привыкли повиноваться. Больше всего их взволновало и перепугало запрещение привычных человеческих жертв, всегда угодных богам. Что ждет теперь людей, если богов нельзя будет умилостивить? Жрецы подвели к Кетсалькоатлю, наконец севшему на место владыки, двух вождей игровых отрядов. Их бросили перед ним на колени, связанных веревкам и с закрученными назад руками. Кетсалькоатль сделал знак, и огромный белый бог, который ростом был даже больше Топельцина, подошел к жертвам и двумя ударами диковинного блестящего ножа, непохожего на обычное изделие из вулканического стекла, хотя и не менее острого, разрубил связывающие их веревки. Две белые богини помогли освобожденным подняться и заговорили с ними на языке Толлы. Их голоса были нежны и ласковы. Кетсалькоатльотправился во дворец своего отца Гремучего Змея. По одну его сторону шел еще один бог, с малым числом волос на голове, а по другую — тайная дочь великого Жреца красавица Мотылек. Гремучий Змей шел следом. Люди Толлы благоговейно провожали их взглядами. Что-то ждет их при новом владыке смертных, который спустился к ним с неба и не хочет, чтобы жертвами смягчали его гнев? Неожиданности последовали одна за другой. Каждый день глашатаи ревом морских раковин созывали народ к подножию пирамиды Ночи и сверху звучал голос одного из белых богов, который отличался своим ростом, имел рыжую бороду и четыре глаза. Он передавал повеления Кетсалькоатля, которые обязаны были выполнять все. Повеления эти ошеломляли, приводили в трепет одних и в неистовую радость других. Однако пугали они одинаково всех. Невозможно было разобраться в новом порядке, который устанавливал белый бог. Прежде всего бородатый бог-великан, поднеся к губам волшебную раковину, объявил, что упраздняется рабство. — Рабство противно самой натуре человека и недостойно его ума, возвысившего людей над всем остальным животным миром, — громоподобно гремел через раковину голос бога-помощника. — Ни в лесах, ни в пустыне, ни в водах не найти живых существ, которые заставили бы других, себе подобных, трудиться, сами ничего не производя. Не будет так отныне и среди людей Земли. Опять он сказал «людей Земли», а не «людей Толлы». Собирались ли боги завоевать все окрестные пленена? — Труд отныне будет обязателен для всех, — продолжал бог-великан. — И прежде всего для владыки смертных, для самого Кетсалькоатля. Он первым подаст всем пример. Ему отводится поле, которое он станет возделывать, чтобы вырастить хлопок и пшеницу. А если трудиться станет сам бог, то что ожидает тех, кто откажется от труда? — Смерть! — послышалось из толпы, стоящей у подножия пирамиды. — Кетсалькоатль упраздняет насильственную смерть и как наказание, и как мщение, — снова удивил людей вещающий бог. — Ее заменит изгнание из города Толлы. Не пожелавшие трудиться в городе будут отправлены в сельву, где им все равно придется трудиться, чтобы не погибнуть. Труд станет обязательным для всех. Люди уходили с площади потрясенные. Вожди возмущались, хватались за оружие. Но бог был богом, к тому же и владыкой смертных. Приходилось смиряться. Толпы освобожденных рабов заполняли площадь перед дворцом владыки, чтобы песнями, плясками и ночными кострами воздать ему хвалу. Начались невиданные прежде работы: прокладывались дороги, выжигалась и вырубалась сельва, чтобы подготовить поля хлопка и пшеницы, сооружался дворец белого бога, венчающий собой самую высокую пирамиду. Великий Жрец Змея Людей сидел в храме Неба на вершине старой пирамиды. Сюда уже не приводили никаких пленных, он не бросал ни одного горячего сердца на желтое блюдо, не ощущал на губах вкус свежей крови. Он сам жил в страхе за себя и тщетно вызывал свою тайную дочь Мотылька. Она не появлялась. Однажды с вершины пирамиды он увидел ее, поразившись происшедшей в ней перемене. Волосы ее, ставшие когда-то в час горя серебряными, вновь обрели свой былой черный с отливом цвет. Змея Людей не знал, что богини, одна из которых была жрицей Здоровья, снабдили ее какими-то снадобьями, которые вернули девушке молодость. Люди Толлы увидев Мотылька, как прежде, юной, уверовали в чудо, которое совершил. Кетсалькоатль, и прониклись к нему еще большим священным трепетом. Указы Кетсалькоатля снова и снова оглашались богом-великаном с вершины пирамиды Ночи, с которой жрецы прежде наблюдали звезды. И каждый новый указ все больше повергал в ужас суеверных людей Толлы. Бог-великан объявил, что Кетсалькоатль отменил всякие войны. — Никогда больше война не будет способом решения споров между племенами, — вещал рыжебородый бог. — Как равны отныне между собой люди Толлы, так равны между собой и все людские племена. Пусть живут они в мире, никогда не применяя насилие и руководствуясь в своей жизни только, справедливостью. И еще объявил бог-великан, что Кетсалькоатль освободил от труда престарелых, равных возрастом его отцу. Их будут кормить и уважать все, кто моложе их. Город Толла кипел: днем работой, вечером весельем, а ночью скрытым недовольством. Каково было знатным горожанам признать былых рабов равными себе, а воинам — потерять все привилегии? Простой люд, бывшие рабы и ремесленники возводили по указаниям богов великолепные постройки. Бывшие воины и военачальники, которых впервые заставили что-то делать, пока подчинялись, но смотрели исподлобья. Белый бог с малым числом волос на голове, наблюдавший за жизнью в городе, говорил Кетсалькоатлю на чужепланетном языке: — Не может быть, чтобы невежественные туземцы могли так сразу отказаться от вековых жестоких привычек и принять общественный строй, требующий высокого самосознания каждого члена общества. — Надо просвещать их, — решил Кетсалькоатль. И он собрал у себя молодых людей (из знатных семей, которые уже учились письменам) и жрецов, приобщенных к знаниям, всех, кроме Змеи Людей, не пожелавшего или не решившегося явиться, и стал передавать им удивительные знания о небе и вещах. Змея Людей по ночам выслушивал донесения своих былых приближенных об этих занятиях и мрачно смотрел на затянутое тучами небо без звезд. Его тайная дочь все не приходила к нему. Но он ждал ее.
Глава вторая КОГТИ ЯГУАРА
И Мотылек все-таки пришла к отцу. С перекошенным смуглым лицом, с ниспадающими на плечи прямыми черными волосами, с горящими гневом глазами, она чем-то напоминала ягуара, готового защищать свое логово. Она легко поднималась по высоким ступеням пирамиды, которые доставали ей до бедра. Жрецы в черных хламидах, не позволявшие ей взойти на пирамиду в день принесения в жертву ее Топельцина, сейчас молча наблюдали за ней, стоя, как изваяния, через каждые пять ступеней. Только раз оглянулась Шочикетсаль на дворец владыки, где обитали белые боги, и рот ее искривился, обнажив острые зубы. Великий Жрец Змея Людей вышел к ней навстречу. Искусно сделанная из его пропитанных кровью волос прическа в виде змеи с раскрытой пастью чем-то напоминала лицо разъяренной женщины. Поднимаясь, Шочикетсаль снова и снова переживала оскорбительную сцену последнего свидания с Топельцином. Да полно! С Топельцином ли? Не было большего счастья, чем снова обрести погибшего возлюбленного. Мотылек слишком хорошо помнила встречу в сельве: протянутые к ней руки, ласковые слова и любимые ею голубые глаза, которые когда-то закрылись навек и вдруг теперь с прежней нежностью вновь смотрели на нее. Но как ни была счастлива в тот миг Мотылек, она оставалась дочерью своего первобытного зоркого народа, чуткой ко всякой опасности. Даже в минуту безудержного счастья заметила Шочикетсаль белую богиню, которая отвернулась, чтобы скрыть рыдания. Мотылек ничем не выдала себя ни тогда, ни позднее. Топельцин, даже став белым богом Кетсалькоатлем, не сумел все прочесть в ее сердце. Да, может быть, и она сама не до конца понимала себя. Но где-то в самом далеком тайнике ее сердца шевельнулась тревога. Женщина всегда раньше мужчины разгадает соперницу, даже если это богиня. Богиня справилась с собой, но только справилась! Мотылек отлично поняла это, потому что от нее не ускользал ни один взгляд Эры, украдкой брошенный на Кетсалькоатля. Две другие богини были ясны. Одна из них любила Кетсалькоатля, но как сестра. Другая никого не любила, холодная, подобно камню, политому водой. Мотылек боялась ее. А богиню Эру она не боялась и позволила ей волшебным снадобьем вернуть цвет молодости своим полосам. Чутьем дикарки она угадывала, что эта богиня не способна сделать ей зло. Но Кетсалькоатль! Став вместо Гремучего Змея владыкой смертных, он должен был бы тотчас же жениться на своей былой возлюбленной, выполнить данное ей еще до своей смерти обещание. Шочикетсаль считала это само собой разумеющимся и нетерпеливо ждала. Однако вернувшийся с неба Топельцин вовсе не проявлял того пыла, который владел им в былое время. Терпение у Шочикетсаль истощалось. Неужели небо, где он провел так много времени, разъединило их? Мотылек была земной женщиной, в жилах которой текла неукротимая дикая кровь. Небо жрецов с их сказками было для нее чуждым и недосягаемым. Не в эти сказки полагалось верить. А вот богиня Эра, не умеющая скрыть своих чувств к Топельцину, это была уже не сказка, а сама жизнь, близкая и понятная. Шочикетсаль, как женщина, видела в ней соперницу. И Мотылек возненавидела богиню Эру, была готова разорвать ее когтями. Шочикетсаль, кипя ревностью и негодованием, решилась наконец на прямое объяснение с Кетсалькоатлем. Она хотела знать, почему тот не берет ее себе в жены. Шочикетсаль застала Кетсалькоатля в зале с коврами из птичьих перьев. Он только что отпустил своих учеников. Увидев Мотылька, он улыбнулся, встал со шкуры ягуара и сделал несколько шагов ей навстречу. Сердце замерло у Мотылька, кровь бросилась в лицо, голос перехватило, но она все-таки робко вымолвила: — Позволит ли великий бог Кетсалькоатль называть себя, как прежде, Топельцином? — Мотыльку? Ну конечно, — ласково сказал белый бог и протянул к ней руки, как тогда, в сельве. — Разве Топельцин не видит, что счастье вернуло его Мотыльку былой цвет волос? — Топельцин рад, что видит Мотылька прежней. — Но почему он сам не прежний? — О чем говорит Мотылек? — Почему Топельцин не показывает Мотыльку звезд на небе? Почему не прикасается губами к ее коже, чтобы радость волной пробежала по всему ее телу? — Если бы Топельцин считал себя вправе так поступить! Если бы он мог! — с горечью воскликнул белый бог. — Разве Топельцин, или бог Кетсалькоатль, не имеет права на все, чего только пожелает? — Пусть прекрасная Мотылек простит гостя неба, что он только сейчас решается рассказать ей все о себе. — Разве Мотылек с вершины пирамиды не возвестила народу всего, что можно было сказать о белом боге и его спутниках? — Мотылек должна понять, что тот, кого она провозгласила вернувшимся ее возлюбленным, не может воспользоваться ее ласками, предназначенными другому, давно погибшему юноше. Мотылек содрогнулась. — Богиня Эра, подарившая Мотыльку былой цвет волос, — продолжал Кетсалькоатль, — давно настаивала, чтобы гость с неба рассказал Мотыльку всю правду, ибо она женщина и своей заботой о жизни может помочь и людям, и гостям неба. Бешенство овладело Мотыльком. Она плохо понимала Кетсалькоатля. До ее сознания дошло лишь то, что он говорит по велению богини Эры и отказывается от любви Мотылька. А Кетсалькоатль закончил: — Гость с неба хорошо понимает Мотылька и ее жажду любви, потому что он и сам познал горе неразделенной любви. Девушка уничтожающим взглядом смерила бога Кетсалькоатля: — Бог Кетсалькоатль не может так говорить! Какой же он тогда бог! — Сын Солнца вовсе не бог, — мягко сказал Кетсалькоатль, — и вовсе не твой когда-то погибший возлюбленный Топельцин. Сын Солнца лишь случайно похож на него чертами лица. Это нелегко объяснить Мотыльку. Она должна понять, что у людей Толлы и у тех, кто живет на далекой звезде Мар, откуда прилетели гости неба, одни и те же предки, происходящие с еще более далекой звезды, которая погибла в яркой вспышке. Остались только ее сыны, гостившие на Земле и Маре. И люди, и мариане (гости с неба), и фаэты (так звались обитатели погибшей Фаэны) — все они сыны Солнца. Людям Земли предстоят тяжкие испытания. Их братья по Солнцу, зная об этом, прилетели со звезды Мар, чтобы разделить с людьми их тяготы и научить тому, что достигнуто разумом другими сынами Солнца. Мотылек не могла понять всего сказанного. Она была женщиной, отвергнутой женщиной. И только это она поняла. Не веря себе, она произнесла: — Значит, Кетсалькоатль вовсе не Топельцин? — Увы, нет. Потому гость неба и не может подарить Мотыльку радость любви, — грустно сказал Кетсалькоатль. — Это неправда! — вскричала Шочикетсаль, гневно сверкнув глазами. — Просто жалкий Кетсалькоатль слепо выполняет волю белой богини, отрекаясь не только от былой любви, но даже и от собственного имени Топельцина! Белый бог растерянно стоял посреди зала, с удивлением рассматривая разгневанную девушку Земли. Неужели он ошибся, рассчитывая найти ее поддержку ценой всей правды, пусть горькой для нее, но истинной? Мотыльку вовсе не нужна была такая истина! Слова белого бога лишь подсказали ей план мести. Если ее отвергли, то виновники, богиня Эра и неверный Топельцин, горько поплатятся!.. Взбешенная Шочикетсаль выбежала из дворца и кинулась к ступеням пирамиды бога Ночи, чтобы найти там отца. Она была его тайной дочерью, ибо Великий Жрец, служа богам, в своей святости не мог иметь ни жены, ни детей. Конечно, все знали, что Шочикетсаль его дочь, но, чтобы сохранить видимость священной чистоты Великого Жреца, ее назвали тайной дочерью. Этим было сказано все, приличия соблюдены, и положение девушки обретало высоту, достойную ее тайного (хотя для всех к явного) отца.…Змея Людей с плохо скрываемой радостью выслушал дочь, поведавшую ему о неслыханном оскорблении, нанесенном ей, женщине высшего положения в Толле. Ею пренебрег тот, кому она готова была отдать сердце не только в переносном, но и в прямом смысле, когда рвалась на пирамиду, чтобы лечь с ним рядом на жертвенный камень. У Великого Жреца зрел план. Шочикетсаль готова объявить с вершины пирамиды, что так называемый Кетсалькоатль вовсе не бог и уж никак не Топельцин, а всего лишь ловкий обманщик. Он должен быть лишен власти, его безрассудные указы отменены, и в честь возвращения к истинным богам на жертвенных камнях будут вырваны сердца у всех белых бродяг, явившихся из сельвы, а также у всех их сообщников, призвавших их власть. Взывая к истинным богам (в которых он не верил), Змея Людей приказал дочери во всем повиноваться ему и в нужный миг сказать с вершины пирамиды всю правду о Лжетопельцине. Шочикетсаль с поникшей головой слушала хриплый голос жреца. Тот заметил, как передернулись у нее плечи. Он замолчал и задумался. Так ли просто получится то, что предложила ему дочь? Она женщина, ей важно лишь скорее разоблачить обманщика, оскорбившего ее чувства. У Великого Жреца цели должны быть более возвышенными и далекими, а пути их достижения самыми надежными. Пока Змея Людей размышлял, его тайная дочь не могла найти себе места. — Пусть Великий Жрец прикажет жрецам протрубить в морские раковины, пусть созовут они к подножию холма народ, — требовала она. Змея с разверзнутой пастью на голове жреца качнулась, хриплый голое жреца снизился до шепота: — В Мотыльке говорит сейчас только ярость женщины, выпустившей когти ягуара. Нельзя думать, что все обойдется гладко и хорошо, едва она произнесет свою свирепую речь. Ловкий Кетсалькоатль освободил множество рабов, которые теперь заполняют улицы Толлы. Им не захочется снова стать рабами. Ремесленники и художники заняты на новых постройках. Им выгодно закончить начатое, а не низвергать того, кто призвал их творить. Нечего говорить о возделывателях злаков. Они только и думают, что о новых полях, которые выжигают для них в сельве. Им тоже едва ли захочется верить разъяренной женщине. — Что же хочет тайный отец Мотылька? Чтобы она простила смертельные оскорбления, чтобы позволила белому богу взять себе в жены бледную обманщицу, которую все считают богиней? — Пусть не кипит Мотылек огненной рекой, пусть помнит, что она тайная дочь Великого Жреца Змеи Людей. Лжебог Кетсалькоатль, святотатственно запретивший древние священные обряды, должен быть свергнут и распластан на жертвенном камне. Боги, желая наказать кого-либо, лишают его рассудка. Так они поступили и с белыми обманщиками. Потеряв от вкуса власти всякий разум, они отменили войны, заставили отважных заслуженных воинов трудиться, как презренных рабов. В этом и заключена гибель лжебогов. Город Толла стал беззащитным. Змея Людей никому не доверит того, что сможет сделать только он сам. По тайным тропкам пройдет он сквозь сельву и найдет кочующих варваров, никогда не строящих домов, а перевозящих свои жилища с места на место. Для них набеги на каменные города — дело удали, дома и храмы — презрение, смерть врагов — радость, гибель соратников — честь. Змея Людей приведет в безоружную Толлу северных дикарей. Пусть они разграбят город камней, убьют горожан и даже воинов, которые успеют схватиться за брошенное оружие. Неприкосновенными останутся лишь пирамиды храмов, где снова в усладу богам польется кровь человеческих жертв, которая искупит все несчастья народа Толлы. Мотылек содрогнулась: — Великий Жрец хочет, чтобы северные варвары разграбили город, убили мужчин, женщин, детей? — Великий Жрец договорится с вождем варваров, чтобы всех пленных из прежних рабов передали бы жрецам для принесения их в жертву богам. В их числе окажутся и белые бродяги. Тайная дочь Великого Жреца будет отомщена. Отец заметил мрачный огонь в глазах Шочикетсаль и нахмурился: — Жрецы станут охранять тайную дочь Змеи Людей. Белым бродягам из дворца владыки, где они почивают на коврах из птичьих перьев, не дотянуться сюда. Когда падет город Толла и запылают дома горожан, жрецы звуками морских раковин созовут на площадь и варваров-победителей, и побежденных людей Толлы. Вот тогда Шочикетсаль скажет всю правду о Кетсалькоатле. Все статуи его будут разбиты, имя его будет стерто со всех памятников, которые ныне спешат ему соорудить. — Кровь, — сказала Мотылек. — Кровь солена на вкус и горяча, когда стекает с сердца. Она пьянит, как пульке, и она искупает все. Этими вот руками Великий Жрец за свою долгую жизнь служения богам вырвал из груди жертв и бросил на золотое блюдо больше сердец, чем бьется сейчас у всех жителей города Толлы. Мотылек слушала с поникшей головой. — Змея Людей уйдет под покровом ночи, — сказал ее отец. — Жрецы будут охранять его дочь, и горе ей, если она не дождется отца. Ее сердце ляжет первым на тоскующее по крови нетускнеющее блюдо. Краска залила смуглое лицо Мотылька. — Шочикетсаль сама просила в свое время сделать это! — с вызовом и презрением бросила она. — Богам угодна даже поздняя жертва, — с загадочным ехидством сказал Змея Людей и скрылся в тайниках храма. Подземный ход должен был вывести его прямо в сельву. Перед путешествием ему пришлось впервые за много лет отмочить свои спекшиеся волосы. Это было трудно, потому что кровь, смешанная с соком аки, предохранявшим ее от разложения, стала каменной. Но все же в конце концов искусно сделанная змея исчезла с его головы. Никто не должен был узнать жреца.
Мотылек вымеряла шагами площадку для наблюдения звезд. Перед нею расстилался город Толла. Прямые, как лучи солнца, улицы. Великолепные ступенчатые пирамиды в центре зеленых прямоугольников. Роскошные каменные дворцы внизу. Извилистая синяя змея реки, словно улегшейся меж строений города. А вдали зеленый простор непроходимой сельвы. Может быть, по ней уже крадется одному ему известными тропами Великий Жрец, чтобы оружием варваров вернуть силу поверженным богам и помочь оскорбленной женщине жестоко отомстить белому бородатому пришельцу и его бледной подруге, не сводящей с него влюбленных глаз. При одной мысли об этом Шочикетсаль содрогнулась. Сейчас она готова была в самых страстных и гневных словах разоблачить Лжетопельцина, отдать его на растерзание толпе, бросить на жертвенный камень… Но сможет ли она это сделать, когда внизу, среди дымящихся развалин, в дикой оргии будут неистовствовать дикари?
Глава третья ОГОНЬ НЕБЕСНОЙ ЧАШИ
Исступленное улюлюканье, вопли боли и ужаса, стоны умирающих, топот сотен ног, стук оружия, визг женщин, плач детей — все это смешалось в дикую какофонию. Трупы убитых и тела раненых завалили улицы. Размалеванные краской воины перебирались через эти жуткие препятствия, пиная ногами мертвых, приканчивая копьями еще живых. Они врывались в дома, громя все внутри, поджигая мебель и дорогие циновки, разбивая бесценные статуи. Горожан, пытавшихся спастись в дальних комнатах, запирали там, а в окна забрасывали горящие факелы. Никто в Толле не оказал северным кочевникам сопротивления. Город был захвачен врасплох, разграблен, подожжен. Дым пожарищ стелился у подножия пирамид. А сверху, из портиков храма, бесстрастно взирали жрецы. Их пышные головные уборы сверкали на солнце. Наконец с высокой пирамиды главного храма пронзительно заревели морские раковины. Подвывая и приплясывая, победители стали остриями копий сгонять окровавленных мужчин и рыдающих полураздетых женщин на площадь. Бывшие рабы и их недавние господа, избитые и жалкие, все с веревками на шеях, задыхаясь от дыма, смотрели вверх. По замыслу Великого Жреца, сейчас перед ними должна была в сиянии солнца предстать Шочикетсаль назвав истинного виновника всех несчастий Толлы. Змея Людей еще до ухода к варварам подготовил ей речь. Змея Людей приказал жрецам привести Мотылька. Испуганные жрецы пали ниц. Его дочь исчезла в разгар набега варваров. Может быть, она рискнула спуститься по крутому откосу пирамиды. Возможно, она разбилась или дикари приняли ее за обычную горожанку, что еще хуже. Змея Людей в бешенстве приказал распластать на камне двух жрецов, охранявших Мотылька, и сам после долгого перерыва с наслаждением погрузил им под ребра нож из обсидиана, вырвав их неверные сердца. Это были первые жертвоприношения, которые должны были вернуть Толле прощение богов и былое процветание. Но пока что руины города дымились в толпа горожан ждала внизу приговора или искупления. И тогда речь произнес сам Змея Людей: — Горе людям Толлы, горе? Лжебоги усыпили их, чтобы не было сопротивления набегу, и теперь, справедливо побежденные, люди должны вернуться к истинным богам. Милость богов будет тем щедрее, чем скорее пленные, переданные жрецам великодушными победителями, будут принесены в жертву по давнему закону предков. Стон прошел по толпе. Никто не знал, поднимется ли он с веревкой на шее по ступенькам пирамиды или дождется милости богов. — Смерть Лжетопельцину, обманувшему и людей Толлы, и доверчивую девушку Шочикетсаль, — хриплым голосом кричал Великий Жрец. — Жертвенный камень — Кетсалькоатлю. Пусть будет уничтожен и он сам, и все его мерзкие изображения, святотатственно выбитые на камне. На штурм дворца владыки, на штурм вместе с победителями! Вовремя предупрежденные обитатели дворца владыки успели укрыться за крепкими запорами.Мотылек была дочерью своего народа. Нежная преданность, доставшаяся ей от матери, вдовы нукера — военачальника, — приглянувшейся жрецу, и не терпящий препятствий бешеный нрав отца всегда противоборствовали в ней. После гибели Топельцина Мотылек, безутешная в горе и безмерная в гордыне, отреклась от радостей жизни, решив стать жрицей. И вдруг все переменилось: Топельцин вернулся, но отверг ее. Когда она металась по площадке, смотря с вершины пирамиды на звезды и зловещую черную сельву, противоречивые начала попеременно брали в ней верх. Но к восходу солнца любовь все же восторжествовала над ненавистью. «Во что бы то ни стало предупредить Топельцина!» — решила она. Однако жрецы-стражи неотступно следили за ней. Прошли томительные дни и столь же томительные ночи, в течение которых Мотылек не знала сна. Не спали и бдительные стражи. И только когда первые отряды дикарей ворвались в город, стражи отвлеклись видом начавшейся бойни. Мотылек бросилась к откосу пирамиды, но жрец вцепился в нее. Тогда девушка ринулась вниз вместе с ним. Они катились по крутой гладкой стене. Жрец оказался внизу, и это спасло жизнь Мотыльку. Придя в себя, она вскочила, перепачканная кровью погибшего жреца, и побежала к дворцовой двери. В первом же зале она наткнулась на величественного Гремучего Змея, спешившего узнать, что за шум снаружи. Мотылек сказала ему о набеге. Старый вождь снял со стены боевой топор и, ударив в звонкое блюдо, дал сигнал тревоги. Появились шестеро его сыновей и заперли двери дворца на все засовы.
Гремучий Змей с сыновьями, все с боевыми топорами, и рыжебородый бог-великан с Карой Яр стояли наготове, прислушиваясь к воплям дикарей, завершавших погром. — Топельцин, — говорила Мотылек, упав к ногам Инко Тихого, — пусть примет Мотылек смерть от рук бога, в котором усомнилась, предав его. Но она всего лишь земная женщина, разум которой затмила отвергнутая любовь. Она не могла примириться в своей гордыне с тем, что богиня Эра счастливее ее. — Несчастное дитя Земли, — поднял ее Инко Тихий. — Не измерить ответственности того, кто идет с Миссией Разума к младшим братьям, совсем не зная их. Мотылек не поняла марианина. Она лишь любовалась его лицом, лицом своего возлюбленного, которому снова грозила смертельная опасность. Штурм дворца начался ударами тарана в дверь. Хитрый жрец подсказал варварам воспользоваться недоделанной каменной стелой с изображением Кетсалькоатля. Сотни ловких и сильных рук держали веревки, на которых раскачивалась каменная громада, при каждом взмахе круша дверь. — Ужель мариане станут убивать себе подобных? — в ужасе спросила брата Ива Тихая. Инко Тихий отрицательно покачал головой. — Я буду подле тебя, — шепнула подошедшая Эра Луа. — Я предупреждал, — мрачно изрек, отходя от них, Нот Кри. — Надобно, чтобы гнев людей был обращен на им подобных. Должно дать им понять, что мы, пришельцы, существа не только высшего умственного развития, но и иного животного вида. — Едва ли штурмующие поймут это, — заметила Эра Луа. Инко Тихий молчал, с глубокой жалостью смотря на снова распростершуюся у его ног земную девушку. Ясно, что он допустил на Земле роковую ошибку. Но какую? Дверь наконец рухнула. Дикари ринулись во дворец, но первые из них пали от боевых топоров Гремучего Змея и его сыновей.

Ива вскрикнула и схватила брата за руку, чтобы оттащить от места схватки. — О Топельцин! — зашептала Мотылек, вставая — Ведь тебе известна тайна подземного хода. Бежим! И Мотылек испытующе смотрела на Кетсалькоатля. Если он покажет сейчас тайный ход, то он — Топельцин! Но Кетсалькоатль печально покачал головой: — Пришелец со звезды Мар не может знать того, что знал погибший возлюбленный Мотылька. — Так ты не Топельцин? — отшатнулась Мотылек.
…Первым из защитников замертво рухнул на пол старый вождь Гремучий Змей. Десятки размалеванных воинов с устрашающим воинственным кличем потрясали в воздухе топорами. Шесть сыновей Гремучего Змея крушили противников, среди которых узнавали своих же бывших воинов, присоединившихся к врагам. Вступила в бой и Кара Яр. Холодная и расчетливая, она вышла вперед, ничем не защищенная, стройная, хрупкая. В руках ее был парализующий пистолет. Один за другим ворвавшиеся воины падали на пол. Гиго Гант стал вышвыривать бесчувственные тела за дверь. Они не сразу придут в себя, их посчитают за убитых. Просвистевшее копье вонзилось в плечо Гиго Ганту. Он с яростью выдернул его, обливаясь кровью. Эра Луа бросилась к нему оказать первую помощь. Кара Яр сдерживала рвущуюся в проем двери толпу, поражая лучом оказавшихся в первом ряду. Скоро пол был усеян недвижными телами. Кроме парализованных варваров, здесь же лежали и павшие рядом с отцом все шесть сыновей Гремучего Змея. — Кто бы ни был тот, кого назвали Кетсалькоатлем, а несчастная Мотылек своим Топельцином, пусть он вместе с друзьями идет следом за мной. Я покажу тайный ход — путь к спасению, — звала Мотылек. Инко Тихий предложил отступать. Мариане двинулись по комнатам дворца. Кара Яр шла последней, отражая натиск осмелевших варваров. Они, прячась один за другого, успели заметить, что невидимое копье белокожей женщины не пробивает насквозь. И защититься можно телом павшего ранее, как щитом. Прикрываясь бесчувственными соратниками, они на корточках, подобные диковинным животным, двигались следом за пришельцами. Подземный ход вел в сельву из внутреннего дворика. Но он имел ответвление, известное не только Мотыльку, но и Змее Людей. Лукавый жрец, который сам недавно пользовался этим ходом, рассчитал, что дочь непременно поведет сюда пришельца, и устроил там засаду. Первыми к тайному ходу подошли Инко Тихий и Мотылек. — Надо обладать безмерной силой, чтобы отвалить этот камень, — сказала она, указывая на плиту с великолепной резьбой. Ива Тихая беспомощно взглянула на Гиго Ганта с окровавленным плечом. Только он мог бы справиться с этим. Открыть плиту взялся Кетсалькоатль. Он сразу разгадал рычажное устройство с противовесами. Плиту нужно было не поднять, а вдавить внутрь, после чего она легко уходила в сторону, открывая проем. Нот Кри помогал ему. Снова Мотылек усомнилась, не Топельцин ли все-таки это? Оказывается, он знает тайну плиты! Когда мариане стали один за другим спрыгивать вниз, они обнаружили засаду. Змея Людей метнулся из тьмы и привычным ударом вонзил обсидиановый нож в грудь Мотылька. — Все-таки ты Топельцин! — прошептала Мотылек, улыбнувшись последний раз в жизни. Инко Тихий подхватил ее, когда жрец направил свой второй удар в его старый шрам под сердцем. Но чья-то рука отвела нож. — Кетсалькоатля — только Пьяной Блохе! — крикнул стоявший рядом со жрецом человек. Он замахнулся на Инко Тихого боевым мечом, но не обрушивал его. Ива схватила брата за руку и повлекла его в глубину хода, куда уже скрылся Нот Кри. Эра Луа помогала шатающемуся Гиго Ганту бежать за ними. Кара Яр хотела сразить парализующим лучом Чичкалана, но, взглянув ему в глаза, все поняла и тоже исчезла в темноте. Змея Людей, страшась оружия белой женщины, прятался за спину Чичкалана и, коля его острием ножа, кричал: — Вперед! В погоню! Но Чичкалан медлил. Сверху в тайный ход спрыгивали подоспевшие варвары, штурмовавшие дворец. Среди них были и те, кто пришел в себя после парализующего действия пистолета Кары Яр. Заметив их, жрец закричал: — Лжебоги не умеют убивать? Они беспомощны! А Чичкалан орал: — Пьяной Блохе не страшны невидимые копья. Только трезвые падают от них. Вперед, за мной! Крича это, Чичкалан загораживал собой ход, освещая путь факелом не только себе, но и беглецам. Наконец впереди показалось светлое пятно выхода. Факел Чичкалана стал ненужным, и он бросил его назад, прямо под ноги жрецу. Тот взвыл от боли. Мариане выбежали в сельву. Но куда идти дальше? Где найти корабль? — Пусть белокожие обманщики только попробуют бежать на заходящее солнце. Пьяная Блоха тотчас догонит их! — доносился из-под земли угрожающий голос Чичкалана. Инко Тихий понял скрытый смысл его слов и, увидев в сельве тропку, идущую как раз на заход солнца, выбрал ее. Только мариане, тренированные в беге без дыхания в родной пустыне, могли так быстро бежать среди сплетения корней и лиан. Преследователи отстали, не понимая, откуда у пришельцев столько сил. Некоторые подумывали: не боги ли все-таки они?
Тропа вывела прямо на поляну с кораблем «Поиск». — Скорее на корабль! — кричал Нот Кри. — Ни одного мгновения не задерживаться больше на этой планете дикости и безумия. На Мар! На Мар! — Нет, — отрезал Инко Тихий. — Наша Миссия еще не закончена. Мы только узнали, как не следовало ее выполнять. — Здесь, на опушке, я уложу всех, — предложила Кара Яр. — Нет, — возразил Инко Тихий. — Нужно, чтобы сначала они услышали нечто важное для себя. Нот Кри пожал плечами и стал взбираться по наружной лесенке к входному люку. Все двинулись за ним. Когда последней взбиралась Кара Яр, на поляну выбежали дикари. Просвистевшее копье отскочило от металлической обшивки корабля. — Это Огненная Чаша! — кричал Чичкалан. — Пьяная Блоха не раз бывал в ней. Если Змея Людей пойдет следом. Пьяная Блоха покажет ему тайный ход в Огненную Чашу, который не закрывается изнутри. Инко Тихий появился в иллюминаторе: — Пусть опомнятся люди Земли! Кого они хотят уничтожить и чего этим достигнуть? Вернуть жрецам право убивать на жертвенных камнях людей? Держать всех остальных в страхе и невежестве? Изгнать с Земли тех, кто стремился открыть им знание и справедливость? Хотят ли они, чтобы безумие переходило из поколения в поколение и даже далекие потомки по-прежнему убивали бы друг друга ради наживы, из гнева, из расчета, чтобы навязать свою волю более слабым, покорить их? Пришельцы призваны были открыть глаза своим братьям по разуму. Они вынуждены лететь, но они вернутся. Они вернутся! Град копий, направленных в иллюминатор, был ответом на слова разума. — Захватить их живьем, распластать на жертвенных камнях! — в исступлении вопил жрец Змея Людей. — Сюда, сюда, — звал его Чичкалан. — В Огненную Чашу! Они не умеют убивать. Все они будут в руках Змеи Людей. Вместе с жрецом он находился за опорными лапами корабля, как раз под дюзами двигателей, откуда вылетали раскаленные газы. Змея Людей полез в указанное ему, покрытое копотью жерло «тайного хода». Чичкалан ловко вскочил на нижнюю ступеньку лесенки и повис на ней. Ни Инко Тихий, ни раненый Гиго Гант, севший за пульт управления, не знали, что происходит у дюз, иначе они никогда не включили бы двигатели. Раздался гром без дождя, черные тучи не в небе, а по лужайке поползли на сельву, к великому ужасу оставшихся. Огненный столб уперся в землю, где только что стоял Змея Людей, и начал расти, поднимая на себе Огненную Чашу, на которой, беспомощно болтая ногами, висела человеческая фигурка. — Это боги! — в ужасе закричали упавшие ниц дикари. — И они обещали вернуться, — отозвались другие.
Глава четвертая СЫНЫ СОЛНЦА
Я, Инко Тихий, руководитель Миссии Разума мариан на Земле, назвавший себя Топельцином и прозванный людьми Кетсалькоатлем, возобновляю свой рассказ после завершения первой горестной экспедиции. Как всегда, мы разошлись с Нотом Кри в оценке всего случившегося. Нот Кри объяснял нашу неудачу зловредной сущностью людей, которые произошли не от попавших на Землю фаэтов, очевидно вымерших здесь, а от фаэтообразных чудовищ, унаследовав от них тупость ума, жестокость и стремление убивать. Однако если вспомнить участь фаэтов на Фаэне, уничтоживших собственную планету, чтобы победить враждебный лагерь, то можно предположить, что потомки фаэтов вполне могли унаследовать такие способности от своих предков с Фаэны. Самым главным для меня было осознать, в чем же заключалась наша ошибка в общении с людьми, как и где ее исправить? Во время старта «Поиска» Кара Яр заметила, что на наружной лесенке повис человек. Опустившись на ближайшую поляну в той же сельве, мы открыли входной люк и втащили в него потерявшего сознание Чичкалана. Он не упал только потому, что мускулы свела судорога и руки его не разжимались. Нам стоило больших трудов с помощью Эры Луа, применившей нужные лекарства, отодрать от скоб его руки. Когда корабль снова поднялся, Чичкалан пришел в себя. — Пульке, — попросил он. — Не пристало Пьяной Блохе попасть на небо трезвым. Я объяснил, что мы еще не выполнили своего долга на Земле и спустимся снова, чтобы установить связи с иным народом, который рассчитываем найти по другую сторону океана, с племенем белокожих бородачей, к которому принадлежала мать Топельцина. — Значит, все, кто взлетает к небу, уже вдребезги пьяны, — решил Чичкалан. — Иначе кто бы придумал лететь за океан к рыжебородым. Чичкалан может пригодиться там, где он побывал в плену у, людей побережья, именующих себя кагарачами, изучив их язык. Он сразу вспомнит все их слова, если ему дать еще выпить. — Как же остался жив Пьяная Блоха? — спросила Ива, поднося нашему другу возбуждающего питья. — Разве у кагарачей нет жертвенных камней? — Приморские люди еще дикие и глупые. — Чичкалан презрительно скривил губы. — Они не умеют строить ни пирамид, ни городов и даже не играют в мяч. Они живут на берегу моря и ловят морских животных, называя их рыбами, а также «бегающее мясо» в лесу, не помню, как они его называют. Не зная истинных богов, поклоняются великому вождю всех лесных зверей — ягуару. И у них нет пульке. Но кагарачи не боятся ни моря, ни леса. Если их не трогать, они безобидны. Мы с интересом слушали болтовню Чичкалана, стараясь представить себе еще одну народность Земли. Нот Кри стал убеждать меня: — Раз приморские жители ловят живые существа, обитающие в море и в лесу, чтобы убить и съесть их, то они ничем не лучше людей Толлы с их жертвенными камнями. Вот если бы мы нашли расу разумных, подлинно близкую марианам по заложенным в ней наследственным чертам характера, тогда с нею был бы смысл установить контакт. А сейчас, поскольку такой надежды нет, надо лететь обратно на Мар, чтобы предоставить свой корабль «Поиск» для экспедиции на Луа, дабы взрывами распада изменить ее орбиту и предотвратить столкновение планет. Наша Миссия выполнена, раз мы установили, что на Земле обитает раса разумных, которую надо спасти. — Ты говоришь сердечно. Нот Кри, — сказала Кара Яр. — Ты не ставишь спасение людей в зависимость от их родства с фаэтами, но все же ты не прав. Мы не сумели передать людям знаний, не смогли помочь им изменить их общественное устройство на более справедливое. Это было верно. Мы ничего не добились. Очевидно, нельзя навязать людям доброту и миролюбие с помощью ложных богов, ибо нельзя строить добро на лжи! Расстояние, которое Чичкалан после плена преодолевал в течение года, «Поиск» пролетел раньше, чем солнце успело зайти за горизонт. Мы увидели в сумерках на берегу моря огни поселения и опустились неподалеку в горах, осветив ярким лучом место посадки среди скал. Голые утесы, черные и рыжие, без всякой растительности, чем-то напоминали нам родной Мар. Здесь, на недоступной высоте, мы пробыли ровно столько, чтобы с помощью Чичкалана научиться говорить на языке кагарачей. Чичкалан разведал внизу сельву и нашел жилище охотника, одиноко жившего с семьей. У меня созрел план действий, который Чичкалан испуганно отверг, а все остальные не одобрили. Однако я решил поступить именно так, вопреки общему мнению. Эра Луа вызвалась идти со мной. Взяв с собой предметы, которые могли бы заинтересовать первобытного охотника и его семью, — металлические ножи, острия, годные для копий, яркие безделушки, мы с Эрой подкрались к жилищу, сложенному из больших листьев. Мы положили на пороге хижины наши приношения, а сами легли на землю около тлеющих головешек потухшего костра и беспечно уснули. Мы не притворялись, мы не хотели лжи. Гиго Гант еще не оправился от раны. Ива осталась с ним в корабле, а Кара Яр с Чичкаланом и Нотом Кри издали наблюдали за нашим безумным поступком. Парализующие пистолеты на большом расстоянии были бесполезны. Я проснулся от укола в горло. Открыв глаза, я увидел золотокожего мужчину с накинутой на плечи шкурой и маленьким ярким перышком в спутанных седеющих волосах. Он приставил к моему горлу каменное острие копья. Я улыбнулся ему, зевнул и повернулся на бок. Сквозь полусомкнутые веки я увидел прекрасную девушку с огненными волосами в одеянии из шкуры ягуара. Она стояла с занесенным копьем над спящей Эрой Луа. Они могли бы уже убить нас, если бы хотели. Мой расчет на этот раз был верен. Люди примитивные, воспитанные на жестокостях каждодневной борьбы и убийств животных, они лишали их жизни из необходимости, для пропитания, а не ради самого процесса убийства. Они, конечно, не раз сражались и с себе подобными, но лишь защищая свой домашний очаг. И вдруг они увидели перед порогом своей хижины двух безоружных белокожих незнакомцев, ничем не угрожавших им, а мирно спавших у потухшего костра, к тому же положивших на порог их хижины бесценные сокровища. Было над чем задуматься и удержать копья. Целый выводок ребятишек высыпал из хижины. Они накинулись на блестящие вещицы, приведшие их в неистовый восторг. Я все еще чувствовал наконечник копья на шее. Раздраженным движением спящего я отвел копье в сторону и сел. Дикарь отскочил, не зная, что я буду делать дальше. Пристальным взглядом черных глаз он следил за каждым моим движением. Я улыбнулся и пожелал ему счастливой охоты. Услышав родную речь, охотник растерялся. Эра Луа тоже села и протянула угрожавшей ей копьем девушке красивое ожерелье из марианских камней, которое сняла со своей шеи. Возможно, когда-нибудь на Земле люди высоких цивилизаций, идя к своим младшим братьям, рискнут так же найти прямой путь к простодушным диким сердцам, как это сделали мы с Эрой Луа. Я был бы счастлив, если бы это когда-нибудь повторилось.[3] Детишки вырывали друг у друга волшебные кругляшки, дивясь, что видят в них кого-то живого, хотя за вещицами никого не было. Охотник нахмурился, прикрикнул на них, отнял прежде всего ножи и острия для копий, принявшись их рассматривать сам с тем же радостным удивлением, с каким только что смотрели на них дети. Потом он попробовал пальцем отточенные лезвия, покачал головой и вдруг, выдернув из волос яркое перышко, протянул его мне. Девушка в шкуре ягуара, оттенявшей ее красоту, такая же стройная, как и стоящая рядом с ней Эра Луа, примеряла новое ожерелье. Улыбка сделала ее лицо мягче и миловиднее, несмотря на резко очерченные скулы. Вдруг рыжая девушка бросилась в сельву. Через мгновение оттуда послышалось рычание, шум и крики. Охотник и мы с Эрой поспешили на помощь. Выяснилось следующее. Охотница хотела сорвать для Эры Луа диковинный цветок и, взволнованная встречей с чужеземцами и их подарками, забыла обычную осторожность. Притаившийся ягуар прыгнул на нее с дерева — она лишь успела крикнуть — и подмял под себя. Но рядом, в чаще, с не меньшимискусством, чем ягуар, притаились Кара Яр с Чичкаланом. Пока землянин замер в священном трепете перед вождем зверей, Кара Яр с чисто марианской реакцией прыгнула к зверю и поразила его лучом пистолета. Пятнистый хищник неподвижно лежал на своей жертве, и его пестрая шкура сливалась с ее одеянием. Кара Яр, зная, что зверь парализован, ухватила его за задние лапы и оттащила в сторону. Девушка удивленно взглянула на нее и, вскочив, прикончила ягуара ударом копья в сердце. Потом гордо встала ногой на поверженного зверя, опираясь на копье, презрительно глядя на Чичкалана и настороженно — на Кару Яр. — Гостья кагарачей рада была помочь смелой охотнице, — сказала на местном наречии Кара Яр. — Жизнь Имы принадлежит чужеземке, ухватившей свирепого вождя сельвы за лапы, — с достоинством ответила та, срывая с лианы яркий цветок и поднося его Каре Яр. Кара Яр протянула ей пистолет. — Это невидимое копье, — сказала она. — Оно не убивает, а усыпляет. — Спящий ягуар лучше прыгающего, — заметил Чичкалан. Дочь передала пистолет отцу. Тот внимательно рассмотрел его, потом почтительно взглянул на всех нас, пришельцев. — Хигучак, лесной охотник, — не без гордости сказал он. — У него ничего нет, кроме жизни. Но она принадлежит пришельцам, которые имели невидимое копье, но не бросили его ни в Хигучака, ни в Иму, ни в детей или старуху. В лесу нет ничего выше дружбы. Пусть пришельцы примут ее от охотника лесов и его дочери. Так начались наши новые отношения с людьми. У Имы было восемь иди девять младших братьев и сестер. Это были веселые и жизнерадостные существа, необычайно любознательные и беззастенчивые. Они интересовались всем: и нашими лицами, которые ощупывали, удивленно теребя мою бороду, взбираясь ко мне на колени, и нашей одеждой, и нашим снаряжением. Самой робкой оказалась мать Имы и всех этих ребятишек, худая и сгорбленная, седая скуластая женщина. Хигучак относился к ней презрительно, грубо покрикивал, никогда не называя по имени — Киченой, а лишь старухой. Мы рассказали своим новым друзьям, что мы — сыны Солнца, что мы прилетели с одной из звезд, чтобы дружить с людьми, своими братьями. Нам ничего не надо от них, но сами мы готовы им помочь во всем. Хигучак слушал нас с неподдельным изумлением, и только сверкавшие на солнце ножи, одним из которых воспользовалась Кичена, чтобы снять шкуру с убитого ягуара, убеждали охотника в том, что все, что он видит и слышит, происходит наяву. Для нас теперь было ясно, что не все люди похожи на жреца Змею Людей и ему подобных. Мои надежды найти контакт и взаимопонимание начинали сбываться. Мы привезли с Мара семена кукурузы, которые быстро всходили на щедрой почве планеты. Первые посевы кукурузы были сделаны Хигучаком и его женой, которой потом пришлось выхаживать ростки более заботливо, чем собственных детей. Надо было видеть радость новых земледельцев, когда они сняли со своего первого поля первый урожай и, никого не убивая, накормили ребятишек вкусными и сытными зернами. Климат Земли был поистине волшебным. Урожай, который удавалось снимать в оазисах Мара один раз за цикл, вдвое более долгий, чем земной год, здесь, на Земле, за тот же год снимался три-четыре раза! Очень скоро Хигучак понял, что возделывание земли и собирание зерен кукурузы намного выгоднее и надежнее, чем охота в лесу с ее опасностями и неверной удачей. Теперь семья Хигучака перестала голодать. Охотник ушел из своего племени, поссорившись с вождем, но встреча с нами заставила его пойти в селение к своему недругу и рассказать о нас. Лесной охотник был вспыльчив, но незлопамятен. Таким же оказался и вождь племени, с интересом отведавший принесенных Хигучаком зерен. Основной пищей кагарачам служили рыбы. Акулий Зуб (вождь племени кагарачей) передал через Хигучака приглашение сынам Солнца посетить селение рыбаков, и мы, нагруженные подарками и запасом семян кукурузы, отправились к побережью. Нот Кри вызвался заменить Иву, чтобы ухаживать за больным Гиго Гантом. Никогда не забыть нам того впечатления, которое произвело на нас море. Впервые море открылось нам с гор, и мы замерли от восхищения. Беспредельная искристая равнина сверкала в солнечных лучах, синяя, как здешнее небо. Потом мы видели море и серым, как тучи, несущиеся над ним, и зеленым, как сельва, и зловеще черным перед грозой или в шторм. Ветер то покрывал его серебристой чешуей, то чертил на нем пенные полосы от бегущих волн. Сверху волны представлялись рябью, напоминая марианскую пустыню, застывшую после песчаной бури. Но здесь все двигалось и дышало свежестью. Поражал и неимоверно далекий горизонт, теряющийся в зыбком мареве. С берега море казалось уже иным. Горизонт был четким. Завораживали волны, мерно вздымавшиеся вдали пенными гребнями или разбивающиеся о камни у ног. Рыбаки, смуглые и мускулистые, в набедренных повязках и плащах из кожи крупных и хищных рыб — акул, встретили нас с суровой приветливостью и неподдельным интересом. Тканей у них не было. Они еще не знали хлопка, который люди Толлы умудрялись выращивать самых разных цветов. Каждый из кагарачей попробовал зерна кукурузы — разжевывал их, закатывал глаза и чмокал губами. Однако не все рыбаки пожелали сменить рыбную ловлю на выращивание «волшебных зерен». Нашлось лишь несколько семей, решивших стать, подобно Хигучаку, земледельцами. Для них нужно было расчистить в сельве поля. Мы уже знали, как это делают люди Толлы, и помогали вчерашним рыбакам выжигать в лесу поляны. Дым поднимался над сельвой. Он ел глаза и был горек на губах, как и труд, который предстояло вложить в освобождаемые поля. Ночью над подожженными джунглями поднималось пламя, сливаясь в зарево, словно предвещавшее восход нового солнца людей Земли. Вместе с Эрой Луа я смотрел на это зарево и ощущал непередаваемое волнение. Я думал о будущем. Эра Луа, касаясь меня плечом, тоже была взволнована, но, может быть, совсем по-другому. Но оба мы (что мне, звездоведу, было совсем непростительно!) не вглядывались в раскинувшиеся над нами звезды, не старались разглядеть среди них ту, которая уже начинала разгораться, увеличиваясь в яркости, знаменуя тем трагическое сближение двух планет, которое должны были предотвратить старшие братья людей по разуму, мариане.Глава пятая ПЕРВЫЙ ИНКА
Итак, Хронику Миссии Разума продолжит уже не Инко Тихий — Кетсалькоатль, а Кон-Тики, то есть Солнечный Тики, так называют теперь меня. Слово же «инка» — так произносили здесь люди мое имя — в знак уважения к сынам Солнца стало означать «человек», а «первый инка» — первый человек общины. За то время, пока я не притрагивался к рукописи, сделано было очень много. Общение с людьми теперь было иным. Не страх перед лжебогами, не подчинение их воле вопреки сложившимся привычкам, а пример достойного поведения, щедрый результат совместного труда — вот что оказалось сильнее по своему воздействию, чем первый наш опыт в несчастной Толле. Цивилизация инков развилась, а вернее, возникла при нас взрывоподобно. Люди, прежде строившие шалаши из листьев, воздвигали теперь в Городе Солнца (Каласасаве) прекрасные каменные здания, какие могли бы украсить Толлу. Не строили они лишь ступенчатых жертвенных пирамид… Однако не только мариане учили людей, кое-что и пришельцам пришлось позаимствовать у земян. На Маре нет водных просторов. Рыбачьи плоты из легчайших стволов с веслами, удлинявшими руки, поразили нашего инженера Гиго Ганта. Он заметил, что гребцам приходилось бороться с ветром, задумал использовать движение воздуха и… изобрел парус, решив передать его людям вместе с марианским колесом. — Должно знать, — восстал Нот Кри, — что человек останется человеком, от кого бы он ни происходил — от фаэтов или от фаэтообразных земных зверей, только в том случае, ежели будет постоянно нагружать важнейшие мускулы тела. Колесо принесет несчастье людям, ибо они создадут в будущих поколениях катящиеся экипажи, разучатся ходить и в конце концов выродятся. По той же причине не нужен им и парус. Кара Яр и Эра Луа поддержали Нота Кри. Ива, наивно благоговевшая перед своим Гиго Гантом, обиделась за него. Мне пришлось принять, может быть, и ошибочное решение, которое спустя тысячелетия способно удивить будущих исследователей, которым не удастся обнаружить никаких следов колеса ни в Толле, ни в заливе Тики-кава.[4] Но парус, как мне казалось, не мог повредить людям. Это утешило Гиго Ганта, и под его руководством инки построили первый парусный корабль (уже не плот, а крылатую лодку), на котором вместе со своим рыжебородым летали по волнам вдоль берегов материка. Эти путешествия способствовали быстрому росту государства инков. Никто не завоевывал соседние племена. Мореплаватели лишь рассказывали о своей стране. Молва о благоденствии инков, умеющих выращивать чудо-зерна и живущих сплоченной общиной, влекла к Городу Солнца ищущих лучшей жизни. Вероятно, в грядущей истории Земян еще не раз случится так, что легенды о счастливом крае заставят людей сниматься с насиженных мест и переселяться целыми селениями и даже народами в поисках воли и счастья. Так случилось при нас на материке Заходящего Солнца, отгороженного океаном от других земель. К бывшим кагарачам постепенно присоединялось все больше и больше полуголодных племен, промышлявших нелегкой охотой. Они становились земледельцами, чтобы, и у них труд был столь же щедрым, как у инков, конечно, обязательный для всех без исключения. Излишки благ оказывались ненужными. Естественным становилось, что каждый помогал другому, а не жил лишь своими нуждами. Престарелые уже не умирали, как прежде, около брошенных костров. Все, кто приходил к инкам, становились равными между собой, и каждый, уже не голодая, благодаря заботам общины, сам теперь трудился для нее и полную меру своих сил. Люди узнали, что сыны Солнца, живущие с инками, научили их добывать из горных камней металл куда более прочный, чем мягкое золото. Рожденный в яростном огне, он был податлив, пока не остывал, и из него можно было делать не только оружие, но и множество полезных вещей, прежде всего орудия обработки земли, на которой вырастал дар звезд — кукуруза. Вокруг государства инков были воздвигнуты бастионы, предназначенные для защиты от грабительских отрядов Толлы, рыскавших в поисках сердец для жертвенных камней. В свое время Чичкалан попал в плен к кагарачам, участвуя в одном из таких набегов. Теперь Чичкалан был главным помощником Гиго Ганта, первым инженером среди землян, искусный не только в игре в мяч, как бывало, но и в создании хитрых рычажных механизмов. Неунывающий весельчак, он не избавился лишь от своей страсти к пульке, варить которую научил даже инков. Вместе с ними он строил парусный корабль и вместе с ними плавал в незнакомом море. Чтобы научить землян правильно ориентироваться по звездам, нам с Нотом Кри пришлось вспомнить, что мы звездоведы. Первым звездоведом среди инков стал наш ученик Тиу Хаунак. Он обладал зрением не менее острым, чем у могучих птиц, разглядывавших землю с огромной высоты. Высокий, широкоплечий, с выпуклой грудью и гордо закинутой головой, крючковатым носом и широко расставленными круглыми глазами, он умудрялся видеть звезды, доступные нам лишь с помощью оптики. Его огромные руки, будь на них перья, казалось, способны, как крылья, поднять его ввысь. Он обладал каменной волей и жестким упорством, удивляя нас своей феноменальной памятью и способностью к математическим вычислениям, от которых мы, мариане, избалованные вычислительными устройствами, совсем отвыкли. Собственно, ему, а не нам обязаны инки созданием своего государства. Если я был «первым инкой», то он был первым из инков. Он понимал, что процветание его народа основано на дружбе с пришельцами. Тиу Хаунак поразил меня своими расчетами, сообщив: — Если время оборота вокруг Солнца трех планет: Вечерней Звезды, Луны — так называл он Луа — и Земли относилось бы почти как восемь к десяти и к тринадцати, 225–280–365 земных дней, то орбита Луны была бы устойчивой, как камень, скатившийся в ущелье. — Но орбита ее неустойчива? — осведомился я. — Да, как камень на краю утеса, потому что на самом деле год Луны равен не 280, а 290 дням. При опасных сближениях Луны с Землей «камень с утеса» может сорваться. — Разве сыны Солнца говорили Тиу Хаунаку об опасности предстоящего сближения планет? — напрямик спросил я своего ученика. — Тиу Хаунак сам понял, почему сыны Солнца прилетели на Землю и зачем их братья стремятся на Луну. Однажды он привел меня на берег моря. Позади высились громады новых зданий. Впереди расстилался неспокойный простор. Небо хмурилось, ветер доносил брызги с гребней волн. Я вытер ладонью лицо. — Мудрейший Кон-Тики, наш первый инка, все же не знает людей, — загадочно начал он. — Люди становятся лучше от общения с сынами Солнца, но в своей основе остаются столь же жестокими, как жрецы Толлы. Порыв ветра рванул наши плащи, сделанные из еще пока грубой ткани, появившейся у инков. Он продолжал: — Мудрый Нот Кри объяснил Тиу Хаунаку, что причина кроется в самой крови людей, в которой таится сердце ягуара. — Нот Кри придает излишнее значение наследственности. Долг инков так воспитать своих детей, чтобы сердце ягуара не просыпалось в них Сестра Кон-Тики Ива все силы отдает такому воспитанию. — Как ни приручай ягуара, он все равно будет смотреть в лес. Что больше любви и преданности может дать воспитание? И все же девушка Шочикетсаль предала и тех, кого любила, и даже свой народ, едва сердце ягуара проснулось в ней. В черной туче над морем сверкнула молния. Донесся раскат грома. — Почему Тиу Хаунак бередит свежие раны друзей? — Потому что он с тревогой и болью услышал слова Нота Кри о скором возвращении мариан на родную планету. Корабль Гиго Ганта с надутыми парусами спешил укрыться в бухте от начинающегося шторма за уходящей в море недавно построенной защитной каменной стеной. — Разве сыны Солнца не научили людей основам добра, знания и справедливости? — спросил я. — Этого мало, — с необычной резкостью ответил Тиу Хаунак. — Миссия Разума никогда не должна закончиться. — Пришельцы смертны, — напомнил я. — Все бессмертны в своем потомстве, — возразил Тиу. — Если Кон-Тики женится на Эре Луа, или Нот Кри на Каре Яр, или же Гиго Гант на Иве Тихой, то любая эта чета может остаться с инками, дав им в правители своих детей, в крови которых не будет крупинок сердца ягуара. Я даже вздрогнул. Он сумел увидеть то, чего я не хотел видеть. Я и Эра Луа! Нот Кри и Кара Яр! И даже моя сестра Ива с Гиго Гантом!.. Со дней моей марианской молодости я считал себя влюбленным в Кару Яр, хотя она ни разу не дала мне повода почувствовать взаимность. А Эра Луа? Не потому ли она участвует в Миссии Разума, чтобы быть рядом со мной? Поэты Мара утверждали, что истинно любят не за что-нибудь, а вопреки. Вопреки всему: обстоятельствам, здравому смыслу. И не за качества характера или внешность, не в благодарность, не из жалости, не из долга, а в силу необъяснимой внутренней тяги к другому существу, хотя бы и несовершенному, которому готовы простить все его недостатки.Вместе с ближайшими помощниками Чичкаланом, Тиу Хаунаком, Хигучаком и его старшей дочерью Имой, заботившейся о нашей пище, мы, мариане, жили в одном из первых воздвигнутых здесь каменных зданий. Хигучак вбежал ко мне, вырвал из седых волос яркое перышко и бросил его на пол: — Горе нам! Прекрасная врачевательница, пришедшая с первым инком к костру Хигучака, сейчас открыла двери смерти. Я вскочил, недоуменно смотря на него. — Ничто не спасет Эру Луа, — продолжал он, топча свое перышко. Я бросился в покои, которые занимали наши подруги, где Ива и Кара Яр хлопотали около Эры Луа. Услышав мой голос, она посмотрела на меня, передавая взглядом все то, что не могла сказать словами. — Сок гаямачи, — указал Хигучак на уголки страдальчески искривленного рта Эры Луа. Я заметил красноватую пену, словно она до крови закусила губы. — Сок гаямачи, — твердил Хигучак. — Конец всего живого. И тут вбежала Има и упала к ногам отца. Тот схватил ее за золотистые волосы. — Тиу Хаунак рядом со смертью, — произнесла она. — Сок гаямачи? — свирепо спросил отец. — Сок гаямачи, — покорно ответила девушка. Отец выхватил из-за пояса боевой топор. — Тиу Хаунак! Нет, нет! — твердила Има. Я стоял на коленях перед ложем Эры Луа и держал ее руку. Ива, приставив к ее плечу баллончик высокого давления, впрыскивала ей через поры кожи лекарство. Но ведь от сока гаямачи не было противоядия! Кара Яр помчалась с другим таким же баллончиком к Тиу Хаунаку. Има посмотрела на нас с Эрой Луа и завыла раненым зверем. Я оглянулся на нее. Внезапное просветление помогло мне понять все… Как же я был слеп! Прав был бедный Тиу Хаунак, сказав мне, что я, «первый инка», все же не знаю людей!..
Много позже я попытался разобраться в чувствах и мыслях Имы Хигучак. Чуткая на глухих тропках, с верным глазом и сильной рукой, не знавшей промаха при метании копья, с простодушным сердцем пришла она из леса в Город Солнца. Дочери Солнца научили ее многому, даже умению изображать слова в виде знаков на камне или дереве, хотя произносить слова ей было куда проще и приятнее. С рождения она уважала силу, ловкость, отвагу. Ее воспитание было похоже на то, которое дает самка ягуара своим детенышам. Ей непонятны были рассуждения сынов Солнца о доброте, но она ценила сделанное ей добро. Когда отец и мать стали выращивать кукурузу, она лишь пожала плечами, оправив на себе пятнистую шкуру. Охота в лесу казалась ей занятием более достойным, чем копание в земле и выращивание из травы кустарника. Има чувствовала себя в лесу не женщиной, а мужчиной. Не всякий воин мог соперничать с ней в быстроте бега, ловкости и точности удара копьем, умении читать следы у водопоя. И она болезненно переживала, что мужчины ее племени не желали признать ее равной себе, считали, что и она должна стать обычной женой, матерью, рабой своего мужа. И вот такой девушке повстречался белокожий бородач, безмятежно уснувший на пороге ее хижины, не остерегаясь копья. Он сразу покорил Иму тем, что признал в ней Великую Охотницу, во всем равную мужчинам. А потом, когда ему подчинился отец и стали повиноваться все кагарачи, она увлеклась им. Она гордилась им, никого не унизившим, равным со всеми: и с мужчинами, и с женщинами, даже со сгорбленной Киченой. Он был необыкновенен в ее представлении. Недаром он сумел научить людей строить каменные шалаши, работая вместе со всеми, поднимая камни или взрыхляя землю. Он сумел изгнать голод из племени, потом присоединил к кагарачам другие народы, не пуская в ход копья. Но главное, у него были мягкие и светлые вьющиеся волосы, в которые хотелось запустить пальцы, и голубые глаза, отражавшие само небо. Пришелец не выделял Иму среди других, но она всей силой своего простодушного сердца полюбила бородатого сына Солнца. С наивной простотой охотника она решила «добыть» пришельца, но если нужно, отстоять его с копьем. И она пришла вместе с отцом в новый дом сынов Солнца, чтобы помогать им жить. Если они, как робкие олени, не умеют есть мясо, которое она достала бы им в лесу, она соберет им сытных кореньев и сладких стеблей. Чтобы привлечь к себе внимание бородатого пришельца, Има сменила пятнистую шкуру на новую яркую ткань инков и часто пела. Она пела не песни людей, а песни леса. Голос ее то урчал разгневанной самкой в логове, то взлетал в переливах, как яркая пташка на солнце. Бородатый сын Солнца очень любил ее пение, и она подумала, что он может так же полюбить и ее. Но он не прикасался даже к ее руке. Има горько страдала, уязвленная в своей гордости и первой девичьей мечте. В Городе Солнца выросли огромные каменные шалаши, в море стала плавать лодка с белыми крыльями. Има все страдала и надеялась. Наконец ей стало ясно, что сын Солнца не принадлежит ей потому, что на пути ее стоит та белокожая, которая разделила с ним первую опасность у потухшего костра. И тогда с наивностью дикарки, для которой так привычно было убивать, она собрала смертельный сок гаямачи. Она готовила пищу для сынов Солнца и их помощников. Ей ничего не стоило пропитать им любимую пищу Эры Луа. Но она не собиралась причинить вред Тиу Хаунаку, которого любили и уважали все кагарачи. О последствиях своего поступка свирепая охотница даже не задумывалась. Просто Эра Луа перестанет существовать, как и любой из тех зверей, которых она поражала копьем. Ведь никто не воспитывал в Име тех черт характера, которые старалась теперь привить маленьким инкам Ива Тихая. Черты характера! Ревность как черта характера присуща отдельным людям или это характеристика людей вообще? Я вместе со своими друзьями впоследствии много думал об этом. Если бы только одна Мотылек так проявляла себя, это можно было бы счесть за случайность. Но сейчас Има заставила думать о закономерности подобного поведения людей — вот что было страшно. Обо всем этом я, Кон-Тики, думал уже много позже, а в тот миг лишь увидел, что могучий Хигучак оттянул за волосы назад голову Имы, взмахнул топором и со свистом опустил оружие.
Глава шестая ОШИБКА МОНЫ ТИХОЙ
Отряд Совета Матерей снова достиг мертвого Города Жизни, покинутого несчетные циклы назад. Как и в первый раз, пылевая буря встала на пути шагающего вездехода, и путники отсиживались, полузанесенные песком. Войдя в глубинные галереи, сообщавшиеся с атмосферой Мара теперь уже без всякого шлюза, они снова шли по тропинке, покрытой вековой пылью. Мона Тихая невольно искала здесь следы сына. А ее спутник с выпяченной грудью и горбом, казавшийся в скафандре даже не марианином, а пришельцем, взволнованно смотрел по сторонам. Холодные факелы не могли рассеять глубинный мрак, вырывая только части стен, полуобвалившиеся входы в былые жилища. Рядом с Моной Тихой брела грузная Лада Луа. Вот и знакомая пещера. Свисавшие со свода сталактиты срослись с каменными натеками сталагмитов, образовав причудливые столбы. В одном из них была скрыта натеками каменная фигура Великого Старца. Немало времени провела здесь Мона Тихая, упорно освобождая древнее творение от наросших на нем слоев. Дополняя своим воображением то, что она могла разглядеть при помощи холодного факела, свет которого делал колонну полупрозрачной, Мона Тихая задумала здесь свою скульптуру Великого Старца. Но теперь иная цель привела ее сюда. Из пещеры колонн нужно было спуститься крутым ходом в нижнюю пещеру, где находился вход в тайник. В нем Инко Тихий, Кара Яр и Гиго Гант когда-то нашли не только письмена, рисунки, но и сами аппараты, без которых остов «Поиска», сохраненного фаэтами, был бы мертв. Но ни Гиго Гант, ни Кара Яр, ни Инко Тихий не знали тогда, что в тайнике есть еще один тайник. О нем знала только Первая Мать, но она молчала. И вот теперь в глубинной тишине при свете холодных факелов две Матери и их уродливый спутник остановились не перед дальней стеной тайника, как можно было бы ожидать, а перед стеной, в которой была уже открыта дверь, но только изнутри хранилища. — Мне не открыть. — Мона Тихая бессильно опустилась на камень. — Мои глаза не смогут лгать… Во мне нет желания двигать стены. — Тогда пусть Матери позволят мне, — вмешался молодой марианин и, прихрамывая, подошел к стене. — Но я не вижу здесь спирали. Куда смотреть? Чему приказывать открыться? — Собери всю силу воли, — певуче сказала Лада Луа, — представь себе все то, что сейчас увидишь, когда падет стена. — Устройство для распада вещества? Но на что оно похоже, хотел бы я знать! На остродышащую ящерицу или на мой несчастный горб? — Сейчас увидишь. В предании сказано, что все зависит от силы желания дерзающих и от чистоты их замысла. — Тогда стена не устоит! Обе Матери сели на камень поодаль. Лада Луа тихо сказала: — Без нашей помощи, пожалуй, он скорее откроет. Мона Тихая усмехнулась: — Вспоминаешь, как я мешала сыну? — Нет, почему же? Ты сама привела нас сюда, решилась. Марианин стоял перед стеной и пристально смотрел перед собой, вкладывая во взгляд всю силу своего желания. И опять, как несколько циклов назад, сработали древние механизмы, настроенные на излучение мозга. Не понадобилось даже помогать противовесам. Стена сама собой упала внутрь. Марианин, чуть волоча ногу, бросился вперед. — Здесь пусто! — закричал он. — Ничего нет! Обе Матери переглянулись. Разгневанный юноша стоял перед ними: — Ты обещала, Мона Тихая, что мы возьмем отсюда готовое устройство, чтоб сразу же лететь на Луа! Кто взял его? Мона Тихая развела руками. — Я обвиняю! — вне себя от гнева бросил ей в лицо юноша.Никогда еще не было на Маре такой смуты. Кир Яркий в своей работе на «подвиг зрелости» доказал, что планета Луа и Зема столкнутся раньше, чем определили Инко Тихий и Нот Кри и как считал старейший звездовед Вокар Несущий. Старец был задет за живое и наотрез отказался признать совершенным подвиг зрелости своего ученика. Пылкий, невоздержанный, в отличие от спокойной и холодной старшей сестры Кары Яр, тот готов был — впрочем, как и она, — во имя истины смести все на своем пути. Природа сурово обошлась с ним. Он был горбат и хром от рождения. Сознание ущербности развило в нем честолюбие, чрезмерное даже среди мариан. Он гордился Карой Яр. Она была для него воплощением красоты и примером поведения. Он мечтал, подобно ей, посвятить себя спасению людей на Земе. И, несмотря на физические недостатки, готовился к полету на Луа. Его необыкновенные способности поразили Вокара Несущего. Сочувствуя гордому юноше, он поначалу отнесся к нему с особым вниманием и даже прощал коробящую всех резкость его суждений обо всем на свете. Но когда тот стал опровергать его собственные выводы, оскорбленный старец пришел поделиться обидой с своим давним другом Моной Тихой. Он застал ее в знакомой каменной келье, на стене которой переливалась красками картина трагического взрыва метеорита в пустыне, а перед входом чудесно росло в пещере настоящее дерево. Мона Тихая была занята завершением каменного изваяния сказочного фаэта, начатого ею еще в Городе Жизни. Вокар Несущий застыл пораженный. Скульптура олицетворяла ожившее предание. Продолжая работу, неуловимыми движениями делая каменное лицо чутким и выразительным, Мона Тихая выслушала старого звездоведа. Отложив резцы, она пристально посмотрела на него, потом перевела взгляд на скульптуру, словно стараясь прочесть ответ на думы гостя в глубоких морщинах умного, застывшего в скорбной печали лица. — Не горевало бы сердце мое, — сказала она, — ежели бы прав оказался не ты, Вокар Несущий, оплот Знания на Маре, а юный Кир Яркий. Не обижайся и узнай, что передано Совету Матерей по электромагнитной связи с Земы. И Вокар Несущий выслушал печальную историю изгнания из Толлы бога Кетсалькоатля и злодеяний в Городе Солнца. — Ответствуй мне, можно ли признать разумными людей, столь кровожадных и коварных? Там, возможно, все женщины жестоки и ревнивы. Кровавые преступления — обыденность. Могли бы стать такими извергами потомки просвещенных фаэтов? Могли ли так одичать? Не земные ли это чудища, обретшие зачатки разума, чтобы стать свирепее и страшнее всех зверей планеты? Вокар Несущий не мог отделаться от ощущения, что в их беседе принимает участие и этот третий, с высоким лбом, нависшими бровями и вьющейся каменной бородой. Ему хотелось угадать, что сказал бы он, побывавший на Земе? Но изваяние молчало. — Ты права, Первая Мать, — после раздумья произнес Вокар Несущий. — Вмешательство в судьбу планет не было бы оправдано Великим Старцем. Думаю, что он, заботясь о марианах, ради которых наложил свои Запреты на опасные области Знания, предложил бы сейчас Миссии Разума вернуться с Земы на Мар прежде, чем планеты столкнутся. Мона Тихая проницательно посмотрела на звездоведа: — Так вещал бы древний Старец? Но ты, хранитель Знания, заложенного им, ты сам-то ведь считаешь, что предстоящее противостояние не так опасно и твой новый ученик не прав? — Сближение планет рождает взрыв стихий. Не счесть всех бедствий на Земе. Марианам надобно вернуться. — Тогда истинно жаль, что ты, первый звездовед Мара, не согласен с юным Киром Ярким, — сказала Мона Тихая, углубляя резцом складки между бровями на изваянии Великого Старца. — Почему? — изумился Вокар Несущий. — Увы, тебе дано познать лишь звезды, а не сердца мариан. — Сердца и звезды? — Пойми, разгул стихий лишь привлечет к себе тех, кто ищет подвига. Будь твое мнение о скором столкновении планет таким же, как у дерзкого юнца, оно могло бы убедить Инко Тихого скорей вернуться к нам на Мар. А его ведь ждет мать. Вокар Несущий задумался, искоса глядя на скульптуру и ваятельницу, нервно перекладывающую резцы. — Математический расчет порой зависит от того, как пользоваться вычислительными устройствами, — неуверенно начал он. — Первая Мать подсказала новый подход, — уже решительнее продолжал он. — Я проверю выводы своего юного ученика, и пусть он будет прав, дабы я мог присоединить свой голос к предостережению участникам Миссии Разума. — Значит, мы понимает друг друга, — закончила Мона Тихая, набрасывая на скульптуру кусок ткани. — Когда вернутся с Земы мариане, распад вещества должен остаться тайной навеки, как завещал Он.
Так неожиданно для Кира Яркого его «подвиг зрелости» был вдруг признан содеянным, а он сам — достойным участия в полете на космическом корабле «Поиск-2», сооружение которого по чертежам древних фаэтов завершалось в глубинных мастерских Мара. Кир Яркий в запале молодости приписал успех себе и направил всю присущую ему энергию на снаряжение корабля, которым будет управлять. Велико же было его потрясение, когда он узнал, что готовый корабль будет бесполезен для полета к Луа, потому что самого главного в его снаряжении — устройства распада вещества — на нем нет…
Глубинный город мариан жил своей повседневной жизнью. Бесчисленные галереи на разных уровнях пересекались сложной сетью. Вереницы худощавых, быстрых мариан шли по ним друг за другом, редко рядом (узкие проходы затрудняли встречное движение пар, и у мариан выработалась привычка ходить вереницей). Каждый шел по своему делу, но со стороны могло показаться, что всех ведет одна цель. Кир Яркий из-за горба и хромоты резко выделялся в общей толпе. Многие знали его, одолевшего в споре самого Вокара Несущего, и с интересом провожали взглядами. У него было много сторонников, в особенности среди молодежи. Немало мариан готовы были разделить с ним все опасности полета в космос. Но сейчас только один Кир Яркий ковылял в бесконечной веренице мариан, влекомый мыслью о Луа. Он даже неприязненно смотрел на тех, кто сворачивал в пещеры предметов быта. Ему казалось чуть ли не кощунством заниматься сейчас выбором необходимых для повседневной жизни вещей, настойчиво предлагаемых в пещерах быта каждому, казалось невозможным спокойно есть, спать, читать письмена, учиться в пещерах Знания, мимо которых он проходил, или увлеченно трудиться в глубинных мастерских, куда вели крутые спуски, заполнявшиеся марианами лишь перед началом или после окончания работы. У Кира Яркого времени в запасе было достаточно. Желая совладать с волнением, охватившим его перед встречей с самой Моной Тихой, Первой Матерью Совета Любви и Заботы, он решил спуститься в глубинные пещеры, увидеть, где будут осуществляться замыслы, которым он решил себя посвятить. Он считал, что это завещано ему сестрой. Кир Яркий ощутил характерный запах машинного производства. Ветер глубин дул в лицо и заставлял расширяться ноздри. Кир Яркий и прежде бывал здесь. Громады самодействующих машин всегда поражали и даже чуть угнетали его. Но сейчас они представились ему совсем иными — могучими и послушными, призванными осуществить его замысел. Он поговорил с глубинными инженерами. Они сочувственно и с уважением выслушивали его, не подавая виду, что несколько озадачены. Ведь им предстояло делать нечто совершенно незнакомое, и даже неизвестно, что именно. Однако техника Мара была столь высока, что никто не сомневался в ее возможностях. У Кира Яркого оставалось время, и он забрел еще и в пещеры знатоков вещества. Нагромождение пирамид, сфер, кубов. Загадочные, труднопонимаемые опыты, которые велись здесь, на миг заставили Кира Яркого пожалеть, что он не стал учеником этих знатоков Знания. Гигантские аппараты доставали до нависающих сводов. Они казались сказочными. Но ведь и задание, которое им готовится, тоже сказочное! До сих пор обо всем этом говорилось только в сказках.
Мона Тихая приняла взволнованного юношу не у себя в келье, а в пещере Совета Матерей. Кир Яркий оглядел своды с начинающими образовываться на них сталагмитами, потом стену с натеками, около которой когда-то стояла его сестра, не ожидая приговора, а обвиняя Совет Матерей. Он поступит так же! Мона Тихая пристально рассматривала невзрачного юношу. Глаза его так горели из-под нависшего лба, что казалось, могли бы светиться в темноте. — Что привело тебя сюда, Кир Яркий? Я убедила твоего учителя признать твой подвиг зрелости. Чего же ты еще хочешь? — Только равнодушие может подсказать такой вопрос! — запальчиво воскликнул Кир Яркий. Мона Тихая нахмурилась: — Незрелые слова не могут ранить сердце. Дано ли марианам заподозрить в равнодушии Матерей? — Дано? Глубинами разума дано! Как лететь на Луа, если устройства распада вещества для изменения взрывами ее орбиты еще нет и тайна фаэтов так и не открыта? — Мыслишь ты, юноша дерзкий, что только истинное равнодушие к грядущим судьбам мариан могло бы преждевременно раскрыть опасную тайну? — О какой преждевременности можно говорить, когда остались считанные циклы до столкновения планет! Даже сам Вокар Несущий согласился в этом со иной. А устройство распада вещества нам, марианам, надо еще научиться делать в своих мастерских. — Кто скажет мне, что учиться этому необходимо? — Как это понимать? — Любой предмет мы ощущаем с двух сторон. Ты можешь вспомнить, что в тайнике, раскрытом при твоей сестре, нашлись не только чертежи, но и готовое оборудование корабля. Того же надо ожидать и в тайнике распада. Узнай, что ни твоей сестры, ни ее спутников не останется на Земе, Совет Любви и Заботы вызовет их на Мар, когда опасность станет близкой. — Но, кроме них, на Земе живут люди, совсем такие же, как мы! Не группу мариан, открывших их, хотели мы спасать, а тех, кто подобен нам разумом! — Увы, — вздохнула Мона Тихая. — Земных животных, внешне схожих с нами, нельзя признать разумными. Спасение их от катастрофы лишь позволит им самим вызвать в грядущем подобную катастрофу. Не лучше ли предоставить их своей судьбе? — Позор! — закричал Кир Яркий. — Не верю, чтобы так могла говорить Первая Мать Совета Любви и Заботы! К кому любовь? О ком забота? Мона Тихая словно слилась со сталагмитом, о который оперлась. Черты ее стали недвижны. — Только Мать и может извинить твои слова. — Юность, юность! — кричал Кир Яркий, размахивая руками. — Почему я родился на этой планете глубинных нор? Лучше бы мне погибнуть на берегу безмерного сверкающего моря среди себе подобных, простирающих руки к огромному слепящему солнцу, чем прозябать здесь в затхлой глубине, где бескрылы мысли и бездумны запреты! — Запрет опасных Знании — забота о грядущем. Потому и существует раса мариан, что стала непохожей на фаэтов. — Убогое племя, лишенное Знаний, которые открыли бы им весь мир! Истина не в запрете, а в служении Знания благу Жизни. — Слова, подобные шуршанию камня, сорвавшегося с высоты. — Пусть я сорвусь, но скажу, что Великий Старец ошибся, по крайней мере, дважды. Мона Тихая укоризненно покачала головой: — Даже Великий Старец? — Да. В первый раз, когда открыл всем тайну распада вещества, надеясь страхом примирить безумных. Второй же раз, когда, поняв свое бессилие, напуганный трагедией Фаэны, он отшатнулся от Света Знания, навечно запретив искать ярчайший всплеск его своим потомкам! Нет! Только в Знании свет. И тьма Незнания не может стать одеждой счастья! — Ты говоришь жарко, но убедить меня не сможешь. — Тогда пусть твой сын с Земы скажет слово!
Это слово с Земы было получено Советом Матерей и потрясло мариан до глубины души. Три марианина и три марианки, претерпевшие столько испытаний и узнавшие людей с самых плохих сторон, наотрез отказались возвращаться на Мар, требуя изменений орбиты Луа, как было договорено перед их отлетом. Моне Тихой пришлось сдаться. Этому способствовал еще и упрек Лады Луа, которая напомнила, что если у нее на Земе — дочь Эра, то у Первой Матери там и сын и дочь. И если Первая Мать хочет быть матерью всем марианам, то прежде всего должна показать себя матерью своих детей.
…И вот Кир Яркий бросил ей в лицо: — Я обвиняю! Он не знал, что в тайнике не было устройства распада вещества. Последние заряды, которыми располагали фаэты, обитавшие на космических базах близ Фобо и Деймо, были использованы ими в попытках уничтожить друг друга.
Глава седьмая ВОРОТА СОЛНЦА
Солнце едва поднялось над горизонтом. Его косые лучи отбросили на утрамбованную желтую почву непомерно длинную тень новых священных ворот. Она достигала крайнего строения Храма Знания Каласасава. Это было знаком начала брачной церемонии. Пышное шествие возглавляли жрецы Знания, последователи Тиу Хаунака. Они были одеты в яркие одежды и шли попарно — один в цветастом головном уборе из перьев птиц, а другой в маске ягуара, вождя зверей. Закинув головы назад, словно наблюдая небо, они взбирались по крутой тропе и пели странную песню, которую любила когда-то петь Има. Голоса их то взвивались ввысь звенящими руладами, то падали до рокота сердитых волн. За ними в строгом молчании шествовали воины в подбитых хлопком куртках из чешуйчатой кожи гигантских водных ящериц, с нарукавниками из витых металлических спиралей. На головах у них красовались шлемы из той же кожи, прошитой металлическими прутьями, разрубить которые деревянными мечами с обсидиановыми остриями даже воинам далекой Толлы было невозможно. В руках они держали мечи черного металла, выплавлять который научили инков сыны Солнца. Потом шли поющие женщины в длинных нарядах. Другие, почти нагие, плясали под их пение. И, наконец, в окружении виднейших инков шли новобрачные. Он — в пышных одеждах. Она — лишь со шкурой ягуара за плечами. Он шел, гордо расправив плечи, выпятив грудь, она — понуро опустив голову, украшенную цветами, скрывающими отсутствие волос. Процессия огибала Ворота Солнца с обеих сторон, и только новобрачные шли прямо на них. Жрецы Знания и воины выстроились шеренгами возле проема ворот, ожидая, когда новобрачные своими силуэтами закроют в Воротах взошедшее Солнце. Проем был узким, и новобрачным понадобилось тесно прижаться друг к другу, чтобы пройти через него. Крик жрецов и воинов подхватили женщины, стоявшие по другую сторону Ворот. Супружеская пара, освященная самим Солнцем, ступила на утрамбованную золотистую землю. Теперь горбоносое лицо Тиу Хаунака излучало радость, как солнечный свет, который он словно впитал, проходя через Ворота. После сока гаямачи он обрел новую жизнь!Сок гаямачи! Он губил кровь, заставляя ее свертываться в жилах. Действие его можно было лишь ослабить на некоторое время, впрыскивая через поры кожи, разжижающее кровь, лекарство с Мара. Тромбы все же продолжали возникать, закрывая сосуды, грозя поражением мозгу и сердцу. Только полная замена крови могла бы спасти сведенную судорогой Эру и культурнейшего из людей, нашего лучшего ученика Тиу Хаунака. Я видел страдальческие глаза прощавшейся со мной Эры Луа. Так же умирал за стеной и Тиу Хаунак. Серьезной особенностью мариан был состав их крови. Они не могли обмениваться ею с людьми, но давно научились передавать кровь друг другу. После ранения осколком метеорита я потерял много крови. Не кто иной, как Нот Кри, с помощью Вокара Несущего тогда в пещере звездоведения дал мне свою кровь. Друзья поняли меня без слов. Эра лежала на возвышении. Рука ее свисала, и из вскрытой вены на пол стекала струйка густой темной крови. Другую ее руку я сжимал в своей. Мое сердце гнало кровь в ее жилы. Гиго Гант, облегчая ток крови, держал меня на руках, чтобы я находился выше лежащей Эры. Моя сестренка умело проводила операцию! Я чувствовал, как постепенно слабею, но невыразимое наслаждение наполняло меня. Эра была спасена. Где-то вдалеке, словно за перегородкой из хлопка, слышался голос Имы, которой отец в знак горя и позора отсек топором ее роскошные огненные волосы. Сейчас она настаивала, чтобы для спасения Эры взяли не мою, а ее кровь. Сестренка Ива объяснила ей, что кровь человека способна спасти лишь человека, но не пришельца с другой звезды. Тогда Има с отцом и Чичкаланом выбежали на половину дома, где умирал Тиу Хаунак. Там была Кара Яр, которая всегда знала, как надо поступать. Ей предстояло еще судить по Справедливости Иму за ее злодеяние. Но прежде надо было спасти первого из жрецов Знания Тиу Хаунака. Последнее, что я увидел перед обмороком, — это красное море на каменном желтом полу с причудливым багровым заливом, напоминавшим наш Тики-кава в час заката, если смотреть на него с горы. Когда Нот Кри с Ивой убедились, что я без сознания, а Эра вне опасности, они уложили меня на ее место и второй раз в жизни Нот Кри отдал мне часть своей крови. Придя в себя, я увидел его над собой на руках Гиго Ганта. Оказывается, я судорожно сжимал теперь, его кисть, а не пальцы Эры Луа. Повернув голову, я увидел ее. Она сидела на ложе рядом идержала в своей другую мою руку, следя за моим пульсом. Но нет, не только как Сестра Здоровья прикасалась она ко мне… Гиго Гант осторожно положил Нота Кри рядом со мной, а сам вместе с Ивой выбежал к Тиу Хаунаку на помощь Каре Яр. Она, как всегда, была на высоте, расчетливо распорядившись, чтобы Има отдала Тиу Хаунаку лишь часть своей крови, а остальное возместил бы ему ее отец. Великан из Толлы, вождь игрового отряда священной игры в мяч, попеременно держал на руках то дочь, то отца.
Потом получилось так, что не я выхаживал отравленную соком гаямачи девушку с глубокими темными глазами, а она выхаживала меня, потерявшего ради ее спасения часть невозмещенной мне крови. Она одинаково заботливо ухаживала и за мной, и за Нотом Кри, пришедшим мне на помощь. Она заставляла нас помногу раз в день есть или пить целебные фруктовые соки, совершенно как маленьких детей. И угадывала малейшее желание каждого из нас. Она не произнесла ни единого высокопарного слова благодарности. Но в ее взгляде я мог прочесть все ее чувства. А свои? Отчего же до сих пор я так мало знал о себе? Как прав был едва не погибший Тиу Хаунак, говоря мне о возможных супружеских парах мариан! Должно быть, не так уж правы наши поэты, утверждавшие, что истинно любят всегда не за что-нибудь, а только вопреки… Я полюбил Эру Луа не вопреки тому, что она была прекрасна, мягка характером, самоотверженна и предана мне всем сердцем, а именно за все это!.. Если уж я полюбил ее вопреки чему-нибудь, так вопреки самому себе, вопреки своим взглядам на обязанности руководителя Миссии Разума, не имевшего права любить. Но наша с Эрой любовь была не такой. Она могла лишь помочь выполнению Долга, но никак не помешать! Эра была со мной во всем: во всех помыслах, убеждениях, действиях. Не знаю, сказалось ли то, что я отдал Эре свою кровь. Ведь не ее же кровь текла теперь в моих жилах, сблизив меня с ней, а как раз наоборот! Она должна была бы ощутить еще большее сближение со мной. А я… И все же в какой-то степени и операция повлияла на мои чувства, которые оказались сильнее меня. Я полюбил Эру Луа. Однако я не считал себя вправе пройти с ней через Ворота Солнца, чтобы на всю нашу жизнь зарядиться от его лучей счастьем. Мог ли я сделать это на Земле, накануне грозящей катастрофы?
Судить Иму за ее злодеяние должна была Кара Яр. Тиу Хаунак, оправившись раньше Имы, пришел к Каре Яр. — Верный ученик пришельцев, — сказал он, высоко держа свою огромную голову, — хочет знать не только законы движения звезд или основы трудовой общины, но и принципы Справедливости. — Тиу Хаунак имеет в виду суд над Имой, едва не убившей его? — догадалась Кара Яр. — Велико преступление, но велико и раскаяние. Лишать ли преступницу жизни? — Убийство недопустимо даже как возмездие! — Какова же иная кара? Тяжкий труд? — Труд не наказание, а награда за жизнь в общине. Не трудом следует карать, а лишением права на труд. — Но ведь труд в общине обязателен для всех. — Лишенный права на труд покинет общину. — Ужасные слова гневной дочери Солнца! Лучше лишить виновную жизни, чем изгнать снова в лес, где в своем простодушии охотницы она встретила белокожего бородача с голубыми глазами, считая в лесу любую добычу своей. Но если в ее покушении — плод нетронутого ума, то отданная жертве кровь — веление сердца. Человек с таким сердцем может стать достойным сыном Солнца, если изгнанием в лес не превратить его в зверя. — Как же остаться ей в общине инков? — В семье, которую ей создать. Кара Яр задумалась, потом спросила: — Разве найдется ей муж, знающий о ее страсти? — Найдется. Тиу Хаунак. — Вот как? — удивилась Кара Яр. — Возможны ли браки лишь из сострадания, без любви? — На Земле не как на Маре. Браки здесь чаще угодны рассудку, чем сердцу. Мужчины выбирают себе жен, а женщины покоряются. Пройдут тысячелетия, прежде чем главным в браке станет любовь. — Тиу Хаунак говорит о Земле невежественных, почему же он, столь просвещенный, согласен на подобный брак? — Потому что Тиу Хаунак давно любит Иму и, будь она изгнана, готов за нею следом идти и в лес, и в дикость… в пасть ягуара. — Тиу Хаунак опроверг себя, — с загадочной улыбкой заключила Кара Яр. — В основе брака, к которому он стремится, все же лежит любовь… Приговор Кары Яр мог показаться странным Матерям Совета Любви и Заботы: Има должна стать женой одного из людей, навеки забыв Кон-Тики.
И вот теперь, пройдя с ней через Ворота Солнца, став мужем ее, Тиу Хаунак с женой направлялся к нам, сынам Солнца, желавшим им счастья, ибо не в возмездии Справедливость, а в победе человека над самим собой. Нас было три пары мариан. Если едва не случившееся несчастье сблизило нас с Эрой, то никак не Кару Яр Нотом Кри, несмотря на ее заботу о нем. Зато Ива с Гиго Гантом становились друг другу все необходимее без всякого вмешательства внешних событий. Было уже решено — и я, руководитель Миссии Разума и старший брат Ивы, дал на это согласие — следующими через проем Ворот пройдут они, соединись под Солнцем навечно здесь, на Земле. Я немного завидовал им и особыми глазами смотрел на Ворота Солнца. Мы называли себя сынами Солнца, считая такими же и людей, потому что разумные обитатели и Мара и Земли во всем обязаны животворящему Солнцу, спутниками которого являются обе наши планеты. Для Тиу Хаунака наше посещение Земли имело особый смысл. Он стал первым жрецом Знания. Основоположниками Знания инков он считал нас, пришельцев. И он хотел соорудить памятник нашему посещению, нерушимый на века. По его замыслу, памятник этот должен был в математических символах выражать наши идеи о Равенстве и Справедливости. Он нашел этому своеобразное выражение. Мы, мариане, сочли необходимым править инками поочередно. Тиу Хаунак подсказал нам срок правления каждого — по двадцать четыре дня. Но на мою долю, первого инки Кон-Тики, по его расчетам, выпадало на день больше. Мы настояли, чтобы в поочередном правлении инками приняли участие и наши лучшие ученики. Выбор пал на Тиу Хаунака, Хигучака и старого вождя кагарачей Акульего Зуба. Тот же Тиу Хаунак на основе своих загадочных вычислений предложил марианам сменяться в правлении в два круга, а потом по три срока правление брали на себя земляне. Их сроки были равны моему — двадцать пять дней. Вот этот календарь дружбы и равенства был изображен на памятнике нашему посещению Земли, на Воротах Солнца. Календарь имел еще и глубокий тайный смысл. Сыны Солнца в общей сложности находились во главе инков двести девяносто дней, что равнялось лунному году! Луна обегала Солнце по своей неустойчивой удлиненной орбите за двести девяносто дней (вместо двухсот восьмидесяти по теоретически устойчивой орбите, лежащей между орбитами двух более крупных планет при соотношениях времени оборота 8:10:13). Если же прибавить к двумстам девяноста дням три срока правления людей по двадцать пять дней, то получится триста шестьдесят пять дней — длительность земного года, который почти вдвое короче марианского цикла. Примитивные художники инков своеобразно восприняли облик каждого из нас. Так, меня, Кон-Тики, они изобразили ягуаром, поскольку ягуар — вождь всех зверей. Не больше повезло и остальным моим соратникам, рядом с изображением которых было численное выражение их сроков правления. Что касается трех правителей людей, то они воспроизводились символически: Ворота Солнца были сложены из трех огромных, пригнанных один к другому каменных монолитов. Эти каменные монолиты, по мысли Тиу Хаунака, и знаменовали собой людей правителей.[5] Тиу Хаунак и Има приблизились к нам. Он смотрел на меня испытующим взглядом орлиных, широко расставленных глаз. Но ничего не спросил о Маре. Я никогда не солгал бы Тиу Хаунаку. И ограничился лишь сердечным поздравлением, заключив его в свои объятия. В такой момент не время было сообщать ему о полученном с Мара по электромагнитной связи мрачном сообщении. В тайнике фаэтов не было обнаружено готового устройства для распада вещества. Мона Тихая жестоко ошиблась, рассчитывая на это. Эти устройства должны были теперь создать сами мариане. Но успеют ли они это сделать к предстоящему противостоянию Земли и Луны, которое может стать последним? Мы не хотели омрачать счастье новой супружеской пары. А ведь следующей парой хотели стать Ива и Гиго Гант. А мы с Эрой? Мы обрекли себя на общую участь с людьми. Мне не пришло в голову, что можно бежать с Земли, улететь на корабле «Поиск». Об этом шепнул мне Нот Кри. Я готов был испепелить его взглядом. Но ведь он дважды отдавал мне свою кровь! И с ним вместе нам предстоит встретить сближение Земли с Луной, грозящее неисчислимыми бедами. Но не только с ним одним — со всеми нашими друзьями, а главное, с Эрой, с моей Эрой!..
Часть третья СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ
Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой!В. Гёте
Глава первая ТЕНИ НАДЕЖДЫ
— Вот на какие тени я надеюсь! — обрадованно вскричал Кир Яркий. И Мона Тихая, и Линс Гордый, седой худощавый марианин с высоким лбом, припали к иллюминаторам «Поиска-2». С высоты околопланетной орбиты им открылась поверхность Луа, вся испещренная кратерами. Словно расплавленная магма когда-то кипела здесь, вздуваясь пузырями, а потом внезапно застыла. Однако происхождение огромных воронок, окруженных кольцевыми хребтами гор, было совсем иным. Самые древние и крупные из них оказались вулканическими. Но с ними могли поспорить и новые кратеры, образовавшиеся во время взрыва океанов Фаэны, когда чудовищные обломки врезались в поверхность ее спутника. Последующие миллионы ударов наносили уже метеориты, по существу, осколки той же взорвавшейся планеты, но возникшие позже от столкновения и дробления ее развалившихся частей. Мариане привыкли к своим родным пустыням, покрытым метеоритными воронками. Но то, что они увидели на Луа, по своим масштабам не шло ни в какое сравнение с ландшафтом Мара. Медленно поворачивался по мере движения корабля исполинский шар, то равнинный, то гористый, то весь в крапинах больших и малых ям. Горные пики отбрасывали резкие черные тени. — Смотрите на эти длинные тени. Они падают не от горных вершин, а как будто от конических шпилей, — указал в иллюминатор Кир Яркий. — Высота их, пожалуй, больше десятка тысяч шагов. Старшие члены экипажа с трудом сдерживали волнение. Они ясно видели четыре срезанных конических образования с основанием в тысяч шесть и срезом в тысячи три шагов в поперечнике. Рядом бездонными провалами зияли круглые отверстия и совершенно правильный черный прямоугольник, ограниченный отвесными стенами. Чуть сбоку виднелся купол-великан, способный накрыть целый город, сохраняя в нем искусственную, как в марианских городах, атмосферу. Другой почти такой же огромный купол имел расположенные по кругу отверстия, похожие на иллюминаторы. Верхней части свода на нем не было: в проеме виднелась чернота. Оба купола соединялись между собой колоссальным сводчатым переходом, тоже способным скрыть любой из марианских городов. В отдалении на продолжении линии, проходящей через оба купола, чернел круглый проем внутри гороподобной башни, отбрасывающей тень на равнину. Чуть дальше виднелись две правильные пирамиды. — Это уже не капризы природы, — уверял Кир Яркий. — Это наша надежда. Линс Гордый пожал плечами. — Какую же «надежду» мог оставить Мирный космос, запрещавший фаэтам перебрасывать средства распада вещества на космические тела, а том числе и на Луа? — А базы Фобо и Деймо? — парировал Кир Яркий. — Экипажи этих станций вели между собой войну распада. В космосе! На это ответить было нечем.У каждого из трех мариан на «Поиске-2» были свои основания для участия в Миссии Помощи. У Моны Тихой — дети на Земе. К тому же ее обвинили в задержке открытия тайника фаэтов, из-за чего у марианских знатоков вещества осталось слишком мало времени для создания установок сказочной мощи. Первый из знатоков вещества. Линс Гордый, полагал, что надежнее было бы отправиться с Миссией Помощи, дождавшись следующего противостояния, как ранее считал и Вокар Несущий. Тогда удалось бы создать и нужное количество установок требуемой мощи, и достаточное число кораблей для их доставки. Но неуемный Кир Яркий заставил всех согласиться с собой, доказав, что столкновение планет произойдет уже в ближайшее противостояние (никто не знал о роли в этом Моны Тихой!). С отправкой Миссии Помощи отчаянно спешили. Поэтому ограничились лишь одним готовым кораблем «Поиск-2». Пришлось пойти на уменьшение числа членов экипажа: вместо шести лишь трое. Запасы топлива были тоже уполовинены. И все это для того, чтобы захватить все готовые установки распада. Линс Гордый не собирался лететь на Луа, он только расшифровал все письмена фаэтов и руководил сооружением установок распада. Но Мона Тихая настояла на том, чтобы единственный марианин, знавший все о распаде вещества, непременно участвовал бы в Миссии Помощи, это его Долг. Кроме того, она позаботилась, чтобы на корабле оказались и все расшифрованные им таблички с письменами фаэтов, найденные в тайнике Города Жизни. Ни одной установки распада вещества не должно было остаться на Маре. Линсу Гордому даже показалось, что Мона Тихая рассчитывает, что «Поиск-2» не вернется, а вместе с ним не вернется и тайна фаэтов. Создалась такая обстановка, что первому знатоку вещества невозможно было отказаться от полета. Однако он-то, во всяком случае, собирался вернуться, хотя и не был уверен, что мощи сделанных установок распада хватит для изменения орбиты Луа. Но Долг свой, как и всякий марианин, он готов был выполнить. Так Линс Гордый оказался в составе Миссии Помощи. Рассчитывала ли Мона Тихая вернуться? Только в том случае, если с Земли поднимется корабль «Поиск» с ее детьми и их спутниками. Кир Яркий, конечно, думал о своей сестре Каре Яр. Но он летел для того, чтобы предотвратить столкновение планет. Недостаточность мощи установок распада не давала ему покоя, но все же у него была тень надежды. Однако, как ни готов был к осуществлению своих надежд Кир Яркий, он не мог сдержать нетерпения, ожидая, когда рассеется поднятая при посадке «Поиска-2» потоком тормозящих газов пыль. Наконец сквозь мутную пелену стали проступать контуры необыкновенного пейзажа. Это был город! Настоящий город фаэтов, когда-то сооруженный ими здесь! Очевидно, уже тогда Луа была лишена атмосферы или атмосфера ее была весьма разреженной. Эта особенность наложила отпечаток на странную архитектуру исполинских сооружений.

Особенно поражали два купола, напоминавших две срезанные верхушки шара, соединенные между собой гигантской трубой меняющегося поперечника. Рядом с ней даже громада пирамиды не казалась уже столь большой, хотя высота ее равнялась марианскому холму. Купола же были гороподобны. Самый большой из них походил на небывалых размеров диск, лежащий на почве. В верхней своей части он имел выпуклый свод, который когда-то был прозрачным, но после бомбардировки его в течение несчетных циклов мельчайшими космическими частицами стал матовым. Другой купол с иллюминаторами, как и видно было сверху, оказался без купольного свода, очевидно, пробитого прямым попаданием метеорита. Вдали вздымались совсем иные сооружения: башни или их остатки, устремленные в черное звездное небо, где устрашающе ярко горела планета Зема. До противостояния Земы и Луа оставалось очень мало времени… В мягком слое космической пыли, непрестанно оседавшей на каменную равнину, остались три цепочки следов, которые сохранились бы неопределенно долго, не грози Луа близкая гибель. В двух крайних отпечатки подошв были ровные, одинаково углубленные. Крайняя цепочка казалась неровной — правые следы были глубокими, и левые представляли собой прерывающуюся полосу. Тот, кто их оставил спешил, идя впереди своих спутников. Местами две ровные цепочки накладывались на неровную. У подножия геометрически правильной пирамиды, вершина которой уходила в серебристое от россыпи звезд небо, они сходились. В гладких скатах пирамиды отражались туманные светлые полосы Млечного Пути.
— Пирамида облицована исполинскими плитами, — говорил взволнованный Кир Яркий. — Зачем это понадобилось фаэтам? — недоумевал Линс Гордый. — Это памятник. Вечный памятник! — заключил Кир Яркий. — Фаэты страшились войны распада и стремились навсегда оставить след своей цивилизации. Вот почему памятник, с одной стороны, говорит о математике в виде правильных геометрических фигур, а с другой — о технике, способной соорудить такие громады. — Но рядом стоят еще более гигантские сооружения, — возражал Линс Гордый. — У твоих древних фаэтов, выражавших идеи разума, нет логики!? — Конечно, здесь не только памятники, — поспешно согласился Кир Яркий. — Я пока не знаю назначения столь гигантских сооружений, но думаю, что они принадлежат военной базе. Воинственные фаэты не упустили бы такой возможности, как угроза с Луа торпедами распада враждебному материку. Вот почему я надеюсь найти здесь неиспользованные заряды распада. — Как? — усмехнулся Линс Гордый. — Ты знаешь это лучше меня. По их излучению… Мариане привыкли у себя на Маре ходить в скафандрах. Путешествие по Луа было для них не столь уж утомительным еще и потому, что тяжесть была здесь в три раза меньше, чем на Маре. Кир Яркий, вспомнив о Фаэне, заключил, что по сравнению с ней тяжесть для фаэтов здесь была по меньшей мере в шесть раз слабее. Этим он готов уже был объяснить размеры странных построек. — Нет мыслей ясных, чтоб это доказать, — все так же задумчиво сказала Мона Тихая. — Должно быть, замыслы их были столь же грандиозны, — без всякого замешательства ответил Кир Яркий. Входа в первый диск с пробитым сводом марианам так и не удалось найти. Забраться же по крутым гладким стенам, чтобы заглянуть в проем, оказалось невозможным. И они пошли вдоль уходящей к горизонту, полузанесенной пылью, похожей на горный хребет трубы. Даже уходившая в небо пирамида проигрывала в размерах по сравнению с ней. Луа вращалась вокруг своей оси, может быть, в результате взрыва океанов Фаэны и ее осколочных ударов. Ее сутки были примерно вдвое короче марианских. Исследователям пришлось идти вдоль выпуклого трубообразного хребта всю местную ночь и весь следующий день. Лишь когда Солнце скрылось за зубчатый горизонт, и на смену ему загорелась в небе зловещая Зема, звездонавты добрались до главного купола, как они назвали его еще в полете. Дважды присаживались они отдохнуть, прежде чем заметили открытый вход под купол. Собственно, вход был не под купольный свод, а в черноту внутренности исполинского, лежавшего на равнине диска. Пришлось освещать себе путь холодными факелами, захваченными с корабля. Путники двигались по просторной галерее со множеством высоких запертых входов, по размерам напоминавших ворота. Галерея привела к лестнице. Вблизи ее ступени были столь высоки, что даже Линсу Гордому доставали до воротника шлема. — Судя по твоей статуе Великого Старца, фаэты были не выше обычных мариан, — сказал Моне Тихой Линс Гордый. — Кто опознает неведомых строителей и творение их, — загадочно ответила Первая Мать. Решили подниматься. Сначала подсаживали на ступень Кира Яркого, потом поднималась Мона Тихая и, наконец, уже Линс Гордый. Лестница великанов вывела путников в точно такую же галерею, из какой они поднялись сюда. Линс Гордый тщательно обследовал ровные стены: — Это не камень. Металл! — Металл? — поразился Кир Яркий. — Зачем делать такое колоссальное сооружение из металла, привозить его с Фаэны? — недоуменно спрашивал он. Снова мариане тысячи шагов шли по галерее, пока не остановились перед лестницей с такими же гигантскими ступенями, как и у предыдущей. И снова они одолевали в прежнем порядке ступень за ступенью. Кир Яркий громко возмущался нелепой прихотью фаэтов. — По крайней мере, мы можем сделать вывод, — спокойно отозвался Линс Гордый. — Вывод? Какой? — Что до нас здесь ходили… на ногах. — О чем ты говоришь? — Увы, я только знаток вещества, а не живых тел. Мне трудно иметь правильное суждение о тех, кто пользовался этим странным сооружением. — Не хочешь ли ты сказать, что они были выше нас? — Я это подозреваю. — А что ты еще подозреваешь? — Я скажу это, когда мы взберемся под главный купол. Моне Тихой было труднее всех. Может быть, потому она молчала, не жалуясь и не споря. Металлические галереи этаж за этажом вели их выше и выше. И всего лишь один проем в соседнее с галереей помещение оказался открытым. Свет холодных факелов высветил стены и возвышение в нише. И ничего больше, кроме опрокинутого вверх основанием усеченного конуса. Путники двинулись дальше. Они поднялись в новые галереи, заглянули еще в два пустующих помещения с нишами длиной шагов по сорок. Не могли же быть такого размера неведомые существа, лежавшие здесь!.. Когда же мариане, вконец измученные, вступили в необъятный зал под матовым куполом, то удивлению их не было границ. Закругляющиеся стены высились отвесно, покрытые нагромождением конусов, пирамид и сфер. Мариане, погасив уже ненужные холодные факелы, двигались по кругу, не решаясь пересечь зал. И только когда они увидели нечто похожее на пульт «Поиска-2», они побежали к нему напрямик. Однако часть вогнутой стены походила на пульт только издали. Вблизи сходство терялось из-за необыкновенных пропорций. Но был один предмет, не оставлявший сомнений в назначении этой части помещения. Это было кресло. Но какое кресло! В нем мог сидеть только великан, очевидно один из тех, которые шутя сбегали по невероятным ступеням и отдыхали на гигантских ложах. — Звездолет! — Кир Яркий в отчаянии опустился на металлический пол. — Это не фаэты!.. Это пришельцы с другой звезды. — Величайшее открытие сделано нами, мариане! — сказала Мона Тихая. — Оно окупает наш полет. Не только раса фаэтов мыслила в просторах Вселенной. — Как так окупает наш полет? — вскочил Кир Яркий. — Как так? Нам нужно только одно открытие — сохранившиеся заряды распада, которые не успели израсходовать фаэты в своей войне. — Что же делать? — вздохнул Линс Гордый. — У тебя была лишь тень надежды. Она заслонена тенью этих грандиозных творений разума. Ограничимся той мощью, которую имеем. — Ее недостаточно, недостаточно! — закричал Кир Яркий. — Зачем звездолет неведомых спустился на Луа? Что могло привлечь его? — сказала Мона Тихая.
Глава вторая ВЗРЫВЫ СПАСЕНИЯ
«Звездолет Ихха после смены Большого Счета поколений на оставленной родине, снизив скорость от абсолютной до межпланетной, вошел в систему планет Желтого Карлика, где вероятность развития жизни не определялась разностью двух равных величин. Планеты оказались значительными и ничтожными. На значительных, если бы они имели твердую сердцевину, живые существа могли бы достигать нормальных размеров. На ничтожных — если жизнь там и появилась, то породила особи столь малые, что ожидать у них развития высокого разума математически неверно. И тем не менее сигнал об опасной грани разума поступил именно с одной из двух ничтожных планет, находившихся на общей орбите и составлявших вместе с Желтым Карликом треугольник равенства. Первый Умеющий тотчас созвал всех звездогонщиков к Центральному Креслу и сам сделал сообщение о тревожном открытии: в атмосфере одной из планет замечены вспышки, в их спектре оказался элемент Кехха, числящийся семь раз седьмым без шести в перечне первовеществ.[6] Это свидетельствует, что на ничтожной планете ничтожные разумные организмы совершают недозволенное — освобождают энергию вещества путем его распада. В Истории Галактических цивилизации отмечено несколько подобных преступлений, вероятность которых крайне мала, но не определяется разностью равных величин. Звездолет Ихха в соответствии со своим назначением (распространение и сохранение разума в Галактике) обязан был немедленно следовать на помощь Разуму, зараженному Безумием, чтобы предотвратить истребление Жизни Жизнью. Никто из звездогонщиков Ихха не привел ни одной мысли против того, чтобы тотчас лететь к ничтожной планете и, окружив ее первосубстанцией, сделать там невозможными реакции распада вещества. Первый Умеющий и все его спутники были из числа тех, кто отдает себя делу Вселенной, отрекаясь от своего времени, от современников, родных, любимых, от радости жизни и счастья. Полное воплощение в один только Долг было единственным содержанием их жизни, воли, судьбы, которую они уготовили сами себе. Дело Вселенной — это Жизнь для всех, кто может жить и мыслить, какого бы вида или размера он ни был. Это недозволение, запрет и исключение любых столкновений, могущих отнять чью-либо Жизнь. Это привнесение Светлых Начал Разума во все сообщества Живых и Мыслящих, которые будут обнаружены во время полета Ихха. Светлое Сердце, главный советник и помощник Первого Умеющего, заверил его от имени всех остальных, что полет и укрощение первосубстанций ничтожной планеты, где возникло Безумство Разума, будут совершены. И звездолет Ихха направился к ничтожной планете. По мере приближения к ней тревожные сигналы в ее атмосфере все учащались. Неистовство распада, несомненно, уже уничтожило все поселения разумных на ее поверхности. Живыми могли остаться лишь особи, находившиеся в укрытиях, случайных или специально созданных для подобных трагических случаев. Облако субстанции, нейтрализующей реакции распада, должно было вылететь из звездолета и поглотить пылающую планету, но… этого не случилось. Звездолет Ихха находился между ничтожной планетой и ее еще более ничтожным спутником, когда свершилось наибольшее злодеяние. Взрыв распада выше критической силы произошел по воле Безумствующего Разума в глубине океанов планеты, окруженной не только газообразной, но и жидкой оболочкой. Глубинный взрыв распада, как это и следовало из Познаний Сущего, вызвал взрыв этой жидкой оболочки. Волна взрыва устремилась в виде облака пара к ее спутнику и захватила звездолет Ихха, бросив его с межпланетной высоты на поверхность спутника. И с тех пор звездолет гигантов, по сравнению с родиной которых обычные планеты казались ничтожными, миллион циклов лежит недвижно на потерявшем былую атмосферу спутнике погибшей планеты. Планеты, которая была ничтожна не столько по величине, сколько по моральным идеалам населявших ее разумных особей».Кир Яркий закончил свой рассказ, который вел в Большом Зале у подножия Кресла Гигантов. — Какой же вывод делаешь ты, Кир Яркий? — спросила Мона Тихая. — О, очень важный! — воскликнул юноша. — Мой рассказ всего лишь вымысел, мечта, но… он позволяет делать выводы практические. — Просвети нас, дерзкий Кир, — попросил Линс Гордый. — Мне становится ясней, когда я верю в то, что рассказал, каково назначение огромного цилиндрического коридора, соединяющего тот диск, где мы теперь, со вторым диском без свода. — Ты полагаешь, что в этом намеренном удалении от обитаемой части звездолета находились его двигатели и вещества, дававшие им силу? — Ты прав, Линс Гордый. Этот вывод рожден логикой, которой ты владеешь. Не знаю я, найдем ли мы первосубстанцию, в присутствии которой не будут протекать реакции распада, хотя такая субстанция, как я б хотел, должна существовать, но запасы неизрасходованного вещества распада, конечно, мы найдем! И я тотчас же отправляюсь сам туда по внутреннему коридору, а не снаружи туннеля, как мы шли сюда. — Ты не сделаешь этого, Кир Яркий! Я не смогу этого допустить! Знаешь ли ты, что наши скафандры не защитят нас от невидимых лучей распада, излучаемых тем веществом, что ищешь ты? — Ты бережешь мою жизнь, мудрый Линс, забывая о миллионах живых и мыслящих братьев, населяющих несчастную планету Зема, к которой приближается осиротевшая когда-то и блуждающая теперь в пространстве Луа? — Ты безрассуден и смел, но есть границы возможного. Останови его. Мать Мона! Никто из живущих не способен сделать больше того, что в состоянии сделать. Ты рвешься, юноша, в отсек Смерти, чтобы спасти Жизнь, но там утратишь собственную жизнь раньше, чем победишь чужую смерть. Жаркий спор велся в торжественной пустоте огромного зала, где, быть может, и в самом деле собирались когда-то у Центрального Кресла неведомые гиганты-звездогонщики, посвятившие себя распространению и сохранению разума и погибшие от его безумия… Мона Тихая слушала своих спутников молча. Она размышляла. Ей предстояло вынести решение, касавшееся не только тех, кто находился с нею рядом, но и тех, кто был на далекой Земе. — Пойми, Линс Гордый, — убеждал Кир Яркий. — В чем смысл нашей Миссии? В том, чтобы произвести спасительные взрывы распада. Но спасительными они будут лишь в том случае, когда сила их окажется достаточной, чтобы затормозить в полете Луа. Я только обнаружу запасы вещества распада. Это позволит нам наши собственные запасы, сделанные знатоками вещества на Маре (под твоим руководством, Линс Гордый!), взорвать над запасами гигантов. Тогда взрыв будет всеобщим. И если даже есть поблизости запасы вещества распада тайных военных баз фаэтов, они взорвутся тоже, и лишь общая их сила остановит Луа! — Ты убедил меня, Кир Яркий. Я не знаю логики более железной и более раскаленной. Ты выжигаешь ею истину. Но я не отпущу тебя одного. Я пойду с тобой. — Нет, — вступила теперь Мона Тихая. — Не бывать тому! Если даже не вернется славный Кир, кто-то должен будет, взорвать марианские запасы вещества над диском звездолета гигантов, который Кир Яркий назвал так романтически «Ихха». — Ты хочешь. Первая Мать, взорвать марианские запасы вещества распада над диском, где, может быть, в беспамятстве лежит живой наш марианин? — Я думаю о миллионах жизней. — Но не думаешь о жизни близкого тебе? — Я думаю и о жизни близких. — Разве может рассуждать так Мать? — Только Мать способна на такое рассуждение. Ты не пойдешь с Киром Ярким, Линс Гордый. Так сказала я — Первая Мать Мара, и ты сделаешь, как я накажу. Кир Яркий стоял в стороне, словно не о нем шел этот спор. Он уже знал, что делать. Неуклюже припадая на одну ногу, он стал пробираться к лестнице гигантов. — Идите к кораблю, если ты, Мать Мона, согласна со мной, — сказал он. — Я вернусь к вам. А если не дождетесь, то, не размышляя, поступайте так, как подсказала Мать, Мать всех матерей. Если я буду поражен лучами распада, это значит, что вещество распада есть там и оно примет участие в спасительных взрывах, придав им необходимую силу. — Возьми с собой прибор, который подскажет тебе еще задолго до цели, есть ли там то, что ищешь ты, — сказал Линс Гордый. — Если прибор известит тебя, не иди дальше, возвращайся к кораблю. Мы ждем тебя. — И он обнял юношу. — Прощай, — сказал Кир Яркий. — Я хочу верить, что не зря на Маре жил. — И он заковылял к выходу из зала. — Если бы его могла видеть Кара Яр, — вздохнула Мона, смотря ему вслед. — Она бы гордилась братом. — Ты не позволила мне идти с ним, ты сделала меня несчастным. Трудно сознавать, что ты ниже, слабее, ничтожнее другого… — Не говори так. Знаток Вещества. Мы еще не выполнили Миссию, которую приняли на себя. Закончить жизнь можно было бы и на Маре по законам Природы или опережая их. Почувствуй на мгновение себя одним из гигантов-звездогонщиков, о которых фантазировал наш несравненный Кир. Они отдали, как он напомнил нам, не только Жизнь, но и отказались от своего времени, от тех, кто окружал их, от тех, кто их любил и кого они сами любили. Это куда труднее, чем пойти на риск, сопровождая Кира. — Ты мудра, Первая Мать Мара. Потому я и остаюсь с тобой.
Кир Яркий вернулся на корабль «Поиск-2». Мона и Линс Гордый видели его горбатую фигуру, когда он тащился по пыли Луа, оставляя на ней цепочку характерных для его неуклюжей походки следов. Но не было для глаз Моны Тихой и Линса Гордого походки более горделивой, чем походка этого обездоленного природой, но столь духовно богатого юноши. Гипотеза Кира Яркого подтвердилась. В полуразрушенном диске, соединенном с диском обитания звездолета огромным туннелем, действительно находились и двигатели распада, и вещество, служившее топливом для них. — Скажи нам, Кир, — мягко спросила Мона, — ты действительно тотчас повернул назад, как получил сигнал прибора? — Мог ли я так поступить. Мать Мона? Ужель я позор ищу себе в награду? Я повернул назад, когда увидел сам то, о чем вам рассказал в полете пылкого воображения. — Но ты подвергся разрушению, безумный! — вскричал Линс Гордый. — Клянусь тебе, учитель, я бодр, как никогда! Теперь взрывать, скорей направленно взрывать! Направить все торпеды наши ко второму диску, где свода нет. Пусть взорвется все и осколки достигнут звезд! — Но подожди. Корабль должен отлететь, — заметила Мона. — Нам мало задержать полет Луа, нам предстоит продолжить свой полет. Кто знает, что происходит там, на Земе? Приготовления делали в яростной поспешности. Пожилая Мать Мона, старый Линс и хромой, горбатый Кир — все трудились исступленно, понимая, что каждый миг приближает космическое тело, на котором они находились, к обреченной Земе с ее людьми, потомками фаэтов или подобных им существ. И там, где в обычных условиях мало было бы усилий сотни тружеников, сейчас трое словно взорвавшихся изнутри мариан совершали немыслимое, подвиг, продиктованный им Долгом.
…Корабль «Поиск-2» взлетел с мертвой поверхности планеты, давно потерявшей атмосферу. Возможно, что во времена фаэтов она была покрыта воздухом, имела реки, водоемы… На ней могла быть колония фаэтов, остатки которой, если они и сохранились, будут уничтожены теперь взрывами спасения. Кир Яркий был счастлив, он чувствовал себя, по собственным словам, бодрым, как никогда. Как никогда…
Глава третья НОЖ В НЕБЕ
У Земли стало два светила. Второе по ночам сияло ярче всех звезд. Теперь надо было ждать сотрясений почвы, наводнений, ураганов. Инкам было предложено покинуть каменные строения, чтобы избежать гибели в развалинах. В горах, вдали от моря, могущего ринуться на берег, они мастерили шалаши из листьев, как бывало еще до объединения в общину. Только мы, сыны Солнца, да Тиу Хаунак с женой, ожидавшей ребенка, оставались в городе. Инками правил в очередной свой срок старый охотник Хигучак. Помощь его в лесу была сейчас особенно полезна людям. Луна всходила на небосводе раньше Вечерней Звезды. Освещенная солнцем лишь с одной стороны, она походила на изогнутый нож для срезания сладких стеблей. Занесенный над Землей, он зловеще сверкал, увеличиваясь с каждым днем. Каменные здания ночью выглядели серебряными. Тогда мы с Эрой и бродили среди них, взявшись за руки и стыдясь своего счастья. Поднимаясь над горизонтом, грозящий Земле нож казался окровавленным. Мы отлично знали, что причина этого в прохождении отраженного Луной света через толстые слои земной атмосферы, но Эра непроизвольно прижималась к моему плечу, а я обнимал ее, словно мог оградить от всех несчастий. А несчастья надвигались. Сообщения по электромагнитной связи от Моны Тихой были неутешительными. Младший брат Кары Яр вычислил, что Луа с Землей неминуемо столкнутся в самое ближайшее время. Первая Мать, как обещала нам, сама повела корабль к Луа, захватив с собой все сделанные на Маре установки распада вещества. Но не слишком ли поздно? Нот Кри доказывал, что нам нет никакого смысла оставаться среди людей, имея возможность покинуть Землю на «Поиске». Он убеждал нас, собравшихся в большом зале нашего каменного дома, что цель Миссии Разума вовсе не в самопожертвовании, что наши жизни принадлежат Мару, наконец, что мы можем вернуться сюда, когда убедимся, что Земля уцелела. Кара Яр молча усмехнулась в ответ. Мне вдруг стало жалко Нота Кри. Я догадывался о его надеждах, поскольку не стоял теперь между ним и Карой Яр. Но мариане думали сейчас не о его личных переживаниях, а о настойчивом предложении, обоснованном логично и холодно. Ива встала с ковра из птичьих перьев, которым, как в Толле, украсил пол нашего жилища заботливый Чичкалан. Она оперлась о плечо оставшегося сидеть у ее ног Гиго Ганта. — Мы прилетели сюда ради людей, — звонко сказала она. — Они сейчас страшатся кровавого ножа, занесенного над Землей. Наши предостережения о грядущих бедствиях звучат для них пророчеством о конце света. Свое переселение в горы инки уже восприняли как потерю всего, что обрели в Городе Солнца. Я удивился мудрости этой речи. Ива все еще была для меня девочкой. — Что предлагаешь ты, сестра моя? — спросил я. — Мужественный Кон-Тики, милый наш Инко. Я вовсе не чужда холодной логики Нота Кри, но сердцем считаю, что не могут участники Миссии Разума, которую ты возглавляешь, предать людей, запуганных и беспомощных. Это все равно что бросить во время пожара собственных детей, поскольку взрослые ценнее для общества. Если Луна с помощью обещанных нам взрывов распада вещества пройдет мимо Земли и все живое здесь уцелеет, то люди все равно утратят нечто большее, чем жизнь, они потеряют веру в справедливость, которую внушили им покинувшие их в беде сыны Солнца. И они уже не станут теми инками, какими нам хотелось их сделать. Нот Кри покрылся пятнами, плотно сжав узкие губы. Он разжал их, чтобы сказать: — Если все представители высшего разума мыслят столь же «логично», как и это юное существо, то мне остается лишь убедить их во имя безопасности и выполнения Долга на время скрыться в нашем корабле «Поиск», пока не закончится разгул стихий. Это даст нам возможность не только уцелеть, но и скорее прийти на помощь напуганным и пострадавшим людям. — Чтобы помогать им, необходимо быть среди них! — холодно возразила Кара Яр. — Людям надо внушить, что разум выше стихии. И делать это надо уже сейчас, когда страх овладевает ими. Ива благодарно взглянула на нее и, словно продолжая ее мысль, сказала: — Такой помощью может оказаться наш собственный пример. Не бежать, хотя бы для того, чтобы укрыться, спокойно наблюдая за гибелью других, должны мы, а, напротив… — Что напротив? — раздраженно осведомился Нот Кри. — Мы с Гиго Гантом решили соединить наши жизни. И сделать это не когда-нибудь потом, в безоблачное время, а сейчас, в грозовую пору. Пусть в брачной церемонии у Ворот Солнца примут участие люди Земли. Это успокоит их. Я почувствовал, как сидящая рядом со мной Эра Луа пожала мою руку. Я понял ее мысли и потому слушал дальнейшие слова своей сестры с особым волнением. Она продолжала: — Стоя в проеме Ворот, мы с Гиго Гантом дадим клятву людям навечно остаться с ними, как об этом просил Тиу Хаунак. «Вот как? Могли бы мы с Эрой решиться на это?» Я взглянул на нее. Она смотрела на ковер из птичьих перьев.…Длинные тени первых солнечных лучей легли на золотистую площадку. К проему Ворот вела солнечная дорожка, оттененная двумя темными полосами от массивных каменных стояков. Она казалась особенно яркой, начинаясь от тени перекладины, казавшейся вспаханной землей. Процессия жрецов Знания, возглавляемая Тиу Хаунаком, и воины во главе с Чичкаланом обошли тень Ворот, предоставляя пройти по солнечной дорожке только новобрачным. Ива Тихая и Гиго Гант, держась за руки, шли по светлой полосе навстречу восходящему в проеме Ворот Солнцу. Танцующие женщины своими движениями словно направляли их вперед, к солнечной жизни. Инки спустились с гор, чтобы увидеть, как сочетаются браком дети Солнца, решившие навеки остаться с ними. Ива и Гиго смотрели перед собой. Монументальные стояки Ворот были гладкими, с двумя небольшими прямоугольными нишами. Лишь массивная перекладина была покрыта резным орнаментом, который, по мысли Тиу Хаунака, должен был вещать далеким потомкам о лунном годе, о сынах Солнца, их поочередном правлении инками и появлении их на Земле из-за угрозы столкновения ее с Луной. Прямо над проемом посередине фресок выделялось изображение ягуара, которое должно было символизировать меня, Кон-Тики. Теперь Ива и Гиго стояли как раз напротив каменного ягуара. Еще несколько шагов до проема — и они на миг затмят Солнце, впитывая в себя его лучи. В Воротах им пришлось тесно прижаться друг к другу. Тиу Хаунак провозгласил: — Отныне и на нескончаемые века сыны Солнца дарят инкам правителей, в крови, которых нет ни злобы, ни жестокости. Счастливые инки доверяют сынам Солнца и их потомкам вечно править ими, чтобы никогда не была нарушена на Земле Справедливость. Пусть отныне каждый первый инка женится лишь на своей собственной сестре, сохраняя чистоту крови сынов Солнца.[7] — Нож в небе! И искры около него! — раздался возглас в толпе. Все подняли головы и увидели днем ночное светило в виде изогнутого ножа, занесенного над Землей. Два светила одновременно были на небосводе. В этом не было ничего удивительного. Вечерняя Звезда бывает порой и Утренней, поднимаясь вместе с Солнцем над горизонтом, лишь затмевая его лучами. Но сейчас появление искрящегося ножа в небе было воспринято инками как страшное знамение. И особенно потому, что рядом с ножом что-то сверкало. Нам, марианам, хотелось верить, что это сверкают спасительные для Земли взрывы распада, которыми будет задержана устремившаяся на Землю Луна. Но как трудно было уверить в этом перепуганных людей!.. Люди побежали от Ворот Солнца к морю. И тутзаметили, что оно, яростно разбиваясь о камни пенными валами, наступает на набережную. Каменная стена, уходя далеко в море и защищая бухту и городскую гавань от морских волн (любимое место прогулок горожан), уже скрылась под водой, и волны ворвались на центральную площадь. Ива и Гиго Гант так и замерли в проеме ворот. И тут земля заколебалась под ногами. Кара Яр бросилась к Воротам Солнца, чтобы помочь новобрачным. Тиу Хаунак, сооружая Ворота Солнца, хотел, чтобы они выдержали любое землетрясение, оставшись стоять навеки. Но у нас на глазах огромный поперечный монолит треснул. Трещина прошла через все письмена, разделив их на две неравные части. Чудовищная каменная глыба должна была свалиться на Иву и Гиго. Но она чудом продолжала держаться на своем месте. Кара Яр не добежала до Ворот. Всколыхнувшая почву волна свалила ее с ног в нескольких шагах от разрушающегося сооружения. В следующий миг земная волна сбила с ног и всех нас, стоявших вместе с Тиу Хаунаком. Тиу Хаунак вскочил первым и кинулся навстречу наступающему морю, чтобы спасти оставшуюся в нашем доме Иму и их будущего ребенка. Когда я поднялся на ноги, Ива и Гиго Гант уже стояли рядом с нами. Кроме них, тут были несколько жрецов Знания и воинов вместе с Чичкаланом и танцовщицы. Все остальные бежали в горы. Но каменная лавина встретила их еще в предгорье. С гулом и ревом, подскакивая и сталкиваясь, камни неслись навстречу. И тут в горах, где стоял наш «Поиск», раздался страшный взрыв. Но еще раньше, чем его звук докатился до людей, в отчаянии кинувшихся наземь, высоко в небо поднялся огненный столб. Может быть, именно такие взрывы страшного оружия древних и видели мы только что в виде искр на затемненном диске Луны. Конечно, не эти спасительные взрывы были причиной начавшихся бедствий, а сближение планет, которое не успели предотвратить эти взрывы распада… На горном склоне появилась огненная река. Над ней стелился кудрявый дым, похожий на гигантскую, сползающую с горы змею. Люди повернули назад, но оказались между лавиной несущихся с гор камней и наступающим морем. Никто не знал о судьбе инков, оставшихся в горных лесах. Новые ущелья раскалывали склоны, камнепады сметали все на своем пути, перемешиваясь с потоками вырвавшейся из недр магмы. Вдруг появилась Кара Яр. Она призывала людей остановиться, подавая пример бесстрашия. Нот Кри, мы с Эрой Луа и новобрачные присоединились к ней. Сознание, что сыны Солнца с ними, ободрило наших земных друзей. Испуганные, потрясенные, столпились они около нас. Полоска земли между рушившимися горами и наступающим морем все сужалась. — О великий Кон-Тики, спаси нас! — восклицали мужчины и женщины, ломая руки. — Не бойтесь, идите за мной! — воскликнула Кара Яр, смело направляясь к гремящему вдали каменному потоку. — Лучше всего укрыться под отвесной скалой. Я застыл недвижно, видя, как на крыше нашего дома появились две фигуры. Это, конечно, были Тиу Хаунак и Има. Помочь им было невозможно: нигде поблизости не было ни лодки, ни бревна. — Я поплыву к ним, — объявил Гиго Гант, — помогу. — И я с тобой, — сказала Ива. — Я тоже научилась плавать. Страшный вопль заставил остановиться и Гиго Ганта, и Иву. Я не верил глазам. Только что мы видели стройную фигурку Кары Яр, уводившую часть толпы от наступающего моря под защиту горного обрыва. И вдруг и она, и все, кто был с нею, исчезли. На месте, где они стояли, зияла теперь трещина, из которой поднимались клубы пара. Оставшиеся инки и мы, мариане, но уже без несравненной Кары Яр, оказались отрезанными от гор. Нот Кри рухнул на землю, содрогаясь от рыданий. Я и сам готов был рыдать рядом с ним, но вокруг были люди, чего-то ждавшие от меня. — О Кон-Тики, спаси нас от моря! Прикажи ему повернуть вспять, — слышались исступленные крики несчастных. Что мог я сделать, кроме того, что делал, невозмутимо стоя среди тех, кто верил мне! Гиго Ганта и Ивы не было. Они плыли по направлению к крыше дома. — О великий Кон-Тики! Ты спас нас! — раздались истерические вопли женщин. Смысл слов не сразу дошел до меня. Я думал, что меня все еще просят о невозможном. Но, оказывается, меня благодарили за якобы содеянное. И тут мы с Эрой Луа увидели, что подкатившиеся почти к нашим ногам морские волны стали отступать. Тогда я еще не знал, что означает это наше чудесное спасение, какой ценой глобального несчастья оно оплачено. Мы шли следом за отступавшими волнами, обходя выброшенные предметы: то чью-то трубку для вдыхания дурманящего дыма, то посох старика, то отмытое волнами нарядное ожерелье. Мы останавливались перед трупами утонувших. Их было много, очень много. Я никак не думал, что столько инков еще оставалось в городе. Я боялся заглядывать в их лица, чтобы не узнать своей сестры, Гиго Ганта, Имы или Тиу Хаунака… Море отступало. Небо стало совсем черным от расплывшейся над вновь проснувшимся вулканом тучи. Преждевременные сумерки спустились на землю. На улице нас нагнал Нот Кри. Лицо его было перекошено гневом и страданием. — Не захотели улететь! — прошипел он. — Заплатили жизнью Кары Яр за безумство, недостойное Разума. — Надо найти Иву и Гиго, — сказала Эра. — Что мне до них, когда нет Кары Яр! — в бешенстве воскликнул Нот Кри. Эра Луа рыдала у меня на плече. Клянусь, у меня первый раз в жизни глаза были полны слез. Море отошло от нашего дома, где все было испорчено залившей комнаты водой, и он был пуст. Только на набережной мы встретили Тиу Хаунака вместе с Имой и нашими марианами. Если в такую минуту можно было говорить о счастье, те мы почувствовали себя счастливыми. На плече Имы сидел попугай гаукамайя из далекой сельвы. Золотистым шнурком, сплетенным из отстриженных волос Имы, он был привязан к ее ожерелью. Зачем? …Море продолжало отступать.
Глава четвертая СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ
Только много позднее смог я представить себе, что произошло тогда по всей Земле. Подземные толчки следовали один за другим. Каменные дома рушились, как игрушечные, будто сложенные из крупинок на столе, который вдруг резко встряхнули. Груды щебня завалили улицы. В воздухе пахло вылью и еще чем-то сладким, противным, что еще недавно было живым… Повсюду валялись уродливые обломки, и порой нельзя было понять, труп это или часть разбившейся статуи. На набережной сгрудилась загнанная туда обвалами жалкая толпа. Пышные, потерявшие теперь всякий блеск наряды жрецов Знания и певиц, померкшие доспехи побросавших оружие воинов, нагие тела танцовщиц с обвисшими браслетами и облегающие марианские одеяния сынов Солнца придавали толпе пестрый вид. Все мы стояли рядом, зажатые между развалинами и морским прибоем. Деваться больше было некуда. Вот почему даже не крик ужаса, а общий стон пронесся по толпе, когда заколыхались плиты набережной. Они выпучивались, словно под ними злобно заворочалось чудовище. Этим потревоженным чудовищем была сама Земля, раненная грубым вторжением могучего тяготения постороннего космического тела. И словно мало было разрушений от содрогания земли: над городом заклубился черный едкий дым. Ветер опалил лица сухим жаром. Глаза заслезились. Река лавы, огнепадом сорвавшись с обрыва нового вулкана и заполнив собой трещину, которая, поглотила первые жертвы бедствия и в их числе нашу Кару Яр, ворвалась теперь на улицы города. Только окружающий нас ужас позволяет мне говорить о нашей Каре Яр как одной из многих, шедших за нею… Я просто не могу заглушить словами свой горький стон при мысли о ней… Все мы были потрясены. Наиболее стойкой из нас оказалась Эра Луа: она находила ласковое слово для каждого. Держалась твердо. Глядя на дымящийся город, она даже горько вспомнила несчастную Толлу: — Город Солнца будто подожжен… дикарями. — Нет, — жестко возразил Нот Кри. — В гибели Кары Яр надобно винить не диких потомков фаэтообразных, а кое-кого другого, цивилизованного… — Он особый смысл вложил в последнее слово. — Если ты имеешь в виду цивилизованных дикарей, по чьей вине Луна летит сейчас на Землю, то ты прав… — заметил я. — Философией не заткнуть голос совести, — грубо оборвал меня Нот Кри. — Философ всегда должен отыскать истинную причину явления, — спокойно вступил Гиго Гант. — Пусть никто не забрасывал здесь горящих факелов в открытые окна жилищ, но все же именно просвещенные дикари подожгли Город Солнца миллион лет назад. — Фаэты, развязавшие войну распада? — живо спросила Ива, успевшая, как и Гиго Гант, снова одеться после плавания за Тиу Хаунаком в сохраненную для нее Эрой одежду. — Взрыв океанов расколол Фаэну. Ее части разошлись в пространстве и не могли удержать около себя былого спутника. Прошел миллион лет, и этот спутник, когда-то сорвавшийся со своей орбиты, сейчас здесь, над нашими головами. Он разрушает дома не хуже бомб распада, пробуждая вулканы, лава которых становится факелом поджигателей… — Замолчите! — прервал Нот Кри размеренную речь Гиго Ганта. — Замолчите! Легче всего свалить свою вину на выдуманных фаэтов. Знайте, в смерти Кары Яр виновны цивилизованные дикари! Но не фаэты, а МАРИАНЕ, отказавшиеся переждать стихийное бедствие в безопасном космосе! Я с укором посмотрел на Нота Кри. — Пусть память о нашей Каре Яр возразит тебе ее словами. — Ненавижу вас, безумствующих поборников Разума! Вы убили мою Кару Яр, жизнь которой была ценнее прозябания всех жалких племен Земли! Вы, воображающие себя неспособными на убийство, оборвали и мою жизнь!.. Выкрикнув это. Нот Кри оттолкнул вставшую на его пути Иву и бросился к столбу пламени, взвившемуся над руинами. Стоявший рядом Чичкалан не понимал языка сынов Солнца, но угадал смысл разговора. Не рассуждая, он бросился за невменяемым Нотом Кри.Спустя некоторое время златокожий великан вернулся, неся на руках обожженного сына Солнца. Эра стала приводить его в чувство. Застонав от боли, Нот Кри процедил сквозь зубы: — Этот низший фаэтообразный обошелся со мной как зверь. Он содрал мне волдыри. — Он спас твою жизнь, — ласково возразила Эра. — Кто вправе распоряжаться моей судьбой? — повысил голос Нот Кри. — Никто на Маре не посмел бы решать за меня, когда мне жить и когда умирать. — Но ты, Нот Кри, участник Миссии Разума. У тебя Долг. — Что мне Долг, выдуманный полоумным поэтом древности. Каждый живет ради счастья. Только в том и есть Долг. — Хорошо, что Кара Яр не слышит тебя. Ты не только не добился бы ее любви, но потерял бы ее дружбу, — сказала Эра. — Не может быть дружбы между теми, кого сама Природа толкает друг к другу. — И Нот Кри снова застонал. — Разве это дружба между Инко Тихим и Эрой Луа? Не надо быть слепыми! Пустите меня к Огненной реке! Огненная река сама пробивалась к нам, вздуваясь ослепительными тестообразными краями. Она выползала на камни набережной, взбухая и пузырясь. Оседавшая на нее пыль загоралась синими мечущимися огоньками. Толпа шарахалась от нее в сторону. Приходилось отворачиваться от обжигающего кожу жара. Мне, прикрывшемуся козырьком, было видно, как на поверхности лавы пробегали огненные блики. Словно чьи-то неведомые письмена возникали и исчезали на сверкающем зеркале. По краям из-под наступающей магмы то и дело вылетали снопы искр. Тяжелая раскаленная масса доползла до края набережной, и от первых ее капель, упавших в море, снизу взвились столбики пара. Через мгновение рев и свист донеслись с того места, где огнепад встретился с морским прибоем. Его пена слилась со струями пара. Все вокруг заволокло жгущим туманом. Мы почти не видели друг друга, скрытые в стелющемся по земле облаке. Дыхание обжигало легкие. В голове мутилось. Сквозь пар поблескивала упорно сползающая в море густая и матово-яркая лава. От соприкосновения с водой она тотчас превращалась в твердые скалы. Светящийся поток упрямо напирал на них, обтекая выросшие препятствия и поворачивая на набережную, где грозил добраться до людей. Подувший ветер снес облако пара в сторону, и, облегченно вздохнув, мы на какое-то время увидели схватку двух стихий: воды и огня. Смерч, подобный тем, что встают над пустынями Мара в Пылевые Бури, вырос над заливом Тики-кава. В заливе этом постепенно стал возникать каменный мыс застывшей лавы, похожий на мол, который инки недавно сооружали здесь для защиты огромного, только что построенного корабля от океанских волн. Образуясь как бы в лютой схватке, вал этот походил на груду тел убитых, и по нему, искрясь и набухая, продолжал победно двигаться поток магмы. Словно в исступлении боя, все новые и новые огненные полчища стремились занять место павших. Клубы пара белой, уходящей в залив стеной, как дым сражения, поднимались с места боя. Если бы ветер подул в нашу сторону, мы задохнулись бы или сварились в жарком пару. Чичкалан схватил меня за руку, потом упал передо мной на колени. — О Кетсалькоатль, ты всесилен, — на языке людей Толлы воскликнул он, указывая на море. — Ты бог! Я всегда это знал!.. Казалось, море, признав свое поражение, стало отступать перед огнем. Расплавленная магма стремилась скорее занять его место на еще влажных камнях. Гиго Гант с тревогой смотрел на свою гордость — недавно спущенный на воду корабль. Он заметно оседал по мере того, как море уходило, и мачты его едва возвышались над краем набережной. Вода словно куда-то переливалась из бухты, как из одного сосуда в другой. В этом было наше спасение! И тут полил дождь. Помню, какое впечатление произвел на мариан первый дождь в сельве. То был тропический ливень, который заставил нас, привыкших беречь на Маре каждую каплю влаги, замереть от ужаса и восторга. Потом мы привыкли к ливнем. Но то, что происходило сейчас на земле инков, не шло ни в какое сравнение даже с первым чудом сельвы, ее дождем. Море, только что отступив, вдруг ринулось обратно, но уже с неба, неведомо как оказавшись там. Водные струи сшибали с ног, топя нас, не давая вздохнуть. Корабль Гиго Ганта к тому времени оказался уже на суше и, накренившись, лежал беспомощной громадой на камнях. Спасаясь от ливня, все мы побежали по бывшему дну залива к кораблю. Это я впопыхах предложил найти на нем укрытие. Помню, как две танцовщицы помогали бежать старому жрецу Знания, колено у того было разбито и кровоточило. Он останавливался, пытался лечь, но две его внучки тащили его дальше. На бедре одной из них виднелась свежая рана. Так мы оказались на судне и с трудом поднялись на покатую палубу. Еще недавно Гиго Гант лелеял мечту совершить на этом корабле плавание к материку Заходящего Солнца, где, по слухам, жили белые бородатые люди, из племени которых происходила мать несчастного Топельцина, более цивилизованная, чем обитатели Толлы. Теперь мы никуда не собирались плыть. Нужно было просто переждать ливень. Но он усиливался. Скоро небесный водопад победил все, даже огненный поток, низвергавшийся со склонов вулкана. Лава затвердела на улицах скалистым гребнем, местами поднимаясь выше затопленных ею домов. Море ушло, словно вылилось куда-то через образовавшуюся пробоину, и даже небесный водопад не мог пополнить его убыль. Укрывшись на корабле, мы не знали, что предпринять. Наши спутницы, как и подобало марианкам, разыскали заготовленные Гиго Гантом на долгое путешествие запасы пищи и раздавали ее инкам. Ливень еще больше усилился. Улицы города, ведшие к набережной, превратились в мутные потоки, низвергавшиеся с набережной каскадами. Снова, как во время столкновения воды в огня, над ними поднимались облака пара. Но это были мельчайшие брызги, реющие над землей туманом, несмотря на льющийся сверху поток. Возможно, что такие же потоки воды лились и во многих других местах земного шара. Нам казалось, что повсюду происходит то же самое. Не укройся мы на корабле, нас смыло бы во вновь наполнившейся водой залив, уровень которого заметно поднимался. Наш корабль всплыл. Палуба его уже не кренилась как прежде, а угрожающе покачивалась. Гиго Гант взялся за руль, чтобы управлять кораблем. Наиболее сильных инков он посадил на весла. Пытаться поднять паруса в такой ливень было невозможно. Теперь ко всем опасностям прибавилась еще и возможность потонуть на перегруженном людьми корабле. Без парусов оставалось довериться лишь веслам и течению, которое относило нас все дальше от Города Солнца, вернее, от его руин. Казалось, что дождь льет не только сверху, но и сбоку, опасно креня судно, готовое зачерпнуть воду недопустимо низким бортом. Начался шторм, унося у нас последнюю надежду на спасение. Из трюма слышались рыдания и стоны. Вместе с Эрой мы зашли туда. Люди лежали вповалку, прижавшись друг к другу. Многие страдали от качки. Посоветовавшись с Эрой, мы решили, что лучшим лекарством для таких больных будет неистовая работа, отвлечение от одуряющей обстановки. Я поставил всех, кто мог встать, на вычерпывание воды. Има, ждавшая ребенка, несмотря на это, встала вместе с другими женщинами в цепь — передавать из рук в руки наполненный водой сосуд, чтобы выливать воду с палубы в море. Все же сознание безысходности не покидало работающих, исключая разве что гордую, сжавшую губы Иму. Тогда Эра предложила мне попытаться воздействовать на психику невольных пассажиров корабля. Только наследственный ум Матерей Мара мог подсказать ей такую мысль! Здесь, на палубе, во время потопа и шторма, мы с нею перед лицом всех, кто разделял с нами общую судьбу, должны были соединить наши жизни. Но не для того, чтобы закончить их в пучине, а чтобы войти вместе со всеми в новую жизнь после близкого спасения! Мы объявили наше решение своим соратникам. Тиу Хаунак и Чичкалан передали его инкам. Мысль о свадьбе сынов Солнца в столь необычных условиях заставила встать даже лежащих пластом. Они словно увидели краешек скрытого за сплошными тучами светила. Но сквозь потоки лившейся сверху воды проникал не столько солнечный свет, сколько непрерывное сверкание молний. Заслоняя их блеск, мы с Эрой стояли в проеме кабины управления. Там находились все наши друзья, а из люка трюма выглядывали смельчаки, передававшие вниз все подробности церемонии, наспех придуманной нами. По сигналу Тиу Хаунака из трюма донеслось свадебное пение скрытых там певиц, а под струями дождя танцевали две наиболее отчаянные танцовщицы. На бедре одной из них я узнал знакомый шрам. В блеске молний, под гром, подобный взрывам распада прямо у нас над головой, Тиу Хаунак провозгласил меня и Эру мужем и женой: — Пусть дела, которые станут отныне вместе свершать Кон-Тики, звавшийся в небе Инко Тихим, и Эра Луа, носившая древнее имя Луны, будут столь же яркими, как эти вспышки небесного огня. И пусть счастье сопутствует новым мужу и жене и на Земле, и на Маре, и на любой другой звезде Вселенной! Да будет так во имя Жизни Кон-Тики с женой и всех, кто плывет с ними вместе среди грома и бури, знаменующих лишь превратности Жизни! Да будет так! Дождь, если этот поток можно было назвать дождем, лил не переставая несколько суток, все первые дни нашей с Эрой новой жизни. Мы были с ней всегда вместе. Счастливым она помогала своим видом, слабым — утешающим словом, подбадривала страдающих. Тиу Хаунак и Чичкалан вдохновляли примером гребцов. Гиго Гант был неутомим и позволял сменять себя только мне. Ива была с ним, добавляя этим сил. Жрецы Знания и певицы с танцовщицами неутомимо вычерпывали воду. В трюме было душно и пахло сыростью. Эра велела приоткрыть люки. Когда я сменил изнемогающего от усталости Гиго Ганта, он шепнул мне: — Слушай, Инко, настоящий шторм в открытом море… Нет, его корабль не выдержал бы. — В открытом море? — переспросил я, почувствовав ударение, сделанное на этих словах. Гиго Гант молча кивнул и свалился в глубоком сне. Ива положила его голову к себе на колени и сняла его очки, которые надо было беречь, как его собственные глаза. Чти он имел в виду? Шторм слишком слаб для океана, в котором мы давно должны были бы оказаться? Куда же делся океан? Мы переглянулись с Эрой, научившись понимать друг друга без слов. Корабль перебрасывало с боку на бок. Я старался держать его против волны. Воины Чичкалана помогали мне в этом веслами. Без них корабль давно бы перевернулся. Эра призналась мне, что почти все запасы еды уже уничтожены. — Хорошо, хоть жажды никто не ощущает, — добавила она, кивнув на бьющие в палубу струи.
Каждый раз, сменяясь у руля, я бросался к аппарату электромагнитной связи, чтобы услышать голос Мара или Моны Тихой с Луны. Но все мои попытки оказывались тщетными. Магнитная буря невиданной силы, очевидно, разыгралась на всей планете и непробиваемым экраном закрыла от нас остальной мир.
Глава пятая ПРИЗЕМЛЕНИЕ
С замиранием сердца наблюдали мариане цветущую планету Зема с высоты, равной половине ее поперечника.[8] «Поиск-2» облетал Зему несколько раз за время ее оборота вокруг собственной оси. Медленно поворачивался в черной бездне исполинский шар, прикрытый густым облачным покровом, там и тут закрученным спиралями. Он был почти весь залит водой. Если на Маре вода может сохраняться лишь в глубинных водоводах, впитанная в почву оазисов или в виде ледяных покровов полюсов, то здесь, помимо полярных льдов, вода была разлита по всему шару. На долю суши, сплошь покрытой растительностью, оставалась едва ли четвертая часть, всей сферической поверхности. Можно было поражаться расточительной щедрости Природы, наделившей всеми благами эту чудом спасенную от столкновения с другим космическим телом планету. Богатая активным окислителем атмосфера превосходила по своим жизненным свойствам искусственный воздух глубинных городов Мара. В черноте неба на фоне серебристой звездной россыпи, казалось, быстро двигалась (но на самом деле прекратила свое сближение с Земой) Луа, остановленная силой взрывов. Мариане наблюдали эти взрывы, когда шар Луа выглядел по своим размерам таким же, как сейчас Зема. Сама Мона Тихая привела в действие с помощью электромагнитной связи торпеды распада. Они взлетели со своих наклонных направляющих, с таким трудом установленных на Луа тремя марианами, и должны были взорваться над диском звездолета гигантов. Все произошло в полном соответствии с расчетом. Мариане, конечно, не видели взлетевших торпед. Они лишь на мгновение ослепли от вспышки ярчайшей звезды на месте Луа. Поверхность ее будто исчезла со всеми своими бесчисленными горными кольцами, впадинами и кратерами. Когда яркость вспышки ослабла и снова стал виден космический ландшафт планеты, чем-то напоминавшей родной Мар, мариане, находясь уже в состоянии невесомости, ощутили на себе влияние взрыва, которого не учли. На Луа не было океанов, облако пара не могло настигнуть «Поиск-2», но… газы, образовавшиеся при взрыве, догнали корабль. Плавая в воздухе кабины, все трое мариан разом обрели свой былой «марианский» вес и упали на переборки, на окно обзора, на пульт управления. Больше других пострадал Кир Яркий. Вылетев из кресла пилота, он так ударился о панель приборов, что потерял сознание. Мона Тихая, забыв о собственных ушибах, бросилась к нему на помощь. Кряхтя и охая, к ней присоединился и Линс Гордый. Надо было как можно скорее привести в чувство Кира Яркого. Ведь ему, пилоту корабля, предстояло вывести его к Земе, посадить на ее поверхность в нужном месте, чтобы найти там Инко и его друзей. Но далеко не сразу он пришел в себя. Мучительная слабость вдруг сковала все его члены, не позволяла ему даже открыть глаза. Мертвенная бледность разлилась по острому лицу. К счастью, сила, вызвавшая ощущение веса, быстро ослабла. Состояние невесомости вернулось, и это помогло Киру Яркому прийти в себя. — Славный наш Кир, — сказал Линс Гордый. — Случилось так, как в твоем рассказе. Но только из слушателя я превратился в действующее лицо. И поплатился парой синяков. — На счастье нам, нет облака паров взорвавшихся морей, — вставила Мона Тихая. — Корабль «Поиск» не будет брошен так, как звездолет гигантов. Надеюсь, мы к Земе подлетим по воле Кира. Кир Яркий хотел улыбнуться, но лишь поморщился от боли: — Я все же рад, что вы припомнили рассказ об Ихха. Я тоже думаю о них, о тех, кто, может быть, погиб, стремясь спасти других. — И миллионы циклов не бьются их сердца, — сказала Мать Мона. — Пусть так, но все-таки они и после гибели своей смогли помочь всем тем, кто жив на Земе. Не будь их топлива распада, кто знает, чем кончилось бы все? — Я вычислил уже, — сообщил Линс Гордый. — Сближение Луа с Земой прекратилось. — Я счастлив, Линс! Не передать вам, как я рад! — Как чувствуешь себя, наш Кир? — заботливо спросила Мона. — Э, не беда, что нас встряхнуло! И не беда, что на Луа появился новый горный цирк. Он будет вечным памятником Ихха. — А ты? — Что я? Ушиб проходит скоро. Лишь бы рассеялся туман. — Тумана нет, наш Кир, — заметил Линс Гордый. Кир удивился. Мать Мона озабоченно смотрела на него. Она видела, каких усилий ему стоило занять место в кресле пилота. — Они собирались у Центрального Кресла, — задумчиво сказал Кир Яркий, закрывая глаза. — Перед нами теперь отнюдь не пустыня, — отозвался Линс Гордый, включая экран обзора с увеличенными деталями поверхности Земы. Потом уже с околопланетной орбиты изучали они загадочный мир, столь непохожий на скупой и чахлый Мар. Моря, моря, моря… Песчинки островов и огромные пространства суши. Сплошные заросли растений, горы, реки, водоемы… Но вместе с тем нечто странное было в облике рассматриваемой со столь близкого расстояния планеты. Она не слишком походила на знакомые карты звездоведов, составленные ими за тысячи и тысячи циклов наблюдения Земы. И это было тем более странным, что Инко Тихий сообщал о хорошем соответствии увиденной им впервые планеты с ее марианскими картами. Очертания ее материков и океанов в основном хорошо совпадали с увиденными с Мара. Впрочем, проверить это можно было лишь за очень долгий срок, когда за много наблюдений можно было устранить искажение лика планеты ее облачным покровом. Возможно, что и сейчас все дело было в облаках. На том и порешили. Судя по спиральным завихрениям в атмосфере Земы, там свирепствовали чудовищные ураганы. Они мешали Киру Яркому найти то место, куда один лишь раз мог приземлиться «Поиск-2». Ведь резервных запасов топлива на нем не было. Кир Яркий еще на Маре настоял, чтобы за счет ненужного, как он считал, запаса взять лишнюю торпеду распада, сделать тем взрывы на Луа более надежными, способными затормозить ее полет. Ошибиться в выборе места посадки мариане не могли, а электромагнитной связи с Инко Тихим не было. И неизвестно почему. — Ориентира нет, — сказал Кир Яркий. — Придется обойтись нам без него. — Не лучше ль выжидать? — усомнился Линс Гордый. — Возможно, бури, что мы видим сверху, вызвали помехи связи, и мы не слышим Инко. Когда-нибудь утихнут ураганы… — Ты знаешь по родному Мару, Линс Гордый, как долго бушуют там песчаные бури, — заметила Мона Тихая. — Не лучше ли подождать? — в гневе воскликнул Кир Яркий. — Как можно говорить о задержке, бездеятельном ожидании, когда нет сигналов от наших близких. Отсутствие сигналов — это и есть сигнал, быть может сигнал бедствия! Скорее сесть, скорее! — сразу загорячился он. — Куда? — спросил Линс Гордый. — Когда сигналов нет… — Или мы не мариане, не знатоки знания? Тебе, Первому знатоку вещества, не пристало задавать такой вопрос! — Кир Яркий снова, как бывало, накалился, едва наметился спор. И даже так угнетавшая его слабость отступила. — Спокойно, мариане, — прервала Мать Мона. — Что скажешь ты, Линс Гордый, если мы решим спуститься? — Уж коль спускаться, так лишь на основе марианских карт. Я тотчас же отмечу место, откуда шли сигналы Инко, — сказал Линс Гордый. — Ты прав, пожалуй, знаток знания, — поддержала его Мона Тихая. — Возьми же карты звездоведов. — Я одного боюсь, — заметил Кир Яркий, — что карты неточны и лик планеты прикрывает облачный покров. Линс Гордый выплыл по воздуху из кабины, чтобы заняться отождествлением старинных карт с видимым изображением на экране. Когда через несколько оборотов «Поиска-2» вокруг Земы он снова появился в кабине, лицо его было смущенным: — Поверьте, странный результат. Неужели Инко Тихий все свои сигналы передавал не с берега океана, как мы считали, а из района обнаруженного мною высокогорного озера? — Опомнись, Линс Гордый! Ты же знаток знания! — напал на него Кир Яркий. — Лучше сознайся в своей ошибке вычисления. Не может того быть!.. — Ошибки нет, — веско ответил Линс Гордый, хмуро глядя На Кира Яркого. — Наложение карты звездоведов на видимое здесь изображение, — он указал на экран, где в увеличенном виде появлялись различные части планеты, — указывает точно место, откуда Инко слал сигналы. Возможно, что «Поиск» им оставлен был в горах. Нам тоже нужно сесть там, рядом. Мне это ясно. — Как можешь ты так утверждать, почтенный Линс, пренебрегая содержанием сигналов. Передавались они не с корабля, а из Города Солнца, с берега моря, по которому плавал под изобретенным Гиго Гантом парусом корабль инков. И он прошел вдоль берегов. Тысячи тысяч шагов. Нам, марианам, не понять размеров океана. И о каком высокогорном озере может идти речь? Я не пойму, хотя тебе все ясно. — Мне ясно, что речь идет об озере, с берегов которого мы и получали сигналы группы Инко. Так карты говорят. Нет знатоков точнее звездоведов. — Прости меня, мой старый марианин, но, кажется, считалось, что упрямство не украшение храма мудрости. — Ты путаешь упрямство с убежденностью. А убежденность — дочь мудрости. Так издавна считают мариане. — Боюсь, что твоя убежденность скорее похожа на сироту. — Ну, знаешь ли, Кир Яркий! Чем вести такой тяжелый спор, я предпочту просить решения у Матери всех Матерей. — Остановитесь, мариане! Как ни расходитесь вы во мнениях, стремление все же у вас одно — действовать во имя Любви и Заботы. И только страстным желанием служить им я объясняю столь резкие суждения и слова, которыми вы их выражаете. — Ты слышала нас, Мать Мона. Решай сама, — сказал Линс Гордый. — Здесь нечего решать, — возвысил голос Кир Яркий. — Мы должны оказаться на берегу океана, о котором сообщали наши близкие, недалеко от впадавшей в него большой реки. Марианские карты нужны нам были до тех пор, пока мы не видели сами Земы, да еще с такого близкого расстояния. А теперь… Реальный мир планеты виден нами с высоты, сопоставимой с ее размерами. Его и должны мы изучить, а не быть в плену старых и сомнительных наблюдений с неимоверно большого расстояния, — убеждал Кир Яркий. — Нашел ли ты, Кир Яркий, предполагаемое место посадки? — спросила Мать Мона. — Помни, что нам не удастся вновь взлететь для перемены места. — Я знаю все. Я все учел, — заявил Кир Яркий. — Я определил, куда нам сесть. Сомнений нет. Вот посмотрите, сейчас мы пролетим над местом, столь похожим на описание Инко, что сомневаться просто невозможно. — И Кир Яркий, выбравшийся из кресла, подплыл к самому экрану, на котором виднелась поверхность Земы. В одном из проемов облаков там хорошо просматривался океанский берег, заросли растений на нем, скопление белых скал, а может быть, и искусственных сооружений близ излучины реки, впадавшей в океан. — Вот где совершали наши мариане свой Подвиг Разума. Вот наша цель, в которую нам надлежит попасть, а уж никак не в горы, отрезанные от морей. Там мы не встретим братьев! — И твою сестру, — добавила Мона Тихая. — В том, что говоришь ты, Кир, немало правды. Тяжело решать мне, зная о невозможности исправить ошибочный расчет. — Какая может быть ошибка? Ужель не верить собственным глазам и доверяться звездоведам, не столько увидевшим, сколько воображавшим далекую планету? Ужель не верить марианам, достигшим Земы раньше нас? — Я не хочу опровергать тебя, наш Кир, — вздохнул Линс Гордый. — Но можно ли без риска утверждать, что описание мариан и видимое нами совпадают? — О, Великий Знаток Вещества! Как бы ты отнесся к тем знатокам, которые, осмысливая суть вещей, выдумывают ее сами, а потом берутся защищать свою выдумку, как бы она ни была нелепа? — Замолкни, Кир! — прервала Мать Мона. — Слова твои владеют тобой, а не ты ими! Как можешь ты так говорить с Первым Знатоком Вещества на Маре? — Который пренебрегал там сокровенным устройством неделимых и познал их тайну лишь из древних сообщений фаэтов. — Так повелел Великий Старец, ты знаешь это сам. И мы. Матери Мара, свято блюли его Запрет, и не вини в том наших знатоков. — Легко так спорить. Яркий Кир, — печально вступил снова в разговор Линс Гордый. — Ты в буре слов готов винить меня. Но я виновен только в том, что знаю место, откуда слались нам сигналы. Зачем же подменять твердое знание произвольным выбором, основанным на свободном описании жизни мариан на Земе? Но если это все и так, я воздержался бы от выводов и обвинений. — В тебе вещает мудрость возраста, мой Линс, — вставила Мона Тихая. — Ох, тяжко сделать выбор мне, ибо каждый из вас обладает слепящей силой убеждения. Прости меня, Линс Гордый, но не под силу мне спуститься в горы, откуда не пробраться к морю, на берегу которого и воздвигнут Город Солнца. — Все ясно! — крикнул Кир. — В тебе сосредоточена вся Мудрость матерей, вся их Любовь, вся их Забота. И эта мудрость приведет нас к желанному берегу инков. И пусть здесь уступлю и я. Мы опустимся лишь там, где увидим белокаменные здания их Города Солнца. — Да будет так! — вздохнула Мать Мона. Щемящая тоска сдавила ей сердце. Холодный разум в ней боролся с пылким чувством женского начала. И, как это ни странно, пылкое чувство это было на стороне холодных рассуждений Линса, а ясный разум руководительницы склонялся к страстным аргументам Кира.…«Поиск-2» пошел на приземление. Самодействующие приборы точно вывели его к намеченной точке поверхности Земы. Небо над этой точкой планеты было ясным, потому и виден был сверху берег океана. Теперь с меньшей высоты и мариане увидели белокаменные храмы, которые они приняли с орбиты за Город Солнца. Увы, это был не Город Солнца… Хотя Страна Храмов, как назвали ее потом мариане, находилась на берегу океана невдалеке от впадения в нее могучей реки. Корабль плавно опустился на землю, качнувшись на выпущенных лапах. Тучи дыма разлетелись по обожженной траве, смолк грохот двигателей, исчезло пламя. Настала тишина. Мариане знали, что теперь им не подняться, кроме как для возвращения на Мар. Полуголые люди, во всем похожие на мариан, только более крепкие и рослые, с высокими белыми повязками на головах пали ниц перед посланцами небес, спустившихся на «Летающей колеснице» (они здесь знали колесо!), в «вимане», как они ее назвали. Это не были инки или люди Толлы, не знавшие колеса. Они даже никогда не слышали о таких народах. Все это с горьким чувством скоро выяснили для себя «посланцы неба», сумевшие быстро освоить язык детей Земли. Поправить дело было невозможно. Оставалось ждать известий от Инко… и начинать общение с людьми. Так решила Мать Мона, приняв на себя задачу Миссии Разума своего сына. Линс Гордый ни словом не напомнил о своем «упрямстве». Он даже старался оправдать Кира Яркого изменениями, происшедшими на Земе из-за сближения с Луа: — Здесь поднялись горные кряжи и опустились в океан материки. Я высчитал, что именно так мог измениться лик планеты. Мы предотвратили столкновение Земы с Луа, но не могли смягчить их притяжения. Но бедный Кир всю тяжесть вины принял на себя. Потрясение было столь велико, что силы покинули его. Он не мог даже спорить с Линсом, возражать ему. Слабость, наступавшая на него еще в полете, теперь сломила не только его тело, но и дух. Сказалось облучение! Линс Гордый и Мона Тихая понимали, что оно было для Кира Яркого смертельным. Линс Гордый ухаживал за горбатым Киром, как заботливый Брат Здоровья. Но ничто уже не могло спасти юношу, который не задумывался о последствиях разведки. Он заплатил своей яркой и короткой жизнью за взрывы спасения, удержавшие Луну от столкновения с Землей. Кир Яркий умер… умер тихо, совсем не споря и даже улыбаясь Линсу и всем, кто оставался жить. По древней традиции Мара прах бедного Кира нужно было развеять в пустыне. Пустынь здесь, на Земе, не было, все цвело и буйно разрасталось. Мона Тихая решила развеять прах Кира над могучей рекой, протекавшей через Страну Храмов. Люди, узнав о решении Моны, которой поклонялись, столпились в ожидании на обоих берегах реки. В тот день свирепый ураган пришел на помощь Моне Тихой. Наивные же люди думали, что богиня, какой они считали Мону, просто вызвала бурю себе на помощь. И в час, когда валились в джунглях вырванные с корнем великаны, когда над берегом реки взвивались захваченные вихрем тучи песка, Мона бросала с обрыва горсть за горстью то, что осталось от жалкого тела, от страстного стремления служить Добру, от жажды жизни, знаний, правоты… Над простором реки с тучами песка смешался прах марианина, отдавшего жизнь людям, который желал счастья всем, но не изведал его сам…[9] Люди в белых тюрбанах благоговейно наблюдали за посланцами небес, о которых сложили потом сказания, звучавшие в веках.
Глава шестая ЗАОБЛАЧНОЕ МОРЕ
— Горе инкам, горе! — послышались крики на палубе. — Солнце гаснет! Мы с Эрой и Тиу Хаунаком, задыхаясь, выбежали из кабины управления и увидели в проеме облаков настоящее солнце, но словно остывшее, бледное, покрытое причудливыми тенями. — Пусть успокоятся инки, самое страшное позади, — переводя дух, сказал Тиу Хаунак. — Дождь наконец стих, а в небе видно не гаснущее Солнце, а подлетевшую и оставшуюся у Земли звезду. Таким мы увидели после прекратившегося ливня первое полнолуние на Земле. — Это очень странно, — тихо заметил мне Тиу Хаунак. — Все вычисления доказывали, что Земля не способна захватить себе в подруги чужое космическое тело. Она могла лишь столкнуться с ним. — Тиу Хаунак не учитывал прежде спасительных взрывов, толчок которых удержал Луну от падения на Землю. — Только постороннее вмешательство могло сделать Луну спутником Земли, — согласился земной звездовед и с отсутствующим, напряженным взглядом углубился в вычисления, которые непостижимо как умел производить в уме. — Мощь таких взрывов должна на столько же превосходить силу проснувшегося около Города Солнца вулкана, на сколько море больше корабля. — Тиу Хаунак мог бы быть вычислительной машиной фаэтов, — попробовал пошутить я, но наш ученик был настроен серьезно. — Мудрость фаэтов сделала их сильнее самой Природы, — сказал он. — Беда их была в том, что знание вещей опередило у них познание Справедливости. Потому сыны Солнца стараются прежде всего передать инкам учение Справедливости. Познание вещей придет к их потомкам, не будучи уже опасным. — Хотелось бы поверить этому, — вздохнул Тиу Хаунак. Я почувствовал его сомнение и тревогу. Был ли я полностью уверен в своих словах? Мог ли предвидеть все пути развития будущих народов Земли, пытливых и незнакомых? А если бы опасное познание вещей спустя тысячелетия пришло, скажем, к тем же обитателям материка Заходящего Солнца, носящим в себе наследственные черты людей Толлы? Разве трагедия Фаэны не могла бы повториться и здесь, на Земле? Я ни с кем не стал делиться своими тревогами. Все равно путь мариан, развивавшихся под знаком Запретов Великого Старца, представлялся мне неверным. Мне казалось, что истинный свободный разум не должен знать запретов и сам найдет правильное применение знания.…Первое полнолуние совпало с радостным событием на корабле. У Имы родился сын. В честь нового ночного светила его назвали Лун Хаунак. Небо почти очистилось от облаков, и в нем сияло волшебное ночное светило, заливая море серебристым светом. Когда на него набегали полупрозрачные облака, они заставляли его мелькать в непостоянной дымке. И тогда казалось, будто не облака, а сама Луна мчится по небу. Наша любовь с Эрой началась, когда Луна выглядела изогнутым ножом. Теперь она была сверкающим диском. Инки думали, что такой она останется навсегда. Однако уже в следующие ночи край светлого диска стал темнеть, словно кто-то прикрывал его. Инки испугались. Не новыми ли бедами грозит такое изменение лика ночного светила? К тому же зловещие, низкие тучи черным туманом ползли по морю, сливаясь с серой пеной волн. Тиу Хаунак объяснил своим соплеменникам, что ничего страшного в происходящем нет. Луна светит не сама, а лишь отражает солнечные лучи. Солнце же всегда освещает лишь половину лунного шара, который теперь обегает вокруг Земли. И временами с Земли будет видна или полностью вся освещенная половина Луны, или только ее часть, которая будет выглядеть изогнутым ножом при своем приближении. Инки слушали своего знатока знаний настороженно. Но за время нашего долгого плавания они убедились в правильности его предсказаний. Это пробудило среди инков необычайное к нему уважение, а у нас — гордость за своего ученика. И мы были счастливы, что инки ставили Тиу Хаунака в один ряд с нами, сынами Солнца. Так началась для нас жизнь Земли с ее новым спутником — Луной. Погода стала ясной. Инки выбрались из трюмов на палубу, боясь, однако, подходить к бортам, чтобы не опрокинуть корабль. Среди них появилась и Има с ребенком на руках и неизменным попугаем гаукамайя на плече. Только теперь я понял, почему она, дитя лесов, не расставалась с ним. Оказывается, у племени кагарачей был своеобразный обычай: по случаю рождения ребенка отпускать на волю рыбу или птицу. И Има трогательно заботилась о попугае, не расставаясь с ним ни при землетрясении, ни во времянаводнения. Ей нужно было сохранить его, чтобы в нужный момент отпустить на свободу. Теперь на корабле должно было состояться это маленькое торжество. Мы с Эрой и Тиу Хаунаком стояли в толпе инков рядом с Имой. Гиго Гант с Ивой, как всегда, находились в кабине управления, удерживая корабль хотя бы против волны, поскольку неизвестно было, куда плыть. Има, держа на руках золотоголового сынишку, дала ему вволю покричать. Это было как бы сигналом. Она перерезала охотничьим ножом золотистый шнурок, сплетенный из ее волос, подбросила освобожденную птицу над волнами и звонко крикнула: — Нет большего счастья, чем свобода! Пусть гаукамайя получит ее, но даст взамен счастье маленькому Луну Хаунаку, будущему мужчине! Попугай радостно взмахнул яркими крыльями, заигравшими всеми цветами на солнце, сделал круг над кораблем, словно выбирая место, куда бы сесть, потом передумал, и полетел в сторону… неизвестно куда. Впрочем!.. Мы с Эрой переглянулись, ведь мы научились понимать друг друга без слов. Птица могла полететь… только к берегу! К желанному для всех нас берегу… Однако было странно, что суша лежала в противоположной Городу Солнца стороне. Об этом говорило само солнце в небе! И все-таки птица полетела несомненно к суше! Я тотчас отправился к Гиго Ганту. Там уже был Тиу Хаунак, он, как и мы, заметил направление полета птицы. — Надо поднимать паруса! — обрадовалась Ива, узнав новость. — Еще больше удаляться от Города Солнца? — нахмурился Гиго Гант. — Тиу Хаунак подсчитал, — сказал наш земной друг, — что время, какое может продержаться в полете попугай, не так велико. Берег, который он почуял, а может быть, и увидел сверху, где-то совсем близко.
— Земля на горизонте! Сколько раз этот крик моряков будет звучать надеждой на спасение в грядущей истории человечества! Полоску суши увидел с мачты Чичкалан. — Пьяная Блоха заслужил свою чарку пульке! — радостно кричал он оттуда, отплясывая на перекладине «танец пульке» и неведомо как сохраняя равновесие. Мы не ошиблись. Попугай гаукамайя, наш крылатый разведчик, верно вел нас за собой. Скоро полоска на горизонте стала различимой уже и с палубы. Трудно передать всеобщее ликование на корабле. Даже Нот Кри поднялся на палубу. Но, мрачно взглянув на спасительную полоску, пожал плечами и спустился снова в трюм. По мере приближения к желанному берегу все большее недоумение овладевало нами. Всюду виднелись только голые угрюмые скалы без единого дерева на них. Неужели штормовые бури вырвали все с корнем? Но тогда остались бы лежать поваленные стволы. С большими предосторожностями корабль подошел к голым скалам. Спустили лодку. Мы с Эрой и Тиу Хаунаком и несколькими инками на веслах отправились исследовать землю. Может быть, это был вулканический остров, поднявшийся с морского дна? Предположение это как будто подтвердилось, когда мы обнаружили на шершавых илистых утесах не успевшие еще засохнуть водоросли. Бесплодный берег не сулил спасения. С этим горьким известием мы вернулись на корабль. Первое, что мы увидели там, была Има Хаунак с ребенком на руках и… попугаем на плече. Гаукамайя сам вернулся к людям. Он не нашел свободы на мертвом острове. — Это не остров, — сказал Гиго Гант, тяжело дыша. Тяжело дышал не только он, вышедший нам навстречу, но почти все инки, за исключением тех, кто спустился в Город Солнца с высоких гор. Как вестник бедствия появился на палубе Нот Кри и объявил сдавленным голосом, что ему удалось установить с помощью хитрого опыта, что мы находимся сейчас на высоте по меньшей мере пяти тысяч шагов над уровнем прежнего моря. Известие это ошеломило нас, но помогло сделать верные выводы о происшедшем. Еще на Маре я, как уже признавался вначале, грешил различными гипотезами, восстанавливая против себя уважаемых знатоков знания. Эта склонность помогла мне теперь. — Море не могло целиком подняться на такую высоту, — решил я. — Очевидно, лишь часть его стала заоблачной. Должно быть, материк, где все мы жили, под воздействием проснувшихся из-за приближения Луны внутриземных сил выпучился. Но такое поднятие земной коры в одном месте непременно должно быть связано с опусканием другой ее части. — Что хочет сказать мудрый Кон-Тики? — спросил Тиу Хаунак. — Если бы это поддавалось расчету, Тиу Хаунак мог бы проведенными в уме подсчетами доказать, что соседний материк, лежащий к заходу Солнца, на котором жили белые бородачи, опустился в морскую пучину. — И на нем погибли единственные зачатки разума, проявившиеся у потомков фаэтообразных зверей, населивших Землю, — объявил появившийся в двери кабины управления Нот Кри, слышавший мои слова. — Решить это можно, лишь поднявшись снова в космос и наблюдая земной шар со стороны. Мы могли бы сравнить очертания знакомых материков с теми, которые увидели бы теперь, — логично заключил Гиго Гант. — Гиго, мой Гиго укажет выход, — сказала Ива. — Выход прост, — продолжал Гиго Гант. — Если мы находимся в море, поднятом за облака, то перед нами не мертвый остров, а новая часть поднявшегося мертвого материка. Чтобы найти леса и плодородные края, нужно вернуться к Городу Солнца. — Как? Снова плыть через море? — ужаснулась Эра. — Гиго Гант прав, — согласился я со своим другом. — Перед нами находится та преграда, которая, поднявшись со дна, заперла заоблачное море, сделав его озером. Гиго Гант уверенно вел под парусами наш корабль. Озеро Тики-кака (инки сохранили за ним название былого залива) оказалось не столь уж большим. Попугай мог бы перелететь его в поисках свободы. Но он уже не хотел улетать от Имы. Наконец мы достигли руин Города Солнца — Каласасавы.[10] Здесь сохранился мол, защищавший гавань от океанских вод. К нему и направился наш корабль, чтобы ошвартоваться. К нашему изумлению и радости, набережная и мол были полны людей, вышедших нас встречать. Мудрый вождь Хигучак, правивший инками в самую тяжкую для них пору, потеряв часть людей и вместе с ними старого вождя Акульего Зуба, сумел сохранить племя и привести его обратно в город после окончания землетрясения. Гордая и сдержанная Има молча припала к груди седого отца, который с нежностью взял от нее своего внука. Потом мы осматривали залитые застывшей лавой улицы с выступавшими прямо из новых скал руинами домов. Самым удивительным оказалось, что Ворота Солнца уцелели. Ничего, кроме возникшей от первого толчка трещины, не выдавало перенесенных ими катаклизмов. Тиу Хаунак, скрестив руки на груди, любовался ими. Мы с Эрой подошли к нему и увидели Иву, бежавшую со стороны Города Солнца, словно на марианском состязании в беге без дыхания. Еще издали она крикнула: — Мама! — и, добежав, упала без чувств. Когда нам удалось привести ее в себя, она прошептала: — Электромагнитная связь… Мама на корабле «Поиск-2». — Где, где она? — Опустилась далеко… на другом материке… в стране великолепных храмов… — Почему же они не летят сюда? — У них ни топлива… ни пилота… — А Кир Яркий? — Излучение распада вещества… Он нашел на Луне заряды фаэтов… И еще топливо звездолета гигантов… Все это ему удалось взорвать. Потому Луна и не упала на Землю… — Почему они не сели на наш материк? — Все на земном шаре изменилось… Соседний с нами материк утонул… Они опустились на другой материк… Кир Яркий ошибся… Его уже больше нет… Излучение… — Бедный Кир Яркий! — прошептала Эра. — Мы должны лететь к ним на выручку, — решил я. Тиу Хаунак вопросительно смотрел на меня, не понимая языка мариан. Я объяснил ему все. — Мы вернемся, — пообещал я. — А мы с Гиго останемся, — твердо объявила Ива. — Ты, Инко, привезешь маму сюда, к нам… на нашем «Поиске».
В тот же день Чичкалан отправился в горы проверить состояние нашего корабля. Вернулся он веселый. — Пусть Пьяная Блоха никогда не попробует больше пульке, если он не видел замечательного зрелища! — Чичкалан видел корабль? — хором спросили мы его. Он замотал головой: — Нет! Небесная Чаша превратилась в огнедышащую яму. Из нее поднимается огонь и дым, разъедающий глаза. Через край выливается Огненная река. — Отчего же так весел Чичкалан? — Пьяная Блоха знает, что стоит Кетсалькоатлю только приказать Огненной реке вернуться обратно, как он приказал сделать это морю, и Небесная Чаша всплывет невредимой из дымящейся ямы. Чичкалан заслужил свою пульке, наслаждаясь ею в стороне, а мы, сыны Солнца, беспомощно глядели друг на друга. Только Тиу Хаунак понимал наше бессилие.
Глава седьмая МЫ ВЕРНЕМСЯ!
Инки восстанавливали Город Солнца. Тиу Хаунак, Хигучак, Чичкалан работали наряду с каменотесами. Каждый из людей Каласасавы принял на себя добровольное обязательство, помимо обычной своей работы для общины, еще отдать и часть своих сил на расчистку улиц, уборку гор щебня и постройку новых зданий. Помогали разбирать развалины и восстанавливать дома и мы, сыны Солнца. Гиго Гант вызывал всеобщее восхищение, поднимая еще более тяжелые камни, чем могучий Чичкалан. Я тоже таскал камни, но меня угнетала иная, ни с чем не сравнимая тяжесть. И не только меня одного. По необъяснимой связи явлений и чувств вид восстанавливаемых зданий, постепенно оживающий Город Солнца пробудили во мне, в Эре, Иве и Гиго Ганте, не говоря уже о Ноте Кри, щемящее чувство тоски по родному Мару. Если бы хоть часть этой совсем не нужной для Земли в таком количестве воды можно было бы перенести на Мар, если бы создать на Маре атмосферу и не жить там в замкнутых пещерах, дыша искусственным воздухом! Какая чудесная стала бы планета! Пусть Мар бесконечно беднее и суровее Земли, он все же был родным и звал к себе. Но на возвращение домой уже не оставалось надежды. Материк со страной великолепных храмов, где опустился корабль Моны Тихой, был отрезан от нас беспредельным океаном, на дне которого утонул материк. Мы назвали его по имени Моны Тихой — материк Мо. Тоска!.. Я, всегда восхищавшийся роскошной природой Земли, искал сейчас пустынных мест, каменных россыпей, где не росло бы ни травинки, и там сидел в безысходном раздумье. Эра знала, где меня найти. — Инко, — сказала она, садясь рядом на камень, — мне кажется, что все-таки можно добраться до Моны Тихой. Вспомни о корабле Гиго. Разве мы не сможем плыть на нем через океан, как он сам собирался перед «потопом»? Я горько усмехнулся. Милая, милая Эра!.. Ей так хочется утешить меня. Но она упрямо продолжала: — Я понимаю, что залив Тики-кака стал озером, поднятым за облака. Но разве нельзя разобрать корабль по дощечкам и попросить наших друзей спустить их к новому берегу океана там, внизу? Я в изумлении посмотрел на свою подругу. Вероятно, глубокий смысл и опыт несчетных поколений заключен у нас на Маре в том, что высшим органом управления стал там Совет Любви и Заботы, Совет Матерей. На Земле это даже трудно представить, но вот сейчас моя Эра снова напомнила мне о родном Маре. — Луна стала спутником Земли. Непосредственная опасность миновала, — продолжала Эра. — Мы не нарушим Долга, если оставим сейчас наших земных друзей. Им предстоит светлая жизнь на многие тысячелетия, если они и дальше пойдут по пути Справедливости. Я раздумывал над замыслом Эры. Перенести корабль, опустить его на пять тысяч шагов вниз по отвесу?.. В тот же день я говорил об этом с Гиго Гантом. Наш инженер сначала был ошеломлен, так же как и я. Ива, та взволновалась. Оба признались мне, что тоска овладела и ими. Может быть, она была следствием всего пережитого. — Но нам с Гиго нужно остаться, — сказала Ива и расплакалась. — Мы дали клятву никогда не оставлять инков, — всхлипывая, добавила она. Гиго Гант понуро стоял рядом с ней, протирая очки. На его лице отражались все чувства, терзавшие его. Тиу Хаунак с высоко поднятой головой выслушал нас. Когда мы сказали о возможном плавании на спущенном с гор корабле, на его смуглом лице с горбатым носом не отразилось ничего. Он спокойно сказал: — Тиу Хаунак знал, что сыны Солнца придут к этой мысли. Он и сам мог бы им сказать об этом, если бы не боялся остаться без них. И тогда Ива с решительностью, присущей марианкам, объявила, что они с Гиго Гантом останутся и что она ждет ребенка. Лицо Тиу Хаунака просветлело. — Пусть благословенно будет дитя Солнца, которому предстоит править инками, не имея в крови крупинок сердца ягуара. Чичкалан, узнав о нашем замысле, попросил взять его с собой. Мы напомнили ему, что он только что выбрал себе юную жену из числа танцовщиц. Я хорошо помнил ее, со шрамом на бедре, спасавшую вместе с сестрой своего деда. Чичкалан усмехнулся и сказал, что согласен лететь со мной хоть снова на небо и… даже без жены. Мы не захотели разлучать их и пообещали взять обоих. Тем более что корабль, доставив нас на материк великолепных храмов, должен был вернуться. Поэтому Чичкалану предстояло взять себе в помощь наиболее смелых и отчаянных инков, прежде уже плававших с ним и с Гиго Гантом. Охотники нашлись. Ну а о помощниках и говорить нечего. Не было инки, который не стремился бы помочь нам, хотя все они искренне страдали от мысли, что должны будут расстаться с нами. Чувства этих людей были для нас наградой за все, что мы перенесли вместе с ними и ради них.Под руководством Гиго Ганта корабль стали разбирать на отдельные доски. Его остов был облеплен людьми, как трудолюбивыми насекомыми земных лесов. За короткий срок красавца корабля, качавшегося у причала былого морского порта, не осталось. На набережной появились аккуратно сложенные груды дерева с письменами на каждом кусочке. На берегу моря эти значки помогут собрать корабль таким, каким он выстоял все невзгоды плавания во время «потопа». Затем сотни инков, нагрузившись деревянными частями, возглавляемые Хигучаком, отправились вдоль берегов озера Тики-кака. Мы не могли пересечь озеро и начать разборку корабля на другом его берегу, более близком к океану, потому что корабль не взял бы с собой всех необходимых носильщиков. Старыми тропами инки шли до тех пор, пока вновь возникшие горные складки не исказили знакомую местность. Пришлось выслать вперед разведчиков. Они находили, и порой и прокладывали новые пути, по которым устремлялись носильщики. Мы, сыны Солнца, разделяли тяготы наших друзей. Каждый из нас нес что-нибудь из частей корабля. Нам с Эрой достался рулевой механизм. К концу дня он, казалось, весил вдвое больше, чем с утра. Я не услышал от Эры ни вздоха, ни слова жалобы.
Никогда мне не забыть того дня, когда мы вышли к обрыву, за которым начинался спуск и куда отступило после катастрофы море. Спускаться всегда труднее, чем подниматься. Каждый из носильщиков понимал, что ни одна часть корабля не должна пропасть, иначе не собрать судна. А уронить ношу в пропасть было так легко! Лишь железная выносливость людей победила. Вся армия носильщиков без единой потери в пути спустилась к новому берегу океана. Последние тысячи шагов пришлось прорубаться сквозь молниеносно возникшие здесь заросли. Шум прибоя казался нам наградой за непосильный труд. И сразу же, без отдыха, люди под руководством Гиго Ганта принялись собирать корабль, спустившийся сюда из-за облаков. Вскоре наш красавец покачивался на волнах у отвесной скалы небольшой бухты. На корабль погрузили все необходимое для дальнего путешествия. Наконец настал день, когда мы с Эрой, Нотом Кри, Чичкаланом с женой и еще двумя инками матросами перебрались на корабль. Близился тяжкий миг разлуки. Мы прощались не только с инками, но и с Ивой и Гиго Гантом. В толпе провожающих почему-то не оказалось старого Хигучака. Мы не хотели уплывать без нашего первого друга, встреча с которым заложила сообщество инков. Но больше ждать было невозможна. Все столпившиеся на скале инки закричали и замахали руками. Я видел, что в бухту входит первобытное суденышко, каким пользовались кагарачи-рыбаки до знакомства с нами. Это был плот, связанный растительными волокнами из нескольких очень легких бревен с мягкой и упругой пористой древесиной. Рыбаки столетиями плавали на этих примитивных мореходных средствах. При всех своих недостатках плоты не тонули, даже залитые волнами. Древнее сооружение было теперь усовершенствовано. На нем подняли изобретенный Гиго Гантом парус, и гребцы орудовали длинными веслами. У мачты стоял Хигучак. Бывший рыбак кричал нам. Я подумал, что наш друг решил выйти с нами вместе в море, но не угадал его намерений. — Пусть сыны Солнца возьмут на корабль этот плот, — услышали мы его голос. — Если океанские бури разобьют и потопят корабль, то бревна плота никогда не утонут. На них сыны Солнца могут плыть до самого неба. Мы переглянулись с Нотом Кри. — Надобно отказаться от бесполезного балласта, — сказал Нот Кри. — Какое варварство! Безнадежны попытки развивать столь примитивные мозги! Снова разошлись мы во мнениях с Нотом Кри. Но я не мог отвергнуть дар друзей, выражавших по-своему заботу о нас. Плот был погружен на корабль. Огромный Гиго Гант стоял на скале, рыжебородый, «четырехглазый», и трогательно оберегал свою маленькую жену, чтобы она не оступилась. — Инки прощаются с Кон-Тики, — торжественно сказал Хигучак. — Пусть сыны Солнца знают: вместе с ними заходит Солнце. — Это было верно, потому что мы уплывали в сторону захода Солнца. Но Хигучак имел в виду иное. — Заходит Солнце для инков. Солнце-Тики покидает их. Но его ученик Тиу Хаунак, оставшийся в Каласасаве, поднимет город из руин, и двое сынов Солнца будут счастливо жить и править инками. Однако пусть Солнце-Тики пообещает инкам, что вернется. Простодушный старик не мыслил, что мы можем уплыть совсем. — Пьяная Блоха знает! — крикнул с корабля Чичкалан. — Сыны Солнца умеют возвращаться на Землю даже после своей смерти. Пьяная Блоха сам это видел… — Пусть Кон-Тики скажет, что вернется, — настаивал Хигучак. В его словах было столько искреннего чувства, что я не мог не крикнуть: — Мы вернемся! Лицо Нота Кри перекосилось. — Достойно ли так лгать этим полуразумным существам? Совет Матерей не оправдает подобной лжи. — Мы вернемся! — снова крикнул я. Эра звонко поддержала меня: — Мы вернемся! Нот Кри пожал плечами и отвернулся. Матросы перерубили удерживающие корабль канаты, и он тронулся, увлекаемый отливом, который означал, что Луна зашла за горизонт и притяжение ее не сказывается на море. Скала начала отодвигаться. Толпа инков кричала. Многие из них рыдали как дети. Комок подкатился и у меня к горлу. Я сам готов был рыдать и не мог произнести ни слова. Только Эра снова крикнула, что мы вернемся. Я верил в это. Мы прилетим, конечно же, снова прилетим сюда с Мара на новом космическом корабле. Народы-братья будут теперь связаны со Вселенной. Но сначала нам предстояло пересечь океан на легкой посудинке, еще никогда не плававшей так далеко.
Глава восьмая ОКЕАН
Лиана, жена Чичкалана, гибкая, как растение, имя которого носила, исполнила на палубе выразительный «танец прощания». А потом ветер надул паруса, и корабль стал быстро уходить от берегов. Давно исчезла из виду скала с толпой провожающих нас инков. Отодвинулась в дымку горная гряда, за которой где-то там, к восходу Солнца, находился возрождающийся из пепла город с Воротами Солнца около него. На миг мне показалось, что сквозь свист ветра я слышу знакомый голос Имы, словно сверкающий в переливах Солнца. Но я знал, что среди инков носильщиков женщин не было. Должно быть, во мне звучала память о тех, кто стал мне особенно дорог. Все они остались далеко позади, а впереди был безграничный океан. Нот Кри сумел распознать новое океанское течение, которого не могло, как он утверждал, быть прежде. Он доказывал, что лишь исчезновение материковой преграды позволило течению повернуть от покинутого нами берега в открытый океан. Меня это обрадовало. Но Нот Кри остался мрачным. Казалось, теперь ничто не могло радовать его. Он лишь чуть оживлялся, когда заходила речь о возвращении на Мар. Конечно, тогда оживлялись и мы с Эрой. Аппаратура электромагнитной связи, помещавшаяся в красивом диске, который я всегда носил на груди, доносила до нас голос Моны Тихой. Чичкалан, даже издали слыша этот незнакомый голос, падал ниц, считая, что Кетсалькоатль разговаривает с другими богами. Мать и ее единственный спутник, знаток вещества Линс Гордый, вступили в общение с людьми. Они не рискнули менять их общественный уклад, как попытались сделать мы в Толле, но обучали их владеть своим телом так, как это умеют на Маре. Они начали с системы дыхания с задержкой, а потом рассказали о страшной войне распада, случившейся на Фаэне, предостерегая людей от пагубного пути их грядущих поколений. Возможно, что это было еще преждевременно, но Мона Тихая сообщала, что жрецы храмов записали ее сказания о фаэтах, называя ее богиней Шивой, а корабль, на котором она прибыла, — «Летающей колесницей». (Очевидно, в той стране знали колесо!)«Сверкающий снаряд, обладающий сиянием огня, лишенного дыма, был выпущен. Густой туман внезапно покрыл войско. Все стороны горизонта погрузились во мрак. Поднялись несущие зло вихри. Тучи с ревом устремились в высоту неба. Казалось, даже солнце закружилось. Войско было сожжено, испепелено на месте. Оружие похоже было на огромную железную стрелу, которая выглядела как гигантский, посланец смерти. Чтобы обезвредить одну такую неиспользованную стрелу, ее требовалось измолоть в порошок и утопить в море. Уцелевшие воины спешили к реке омыть одежду и оружие… Пламя Индры, обрушенное на Тройной Город, сверкало молнией ярче десяти тысяч солнц».[11]Так со слов Моны Тихой представили себе земные жрецы оружие распада фаэтов. А вот как описали они «Летающую колесницу»
«О том, как изготовить детали для „Летающей колесницы“, мы не сообщаем не потому, что это неизвестно нам, а для того, чтобы сохранить это в тайне. Подробности устройства не сообщаются потому, что, узнанные всеми, они могли бы послужить злу».[12]Узнаю Мону Тихую, Первую Мать совета Любви и Заботы, всю жизнь охранявшую Запреты Великого Старца! И дальше:
«Сильным и прочным должно быть его тело, сделанное из легкого материала, подобно большой летящей птице. Внутри следует поместить устройство с ртутью и железным подогревающим устройством под ним. Посредством силы, которая таится в ртути, которая приводит в движение несущий вихрь, человек, находящийся внутри этой колесницы, может пролетать большие расстояния по небу самым удивительным образом… Колесница развивает силу грома благодаря ртути. И она сразу превращается в жемчужину в небе».[13]Вот как отложилось в умах людей устройство космического корабля фаэтов. Очевидно, ртутью, единственным тяжелым и жидким металлом на Земле, Мона символизировала непонятное людям космическое горючее, которым пользовался «Поиск-2»… В свою очередь, мы сообщили по электромагнитной связи Моне Тихой, что мы плывем к ним на большой парусной лодке, поскольку наш космический корабль «Поиск» погиб в жерле вулкана. Самым тяжелым было сказать матери, что моя сестренка Ива навсегда осталась с инками на Земле. Ответ Моны Тихой был неожиданным: — Таков Закон Природы. Дочери уходят от матерей, создавая новые семьи. — И я услышал вздох с другого полушария Земли. После этого разговора с Моной Тихой обстановка в море вокруг нашего корабля резко изменилась. Сначала подул сильный ветер. Поначалу мы обрадовались, кораблик наш стал перелетать с гребня на гребень. Мы приближались к цели со всевозрастающей скоростью. Однако попутный ветер скоро стал тревожить. Он налетал шквалами, грозя порвать паруса. Теперь наш корабль уже не качало, а почти подбрасывало в воздух. Удержаться на ложе было невозможно. Я вспомнил напутствия Гиго Ганта, как следует лежать в бурю: только на животе, расставив локти и ноги. Я попробовал и убедился, что могу теперь удержаться на ложе… Я научил так же приспосабливаться Эру и Нота Кри. Чичкалан в этом не нуждался, неся основную тяжесть управления кораблем. Так же, как и его учитель мореходства Гиго Гант, он не покидал кабины управления, привязывая там себя веревками. Нередко волна, прокатываясь по палубе, распахивала дверь и, уносясь обратно в море, пыталась захватить рулевого. Но Чичкалан был упорен и стоек, не говоря уже о силе и ловкости. Я сменял его, всякий раз вспоминая о нашем могучем Гиго Ганте, который во время «потопа» позволял только мне заменять его у руля. Шторм крепчал. Море походило уже на горную страну с хребтами и каньонами. Мы то взлетали на вершины, то скользили вниз, проваливаясь в ущелья, чтобы потом снова взлететь. Мачты грозили рухнуть. Пришлось убрать паруса. Мы знали, что такое Пылевые Бури Мара, когда летящая стена песка засыпала вездеход, сбивая его с ног. Сейчас словно все бури Мара слились воедино, но не песчаными, а водными лавинами обрушивались на нашу утлую скорлупку, какой выглядел среди разъяренной стихии наш корабль, еще недавно казавшийся красавцем. Но худшее было впереди. Пока валы были огромными и расстояние между ними все увеличивалось, мы еще могли лавировать, спасаясь между хребтами или балансируя на их гребнях, но скоро с океаном стало твориться нечто невообразимое. Вместо длинных водяных хребтов вокруг нас теперь метались конические вершины, бурля и вращаясь, как песчаные смерчи. С громом и свистом ударяли они корабль, креня его набок, сметая все с палубы. Если бы каждый из нас не привязался к мачте или надстройкам, его унесло бы в море. Трюмы затопило. Не было тех отчаянно боровшихся за жизнь инков, которые вычерпывали воду из трюмов во время «потопа». Наши ничтожные усилия справиться с водой в трюмах били бесполезны. Корабль все ниже погружался в воду. Небеса разверзлись в слепящих зигзагах. И, наконец случилось самое страшное. Конические волны, вертя кораблик, с воем сшиблись, как в смертельной схватке, и переломили наше судно пополам. Красавец Гиго Ганта перестал существовать. Корабль пошел ко дну, а мы… остались на древнем плоту — подарке Хигучака, заблаговременно привязали там себя. Мы мысленно простились с кораблем, радуясь, что хоть часть запасов, съедобных клубней и пресной воды была перенесена по настоянию Эры на плот. Волны с прежней яростью обрушивались на нас, но уходили между щелями бревен. Я боялся за растительные волокна, связывающие их. Однако наше сооружение как бы приспособилось к новым условиям. Очевидно, гибкие связки намокли, разбухли и, что особенно важно, глубоко врезались в мягкую древесину, которая защищала их от перетирания. Мы чувствовали, что плывем теперь не по океану, как на корабле, а в самом океане. Вода была не только под нами, не только рядом, она была вокруг нас и даже над нами, то и дело перекрывая плот полупрозрачным зеленым сводом. Вот тогда пригодилась нам тренировка в беге без дыхания. Мы умудрялись остаться в живых, находясь подолгу под водой, споря с исконно морскими животными. Впрочем, Чичкалан и инки тоже перенесли такое испытание, хотя и чувствовали себя несравненно хуже нас.

Наконец шторм начал стихать. В облаках появились просветы. Мы увидели звезды и смогли определить свое местонахождение. Оказалось, шторм хотя лишил нас корабля, но подбросил к желанному материку на огромное расстояние, которое даже под всеми парусами кораблю пришлось бы преодолевать очень долгое время. Нот Кри, сделав вычисления, сообщил нам об этом. — Впрочем, это уже не имеет для нас значения, — с нескрываемой горечью добавил он в заключение, — ибо плыть на этом сооружении невозможно. — Но ведь мы плывем, — напомнил я. Нот Кри пожал плечами и отвернулся. Скоро я понял, что он имеет в виду. Чем же нам питаться, пока нас будут нести переменчивые волны? На плоту осталось лишь небольшое количество клубней, любимой пищи инков, запасы зерен нашей марианской кукурузы, снятых с земных полей, и еще некоторые виды земной растительной клетчатки. Однако на всех нас этого не могло хватить надолго… Узнав о моей тревоге, Чичкалан расхохотался: — Разве бог Кетсалькоатль уже не позаботился обо всем этом? — И он показал на трепещущую на бревнах рыбу, которая принадлежала к числу тех, что выпрыгивают из воды. Перелетая по воздуху, она и попала на наш плот. — Пища сама по воле Кетсалькоатля идет к нам в руки. Даже угроза голодной смерти не заставила бы ни одного из мариан употребить в пищу труп убитого существа. Рыбы и другие обитатели моря кишели вокруг нас. Чичкалан, два инка и Лиана занялись рыбной ловлей, не составлявшей здесь никакого труда, за что Чичкалан не уставал воздавать мне незаслуженную хвалу. Я понимал, что люди воспитаны в иных, чем мариане, условиях. Они останутся такими еще долгое время. Нелепо отговаривать их от питания живыми существами или убеждать в необходимости перейти (после спасения, конечно) на искусственно полученную пищу (как на Маре) без отнятия чьей-либо жизни. Однако сам вид того, как живое существо трепещет, вырванное из привычной среды, и погибает, меняя в агонии даже свою окраску, приводил меня. Эру и Нота Кри в содрогание. У нас на глазах люди отнимали жизнь у живого существа, чтобы продлить свою собственную. Но убеждать инков не делать этого было бессмысленно. Так получилось, что все запасы питательных клубней и зерен на плоту остались нам, сынам Солнца. Не случись этого, не было бы и моего повествования. Иногда морские существа, приближаясь к плоту, серьезно угрожали нам. Огромные, страшные, зубастые хищники, изогнутый рот которых напоминал нож для резки кукурузы, только ждали случая схватить любого из нас. И надо отдать должное бесстрашию Чичкалана и инкам, умудрявшимся вытаскивать морских разбойников на плот, оставляя в полнейшем недоумении их свиту из рыбешек. А однажды огромное плавающее животное, извергавшее из себя фонтаны воды, приблизилось к нам настолько, что малейшее движение его хвоста разнесло бы в щепки наши бревна. У нас не было никаких средств справиться с ним. Чичкалан бросился передо мной на колени, умоляя о помощи. И когда существо это, приблизившись к нам на опасное расстояние, вдруг нырнуло и прошло под нами где-то в глубине, он принялся благодарить меня за то, что я воспользовался своей якобы безмерной властью. Мы тщетно старались рассмотреть морского гиганта в щели между бревнами, через которые обычно любовались плававшими под нами рыбами. Плохо, что Чичкалан почти убедил меня в моей божественной силе. Инки поедали пойманных рыб сырыми, высасывая их. Вероятно, это было отвратительно, но, несомненно, утоляло их жажду. Запасы воды опять достались только нам с Эрой и Нотом Кри. Погода установилась тихая, если не считать устойчивого ветра, который надувал наш парус, так счастливо изобретенный для инков Гиго Гантом. Ветер уверенно гнал наш плот к тому месту, где, по нашим расчетам, еще недавно существовал материк Мо.
— Земля! Земля! — закричала ловкая Лиана, забравшись на мачту и живым украшением венчая парус. Огромные волны, отголосок дальнего шторма, медленно катились по поверхности океана, бережно поднимая плот на свои спины. И вот с высоты водяного хребта скоро мы увидели торчащую из воды гору, вернее, ее вершину. Она была покрыта деревьями, которые по берегам были затоплены по самые вершины. Очевидно, еще не так давно они росли на горе, ставшей теперь островом. Изо всех сил мы пытались повернуть наш плот к этой одинокой горной вершине среди океанских вод, но упрямый ветер и течение проносили нас мимо. Лиана упала на бревна и стала горько рыдать. Чичкалан осуждающе посмотрел на нее, потом подмигнул мне. А когда прямо перед нами возник новый лесистый остров, он принялся отплясывать на плоту танец, заставив Лиану присоединиться к нему. Остров тоже напоминал горную вершину, но оказался не в стороне от нас, как предыдущий, а прямо перед нами. Орудуя рулевым веслом, нам удалось направить к нему плот. Затопленная гора была скалистой. Волны прибоя не только разбивались о ржаво-красные скалы, но и бурлили на подступах к ним. Фонтаны воды, словно выброшенные морскими чудищами, то и дело вставали в одних и тех же местах, окруженных белой пеной. Лиана снова забралась на мачту и закричала: — Люди! Люди! Действительно, весь береговой склон горы усеяли островитяне, увидевшие нас. Вероятно, они были обитателями затонувшего материка и жили в горах или случайно оказались там, благодаря чему и спаслись. Теперь при виде нас они прыгали по берегу, что-то кричали и махали нам руками. Может быть, звали нас к себе или хотели предостеречь от чего-либо. — Надобно тотчас же свернуть в сторону! — вскричал Нот Кри. — Нельзя довериться варварскому племени потомков фаэтообразных. Они способны просто сожрать нас всех или принести в жертву кровавым божествам, ибо такова сущность людей. Эра с упреком посмотрела на Нота Кри, но он стоял на своем. Я передал Чичкалану, о чем говорит белый бог с малым числом волос на голове, как звали его в Толле. Чичкалан разделил опасения Нота Кри. Он по давней привычке предпочитал не верить незнакомцам. Плот неотвратимо несло на рифы. Управлять им мы были не в состоянии. Я сказал, чтобы все прыгнули в воду и постарались плыть к берегу. Нот Кри молча отвернулся. Уже из воды я увидел его одинокую фигуру, стоящую у мачты. Пловцам было легче проскочить опасные камни. Нас с Эрой пронесло между рифами, словно мы плыли в бурлящем горном потоке среди водоворотов. Мелькнули Чичкалан и Лиана, чуть дальше над пеной виднелись головы наших друзей инков. Нота Кри не было… Мы увидели, как встали дыбом бревна плота. Рвущиеся к скалам волны, словно в отместку за наше успешное плавание по океану, крушили плот в щепки. Из круговорота, куда попал плот. Ноту Кри уже не выплыть. Мы же благополучно выбрались на берег в сравнительно тихой бухте. К нам бежала толпа людей. Друзей или врагов? Этого мы не знали.
Эпилог «ЛЕТАЮЩАЯ КОЛЕСНИЦА»
Все в мире покроется пылью забвения, Лишь двое не знают ни смерти, ни тления, Лишь дело героя да речь мудреца Проходят столетья, не зная конца.Фирдоуси
Кончаю. Уже нет сил рассказать обо всем. События мелькают в моей памяти, как вспышки молний. Остров Фату-Хива. Остатки расы людей, населявших материк Мо. Для них наше появление было чудом. И нас, выходящих из яростных волн, приняли как богов. И не только как богов, но как друзей. Правда, наши новые друзья были напуганы, растеряны, слабы. И не помощи у них надо было просить, а помогать им самим. О жизни среди них я мог бы рассказывать долго, но не об этом мой последний сказ. Пожалуй, никогда еще на Земле советы пришельцев не принимались людьми с такой благодарностью, как на острове Фату-Хива. Неожиданную помощь мы получили от океана. Волны прибоя стали выбрасывать на скалистый берег то, что находилось на плоту. Прежде всего то были питательные клубни. Но тело Нота Кри так и не появилось… Мы научили островитян сажать клубни в землю, и очень скоро, еще при нас, они собрали первый урожай, который привел их в восторг, окончательно обожествив нас в их глазах (боюсь, что не без помощи Чичкалана, немного знавшего их язык). Не меньшее значение имели и зерна нашей марианской кукурузы, проделавшие путь вместе с нами сначала через космос, а потом через океан. Начав общение с островитянами в труде, мы сумели внушить им принципы Справедливости, на основе которых жила община инков. В этом нам много помогли Чичкалан, Лиана и оба ее соплеменника. Первый спор возник из-за выращивания клубней. Островитяне готовы были отдать нам большую часть урожая, как владельцам посаженных клубней, и очень удивились нашему отказу. Чичкалану пригодилось знание языка людей Мо, с которым он познакомился через своего друга Топельцина, чья мать происходила родом с этого материка. Он объяснил островитянам, что каждый из сажавших клубни получит столько, сколько может съесть, остальное отдаст соплеменникам. Им очень трудно было понять, что все люди равны между собой и мы, пришельцы, не хотим выделяться из них. И никто не может обладать чем-нибудь в большей мере, чем другой. Очень может быть, что он добавил при этом, что такова воля бога Тики, как стали звать меня на острове.
Когда мы решили покинуть основанное нами островное государство Справедливости, наши новые друзья были в отчаянии. Они тоже умоляли нас вернуться. Мы с Эрой стремились плыть дальше, крохотный аппарат электромагнитной связи, висевший у меня на груди, после просушки начал действовать. Он неумолимо звал нас с Эрой к кораблю Моны Тихой. Чичкалан объявил, что отправится дальше вместе с нами. Но на чем? Не было здесь Гиго Ганта, чтобы построить из деревьев, росших на острове, новый корабль, способный выдержать океанское плавание. Но своего учителя заменил Чичкалан. Он придумал остроумное устройство из двух лодок, конечно, меньшего размера, чем корабль, но уже не плотов. Эти лодки соединялись упругой связью, что позволило новому плавательному средству быть более устойчивым, чем корабль. Волны не могли переломить его, потому что упругая связь позволяла любой из спаренных лодок свободно всплывать на гребень волны или проваливаться между валами и не давала лодкам переломиться или перевернуться. Такая двойная лодка была сделана из стволов гибких и крепких молодых деревьев, росших над горными речками, и из пахучих стволов деревьев, пока еще росших в новом для них жарком климате, но обреченных на скорую гибель. Они не были похожи на все, что мы видели до сих пор. Мы с Эрой с наслаждением вдыхали их смолистый запах, перебирая в пальцах нежные тончайшие листья, похожие на зеленые иглы. Их ветви опускались к самой земле, раскидываясь шатром. Их древесина была великолепной, прочной, гибкой и не набухала от воды. Лодки выдалбливались из них так, чтобы часть выдолбленного ствола потом снова закрыть сверху, оставив для людей лишь необходимое место. В результате, если бы людям пришлось сидеть даже в воде, плавучесть лодки не менялась бы, ее нельзя было утопить, как и бревна плота. Мы с Эрой часто горевали о Ноте Кри, о Каре Яр, тосковали по Иве и Гиго Ганту. Сейчас, когда Нота Кри не было с нами, он казался нам воплощением мудрости и сердечности. Дорогой ценой расплатилась Миссия Разума за свое посещение Земли! Нот Кри всегда имел свое мнение по любому поводу. Но это мнение было его убеждением, которое он прямо и честно отстаивал, исходя из самых лучших побуждений. И если он верил, что люди произошли не от фаэтов, а всего лишь потомки фаэтообразных зверей, то это было его право. Надо полагать, так будут думать в грядущем очень многие знатоки знания. У нас ведь не было никаких бесспорных доказательств о происхождении людей. Но нам эти доказательства были не нужны, ибо смысл нашей помощи не менялся от того, от кого произошли люди: были ли они нашими кровными братьями или только братьями по разуму. Братья по разуму! В этом главное! Вероятно, на других далеких планетах иных звездных систем тоже имеются разумные существа, наши братья по разуму, которым понятны будут и все наши горечи и стремления, наша космическая история с трагической судьбой Фаэны, и земное человечество, пострадавшее от давнего преступления фаэтов. Итак, мы решили отправиться снова через океан на сдвоенных лодках. Конечно, если бы Чичкалан и его Лиана не решили непременно сопровождать нас, нам с Эрой вдвоем трудно бы пришлось… Островитяне провожали нас с теми же воплями, как и инки на далеком заокеанском берегу. Они поклялись вырубить каменную статую, посвященную Тики, подобную той, что осталась в стране инков неподалеку от Ворот Солнца.[14] Путешествие наше на сдвоенных лодках было полно опасностей и окончилось благополучно только благодаря беспримерному мужеству и Чичкалана, и его жены Лианы, и моей Эры… Бури, которые мы перенесли, могли сравниться лишь с враждебностью одного из племен, спасшихся от «потопа» на гористом острове. Нам пришлось бежать от кровожадных людей, которых несчастье, происшедшее с их собственной страной, не научило ничему, кроме злобы ко всему живому. С болью в сердце я вспоминаю, что наряду с инками и первыми островитянами с горы, которую они называли Фату-Хива, на Земле продолжают существовать и дадут потомство и люди Толлы с их жрецами, приверженцами человеческих жертв, и обозленные на всех островитяне, не желающие примириться с утратой своих привольных полей погибшего материка. Эти последние были белокожи, но искусственно уродовали себе уши, оттягивая их почти до плеч. Но все же на большинстве островов — бывших горных вершин — нас встречали приветливо и помогали всем, чем могли. Мы, в свою очередь, делились с островитянами своими запасами съедобных клубней, чтобы они сажали их. Неоценима была помощь Чичкалана, продолжавшего быть нашим переводчиком. Все островитяне говорили на языке матери бедного Топельцина. Как непохож был теперешний Чичкалан на Пьяную Блоху времен игры в мяч или набегов людей Толлы!.. Он даже отучился от своего пристрастия к пьянящей пульке. Единственно, от чего он не мог отказаться, это от употребления в пищу мяса убитых животных. Надо было видеть, с каким наслаждением он питался кусками расчлененных трупов, поджаривая их на огне. Никогда не смогу понять этой черты людей, с которыми во всем остальном таксроднился. Предвижу, что спустя десятки тысяч лет, когда культура людей будет очень высока и когда народонаселение Земли достигнет критического предела, встанет вопрос, чем же насытить всех живущих на планете. И тогда люди разумно откажутся от использования питательных веществ, накопляемых в организмах живых существ. И вместо того чтобы добывать эти вещества убийством, они станут получать их путем синтеза в аппаратах, где все необходимые химические соединения будут получать из исходных материалов, не завися от капризов природы. Однако для этого людям придется не только победить природные процессы, подчинить их себе, но и побороть собственное рутинное отвращение к искусственной пище, которое проявлял тот же Чичкалан, когда я пытался убедить его, что синтетическая пища может быть более питательной и дешевой, чем природная, и что она станет основным питанием людей, как стала такой на Маре. Чичкалан лишь скалил великолепные зубы и отрицательно мотал головой. Он признавал лишь жареное окровавленное мясо. Подобные ему люди встретятся еще и спустя десятки тысяч лет. Но все равно само развитие человечества неизбежно приведет его к отказу от пожирания трупов. Но это в будущем. А пока доброта и преданность Чичкалана, бескорыстная его любовь к нам, сынам Солнца, противоречиво сочетались в нем с пристрастием к животной пище. Во всяком случае, если бы не он и если бы не все те хорошие люди новых островов, которых несчастье не озлобило, а, наоборот, сделало чуткими к чужим бедам, мы не добрались бы до Материка Восходящего Солнца. Да, его следовало называть так, хотя мы сами приплыли к нему со стороны Восхода Солнца, поскольку обогнули земной шар. Нас неотступно вел сигнал электромагнитной связи, который слала нам Мона Тихая, ожидая нас. Этот сигнал позволял нам выбирать направление в открытом море, среди множества попадавшихся нам на пути островов, где мы не позволяли себе задерживаться подолгу. Сигнал Любви и Заботы привел нас к устью огромной реки, впадающей в море. Здесь, конечно, тоже был «потоп» во время глобального катаклизма. Но последствия его были сравнительно невелики. Люди остались жить там, где жили. В устье реки нас встретили местные жители, которые уже знали, что мы должны появиться, приписывая это всеведению гостящей у них богини Шивы. Так они называли мою мать Мону Тихую. Нам оказывали варварски пышные почести и помогли добраться до страны великолепных храмов. На последнем участке пути мы распрощались с нашими сдвоенными лодками и поехали на спинах послушных людям исполинов. Они передвигались на четырех ногах и обладали пятой конечностью, расположенной на месте носа и заменяющей руку. Естественно, что способность к труду с помощью этой «руки» сделала этих животных весьма разумными. Правда, люди использовали эту разумность лишь для подчинения их своей воле и выполнения могучими животными наиболее тяжелых работ. Подъезжая на спине такого гиганта к великолепному храму, где жила моя мать, я очень волновался. Ведь, по существу, Мона Тихая допускала ту же ошибку, какую сделал я, ее сын, руководитель Миссии Разума, позволивший себе солгать людям, будто я бог Кетсалькоатль. Но опасения мои были напрасными. Мона Тихая была мудра… Она не воспользовалась властью богини, чтобы навязать что-нибудь людям. Она лишь познакомила их с основами учения нашего мудреца Оги о власти над собственным телом. Мы с Эрой ехали на первом слоне — так зовут люди этих почти разумных исполинов, Чичкалане Лианой — на втором. Толпы людей в ярких нарядах, говорящих о высокой ступени их культуры, спешили на встречу богини Шивы с ее сыном. На излучине реки, вдоль которой шла дорога, открылся вид на поистине великолепный храм, с которым не могли сравниться даже пирамиды Толлы. Если там внушительность создавалась прежде всего размером уходящих вверх уступов, то здесь мы увидели спускающуюся чуть ли не с неба ослепительно белую лестницу, обрамленную с обеих сторон легкими, изящными строениями. Они завершались вверху колоннадой, накрытой как бы множеством крыш с загнутыми вверх краями. На ступенях стояли шеренги жрецов в синем одеянии, которые, возможно, передадут в преданиях, приукрасив их фантазией, эту нашу встречу с моей матерью. Мы с Эрой, задыхаясь от радости и бега, спешили вверх по ступенькам. Помню, споткнувшись, мы чуть не упали, но, услышав испуганный ропот жрецов, удержались на ногах. Солнце властвовало здесь над красками, которые сами по себе были солнечными. Игра ярких бликов на стенах строений делала их невесомыми, словно парящими в неподвижно застывшем воздухе. Хотелось дотронуться до витых колонн, чтобы удостовериться в их реальности. Как невозможно представить себе это на Маре: пурпур и золото, белизна и солнечный свет!.. И как удивительно естественно выглядела в окружении всей это феерии Мона Тихая, одетая в марианский скафандр с дополнительными манипуляторами помимо рук. Она стояла в проеме двери с остроконечным сводом на фоне дымчатого белого камня и действительно выглядела сказочной богиней. За ее удивительную способность к любому ручному ремеслу, начиная с ваяния, кончая шитьем или стиркой, чему она охотно обучала всех женщин, а также благодаря дополнительным манипуляторам ее скафандра Мону прозвали многорукой богиней и даже пытались в таком виде изваять. Нас с Эрой, упавших к ее ногам, она подняла своими сильными и нежными материнскими руками и прижала к себе. А потом заплакала, как может плакать лишь старая женщина Земли. — Кара Яр, — прошептала она. — Нот Кри… Кир Яркий… — Тяжелая плата за Миссию Разума, — отвечал я, поднимаясь с колен. — Чудо, что все остальные ее участники целы. — Но Ива! Гиго Гант! — печально произнесла Мона Тихая. — Они счастливы, поверь нам. Первая из Матерей, — сказала Эра. — Ты будешь мне дочерью, оставшись со мной, — обняла ее Мона Тихая. Потом мы прошли в чудесные помещения храма, украшенные тонко выполненными скульптурами, не устрашающими, как у людей Толлы, а восхищающими глаз. Здесь в окружении земных учеников мы нашли старого Линса Гордого, объясняющего людям основные законы природы, одинаковые для всех планет. Когда мы с Эрой взбирались по наружной лестнице в космический корабль «Поиск-2», нам казалось, что в иллюминаторе покажутся лица Кары Яр, Нота Кри, Ивы, Гиго Ганта… Ведь корабль был совершенно такой же, как и древний «Поиск». Но места наших былых спутников занимали теперь Мона Тихая, Линс Гордый и… Чичкалан с Лианой, которые и слышать не мотели, чтобы остаться на Земле. Я согласился на это лишь ради того, чтобы реальностью Мара победить чудовищное суеверие Чичкалана. К тому же мы ведь должны были вернуться, и, конечно, вместе с ним и Лианой. Пусть же разочаруют их сыпучие пески, камни и кратеры Мара, пусть смутят условия жизни «богов» в подземных городах с бесконечными галереями и искусственным воздухом. Они должны вернуться просвещенными людьми, чтобы просветить и своих собратьев.
По поводу нашего возвращения на Землю мне привелось серьезно поговорить с Моной Тихой. — Уверен ли ты, сын мой, возглавлявший Миссию Разума, что такая миссия нужна людям? — спросила она меня, пристально глядя в мои глаза. — Возможно ли распространить наше влияние на достаточную часть человечества? — Я уверен лишь в том, что пришедшие с Миссией Разума не должны выступать в роли богов. Мона Тихая нахмурилась: — Да, я выступила здесь в роли богини. Но только для того, чтобы научить людей владеть собственным телом по системе Оги, распространенной на Маре. Ты же не смог достичь успеха, взявшись за переустройство их жизни. Слишком малую часть человечества можно убедить жить правильно. Знай, что, чем больше будет развиваться человечество, восходя к вершинам Знания, тем меньше права имеем мы, их братья по разуму, навязывать им свои пути и тем труднее было бы нам убедить их, решись мы на это. — Но разве не должны мы вернуться, чтобы оставить хотя бы послание грядущим поколениям? — О чем послание? — О гибели Фаэны и о сынах Солнца, посетивших Землю в тяжелую пору захвата ею Луны. — Зачем? — Чтобы человечество никогда не пошло путем своих предков фаэтов. — А если будущие люди не признают себя потомками фаэтов? Если их знатоки знания будут доказывать в грядущем самостоятельное происхождение человечества? — Все равно, — горячо возразил я. — Это не имеет значения. Дело не в кровных связях, а в путях развития разума. Истинное назначение разума — в оказании помощи, подобной той, какую оказали обитатели Мара землянам, применив распад вещества для предотвращения катастрофы, а не для самоуничтожения, как это случилось с фаэтами, из которых лишь ничтожная часть была безумна, но погибли все. Мона Тихая задумалась, потом подняла на меня свои серые спокойные глаза: — Ты прав. Людей следует предупредить об этом. Но как? Где ты оставишь такой памятник, который не сотрется в веках, которому поверят просвещенные потомки современных дикарей? — У меня есть некоторые мысли. Может быть, нам создать исполинское сооружение, само строительство которого должно говорить о могущественнейших технических средствах тех, кто оставит послание людям будущего? — Они скажут: если древние построили подобное сооружение, значит, они могли это сделать, и не поверят в пришельцев с другой планеты. — Тогда… я посоветуюсь на Маре со знатоками космоса. — Ты сам стал виднейшим знатоком космических полетов. — Потому у меня и возник этот план. Но чтобы выполнить его, я должен, буду посвятить себя на Маре истории гибели Фаэны. Я обязан описать ее на основе наших легенд и дополнить ее правдивым рассказом о собственном путешествии на Землю. Выполнив все это, я вернусь сюда… Но вернусь во всеоружии космической техники, которая позволит создать памятник нашего посещения, способный дождаться того времени, когда люди смогут найти его и понять все, что в нем заключено.
И вот я в последний раз оглядываюсь на Землю, задержавшись на ступеньке лестницы, ухватившись за поручень люка и откинувшись всем телом назад. Чудесная зелень лесов, которой никогда мне не увидеть на Маре, щедрость земной природы, неиссякающий фонтан жизни в бесконечных ее проявлениях. Могучие и послушные человеку животные, засеянные поля на горном склоне, блеск голубой реки, текущей в беспредельный океан!.. Разве не для счастья человека существует все это на планете, где ему выпало счастье родиться? Зачем же в этом блаженном крае ненависть, борьба, жестокость? Прощай, Земля, прощайте, люди, создающие, может быть, горькую, но великую свою историю! Я не могу вести всех вас за руки, как милых сердцу инков, но я хочу, чтобы ваша судьба никогда не стала такой, как у фаэтов. Пусть лучше примером космической дружбы и взаимопомощи будет украшена ваша история. Но кто может заглянуть вперед?
Линс Гордый занял место пилота. Оказывается, он мог это сделать! Вовсе не ради нашей помощи ждали нас Мона Тихая и ее спутник. Они давно могли бы улететь одни. Если запасы топлива не позволяли им разыскивать нас на другом материке, то для возвращения на Мар горючего было достаточно. Но они не для того полетели с Луны на Землю, чтобы улететь с нее без нас, выполнивших здесь свою Миссию. Корабль чуть заметно вздрогнул. Я почувствовал пожатие руки. Со мной рядом стояла Эра и смотрела в иллюминатор. Вниз уходили леса и большая поляна с толпой провожающих нас людей, которые запишут в преданиях, как «Летающая колесница» превратилась в жемчужину в небе и исчезла.
Книга третья СОЛНЕЧНОЕ ПЛЕМЯ
Кто не умеет сдерживать своей фантазии — тот фантазер; у кого необузданная фантазия соединяется с идеями добра — тот энтузиаст; у кого беспорядочная фантазия — тот мечтатель.И. Кант

Часть первая СЛЕДЫ
Человеку свойственно ошибаться, а глупцу настаивать на своей ошибке.Цицерон
Глава первая РАСКОПКИ
Галактион Александрович Петров, доктор исторических наук, видный археолог, руководил раскопками сибирских курганов еще до того, как они были залиты Енисейским морем. Строители Енисейской плотины спешили, и археологам приходилось соревноваться с ними, чтобы не ускользнули от них тайны древних сибирских народов. А тайны были важными. Петров прославился работами, которые показали, что в древности бассейн Енисея был заселен статными голубоглазыми бородачами с высокими лбами и русыми волосами. Галактион Александрович был самозабвенно предан науке и спешки в научных выводах не терпел, потому каждое его слово ценилось. Сам он внешне был под стать древним жителям Сибири, ростом велик, правда чуть грузен, волосами рус, как новгородцы или суздальцы, однако бороды не носил, как его европейские предки или их енисейские родичи, жившие здесь тысячи лет назад. Поскольку времени для раскопки курганов становилось все меньше, экспедиции Петрова был придан в помощь студенческий строительный отряд. В него вошли младший брат Галактиона Александровича, учившийся в Томском политехническом институте, и студентка Томского университета Эльга Веденец, мечтавшая стать археологом. И еще из того же Томска приехали школьники, а среди них младшая сестренка Эльги Таня, «цыпленок цапли», как говорил о ней Далька. Петров-младший во всем уступал брату: и в росте, и в солидности, и в авторитете. Даль был без ума от Эльги, да и она втайне отвечала ему взаимностью. Девушку с ее чудесными волосами, уложенными в тяжелый пучок на затылке, не портили даже неуклюжий комбинезон и тяжелые кирзовые сапоги. Она умела выглядеть привлекательной в самой неподходящей обстановке, даже в дождь среди раскисшей глины раскопок. А когда она гарцевала на коне, Дальке казалось, что такие всадницы и скакали здесь когда-то по степи. Даль Александрович Петров, будущий инженер, интересовался не только местной археологией. Он был осведомлен о многих удивительных находках по всему миру и имел по этому поводу собственное мнение. Но из-за невозможности лично участвовать в исследовании памятников древних майя, загадочных истуканов острова Пасхи или древнейших фресок Сахары деятельно помогал брату в родной Сибири. Подвижный, острый, живой, как капелька ртути, он с детства любил песенку со словами «кто ищет, тот всегда найдет!» И уверен был, как истый романтик, что непременно найдет то, о чем мечтал. И случилось так, что слова песенки оказались пророческими.В этот сухой, по-степному жаркий день находка взволновала всех, прежде всего Эльгу. Девушка аккуратно счищала кисточкой остатки земли с древней глиняной статуэтки и не давала ни Тане, ни Дальке подойти близко, пока Галактион Александрович сам не рассмотрит сокровище, которому наверняка несколько тысяч лет. Странная статуэтка, по-видимому, изображала женщину, была стилизована, а главное, покрыта сетью линий и знаков неведомой письменности. Но Далька усмотрел в ней иное! — Щелевидные очки! — завопил он. — Это же ведь как в японских «догу»! Эльга только покачала своей великолепной головкой. Таня застыла с открытым ртом. Галактион Александрович взял в руки статуэтку и задумался. Она походила на слегка изогнутый широкий нож с рукояткой в виде человеческой головы в огромных очках с горизонтальным полосками. Далька, захлебываясь от волнения, убеждал: — Повторение японской загадки! На острове Хонсю найдены статуэтки «догу», которым пять тысяч лет. Их делали из обожженной глины предшественники японцев «Догу» на древнем языке означает «одеяние, закрывающее с головой». По-современному — скафандр. — Уж лучше старое русское слово «балахон», — заметил Галактион Александрович, снимая с себя пыльник и вытирая лицо уже несвежим платком. — Они жили в каменном веке, — продолжал Далька, — а статуэтки свои одевали в костюмы, напоминающий космические! Кто мог стать прототипом для этих древних скульптур? Металла древние художники не знали, но тщательно воспроизводили на статуэтках люки для осмотра механизмов, дыхательные фильтры с дырочкам в герметическом шлеме, щелевидные поляризующие очки на нем! — Если отбросить романтическую шелуху, — изрек Галактион Александрович, — то находка наша представляет интерес именно в связи со статуэтками «догу». — Вот как? — почтительно удивилась Эльга, кокетливо щурясь то на одного, то на другого брата. — Айны, почти исчезнувшая народность, предшественники японцев. Европейские черты лица айнов всегда были загадкой, — ровно заговорил, как читал лекции, Галактион Александрович. — Бородатые, с иконописными лицами старорусского письма, они напоминали наших мужичков времен крепостничества. Щелевидные очки, может быть изобретенные когда-то против степной пыли теми, у кого глаза от природы не были узкими, могли быть перенесены отсюда на Японские острова. Это, пожалуй, чуть приоткрывает завесу над загадкой переселения народов. Не исключено, что именно отсюда пришли предки айнов, расселяясь и на равнины Европы, и на просторы Дальнего Востока. — Да нет же! — запротестовал Далька. — Предки айнов на Японских островах видели пришельцев из космоса и лепили с них своих божков, поскольку считали их за богов. По времени все это совпадает. Вспомним Сахару. Там на скалах в Тассили древние художники изображали существа в скафандрах. В герметических шлемах! А рядом — непомерно вытянутое существо с растопыренными руками, рогатым шлемом и хвостом! Даль говорил и размахивал руками, даже стал в позу, изображавшую странную фигуру с фресок Тассили. К палатке руководителя раскопок, около которой шел разговор, постепенно стали подходить студенты из строительного отряда и школьницы, подружки Тани. Всем было интересно увидеть находку и послушать, что о ней говорят. — Какое это имеет отношение к нашим раскопкам? — поморщился Галактион Александрович. — Непосредственное! — вспыхнул Далька. — Здесь мы нашли статуэтку с такими же очками, как и «догу» в Японии. И в Японии рядом с «догу» нашли скульптурное изображение сахарского «Великого бога марсиан». А вот я нашел… копию марсианского робота с фресок Тассили. — Где нашел? — удивленно, но со скрытой радостью спросила Эльга. — На острове Пасхи. Всеобщий хохот был ответом. Даже Галактион Александрович улыбнулся. Но Далька ничуть не смутился. — Вовсе не обязательно быть на острове Пасхи, достаточно иметь фотографии, снятые там. Вот смотрите. — И он вытащил из заветного кармана куртки бумажник, туго набитый фотографиями и вырезками. — Полюбуйтесь. Вот «Великий бог марсиан», а вот его японская скульптурная копия. А вот та же копия, но уже с проработанными деталями: герметическим шлемом, щелевидными очками и спиральным орнаментом. — Почему спиральным? — спросила Таня. — Очень просто, — снисходительно ответил девочке Даль. — Если искать символ, который был бы понятен всем разумным существам, где бы они ни жили во Вселенной, то это спираль! — Почему спираль? — не отступала Таня. — Фу-ты! Неужели не ясно? — потерял терпение Далька. — Да потому, что галактики спиральной формы наблюдаются всеми цивилизациями космоса. — А остров Пасхи? — напомнила девочка. — Пожалуйста, будьте любезны! — Далька вынул из бумажника развернутую репродукцию фрески Тассили из книги Анри Лота и положил рядом с ней вынутую из специального карманчика фотографию наскального рисунка с острова Пасхи. — Здорово! — послышались голоса. Галактион Александрович небрежно взглянул на фотографию и пожал плечами. Эльга с почтительным вопросом смотрела ему в лицо! Таня переводила смеющийся взгляд с Дальки на рисунки и обратно. Галактион Александрович поднял руку: — На мой взгляд, неуместно смешивать научные исследования по строгому методу с преждевременными выводами на основе увиденных картинок. — Почему ты считаешь более научным предположить, что предки айнов жили здесь, а потом расселились на восток и на запад, а не желаешь считаться со множеством следов, которые оставили на Земле инопланетяне в древности? — Потому что таких следов нет. — Как же нет? Никто еще в строго научном плане, о котором ты говорил, не рассматривал этих следов. Разве можно пренебречь сказаниями древних народов в Южной Америке, Месопотамии, Индии, Японии?.. Везде речь идет об одном и том же — дети неба спустились на Землю с другой звезды, помогли людям, научили письменности, земледелию, ремеслам. Потом улетели и обещали вернуться. В Южной Америке это даже повело к трагедии завоевания индейцев испанскими конкистадорами. Ацтеки, майя, инки приняли их за вернувшихся с неба благодетелей людей, сынов Кетсалькоатля, или Кон-Тики. — Какие сказки! Умерь свою фантазию. Даль. По-моему мнению, все это чепуха. — Ты заменяешь аргументы мнением! — Мнение весомее любых аргументов в том случае, когда оно основано на однозначных научных выводах. Науке не нужны фантазеры. — У меня факты, а не плоды воображения. В Южной Америке имеются не только предания, сказки, как ты говоришь. Там до сих пор сохранились древнейшие Ворота Солнца с неземным календарем, в котором двести девяносто дней в году! Нельзя забыть пирамиду храма надписей в Паленке, гробницу в ней с надгробной плитой, где высечен чертеж ракеты в разрезе. А в ней — человек. — Ритуальное изображение кукурузы, под которой человек размышляет о бессмертии. — Только этот человек погребен в саркофаге, почему-то сделанном в форме ракеты! А нефритовая маска его лица говорит о многом! — О чем? — спросила Таня, переводя сияющий взгляд с одного спорщика на другого. — У него нос начинается выше бровей. Нам неизвестна такая раса. Может быть, в крови захороненного древнего майя была инопланетная примесь. — Поистине прав был Салтыков-Щедрин, говоря, что ничем не ограниченное воображение создает мнимую действительность. — Какая же мнимая? Действительность заставляет нас вообразить себе инопланетян на Земле, а не наоборот. — Никто никогда не докажет мне, что гости из космоса побывали на Земле, ибо нет возможности для смертного существа преодолеть межзвездное расстояние в сотни и тысячи световых лет. Планеты же Солнечной системы, по новейшим данным, увы, не населены, — с раздражением закончил Галактион Александрович. Но Далька не сдавался: — Тебе мало следов, которые есть на Земле? А в космосе? — Что-то я не слышал о следах в космосе. — А между тем именно там гости иных миров должны были оставить нам память о себе. И может быть, оставили. — Почему? — спросила Таня. Эльга укоризненно взглянула на нее и покачала головой. Но девочка выразила общий вопрос всех собравшихся. — Прекрасно! Отвечу! — запальчиво произнес Далька. — Любопытно будет послушать, — иронически заметил Галактион Александрович. — Только не забудь о своем дежурстве на кухне. Кто-то хихикнул. — С тех пор как был запущен первый советский искусственный спутник Земли, — тряхнув лохматой головой, продолжал Даль, — появилась новая наука — слежение за спутниками. Сложный комплекс астрономических, радиоастрономических, электронно-вычислительных устройств, компьютеров. Оказалось, что множество тел бороздит ближний космос. Почти о каждом можно сказать, когда и кем оно было запущено. Но только почти… Есть такие спутники Земли, которые не запускали ни в СССР, ни в США. — Обыкновенные спутники-шпионы, — зябко пожала плечами Эльга, ощутив степной ветерок. — Разве на Западе признаются в их запуске? Смешно!.. — Логика — оружие науки! — подхватил Галактион Александрович и одобрительно посмотрел на свою помощницу. Та опустила глаза, смутилась. Ей ведь хотелось только подразнить Дальку. — Да, но среди неопознанных спутников есть, по крайней мере, один, как пишет доктор наук Чикагского университета, специалист слежения за спутниками француз Жак Балле, — не отступал Далька. — Есть, по крайней мере, один, который движется в сторону, противоположную вращению Земли. — Ну и что? — простодушно спросила Таня. — Запустить такой спутник куда сложнее, чем обычный, Вращение Земли обычно помогает обрести первую космическую скорость. А если оно мешает, надо затратить энергии много больше… — Ну вот что, — оборвал Галактион Александрович. — Мы нашли ценнейшие статуэтки. Однако они не дают нам права размахивать руками в космосе. А «Черный Принц» — всего лишь приблудившийся метеорит. — «Черный Принц»! — удивилась Эльга, вскинув свои тонкие брови. — Да. Так называют этот объект на Западе, — небрежно пояснил Галактион Александрович. — Мы привыкли, что археологи копаются в земле, — снова вступил Далька. — Это потому, что люди на поверхности своей планеты живут в пыли, пылят, вздымают пыль. — И он указал рукой в степь. Там по дороге двигался столб пыли, растягиваясь следом за грузовиком медленно оседавшим шлейфом. — Но настанет день, и археологи станут искать уже не только в почве, но и в космосе, сделают науку археологию космической. — И мы полетим к «Черному Принцу»! — счастливым голосом крикнула Таня. Все рассмеялись. Однако космос космосом, а кухня кухней. Нужно было чистить картошку. Таня с девочками вызвались помогать Дальке. Ловко вырезая из картофелин фигуры, приближающиеся к сферам (не считаясь с отходами!), Далька увлеченно рассказывал про загадочные каменные шары величиной с многоэтажный дом, рассыпанные по лесам и болотам Коста-Рики, как на звездной карте, оставленной пришельцами. Варя на второе кашу, Петров-младший вспоминал о древнем аэропорте в пустыне Наска, где сохранились каменные взлетно-посадочные полосы, оставленные гостями из космоса. Здесь приземлялись их аппараты с оставленного на околоземной орбите звездолета. В подтверждение своих мыслей он бросал в котел соль горсть за горстью в знак того, что инопланетяне много раз побывали на Земле. Каша получилась отчаянно пересоленной. Есть это «космическое» варево было трудно, но весело. Смущенный Даль вечером искал Эльгу, но напрасно, девушка так и не вышла из палатки. В небе горели лукавые звезды. Ветер нес откуда-то пыль. Всю ночь Дальке снился «Черный Принц»…
Глава вторая «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
Сотни миллионов людей во всем мире готовились смотреть по Всемирному телевидению волнующие эпизоды исследования «Черного Принца». Друзья Галактиона Александровича собрались у него на квартире. Теперь он был уже профессором, членом-корреспондентом Академии наук СССР. Его помощница Эльга Сергеевна, кандидат исторических наук, недавно вернулась из летней археологической экспедиции. Она уже не первый год руководила ею (к некоторому тайному раздражению профессора, который предпочел бы видеть Эльгу всегда при себе). С помощью Тани, приехавшей к сестре перед началом занятий в Томском университете, Эльга Сергеевна ловко собирала на стол, звеня старинным столовым серебром (иной сервировки профессор не признавал). Далька грустно поглядывал на ее великолепную головку с эллинским узлом волос на затылке. Он приехал в Академический городок после практики на крупной сибирской стройке, где находился в связи с одним из своих бесчисленных проектов. Замыслы то оттаивания сибирской вечной мерзлоты, то сооружения всесибирского энергетического кольца ветроустановок, могущих заменить гидростанции, то еще какой-нибудь не менее грандиозный проект так и не дали ему вовремя закончить политехнический институт. Взятый им академический отпуск вызвал резкое неодобрение старшего брата. Профессорская квартира Галактиона Александровича казалась холодной и неуютной, хотя в ней было немало редких коллекций. Но черепки и кости, хоть и представляли научную ценность, все же мало украшали жилые комнаты. Однако Галактион Александрович слишком уважал археологию, чтобы отказаться от бесценных для него экспонатов, а Эльга Сергеевна сама пополняла его коллекции. Тане и Дальке все это нравилось. Лучшим украшением квартиры был великолепный телевизор. На его огромном, почти киноэкране виднелось переданное прямо из космоса звездное небо. До начала передачи остались считанные минуты.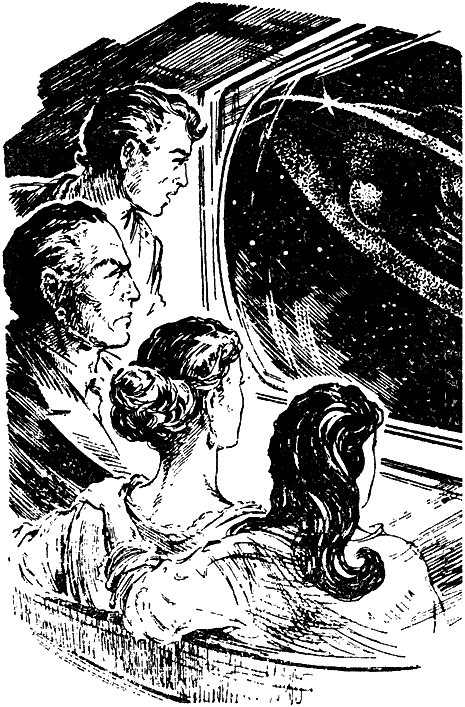
— Не понимаю, как можно есть в такое время! — Таня отодвинула тарелку. Даль покосился на нее. Как она изменилась! Куда делся «цыпленок цапли»? Пожалуй, на коне тоже гарцевать может, как сестра. Эльга Сергеевна по-прежнему была для него образцом совершенства. Галактион Александрович, словно руководя тем, что появилось на экране, веско сказал: — Внимание. Сейчас мы убедимся, что это всего лишь приблудившийся метеорит. Голос диктора не поддержал Галактиона Александровича: «Вы видите на своих экранах загадочный объект, получивший название „Черного Принца“. К сожалению, он вращается вокруг своей горизонтальной оси, поэтому его форма как бы ускользает от ваших глаз. Предоставляем слово космонавту Крутогорову, который видит сейчас объект со своего корабля. Прошу, Георгий Петрович». «С виду напоминает диск, — послышался чуть хрипловатый бас. — Конечно, можно было запустить и диск. Даю телескопический объектив для телекамеры. Как изображение?» «Теперь тело виднее. Жаль, кувыркается». На экране диск, серый с солнечной стороны и черный с теневой, медленно опрокидывался. Он напоминал сплющенную лепешку. — Это не осколочная форма! — воскликнул Даль. — Какой же это приблудившийся метеорит? В природе таких тел не бывает. — Почему же? — возразил Галактион Александрович. — Даже идеальные сферы бывают. Планеты хотя бы. — Они обретали форму в газообразном состоянии. — Как знать. Единой точки зрения нет. — Тише, сейчас скажут, — прошептала Таня. «Мой корабль сближается с „Черным Принцем“. Черный он только с теневой стороны. Поверхность его словно изъедена песчинками. Космические пылинки, что ли…» — Если это не маскировка, — вставил Галактион Александрович. Эльга укоризненно сощурилась на него. — Я меняю свое мнение, — заявил профессор. — Очевидно, это не естественное образование, а искусственное — времен «холодной войны» в космосе. — Я всегда думала о спутнике-шпионе, — кивнула Эльга Сергеевна. — Вполне возможно, что его намеренно запустили в сторону, обратную вращению Земли, чтобы труднее было обнаружить и обезвредить. «Вот теперь, — слышался хрипловатый бас с экрана, — и вам хорошо видно, что это металлический диск. Сейчас он находится от меня метрах в ста. Постараюсь прыгнуть к нему. Скафандр уже на мне, телекамеру беру с собой, чтобы и все зрители могли побывать со мной вместе внутри». «Ты, Георгий Петрович, говоришь „внутри“. Думаешь, там есть люк и он для тебя открыт?» — спросил диктор. «Люк не люк, а какое-то отверстие имеется. И оно, представьте себе, как будто открыто». — Конечно, — сказал Галактион Александрович. — Как же иначе их приборы могли наблюдать Землю? Люк должен быть открыт. — Неужели он прыгнет? А если оторвется, улетит в бездну? — забеспокоилась Таня. Космонавт, словно утешая ее, сказал: «Я тут надежно закреплен канатиком, вроде бы нитью Ариадны. Прямо как в древнем мифе. Если прыгну и промахнусь, то по фалу подтянусь». — Как бы я хотел быть там! — вздохнул Далька. — Да, обходятся без тебя, — притворно посочувствовал Галактион Александрович. «Внимание. Пробую прыгнуть», — предупредил космонавт. На экране закрутились хороводом звезды, сливаясь светлыми кругами. «Прошу простить, получил собственное вращение, — объяснил космонавт. — Неуклюжесть». Звезды на экране сменились сначала огромным горбом, потом белесым морем, кое-где закрученным спиралями. — Это Земля в объектив попала, — разъяснил Галактион Александрович. — Облачный покров, циклоны в нем… Космонавт справился с собственным вращением, и в объективе опять появились звезды. Часть экрана закрыл быстро растущий в размерах диск. Диск медленно поворачивался, на мгновение показав черневший в его центре круг. «Немного промахнулся, — сообщил космонавт. — Удерживаюсь на канатике чуть в стороне от диска. Сейчас мы к нему подплывем, подберемся… с помощью ракетницы». На экране на секунды возник ствол ракетницы, которую космонавт показал зрителям, прежде чем ею воспользоваться. Потом диск, продолжая опрокидываться, стал приближаться. «Готов. Сейчас дотянусь до него рукой. Хлоп! Стукнулся. Пришвартовался. Плохо видно? Слишком близко. Сейчас отрегулирую камеру. Лежу на поверхности, если это можно назвать лежанием. Вроде мухи на потолке. Боюсь оттолкнуться. Осторожно ползу. Поверхность шероховатая, будто нарочно сделанная». — Я же говорил, — веско заметил Галактион Александрович. — Маскировка. — А как же внутри? — спросила Таня. «Сейчас обнаружим, что там внутри, — словно отвечая девушке, продолжал космонавт. — Ползу к люку, направляю на него объектив. Вам должно быть сейчас лучше видно, чем мне самому». На экране трудно было что-либо разобрать, кроме освещенного серебристого края черного отверстия. «Георгий Петрович, ты бы света дал внутрь. Не разберем», — попросил диктор. «Есть дать свет. Жаль, солнечные лучи туда не попадают. Тут на солнце про фонарик и забыл. Интересно все же, кто эту чертовщину сюда запустил?» На экране вырисовалась внутренняя полость диска, освещенная космонавтом через люк. «Теперь забираемся вместе с вами, дорогие товарищи телезрители, внутрь „Черного Принца“». — Ох, кому-то в мире сейчас не по себе, — заметила Эльга Сергеевна. — Сейчас увидим и кинокамеры, и телевизионные установки заграничного производства. «Странно как-то! Не знаю, как вы там, на Земле, а я ничего не вижу. Вроде пусто здесь. Зря гаечные ключи прихватил. Никакой аппаратуры. Подождите. А это вот видите? Что-то чудное парит в невесомости и ни за что не держится. Какие-то пирамиды и шарики. Вроде украшение какое-то». «Покажи-ка нам его, Георгий Петрович, мы с тобой вместе посмотрим». На экране виднелось странное сооружение, меньше всего похожее на аппаратуру. «Тут две такие штуковины. Я их сейчас свяжу и отправляюсь с трофеем обратно на корабль. Пусть на Земле разберутся, что к чему». — Что ж тут разбираться? — зевнул Галактион Александрович, с наслаждением вытягивая ноги. — Все ясно. Настоящая аппаратура после использования была выброшена в космос, а вместо нее остались эти муляжи, которые должны убедить легковеров, вроде нашего Дальки, что это и есть инопланетная аппаратура. — Это очень остроумно, — заметила Эльга Сергеевна. — Но пока что не подкреплено исследованием. — Ей хотелось заступиться за Дальку. Далька благодарно взглянул на нее. Она отвернулась. Почему он со всеми смелый, только не с ней? На экране еще некоторое время виднелось странное сооружение, потом снова появились звезды. Земля, покрытая облаками, и на фоне ее серебристый корабль космонавта, куда он возвращался, осторожно выбирая удерживающий его тросик. «Диск заснят со всех сторон, — заканчивал Крутогоров репортаж. — Взята проба металла, из которого он сделан». «Итак, дорогие телезрители всего мира, мы вместе с вами участвовали в разрешении загадки нашего космического века и как бы помогали Георгию Петровичу, побывав вместе с ним внутри так называемого „Черного Принца“, несомненно искусственного космического сооружения, однако скорее всего земного происхождения. Впрочем, не будем опережать событий. Ученые Земли сумеют установить, какую находку удалось нам там сделать. Поблагодарим Георгия Петровича Крутогорова за великолепно проведенную операцию в космосе и доставленное всем нам волнение и наслаждение. Будем теперь с нетерпением ждать благополучной посадки его корабля на нашу родную Землю. До свидания, дорогие телезрители. Наша передача из космоса заканчивается». Вероятно, всюду, во всем мире в эти минуты люди долго не могли успокоиться уже после того, как погас экран телевизора. — Я полечу в Москву, — заявил Даль. — Зачем? — нахмурился Галактион. — Принять участие в исследовании. — Твое дело учиться. В Москве найдется кому определить, что за «муляжи» были оставлены для легковерных в спутнике-шпионе. — Я не хотела бы, чтобы это был спутник-шпион! — воскликнула Таня. Далька одобрительно посмотрел на нее. Эльга Сергеевна, выполняя роль хозяйки, предложила всем поужинать. — А какая тогда была замечательная каша! — хитро улыбнулась Таня. — Да, каша была на редкость пересоленной, — подтвердил Галактион Александрович.
Глава третья НАХОДКА
День был пасмурный, но холодный, будто осень уже кончалась. Первые ранние снежинки больно секли лицо. Эльга и Галактион Александрович стояли на ветру перед зданием аэровокзала. Из встречающих только их двоих выпустили на поле, чтобы проследить за разгрузкой самолета. — Эльга Сергеевна, — проникновенным голосом напутствовал ее Галактион Александрович, — не знаю я другого такого педантичного и аккуратного человека, как вы. Полагаю, что я не совершу ошибки, вверяя вам находку. Передача ее нам на исследование после заключения военных экспертов — величайшее доверие нашему научному центру, признание его универсальности. — И вас лично, Галактион Александрович, — добавила Эльга. — Обо мне надо говорить в последнюю очередь, — скромно отозвался Галактион Александрович. Самолет подруливал к аэровокзалу. Навстречу ему двигался самоходный трап. Когда он пристроился к дверце, она открылась, Эльга ловко взбежала по ступенькам. Ей навстречу торопливо спускался командир корабля. Он повел девушку к багажному люку. Сюда уже подъехал грузовой электрокар, а следом ехал знакомый Эльге Сергеевне старенький «Москвичок»-фургон, давний ее спутник по степным экспедициям, свидетель многих радостей и неудач. Галактион Александрович нетерпеливо топтался у багажного люка и нервничал, что долго нет Эльги. Без нее ему всегда бывало не по себе. Она появилась вместе с командиром корабля и представила его профессору. — Сотни тысяч тонн всякого добра перебросили, — сказал летчик, — а вот такого груза еще не было. Доставили в полной сохранности, как хрусталь в вате. Прошу подписать специальный актик. Передаю из рук в руки. — Пожалуйста, осторожнее, — беспокоилась Эльга. Рабочие аэропорта и так старались. Бережно перенесли два ящика с надписями: «Осторожно» и «Верх» и аккуратно поставили их в фургончик. «Москвичок» остановился рядом с электрокаром. — Совсем нетяжелые, — на прощание сказал усатый рабочий, которому помогал паренек в ушанке. — Может, и для отгадки они вам пухом обернутся. — Гагачьим, — заверила Эльга Сергеевна, улыбаясь. Она забралась вместе с ящиками в фургон, а в переднюю кабину рядом с шофером уселся Галактион Александрович. Ящики перенесли в лабораторию профессора Петрова. Эльга сама помогала их открывать, не переставая твердить об осторожности. Кончилось тем, что она поранила о гвоздь палец и Таня завязала ей его бинтом. С того вечера, когда «Черный Принц» появился на экране, прошло всего три дня, и Даль с Таней не успели уехать. Поэтому Далька использовался в лаборатории в качестве подсобной рабочей силы, а Таня была восторженной зрительницей. Странное сооружение из конусов, кубов и сфер, на которое так недавно затаив дыхание смотрел весь мир, теперь извлекли из самых обыкновенных земных стружек. Чья-то добрая душа не поскупилась на них в Москве. — Сколько сору! — сокрушалась Эльга Сергеевна, очищая объект от сухих стружек. Таня вызвалась было помогать сестре, но та расставила руки, как наседка крылья, защищая свое сокровище. Тогда Таня стала подметать пол. — Галька, позволь мне, пока я не уехал, участвовать в твоем исследовании, — попросил Далька, назвав брата детским именем; когда-то много лет назад их звали Галька и Далька. — Нет, — отрезал Галактион Александрович. — Это не развлечение для любителей диковинного. Это серьезное научное задание, которое признано выполнимым для руководимого мной центра. — Ну я тебя очень прошу, — настаивал Даль. — Отстань, умоляю, — поморщился, как от зубной боли, профессор. — Эльга Сергеевна, — обратился он к помощнице, — сейчас уже поздно. Прошу вас взять ключ от лаборатории с собой. К работе приступим завтра. Как известно, утром ум мудрее. Обиженный Даль решил принять собственные меры. По дороге домой он уговорил Таню стащить ключ от лаборатории из сумки, которую сестра дала нести ей. Они еще сегодня вечером, раньше всех рассмотрят диковинку. А профессор пусть накапливает мудрость к утру. Девушка сразу согласилась, немалую роль здесь играло то, что это предложение исходило от Даля. Тане без труда удалось выполнить щекотливое поручение. Эльга Сергеевна, как вполне сложившийся ученый, была рассеянна и так и не взяла у сестры сумку с ключом. Таня украдкой позвонила Дальке по телефону и назначила ему «свидание под часами». Она пришла точно в условленное место, и они сразу же направились к корпусу научного центра. Археология — наука мирная. Никакой вооруженной охраны научного центра не положено. Правда, в вестибюле всегда сидела вахтерша. Сегодня дежурила старая, очень полная женщина с седеющими усиками. Она удивленно встретила молодых людей, которые совсем недавно ушли отсюда вместе с самим профессором Галактионом Александровичем и «Ольгой Сергеевной». — Неужто уже нынче станут допытываться? — удивилась старуха. — Где ж тут утерпеть! — многозначительно изрек Далька. — Видать, что не терпится, что вперед старших прибежали. Пустить-то куда мне вас? Некуда. От лаборатории ключ Ольга Сергеевна с собой забрали. — Ну, бабушка, что вы! — взмолилась Таня. — На улице такой холод. — Да, погодка в аккурат по прогнозу или постариковскому определению. У меня давеча спина показывала. Куда вас пустить-то? Да хоть в профессорский кабинет. Ключ от него завсегда на доске висит. Только зарок. Сидеть там смирно, старших поджидать. Грузно переваливаясь с ноги на ногу, она повела их по коридору мимо заветной двери в лабораторию. Таня и Даль переглядывались и с трудом сдерживали смех. Свой кабинет профессор Петров называл «лавкой древностей». В другой раз Далька, как всегда, заинтересовался бы тем, что лежало под стеклом витрин, но сейчас еле сдерживал себя, прислуживаясь к удаляющимся шагам вахтерши. Потом высунулся в приоткрытую дверь и сделал Тане знак. На цыпочках они перебежали коридор. — А вдруг я не тот ключ взяла? — прошептала Таня. — Там еще два были на колечке. Но дверь лаборатории открылась. Все было как час назад, когда ученые вместе с Далькой и Таней уходили отсюда. И заметенная в кучу стружка осталась на том же месте, и диковинки — на столе. Даль ринулся к ним. — Осторожно! — голосом Эльги предупредила Таня и сощурилась совсем как старшая сестра. Далька даже вздрогнул от неожиданности, но потом сердито отмахнулся. Он ощупывал странную аппаратуру, стараясь определить: металл это, дерево или пластмасса? И ничего не определил. — Чудно, — заметил он и добавил: — Так и должно быть, если инопланетяне. — Ой, как здорово! — прошептала Таня уже собственным голосом. — Геометрия! Это факт. Все ждали от инопланетян доказательства теоремы Пифагора, а тут целый выводок стереометрии. Разве это не проявление мысли? Как бы не так! Геометрические фигуры не зря были известны им. — Кому? — Фу-ты! Инопланетянам, конечно! — А что эти фигурки означают? — Эксперты дали заключение, что они не имеют никакого отношения к тому, что может измерять, наблюдать, запечатлевать, излучать или передавать по радио, — словом, сочли фигуры просто символами. Внутрь фигурок проникать не стали, оставили это археологам. Теперь профессор Петров будет их распиливать или не знаю еще что… Он уже все решил. Для него загадки нет. — А для тебя? — Тут не задачка «мат в два хода», даже не шахматный этюд. А ты чего дрожишь? Трусишь? — Нет. Холодно. — Обычное дело. Осень. На дворе скоро снег выпадет, а срок включения отопления не настал. Инструкция! — Какие они красивые! — восхищалась Таня, гладя руками геометрические формы. — Кто их сделал? Может, им тоже холодно? — И она попыталась ладонями согреть приглянувшийся ей куб. — Стой! Стой! — сипло воскликнул Далька. — Или чудится мне? А ну грей его, грей! — Я подую. Можно? — И Таня стала отогревать куб дыханием. А Далька вперил взгляд в одну из сторон куба, на которой словно проступили какие-то тени, только светлые, как иней на стекле в морозный день. — Ну, Танька, держись! Кажется, мы с тобой… — Он даже не мог договорить. Они стали вдвоем греть куб, вместе дышали на него. И так увлеклись, что не заметили, как поцеловались. Далька выскочил из лаборатории как ошпаренный и помчался по коридору. У Тани кружилась голова. Наверное, думала она, Далька ощущает то же самое. Увы! Он, оказывается, бегал к вахтерше за спичками. Таня обиженно отвернулась к окну. — Эй, цыпленок цапли! — позвал ее Далька. — Давай гляди на этот куб: увидишь что — крикни. И Даль стал жечь спички одну за другой, нагревая куб, сблизивший их с Таней. — Вижу, — перехваченным от волнения голосом вдруг выговорила Таня. — Чего видишь? — Человека. — Какого там человека? Что еще выдумала? А ну, пожги спички, я сам полюбуюсь. Девушка послушно поменялась с Далькой местами. Потому ли, что она более аккуратно нагревала спичками куб или он успел нагреться, как того требовалось, но в лаборатории послышался тихий прерывающийся, но явственный звук. Далька огляделся по сторонам и увидел на соседнем столе древнюю маску. Такие делали когда-то сибиряки для вторичного захоронения умершего (его останки переносили из леса, где он покоился на дереве, в родовую могилу). Далю показалось, что маска что-то говорит ему… На самом деле «заговорил» аппарат из кубов и конусов. Звук становился все отчетливее, ритмично повторяясь, а на стороне куба все отчетливее становилось изображение… человека! И тут в лабораторию, задыхаясь от гнева и бега, ворвались Галактион Александрович и Эльга Сергеевна. — Что вы тут делаете? — Что за безобразие! Таня уронила спички и растерянно пролепетала: — Что делали? Ничего… Честное слово, целовались, и только… — А это? — крикнул Галактион Александрович, указывая на обгоревшие спички и закоптившийся куб. — Целовались? Выбрано замечательное время и место для поцелуев! — процедила сквозь зубы Эльга, презрительно посмотрев на Дальку. (Еще осмеливался писать ей сумасшедшие письма. А она-то их хранила!) — Прощу простить, — хриплым, сразу осевшим (и потому напоминавшим космонавта Крутогорова) голосом произнес Даль. — Прошу простить. Тут дело хитрое. Посмотрите-ка сюда, на этот экранчик на кубике. Не хуже телевизионного. Дай мне свою знаменитую газовую зажигалку, Галь. — Нечего портить объект, — отступил Галактион Александрович. — Не портить, а исследовать. Не бойся, не пожалеешь. Это же эксперимент в твоей лаборатории. Ты ведь даже резать собирался, не только греть. Отчет напишешь. Статью в «Доклады». Галактион Александрович возмущенно пожал плечами, вынул зажигалку, но, прежде чем отдать ее брату, раскурил свою неизменную трубку, которая, как он считал, украшала его. Он старался сдержать себя, как подобало солидному ученому, но не мог устоять на месте, расхаживал около стола с объектом и сердито извергал клубы дыма. Даль поднес вспыхнувшее пламя к заветному кубу, который они вместе с Таней отогревали. Профессор, резко повернувшись от двери к столу, воскликнул: — Ве-ли-ко-лепно! Ничто не могло так поразить Эльгу Сергеевну, как это признание всегда непоколебимого шефа. Но она плохо знала его. — Великолепное подтверждение моей правоты! — Что ты узрел, Галь? — поинтересовался Далька. — Ми-сти-фи-ка-цию! Заумную и неумную мистификацию, которую не поленились подготовить те, кто решил ввести в заблуждение весь мир. — Что ж, по-твоему, «Черный Принц» не творение разума? — Напротив. Несомненное творение разума, но только ЗЕМНОГО, что я и постараюсь доказать самым доскональным исследованием. — Ты так уверен, что земного? — Бесспорно, ибо у науки пока нет никаких оснований полагать, что разум существует еще где-либо, кроме Земли. Даль, опустив руки, с немым укором смотрел на брата, самоуверенно дымившего трубкой и вещавшего непреложные истины. Эльга Сергеевна, воспитанная в почитании авторитетов, в числе которых был и профессор Петров, преданно смотрела на него, стараясь, чтобы Далька заметил это. Таня отвернулась. Ей вдруг стало так обидно, что она боялась расплакаться.Глава четвертая МИСТИФИКАЦИЯ
Когда поздно ночью братья вернулись домой, Галактион Александрович, сердито пыхтя трубкой, расхаживал по кабинету и отчитывал Дальку: — Мало того, что ты легкомыслен и упрям, только этим я могу объяснить твою бездумную выходку с ключом и спичками, вдобавок ты еще и лишен всякой политической прозорливости. Не хочешь видеть пружин, движущих политическую жизнь на Западе. — Какие уж там пружины, — усмехнулся Далька. — Здесь механизмы хитрее. Нашим специалистам по полупроводникам стоит разобраться. — Прежде всего разберемся мы, археологи. Археология ныне включает в себя все науки! Ты правильно вспомнил о полупроводниках. Уже в наше время нет ничего невозможного в создании звучащего и показывающего под влиянием местного нагрева устройства. Прискорбно, что зарубежные достижения в этой области опять-таки были использованы для дезинформации. — А тебе не кажется, Галь, что аппарат с нагреваемым кубом нечто вроде фонетического словаря? Каждому изображению должен соответствовать звук неведомого языка? — Пока что мы слышали один прерывистый свист и видели одно изображение. Притом не какого-нибудь неведомого существа, а человека. Мистификаторов прежде всего должно упрекнуть в отсутствии фантазии. Неужели не могли нарисовать вместо банального человека какое-нибудь чудовище? — Я все время думаю: надо найти такое переключение, чтобы появился другой звук и другое, соответствующее ему изображение. — Мне уже доводилось говорить тебе о воображении и мнимой действительности. — А я все-таки… — начал было Даль, но рассерженный Галактион Александрович объявил, что настало наконец время и для сна, и ушел в свою комнату.Утром Галактион Александрович был удивлен, что Далька не увязался с ним в лабораторию. Профессор зашел за Эльгой Сергеевной, жившей в соседнем доме, чтобы вместе с нею пойти в научный центр. Ключ от лаборатории был у нее. Смущенная Таня на мгновение выскочила в переднюю, где, не раздеваясь, дожидался со шляпой в руке Галактион Александрович. Она простилась с ним, потому что сегодня уезжала в Томск, и извинилась за вчерашнее. Ей очень хотелось спросить о Дальке, но она так и не решилась.
…Даль вышел из дома раньше брата и отправился прямо в Кибернетический центр к академику Леониду Сергеевичу Песцову. Леонид Сергеевич Песцов был замечательный человек, ученый нового типа. Еще не старый, статный, высокий, спортивного склада, прекрасный теннисист и шахматист, великолепно знающий художественную литературу — так говорили о нем. Шестнадцати лет он поступил в университет, в двадцать лет стал кандидатом наук, а двадцати восьми — избран академиком. Ныне же он был удостоен множества научных премий и наград. Академик Песцов был прост и доступен для всех. Ничего не стоило попасть к нему в кабинет. Не было ни секретаря, ни вахтера. Он радушно встал навстречу Дальке, оказавшись едва ли не на голову выше его. — Петров? Петровых на свете много. Уж не брат ли нашего профессора Петрова Галактиона Александровича? — Брат, — усмехнулся Даль, — в порядке полной противоположности. — Полной противоположности? — переспросил академик, усаживая гостя. — Это уже интересно. Тоже археолог? Историк? — Пока все еще студент — томский политехник. — Томский политехнический? Прекрасный вуз! Кузница выдающихся людей, в частности, в области кибернетики и математики. — Вот насчет кибернетики я к вам и пришел. — Будущая специальность? — испытующе посмотрел Песцов. — Совсем нет. Сам еще не знаю, что буду сооружать. Мечтаю переделывать Землю. На слой вечной мерзлоты, покушаюсь. — Славно. В глобальном, значит, масштабе? А кибернетика тут при чем? — Я хотел спросить, Леонид Сергеевич, можно ли создать такой кибернетический словарь, чтобы он произносил слово и воспроизводил на экране его понятие? — Отчего же нельзя? Можно. Только зачем? — Это другой разговор. Скажем, для того, чтобы ввести в заблуждение весь мир. Придумать неведомый язык и изобразить его слова на экране электронного словаря. Или… если такой словарь имеется, то может ли ваша кибернетическая машина, пользуясь этим словарем, перевести на русский язык рассказ, произнесенный чужой машиной на чужом языке? — Что-то я вас не пойму, дорогой глобальный преобразователь. Вообще машинные переводы возможны, но… — Вы знаете, конечно, что к вам сюда прислали найденные в «Черном Принце» муляжи, оставленные там для дезинформации. — Ну, ну, допустим. — Мне вчера случайно удалось выяснить, что дезинформация зашла так далеко, что мистификаторы, как говорит мой брат, профессор Петров, сделали не картонные, а кибернетические муляжи, даже говорящие и показывающие. — Любопытственно. Предание свеженькое, но… с душком. Не так давно привелось мне видеть фотографии современного «неандертальца», снятого на кинопленку на севере Калифорнии, так называемого бигфута — «большеногого» в русском переводе. Его след вдвое больше нормального человеческого. Восьмидесятый размер! Экспертам из Голливуда был задан вопрос: можно ли сделать комбинированные съемки, чтобы получить на кинопленке существо в два с половиной метра ростом, первобытную такую девицу в шерсти, идущую по лесу легкой походкой с раскачиванием быстрее олимпийских бегунов? Голливудские эксперты ответили, что сделать такой кинотрюк можно… за два миллиона долларов. Недурно? И что же? Американцев, в том числе и многих ученых, это вполне удовлетворило. Они рассудили, что не найдется безумца (или бизнесмена), который решился бы ухлопать такую уйму денег, чтобы сделать кинотрюк во имя легкой мистификации. Вы тоже упомянули о мистификации… — Это не я. Это брат Галактион. — Сомнительно, чтобы кому-то, даже генералам Пентагона, взбрело в голову пускать деньги в данном случае уже «на солнечный ветер», чтобы пощекотать любопытство тех, кто доберется в космосе до труднодостижимого аппарата. — Я тоже так думаю. Потому и пришел к вам. Заберите, Леонид Сергеевич, космическую находку от археологов к себе. Ведь ваша кибернетика все может! Академик улыбнулся хитроватой мальчишеской улыбкой и, соединив руки, стал крутить большими пальцами. — Кибернетика, конечно, многое может, в отличие от тех, кто ею повелевает. В шахматы машина может сыграть. Руководитель машины тоже, притом не лучше ее. Музыку машина сочиняет. Приходилось слышать? — Не нравится. Нечто средневековое. — Простенькое, хотите сказать. Так это от программы зависит. Что в нее заложить, то и прозвучит после чисто математического комбинирования. Вот стихи могу прочесть. Недавно «наша» сочинила (по нашей указке).
Глава пятая СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК
— Не Обь, а сибирская Амазонка! — сказал академик Песцов, берясь за весла. — Нет в Европе таких рек, как великие сибирские! Это про них Гоголь должен был сказать: редкая птица долетит до середины, крылья устанут. А пловцу переплыть этакую ширь — подвиг зрелости! Далька, тоже сидя на веслах, оглянулся через плечо: берег чуть ли не на самом горизонте. — Еще чуть подальше — и была бы не река, а море, — словно угадав его мысли, сказала с кормы Таня. Леонид Сергеевич, смеясь, назвал ее кормщиком-надсмотрщиком, на счастье гребцам, утопившим свой бич. Потом гикнул по-разбойничьи, и они вместе с Далькой налегли на весла. Лодка ходко пошла от берега, забирая против течения. Она была украшена цветами и кедровыми ветками, которые привезли с таежной заимки родители Галактиона Александровича и Эльги Сергеевны. Сами они плыли во второй лодке, в «челне предков», по определению того же Песцова. Челном управляла, подгребая кормовым веслом, бабка Анисья, не признававшая руля. Она уже не работала вахтершей у профессора Петрова, ушла на пенсию, но привязанность к «Ольге Сергеевне» сохранила. Называла она себя пельменных дел мастерицей, и в ногах у нее стоял огромный термос-камера ведра на два с замороженными пельменями, которые по ее рецепту все скопом готовили два дня. Ее внук Ваня Крутых сидел за рулем третьей лодки, где разместились научные сотрудники археологического и кибернетического центров. Галактион Александрович и Эльга Сергеевна, как и подобало молодоженам в такой день, сидели рядом в первой лодке на носовой скамейке, смотря на отодвигавшийся городской берег. Чтобы «слушать реку», на этот раз отказались от моторок. Никакого шума — торжественная тишина! Доносившиеся по воде звуки и всплески весел только подчеркивали чуткую тишь.Таня приехала на свадьбу сестры сразу после окончания университета. Она вглядывалась в напряженное лицо Дальки. Как он изменился: губы крепко сжаты, глаза какие-то пронзительные, брови чуть ли не срослись. На нее смотрит, а видит ли? Она была права. Даль смотрел на Таню, а видел Эльгу. Укоризненный взор девушки вернул его к действительности. Вот Танька молодец, успела закончить университет — молодой историк! А он так и застрял на четвертом курсе политехнического. Положим, не зря застрял… А чего это стоило? С помощью кибернетики он стал овладевать мертвым языком, который, что бы ни говорил Галактион, не мог быть выдуман из озорства или злобного умысла. И Эльге первой прошептал Даль выученные им еще в первые месяцы работы странные слова и даже продемонстрировал, как звучит во втором аппарате длинное повествование на этом ярком и трудном языке. Одному Дальке его не одолеть! Вот если бы Эльга согласилась… Бесхитростный расчет Дальки был прост. Он хотел вместе с Эльгой зубрить неведомые слова, всегда быть с ней рядом и говорить между собой на их собственном «тайном языке». Но Эльга не без ехидства напомнила ему про поцелуйчики и Таню. Это было несправедливо! Он только раз поцеловал девушку, да и то случайно! Даль вспылил, а Эльга холодно заявила, что не может служить антинаучным целям, как бы красочно они ни выглядели. У Галактиона Александровича уже сложилось определенное мнение о муляжах из космоса, а она выбрала себе путь в науке рядом с ним. Оказывается, не только в науке! И даже в жизни! Значит, неверно понял Даль многоречивые взгляды ее прищуренных глаз! Но не только Даль, никто на свете не догадывался о сокровенной тайне гордой Эльги, не знало ее слезах и мучениях. После «измены» Дальки, который писал ей сумасшедшие письма, а сам целовался с Таней, Эльга решила жестоко отплатить ему. Однако все выжидала. А Даль, как она решила, прикидывался, будто ничего особенного не произошло! Увлекся языком фаэтов и даже Эльгу старался склонить к его изучению. Совсем другого ждала она от него. Так он и не раскаялся и не сказал Эльге самого главного. К подчеркнутому вниманию Эльги к своему шефу — профессору Петрову — Даль отнесся, казалось бы, совершенно равнодушно. Этого Эльга простить не могла. Скрытная и гордая, она носила все это глубоко в себе, а потом вдруг согласилась выйти замуж за Галактиона Александровича. Ревность ослепила ее, заставила решиться на непоправимое. Не знала она жизни! Не знала, что ревность еще никогда и никому не принесла счастья. Даль, узнав о решении Эльги, «открыл себе глаза и закрыл душу», замкнулся и целиком ушел в мертвый язык, «квазиэсперанто» (придуманный, но не международный), как назвал его Галактион Александрович. Только академик Песцов внимательно следил за усилиями Дальки и даже знал несколько фраз фаэтов. Ему прямо с голоса диковинного аппарата Даль переводил записанный для землян рассказ. Охотник до всяких сюрпризов. Песцов согласился на озорной замысел Дальки и греб теперь вместе с ним на свадебной лодке. Следом скользил «челн предков». На веслах в нем сидели: отец Галактиона Александровича, проректор Томского политехнического института Александр Анисимович Петров, нестареющий властный крепыш с бритой головой и живыми глазами, отличавшийся несгибаемой волей старшего сына и энергией младшего, и отец Эльги Сергеевны — Сергей Борисович Веденец, редактор газеты «Красное знамя», по сравнению с проректором человек умеренный, но умевший видеть все с неожиданной стороны. У него была невероятно густая копна волос и кривоватый, длинный нос. Их жены сидели рядом: детский врач Агния Елисеевна Петрова, статная, стареющая красавица, с усталым лицом, и Раиса Афанасьевна Веденец, суетливая полная дама, прежде работавшая у мужа в редакции, а потом воспитавшая трех дочерей и теперь мечтавшая о внуках. Наконец добрались до низкого берега. Ближе к воде росли кусты, а дальше виднелась березовая роща. Там среди прозрачных белых стволов и должно было состояться свадебное пиршество. Ваня и Даль потащили за дужки термос-камеру, а бабка Анисья шла за ними, переваливаясь с ноги на ногу, и причитала: — Пошто не в ногу шагаете? В аккурат высыплете мне пельмени! В березняке уже горел костер, разведенный приехавшими раньше зваными гостями, почтенными учеными людьми. Бабка Анисья забраковала костер: на нем котел не вскипятишь. А разгораться костер не хотел. Нетерпеливая молодежь предлагала плеснуть в него бензину, но катер давно ушел, и бензина, к счастью, не было. Эльга, привыкшая к полевой жизни, могла бы мигом все наладить, но ей, как невесте, не позволяли ничего делать, она болезненно морщилась. Галактион Александрович ревниво следил за выражением ее лица и был недоволен тем, что она сердится. Наконец бабка Анисья с помощью Вани и Даля все-таки развела костер. В котле уже закипала вода. Все расположились на траве вокруг расстеленной скатерти. Многим сидеть на земле было непривычно и неудобно, но именно они больше всего смеялись, уверяя, что устроились чудесно. Наконец вода в котле окончательно закипела, и бабка Анисья, священнодействуя, стала опускать в него замороженные пельмени, фарш для которых приготовлялся не в мясорубках, а мясо рубили сечками в корытцах. Говядины и свинины было поровну, а баранины добавлялось две трети от говядины. И еще — мускатных орехов и всяких специй по дедовским рецептам. Пока пельмени всплывали, мужчины наполнили чарки и подняли их за счастье молодых. Первый раз закричали: — Горько! Эльга смотрела в землю и никак не желала подчиниться древнему обычаю. Но ей пришлось уступить. Громче всех кричал «горько» Далька. Она это заметила. Таня тоже… Потом Таня сбивалась с ног, обнося всех тарелками с дымящимися пельменями, которые бабка Анисья с пришептыванием вылавливала из котла шумовкой. — Еще порцию позвольте. — Хотите соус кетчуп? Или со сметанцей? — Ай да бабка Анисья! Ну и мастерица! Чуть язык не проглотил! Пельмени полагалось есть не досыта, а до отвала. Когда стали пробовать петь, бабка Анисья сделала знак Тане, что нужно сделать перерыв. — Пусть осядут маленько, — сказала она, имея в виду пельмени в желудках. Тут поднялся Далька. — Все одарили молодых, кто чем мог, — начал он. — Надо и мне преподнести свадебный подарок. — Зачем же его сюда тащить? — спросил Галактион Александрович. — Можно и дома… — Мой подарок невесомый, хотя, может быть, и весит необычайно много. — Загадки? — спросил Ваня Крутых. — Дозволь мне в подарок новобрачным, которых объединяет не только супружество, но и общая научная работа, преподнести перевод на русский язык послания инопланетян, оставленного в глубокой древности для людей в космическом аппарате «Черный Принц». — Это уже не загадки, а шутки, — нахмурился Галактион Александрович. — Вы послушайте, — посоветовал академик Песцов. Гости перестали звенеть вилками и ложками, приготовились к забавному розыгрышу. Но Даль был серьезен. Впрочем, так и требовалось при розыгрыше. — Космический аппарат был оставлен в космосе более десяти тысяч лет назад марсианами, которые перед тем посылали на Землю Миссию Разума, — объявил он. — Здоровье марсиан! — крикнул Ваня Крутых, поднимая чарку. На него зашикали. — Миссия Разума возглавлялась марсианином, носившим имя Инко Тихий. На Земле его называли Кетсалькоатлем, а потом Кон-Тики. — Ну, знаете ли, это даже не остроумно! — задохнулся от возмущения Галактион Александрович. Эльга щурилась на Дальку, словно изучая его или прикидывая, на что еще способна его фантазия. Таня слушала с открытым ртом. Леонид Сергеевич попросил пельменей. Остальные гости начинали прислушиваться. — Пусть то, что я сообщаю сейчас, ляжет первым камнем в фундамент новой науки космической археологии, которая была заложена в лаборатории профессора Петрова, куда доставили найденные в «Черном Принце» аппараты! — Кто их там оставил и для какой цели? Кон-Тики, что ли? — поинтересовался Веденец. — Нет, очевидно, уже не Кон-Тики. «Черный Принц» был оставлен позже, для того чтобы сообщить о Миссии Разума, возглавлявшейся Кон-Тики в пору захвата Землей Луны. — Час от часу не легче, — вздохнул Галактион Александрович. — О каких марсианах можно говорить всерьез, если все посещения Марса автоматическими станциями и космонавтами говорят о том, что на этой планете, чахлой и скупой, нет никаких разумных существ или их следов? Там даже кислорода нет, чтобы им дышать. И о каком захвате Луны можно говорить, если математики доказали, что она не могла быть захваченной Землей, несомненно столкнулась бы с ней. — Столкнулась бы, не вмешайся высокий разум! На поверхности Луны марсиане взорвали ядерные устройства страшной силы. Их реактивная отдача не дала Луне упасть на Землю, заставила ее перейти на круговую орбиту. — Так его, так его, так! — засверкал глазами старый профессор Петров. — Это как же? Ты сам выдумал или в «Черном Принце» все так записано? — Я перескажу сейчас все, что записано в говорящем аппарате «Черного Принца», все о злоключениях Миссии Разума марсиан, о Кетсалькоатле и Кон-Тики. — Он действительно переплыл океан на плоту? — ехидно поинтересовался кто-то из скептиков. — Да, он закончил океанское плавание на плоту, — подтвердил Далька, — чтобы добраться до прилетевшего за ним корабля, его корабль погиб во время поднятия Анд и опускания Атлантиды. — Какая спекуляция! — простонал Галактион Александрович. — Все же стоит дослушать свадебный подарок, — загадочно напомнил академик Песцов. Гости притихли. Даль с воодушевлением стал рассказывать о необыкновенных приключениях на Земле мариан, как называли себя потомки фаэтов. Он закончил свое повествование на том, как Кон-Тики встретился со своей матерью на ступеньках великолепного храма и корабль мариан наконец покинул Землю. Некоторое время все молчали. Потом Веденец по привычке журналиста стал допрашивать: — Что ж они, и улетели, и более не возвращались? — Из всех известных следов посещения Земли инопланетянами самое достоверное — «Черный Принц» с заключенным в нем посланием людям. — А зачем это послание? — добивался Веденец. — Рассказу о Миссии Разума предшествует еще одно повествование о гибели Фаэны. — Фаэны? А это что такое? — Я так перевел название погибшей планеты, чтобы оно созвучно было нашему привычному Фаэтону. — Фаэтон никогда не существовал, — резко возразил Галактион Александрович. — Как знать? — вставил академик Песцов. — Астероиды-то все осколочной формы. — Почему же они все остались на круговой орбите, если планета взорвалась? — теряя самообладание, повысил голос Галактион Александрович. — Это исключено! — Потому что планета не взорвалась, а разрушилась в результате взрыва ее водяной оболочки, — отпарировал Даль. — Это противоречит воззрениям физиков! Вода не взрывается! — Кто рискнет подписаться под таким утверждением? — спросил академик Песцов. — Во всяком случае, великий физик двадцатого столетия Нильс Бор не брался так утверждать. Известно его высказывание о возможности взрыва океанов в результате цепной реакции, вызванной взрывом в глубине океана сверхмощного ядерного устройства. — Он ссылался при этом, что большинство физиков иного мнения, — не сдавался Галактион Александрович. — Правильно, ссылался и добавил, что если даже они правы, то все равно ядерное оружие надо запретить. — Это что же? Речь идет о ядерной войне фаэтов, как вы их назвали? — вмешался Веденец. — Не знаю, так это или нет с точки зрения физики, которая, кстати сказать, со временем меняется, но с общечеловеческой точки зрения, которая неизменна в веках, такую возможность людям надо учесть. — Кто же возражает? — отозвался Галактион Александрович. — Мне показалось, что вы возражаете. А ведь речь идет о том, чтобы бороться за запрет ядерного оружия, которое, как мы слышим сейчас, способно погубить не только цивилизацию, но и планету, на которой та развилась. — На Западе в это никто не поверит, — сказал Галактион Александрович. — А надо бы, — заметил Песцов, — если не поверить, то допустить подобную возможность. Ядерное оружие действительно способно было погубить и планету Фаэна, и всех, кто на ней жил. — И все погибли? — с ужасом спросила Таня. — Не все. Горстка уцелела. Те, кто находился в космосе: на Земле и на космических базах близ Марса. — Так, может быть, я не от обезьяны происхожу? — вдруг обрадовалась Таня. — Можно говорить лишь «исключено или не исключено», — осторожно прокорректировал академик Песцов. — Но даже и так это звучит серьезным предостережением людям. — Я за такое предостережение! — заявил Веденец. — Сказка ложь, да в ней намек, — заметил проректор Петров. Галактион Александрович схватился за голову. — Как ты мог придумать всю эту галиматью? — набросился он на брата. — И преподнести ее в такой день? — Я лишь пересказал суть послания «Черного Принца». Его аппараты впервые зазвучали в твоей лаборатории. Помнишь газовую зажигалку? — Это же сказки! Отец верно сказал! Нелепые сказки, придуманные фантазерами, не пожалевшими сил закодировать их в дурацкий язык, который можно изучать лишь глупцу! И нужны эти сказки их создателям не для предостережения человечеству, а для отвлечения его внимания. — Сказки? Хорошо, пусть будут сказки. Первая из них о гибели Фаэны, вторая о Миссии Разума. Но есть еще и третья сказка. — Еще и третья? — заинтересовался Веденец. — Да. Сказка о братьях. И не только о братьях Петровых, которые едят пельмени на берегу Оби. Но еще и о братьях по разуму (если не по крови!), открыть которых должна космическая археология. — Тост за новую, самую универсальную науку — космическую археологию! — провозгласил академик Песцов. — Наука изучает факты. Так пусть она и разберется, где факты и где сказки![15]
Часть вторая «ПОИСК»
Все высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии и многое — фантазиею при помощи ума.Н. И. Пирогов
Глава первая ЗВЕЗДНАЯ МУМИЯ
Ни Таня, ни Эльга за весь долгий путь до Марса не могли привыкнуть к волнующей серебристой тьме за иллюминаторами «Поиска», как по предложению Даля Петрова был назван космический корабль Крутогорова. Пассажиры научились пользоваться башмаками с магнитными подошвами, чтобы не отрываться от пола кабины и не плавать беспомощно в воздухе. Таня беспокоилась, что ее походка в башмаках, прилипающих к полу, похожа на вышагивание цапли. Она не могла забыть обидного прозвища «цыпленок цапли», как ее когда-то называли. Даль мало обращал внимания не только на Таню, но и на Эльгу, поглощенный предстоящей встречей с Фобосом. Спутник Марса должен был появиться из-за огромного горба планеты, занимавшего теперь большую часть иллюминатора. Командир корабля Крутогоров первый заметил и показал Галактиону Александровичу, руководителю экспедиции, звездочку у края диска планеты. Диск этот еще несколько дней назад был виден с белыми шапками на полюсах, затемненный с одной стороны. Теперь он уже не умещался в иллюминаторе. — А вдруг Фобос обитаем? — спросила Таня. — Какая чепуха! — поморщился профессор Петров. — Я согласился возглавить археологическую экспедицию на Марс только потому, что, как и профессор Шкловский, уверен в давнем исчезновении марсиан. Нам предстоит на Марсе датировать их исчезновение десятками или сотнями тысяч лет, если не миллионом. — И Дальке не с кем будет разговаривать, — чуть насмешливо произнесла Таня. — Увы! — пожал плечами Галактион Александрович. — Я вынужден был уступить его напору, хотя боюсь… что переводчик, знающий лишь мертвый язык былых обитателей Марса, а не письменность, которая могла их пережить, не окажется в археологической экспедиции на первом месте. Время, отпущенное для подготовки, не тратили даром. Космические археологи стали самыми всесторонними специалистами — историками, врачами, техниками. Скоро звездочка, составлявшая вместе с Фобосом двойную звезду, превратилась в ярко сверкающее колечко, чем-то напоминающее Сатурн. А еще через некоторое время уже можно было рассмотреть, что спутник представляет собой огромное колесо с округлым ободом в виде тороида с цилиндрическими спицами, соединяющими его со ступицей в центре, от которой в звездный туман и тянулась серебристая нить. — То типичная орбитальная станция, — хрипловатым басом заметил Крутогоров. — Вдаль уходит, стало быть, оранжерея, где когда-то выращивали овощи для экипажа. — А если и сейчас выращивают? — спросила Таня. Крутогоров покачал головой. — Должно, метеорит еще давно в станцию угодил. Взгляните-ка на разрушения. Теперь и все заметили, что кольцевой обод был неполным. Часть его отсутствовала. Не было и тех спиц, которые должны были соединять разрушенную часть с центром. — Так и должно было быть! — воскликнул Даль. — Ведь фаэты, переселяясь на Марс, сбросили на его поверхность запасы металла, разобрав для этого часть станции. — Даль! — вмешался Галактион Александрович. — Я попросил бы тебя помнить условие, при котором ты был включен в экспедицию, — не путать науку со сказками. Очевидно, мы имеем случай разрушения станции метеоритом, что говорит о весьма длительном ее существовании, ибо по теории вероятностей такое прямое попадание крайне редко. — Я молчу, — сказал Далька и тихо добавил: — До поры до времени. Эльга сощурилась на него, а Таня одобрительно кивнула. Тут Эльга обратила внимание на крохотную странную звездочку, словно меняющую свое положение среди других звезд. — Может быть, это их корабль! — насторожилась Таня. Крутогоров снова покачал головой. Он стоял у звездной стереотрубы и видел то, что еще неизвестно было остальным. — Не корабль это, — почему-то вздохнул он, — а, похоже, мумия. — Мумия? — насторожилась Эльга Сергеевна. Крутогоров уступил место у окуляра сначала ей, а потом Галактиону Александровичу и наконец Тане. — Трудно поверить! — воскликнула Таня. — Она как живая! Будто заметила наш корабль и летит на него, как бабочка на огонь! Эльга зябко передернула плечами. — В космосе не живут, — заметил космонавт. — Почему же тогда она летит прямо на нас? — не унималась Таня. Далька недвижно стоял у иллюминатора, словно прекрасно знал, что рассматривают его спутники. Странная звездочка оказалась телом женщины с развевающимися седыми волосами и раскинутыми, как в полете, руками. — Она сама выбросилась в космос, — сказал Тане Далька. — Это Власта Сирус, военная преступница. Не выдержала одиночества. — Для нас это археологическая находка, каковую надлежит исследовать, — заключил профессор Петров. — Как исследовать? — спросила Таня. — Этим займется Эльга Сергеевна. Вероятно, понадобится вскрытие мумии и установление различий внутренних органов инопланетного тела и человека. Таня поморщилась. Галактион Александрович продолжал: — Судя по всему, у обитателей космической станции была традиция захоронения умерших членов экипажа в космосе. Не исключено, что нам придется встретить еще мумии. Трупы выбрасывали в космос, и они становились там вечными спутниками спутника Фобоса, если можно так выразиться. — Думаю, что дело было не так, — возразил Даль, но умолк, заметив протестующий жест брата. Пилот Розмыслов осторожно подвел «Поиск» к полуразрушенной станции. Перейти в нее через шлюзы, которыми пользовались ее былые обитатели, было невозможно, поскольку корабль не мог стыковаться со станцией из-за несовпадения размеров стыковых устройств. Предстоял выход в открытый космос в скафандрах. — Запустим каждого на канатиках, — успокоил всех командиркорабля. — На фалах. Новоявленные космонавты — Галактион Александрович и Даль — вместе с Крутогоровым покинули шлюз корабля. Эльга Сергеевна и Таня остались, готовясь к предстоящему исследованию мумии, которую еще надо было выловить из космоса, что было возложено на Даля и Крутогорова. Даль с трудом справился с собственным вращением, цепляясь за тросик, потом огляделся, стараясь увидеть мумию. Но увидел только звезды, которые словно приблизились к нему. Галактион Александрович решительно направился с помощью ракетного пистолета к базе Фобоса. А Даль с Крутогоровым, паря в космосе на натянутых фалах, стали ждать приближения мумии. Как определила электронная машина, она двигалась по вытянутому эллипсу вокруг станции. Но создавалось впечатление, что неведомая женщина, которую они только что рассматривали в звездную стереотрубу, сознательно летит к ним. Можно было понять ощущение Тани, представившей, что живая космическая женщина атакует корабль. Даль не мог побороть неприятного ощущения, когда мумия приближалась к ним, парящим в космосе. То, что они были в скафандрах, а женщина без всякого скафандра, выглядело противоестественным. Чудовищным казалось, что женщина с раскинутыми руками летела, вращаясь вокруг собственной оси, словно танцуя среди звезд.
— Посмертный вальс, — донесся в шлемофоне Дальки хрипловатый голос Крутогорова. Дальке не хотелось шутить, и он не ответил командиру. Настала пора действовать. После нескольких неудачных попыток поймать мумию им, наконец, удалось завершить маневр. В шлюзе бесценный груз был принят Эльгой Сергеевной и Таней — им предстояло нелегкое дело. — Брови-то как срослись! — заметила Таня. — Интересно, кто она была? — Резать не станем — просветим рентгеном, — решила Эльга. Далька и Крутогоров отправились тем же путем через шлюз в космос, чтобы попасть в полуразрушенную станцию. — Бис его знает, что ее поломало, — сказал Крутогоров, рассматривая округлый обод гигантского колеса, где не хватало части. — Вроде бы на катастрофу не похоже. Аккуратно разобрано. Ни одного рваного листа. — Они сами ее демонтировали, — отозвался Далька. — Так сказано в аппарате из «Черного Принца». — Ну, ну! — промычал Крутогоров. И неизвестно было, что он хотел сказать. Крутогоров был старейшим из космонавтов. Он прославился еще во время Великой Отечественной войны, свершая на своем истребителе невероятные подвиги. После победы он продолжал летать, испытывая новые самолеты, помогая конструкторам создавать самые смелые конструкции, которые он и перегружал выше всякого предела в воздухе. Уже будучи Героем Советского Союза, он стал космонавтом. С подкупающей простотой и юмором он признавался, что ему пришлось скинуть десять килограммов лишнего, «генеральского», веса, доведя его до восьмидесяти. (Справедливости ради надо отметить, что к профессору Петрову перед его полетом к Марсу таких требований уже не предъявлялось.) Чтобы научиться прыгать с вышки, генералу Крутогорову сначала пришлось научиться плавать. Но он преодолел все трудности и теперь великолепно ориентировался даже в открытом космосе. Галактиону Александровичу и Дальке было намного легче. Они были достаточно тренированы, чтобы повторять движения Крутогорова, к тому же и плавание в открытом космосе ныне считалось обычным. Однако для каждого, кто впервые выходил в пустоту меж звезд, это было ни с чем не сравнимым ощущением. Правда, когда Даль преодолел небольшое расстояние от корабля до базы Фобоса и выровнял свое движение в космосе с вращением исполинского колеса, а затем вошел внутрь его обода, то ощущение внезапно вернувшейся земной тяжести было, пожалуй, не менее сильным, чем полет в скафандре. Крутогоров осветил фонарем коридор. Свет отражался в полированных стенах, на потолке, на полу, который словно поднимался в гору, хотя никакой подъем не ощущался. На станции были свои законы, вызванные конфигурацией обода, его вращением и центробежной силой. Крутогоров и Далька, медленно ступая, припечатывая каждый шаг, лишь усилием воли заставляли себя двигаться. В конце коридора, словно спускаясь с горы, к ним приближался космонавт в скафандре. Это был Галактион Александрович. — На станции нет никого: ни живого, ни мертвого, но есть немало предметов, представляющих интерес для археологов. Мы не будем сейчас что-либо трогать, вернемся на «Поиск», чтобы присутствовать при исследовании мумии. Даль с неохотой покидал древнюю космическую станцию фаэтов, представляя себе, как жили здесь когда-то герои рассказа, который он выучил почти наизусть, воспринимая его персонажи как действительно знакомых живых людей (именно людей!). Мужчины вернулись на корабль, где их уже ждали Эльга Сергеевна с Таней и пилот Розмыслов, когда-то знаменитый футболист, а впоследствии начальник крупнейшей орбитальной станции «Гагарин». — Это человек! — заявила Эльга Сергеевна, указывая на плававшую посередине кабины ледяную мумию. — Человек? — переспросил Галактион Александрович. — Земная женщина? Эльга Сергеевна кивнула. — Я подозревал это! — высокопарно начал Галактион Александрович. — Все теперь становится на свои места! Конец сказкам! — И он обернулся к недоумевающему Дальке. — Да, да! Конец сказкам! Они уступают место новой научной гипотезе, которая не высказывалась мной, пока не подтвердилась фактами. — И он кивнул на мумию. — Ничего не понимаю, — отозвался Даль. — У меня нет оснований сомневаться в опытности Эльги Сергеевны, великолепного анатома, каким и надлежит быть настоящему археологу. И если она произнесла свой приговор «человек!» — значит, это действительно человек. Никакое другое разумное существо не может во всех деталях, если это слово применимо в подобном случае, быть тождественно человеку. — И он многозначительно посмотрел на своих сотрудников. — Может быть, это и не вполне научно, но мне жаль эту неизвестную, — сказала Таня. — В данном случае было бы крайне важно выяснить, когда же эта женщина, исследовательница космоса, прилетела сюда с Земли. Да, да! Вот вам доказательство существования на Земле древней цивилизации, достигавшей поразительно высокого уровня. Наши предки, оказывается, летали и над Землей, и даже сюда, в космос, где сооружали себе космические базы. Это новый взгляд на историю человеческой культуры. Она вовсе не развивалась только в одном направлении. Были спады, возврат к дикости, вызванные, по-видимому, глобальными катаклизмами. Очевидно, существовал когда-то знаменитый континент Мю в Тихом океане, на котором человечество поднялось до высших достижений культуры. Все остальные очаги цивилизации на других материках, в том числе и на Атлантиде, — это лишь колонии могучего сосредоточия разума на материке Мю. Становятся понятными такие загадки истории, как, скажем, семь городов Мохенджодаро (Холма мертвых) в Пакистане, возникавших на одном и том же месте один за другим. В самом древнем городе казалось необъяснимым отсутствие храмов и дворцов, но в то же время в нем были прямолинейные улицы с многоэтажными домами, где каждая квартира имела водопровод и канализацию, которым больше десятка тысяч лет! И, оказывается, здесь, в космосе, находится разгадка колоний материка Мю, имевшего сообщение не только со всеми материками Земли на летающих колесницах (виманах), но и с космическими базами, созданными около других планет! Мы вернемся на Землю, чтобы сообщить об этом ученому миру! — Не рано ли? — усомнился Даль. — Если мы нашли мумию человека в космосе, это еще не значит, что люди летали сюда в древности. Может быть, люди произошли от тех, кто летал здесь и долетел до Земли?.. — Это исключено, — оборвал Галактион Александрович. — Почему? — не унимался Далька. — Потому что это противоречит теории Дарвина, лежащей в основе наших знаний. Человек произошел от земных приматов. — Но почему же теорию Дарвина нельзя распространить не только на Землю, но и на всю Солнечную систему хотя бы? — Потому что это противоречит научным воззрениям и, следовательно, антинаучно. — А твое предположение о древних, но погибших людских цивилизациях более научно? — Да. Это новое откровение науки, и я рад, что им окупается наш опасный рейс. Космическая мумия откроет новую страницу земной археологии. — Но нам еще предстоит спуститься на Марс, — напомнил Даль. — Только для того, чтобы доказать, что там нет, не было и не могло быть разумной жизни, — заключил Галактион Александрович. Космонавты с почтением смотрели на профессора и с интересом поглядывали на его младшего брата. — Увидим, — сказал Даль.
Глава вторая ХРУСТАЛЬНЫЙ ГРОБ
Накануне отлета «Поиска» с Фобоса на Марс Таня и Даль в скафандрах летели внутри прозрачной трубы оранжереи. Почва, на которой выращивались растения, давно окаменела, как и остатки стебельков. Таня тщательно собирала этот «мусор», не обращая внимания на беспокойного Дальку. А он все торопил девушку, сокрушаясь, что она такая же дотошная, как и ее старшая сестра. Из-за этой задержки им пришлось даже включить ракетницы для разгона. Даль первый обратил внимание, что передняя часть оранжереи выглядит как-то необычно. Возможно, здесь когда-то был выход в космос, но сейчас его прикрывал прозрачный куб. Даль начал торможение с помощью ракетницы. Таня последовала его примеру. Ухватившись друг за друга, кувыркаясь, задевая за стенки оранжереи, они еще некоторое время неслись вперед, цепляясь руками за окаменевшие грядки, чтобы остановиться. Наконец они уперлись в торцовую, прозрачную стенку и одновременно вскрикнули. За стеной в пустом пространстве, как в сказке, висели два саркофага. Крышки их были прозрачны, и Таня с Далькой, прижавшись шлемами к перегородке, могли рассмотреть лежащие в них мумии. — Надо доложить Галактиону Александровичу, — прошептала Таня. — Что вы там шепчетесь? — прозвучал в шлемофоне голос профессора. Очевидно, он внимательно следил за каждым словом путешествующих по оранжерее. — Мы обнаружили склеп. В нем два гроба. — Опиши внешность саркофагов. — Размерами с обыкновенный гроб, чуть толще. И лежат в них мумии как живые. Рыжебородый мужчина и… — Красавица необыкновенная! — перебила Таня. — Вот они, люди с материка Мю, — сказал профессор. — Ничего не предпринимайте без меня. Мы с Эльгой Сергеевной и Георгием Петровичем вылетаем к вам. — На всякий случай захватите лазер. Двери не видно. Не знаю, как они входили-выходили. — Вы поразитесь, какая это красавица! — А меня бородач интересует. Необыкновенное лицо! Нос у него начинается выше бровей. Невольно вспомнишь гробницу древних майя в Храме Надписей в Паленке. Нефритовая маска и две скульптурные головы носолобых… — Мы летим к вам. Ждите. — Чудно. Как так носолобые? — поинтересовался Крутогоров. — Сами увидите. — Мне как-то не по себе, — призналась Таня. — Не бойся, — отозвался Даль. — Постой-ка, что это? А ведь в кубе воздух! — Как это ты определил? — спросил издалека Галактион Александрович. — По преломлению света. Если смотреть под определенным углом, звезды смещаются. — Значит, гробница посещалась, — заключил Галактион Александрович. — Их было трое. Они ждали смены с материка Мю. Двое умерли и были похоронены третьей. Вероятно, она посещала их. Потом узнала о гибели материка Мю, поняла, что никогда не вернется на Землю, потеряла рассудок… Скоро Таня и Даль увидели в сужающейся вдали оранжерее три движущиеся точки. Их прикрывало облачко дыма от ракетниц. Фигуры в скафандрах вынырнули из него уже совсем близко и подлетели к торцовой стене оранжереи. — Так вот оно где, кладбище людей Мю, — сказал профессор. — Отнесли в самое отдаленное место. Мумии превосходны! Они украсят земные музеи. — Ты не замечаешь ничего знакомого? — спросил Даль. — Оставь ты свои нефритовые маски. Впрочем, в гробнице древних майя тоже мог быть захоронен потомок людей Мю. — Нет, я не о том. Видишь, около гробов какие-то штуковины с конусами и пирамидами. Не аппараты ли? — Что ж тут особенного? Если люди Мю оставили на околоземной орбите «Черного Принца», начиненного сказаниями, то почему бы им не оставить рассказывающий аппарат и здесь? Твое знание мертвого языка людей Мю пригодится. — Это другие аппараты. — Ну как? Начнем взрезать? — спросил Крутогоров, направляя на прозрачную стену принесенный аппарат. — Подождите! — запротестовал Далька. — Вижу спираль! — И что же? — холодно осведомился Галактион Александрович. — У фаэтов спираль была замочной скважиной для взгляда, который включал автоматы. — Какие там еще автоматы у гробницы! — Подождите! Я только попробую. У фаэтов надо было посмотреть в центр спирали, сосредоточить всю силу желания. Не знаю только, чего пожелать, чтобы автомат сработал. — Не теряй времени. Даль, — сказала Эльга Сергеевна. — Надо успеть до отлета исследовать новые мумии. — Нет, пусть он попробует, — заступилась Таня. Даль рассматривал спиральный орнамент. Да, такой же, как на «космических костюмах» древних японских статуэток «догу», которыми он увлекался. Чего же пожелать? Самого невероятного? Чтобы ожили эти с виду совсем живые мумии? И Даль, сам не отдавая себе отчета в бессмысленности передаваемого взглядом приказа, впился глазами в спираль. И вдруг вопреки всякой логике неведомый механизм сработал, вызвав в хрустальном кубе чудо. Крышка гроба рыжебородого вздрогнула и приподнялась. Таня вскрикнула, Крутогоров крякнул. — Режьте, — скомандовал Галактион Александрович. — Не смейте! — закричал Далька. — Это не гроб, а биованна для анабиоза. Они живые! — С ума сошел, — отмахнулся Галактион Александрович. — Подумай сам. Зачем же погружать себя в анабиоз у Фобоса? Поднятие крышки — это еще не оживление, скорее ритуал свидания с умершим во время посещения склепа. — Посмотри, — прошептала Эльга Сергеевна, схватив мужа за руку. Когда крышка гроба, или биованны, совсем открылась, в камере все помутнело, словно она наполнилась паром или дымом. — Будешь резать? — ехидно спросил Даль. — Уместны ли шутки? — возмутился Галактион Александрович. — Ты сам сказал об анабиозе. Одно лишь подозрение, что мумии могут ожить, должно повергнуть истинно ученого в трепет. Сейчас надо наблюдать затая дыхание, фиксировать каждую подробность. Подумайте, какое великое открытие выпадает на нашу долю! — Боюсь, открытия придется ждать долго. — Да, терпение понадобится. Любому экспериментатору это понятно. — Эх, пообедать не успели, — вздохнул Крутогоров. Но не только об обеде пришлось забыть людям с «Поиска», не только об ужине, но даже и о сне. Долгие часы тянулись в неизвестности, и никто не знал, что откроется за все еще матовой стенкой склепа. Никто не покинул своего наблюдательного поста, и каждый мысленно видел свое, отличное от других. Эльга Сергеевна взялась следить с помощью захваченного с собой прибора за изменением температуры в камере. Галактион Александрович тревожился, что автоматы могли нарушить герметичность склепа и туда попал межзвездный холод, вызвавший помутнение прозрачной стенки. Даль, выяснив у Эльги, что температура неуклонно поднимается, ждал пробуждения к жизни незнакомцев, и ему уже чудились тени, перемещавшиеся за перегородкой. Скрытый источник энергии действовал. Замороженные тела оттаивали, а может быть, уже поднялись из своих биованн. Во время бесконечного ожидания переговорили о многом, но никто не спорил. Спорить казалось кощунственным в ожидании чуда. Люди Мю или фаэты? Гипотеза профессора Петрова или сказки «Черного Принца»? Таня была за «Черного Принца», она уверяла, что замороженные — это легендарные Аве и Мада, хотя и не могла объяснить, как они сюда попали. Даль, чтобы не спорить с братом, сосредоточенно молчал. Один Крутогоров был невозмутим и беспокоился лишь о состоянии своих пассажиров. Однако уговорить их вернуться на «Поиск» было бесполезной попыткой. Да он и сам не смог бы сдвинуться с места. Вдруг стенки куба начали постепенно светлеть. За ними уже можно было различить могучего рыжебородого атлета в облегающем костюме. Когда видимость улучшилась, все увидели, что его переносица выше бровей. Это делало его лицо странным. В позе отчаяния он стоял над вторым хрустальным гробом, пристально всматриваясь в недвижное прекрасное лицо молодой женщины. Рыжий великан обернулся, увидел людей в скафандрах и, ничуть не удивившись, сделал им знак рукой. Потом снова склонился над саркофагом, словно усилием воли пытался открыть его крышку. — Крышка не поднимается! Помоги, Далька! Смотри в свою спираль! Как следует смотри! — кричала Таня. Даль покрылся потом от напряжения, передавая взглядом неистовое желание оживить спящую красавицу, но он не был «принцем ее сказки», и она не просыпалась. Лицо рыжебородого выражало самое настоящее человеческое горе. Схватившись руками за голову, он медленно раскачивался. Через некоторое время он овладел собой, сделав людям успокаивающий жест (неужели во все времена у всех разумных существ язык жестов будет схожим?), вернулся к своему гробу, достал из него какое-то одеяние и… исчез в некоем подобии скафандра. — Это же «догу»! Настоящий «догу»! — закричал Даль. Вместо статного атлета около саркофага теперь возвышалась уродливая фигура с короткими руками и ногами. Неимоверно широкие штанины и рукава, очевидно, заключали в себе какие-то механизмы. На плечах виднелись смотровые люки. Голову носолобого скрыл герметический шлем с огромными щелевидными очками. Громоздкая фигура подплыла по воздуху к хрустальному гробу женщины и снова стала вглядываться или в ее лицо, или в какой-то знак на крышке. Крышка не сдвинулась с места. Тогда незнакомец сделал людям еще один знак рукой, и тотчас пелена тумана скрыла его. — Смотрите, вот он где! — закричала Таня, указывая в звездное космическое небо, где, словно ожившая древняя японская скульптура, вдоль стенки оранжереи плыла меж звезд странная фигура носолобого. — Живой обитатель материка Мю! Я не поверил бы никому, если бы не видел сам. — На Земле уже были удачные опыты с анабиозом, правда, не с людьми, — заметила Эльга. — Ничего невозможного здесь в принципе нет. — Он с материка Мю? — допытывалась Таня. — Как же это однозначно установить? — Эльга Сергеевна препарирует его, и… все будет ясно, — отшутился Даль. Все снова направились к кораблю, бросив последний взгляд на женщину в прозрачном гробу. Люди двигались внутри прозрачной оранжереи, воскресший обитатель базы Фобоса — с наружной стороны. Они словно переговаривались между собой. Во всяком случае, их действия были согласованными. Все они направлялись к базе Фобоса, хотя неизвестный ничего не знал о ждущем там корабле Земли. Кто они? Откуда? Как общаться с ними? Поможет ли знание Далем странного мертвого языка? Какие тайны теперь откроются? Эти мысли владели каждым из наблюдавших за неуклюжей фигурой, летевшей меж звезд. — Не улетел бы куда, — с опаской сказал Крутогоров. — Ваня! Розмыслов! Меня слышишь? Не дивись гостю. Прямо на тебя летит. Соображает.Незнакомец подлетел к «Поиску» первым и терпеливо ждал, пока люди выбирались из центрального отсека станции, примыкавшего к оранжерее. Крутогоров раньше остальных подлетел к шлюзу и жестом пригласил войти в него вместе с ним. Археологи остались снаружи, ожидая своей очереди. — Можно умереть со страху, — бодрилась Таня. — Или от удивления, — заметил профессор Петров. Когда Даль с Таней последними вошли в кабину «Поиска», незнакомец стоял на полу, широко расставив короткие ноги скафандра, нелепо массивный, чуждый, странный… Эльга первая сбросила свой скафандр. Незнакомец подлетел к ней и через щели очков заглянул ей в лицо. Эльга Сергеевна протянула руку, предлагая незнакомцу освободиться от скафандра. Но тот не торопился. Он, очевидно, хотел проверить состав воздуха в кабине. И сделал это самым наглядным способом. В его напоминающей манипулятор двухпалой рукавице сверкнул огонь. Таня шарахнулась в сторону, но никакого взрыва или других последствий не произошло. Незнакомец просто проверил, может ли происходить горение в атмосфере кабины. — Как не вспомнить древних майя! — заметил Даль. — «Огонь вспыхивал у пришельцев на концах рук. Были они белокожими и бородатыми…» Убедившись, что в кабине есть кислород, и, может быть, установив его количество, незнакомец стал освобождаться от своего одеяния. Люди молча стояли перед живым обитателем базы Фобоса и с волнением ждали. Шлем с щелевидными очками плавал в невесомости, скафандр распался на две части, и могучий рыжебородый атлет выбрался из него, как из развалившейся скорлупы. И тут Даль решился, он заговорил с ним на странном певучем и свистящем языке, напоминавшем журчание воды и щелканье птиц. Незнакомец радостно обернулся к нему, защелкал сам. — Значит, я прав, — решил профессор. — «Черный Принц» был оставлен людьми Мю. Не зря Даль выучил их мертвый язык. Спроси скорей, что стало с его родиной. — Ты ошибаешься, — сказал Даль. — Это марсианин. Его зовут Инко Тихий. Он бывал на Земле, когда Луна была захвачена Землей, и носил тогда имена Кетсалькоатля и Кон-Тики. Он просит нас помочь ему разбудить его подругу. — Это когда же Луна была захвачена Землей? — простодушно осведомился Крутогоров. — Судя по древним вавилонским и египетским календарям, лунным, равно как и солнечным, имеющим одну общую нулевую точку отсчета, можно думать о происшедшем тогда на Земле необычайном событии, — педантично стала объяснять Эльга Сергеевна. — Когда же это было? Незнакомец умоляюще смотрел на своих освободителей, стараясь угадать смысл их слов. — Одиннадцать тысяч пятьсот сорок лет до нашей эры, — сказал Даль и перевел сказанное незнакомцу. Эта цифра, видимо, ошеломила его. На его ногах, освободившихся от космической обуви скафандра, не было магнитных подошв, и тяжелая фигура рыжебородого приподнялась, словно от удивления. Он быстро и взволнованно заговорил. Даль пытался уловить смысл его слов, но не успевал. — Он, кажется, говорит о счастье и горе, просит спасти Эру, его жену. Инко Тихий (Кетсалькоатль, Кон-Тики) говорил так: — Счастье мое подобно горной вершине, но рядом черная пропасть горя. Я ждал детей Земли, которых полюбил, побывав у них под именами Кетсалькоатля и Кон-Тики. Эра всегда была со мной. И мы с ней не смогли остаться в душных подземельях Мара с нашими братьями, слишком спокойными, холодными, правильными. Мы грезили пышной природой Земли, где побывали еще раз, чтобы оставить около нее в космосе памятник своего посещения. Мы верили, что люди найдут его и научатся понимать наш язык, чтобы узнать горькую историю фаэтов и жалкую участь мариан. Когда Совет Матерей Мара, страшась жестоких от рождения землян, запретил на вечные времена полеты в космос, мы с Эрой ушли сюда, чтобы уснуть сном холода в надежде, что люди найдут и пробудят нас. Вы здесь! Мы не напрасно верили в вас. Так помогите же, спасите мою Эру, разбудите ее! Но что могли сделать люди? На Земле пока не умели погружать в анабиоз разумные существа, не овладели еще автоматами, действующими от направленного на них взгляда.
Глава третья СВИДЕТЕЛЬ ДРЕВНОСТИ
Даль, вытерев потный лоб, закончил перевод рассказа. Галактион Александрович все время сличал услышанное с записями «Черного Принца». Сомнений не было. Перед ними действительно был Инко Тихий! Слушатели глубоко задумались, разглядывая носолобого потомка фаэтов, снова ставшего печальным. Он рассказал о пережитом вместе с подругой на Земле. Теперь Эры не было с ним, она осталась в глубинах времени, откуда он вышел. Глядя на него, ничем, кроме переносицы, не отличавшегося от остальных людей, трудно было поверить, что это не человек, а марсианин, к тому же живший много тысяч лет назад. Таня принесла гостю поесть. Он с опаской посмотрел на блюдо. Даль перевел его слова: — Умоляю понять, что марсиане не едят трупов. Таня смутилась: — Что вы! Что вы! Это синтетические продукты. На Земле научились, как и у вас на Марсе, приготовлять искусственные питательные белки. — Я знал, что так будет, — улыбнулся гость и с осторожностью положил в рот маленький кусочек. Ведь он ел впервые за много тысяч лет. — Есть необходимо, как и дышать, — заметил Даль. — Простите, — внушительно вступил Галактион Александрович. — Даль, переведи, что у меня есть к гостю несколько вопросов. — Инко Тихий охотно ответит старшему из новых братьев, — отозвался гость. — Вопрос первый: почему наш гость был погружен в анабиоз, если таковой еще не был до конца отработан, судя по тому, что во второй биованне автоматы отказали? Вопрос второй: кто оставил в околоземном космическом пространстве повествующие аппараты? — История так же печальна, как и горька, — сказал Инко Тихий. — Но неужели у вас на Земле ничего не известно о нашем пребывании там? Эльга Сергеевна боялась, что ее супруг с его авторитетной прямотой тяжело ранит гостя, припомнив, как вера в его возвращение привела к порабощению индейцев испанскими конкистадорами. Их ведь приняли за сынов Кетсалькоатля и Кон-Тики. Опережая мужа, она сказала: — Предания древних народов говорят и о Кетсалькоатле, отменившем человеческие жертвоприношения, и о Кон-Тики — просветителе людей. — Сохранились ли у инков принципы справедливости: бесплатный хлеб всем, обязанность каждого трудиться? — спросил Инко. — Несколько сот лет назад эти принципы существовали в государстве инков наряду со странным обычаем первому инке жениться лишь на собственной сестре, — ответила Эльга. — Потомки моей Ивы и Гиго Ганта! — грустно вздохнул Инко Тихий. — Они оберегали наследственность вождей, чтобы в их кровь не проникли частицы сердца ягуара. — Принципы, о которых гость спрашивает, — напомнил командир корабля Крутогоров, — стали сейчас целью всего человечества. — Только потому вы и могли прилететь сюда, — сказал, ничуть не удивившись, Инко Тихий. — По закону развития это неизбежно должно было случиться. Веря в это, мы с Эрой и погрузились в холодный сон. Упомянув имя подруги, Инко Тихий сразу осунулся, скулы стали заметнее на его лице. — Отчего же вы не вернулись на Землю, как обещали? — спросила Эльга. — Мы прилетели, но к другим народам. Мы и им должны были принести семена разума и стремились сделать как можно больше. Мы опустились на другом материке, между двумя большими реками. Вождя людей там звали Амменоном. — Амменон! — обрадовалась Эльга Сергеевна, которая в вопросах древней истории была весьма сведуща. — Так ведь это же древние шумеры, едва ли не первая цивилизация на Земле! — Как так первая? — удивился Крутогоров. — А египтяне, китайцы, индейцы? — Вавилоно-ассирийская культура, — объяснила Эльга, — наследовала шумерскую цивилизацию. Шумеролог Торкильд Якобсон из Гарвардского университета, говоря о диких племенах, живших в междуречье Месопотамии, пишет, что «месопотамская цивилизация выкристаллизовалась словно за одну ночь. Схема, по которой станет жить эта цивилизация, познавая себя и весь мир, возникает мгновенно во всех своих главных чертах». — Удивительно! — заметил Крутогоров. — Сохранились клинописные записи. У нас есть книга на корабле. — Я принесу, — предложила Таня. — Клинописью писали наши далекие несчастные предки на Фаэне, — отозвался гость людей. Пока Таня ходила за книгой, Галактион Александрович напомнил о своих вопросах. Инко Тихий грустно ответил: — После нашего вторичного возвращения, под влиянием моей матери Моны Тихой, Совет Матерей решил, что марианам не удастся воспитать людей в духе любви и мира, а потому запретил на вечные времена полеты в космос и посещения Земли. Врожденно жестокие земляне, попав на Мар, могли бы погубить мариан. Но мы с Эрой, вкусившие прелесть жизни под открытым небом среди щедрой земной природы, не могли уже Жить в душных подземельях вместе с остальными марианами. Мы полюбили людей и верили, что добрые начала восторжествуют в них над сердцем ягуара, что они поднимутся по лестнице цивилизации, познают добро и справедливость. Мы мечтали этого дождаться. И Совет Матерей выполнил наше желание. Нам разрешили уснуть холодным сном. На Маре умели погружать в него… Однако нас должны были разбудить не потомки мариан, отказавшихся от космоса, а только люди, когда они созреют для полетов в космос. Мы согласны были дождаться во сне, пока они нас обнаружат в холодных ваннах космического «Хранилища Жизни». — Однако мне неясно, почему в звучащем аппарате, оставленном людям, осваивающим космос, не было никаких указаний о погруженных в анабиоз марсианах около спутника Фобоса, — заметил Галактион Александрович. — Не вижу логики. — Все просто, — со вздохом пояснил гость людей. — Аппарат, который вы называете «Черным Принцем», — гость выговорил это название по-русски, обладая, очевидно, феноменальной способностью к языкам, — был оставлен у Земли до того, как Совет Матерей запретил дальнейшее общение с землянами. Мы с Эрой могли рассчитывать лишь на разум тех, кто наследует посеянные нами семена знания на Земле… Вернулась Таня с книгой в руках. — Вот позвольте прочитать: «В первый год из той части Персидского залива, что примыкает к Вавилону, появилось животное, наделенное разумом, и оно называлось Музаром Оанном».[16] — Марианин Инкоанн, — поправил гость людей. — Так называли они меня. — При последовательных не очень точных переводах клинописи неизбежны искажения, — пояснила Эльга. — Клинопись пришла к ним через меня от фаэтов, — сказал Инко Тихий. — Неужели это были опять вы? — удивилась Эльга Сергеевна. — Но ведь дальше говорится, — она взяла у Тани книгу, — что «все тело у животного было как у рыбы; а пониже головы у него была другая, и внизу, вместе с рыбьим хвостом, были ноги, как у человека. Голос и речь у него были человечьи и понятные». — Очевидно, так восприняли люди мой скафандр. Не желая ставить под возможный удар наш космический корабль, я, выполняя наказ Совета Матерей, опустил его в воду и каждую ночь, погружаясь в море, приплывал к Эре, ждавшей меня. Не мудрено, что меня считали земноводным. Однако это не мешало моей просветительской деятельности. — Здесь говорится: «Существо это днем общалось с людьми, но не принимало их пищи…» — Они ели куски трупов, — словно оправдывался Инко Тихий. — «И оно обучало их строить дома, возводить храмы, писать законы и объяснило им начала геометрии. Оно научило их различать семена земные и показало, как собирать плоды. Словом, оно обучило их всему, что может смягчить нравы и сделать людей человечными. С тех пор ничего существенного не прибавили люди к своим знаниям: настолько полным было его учение. Когда солнце заходило, существо снова уходило в море, ибо оно было земноводным».
— Эра ждала меня! Как она была бы счастлива, слыша эти слова! — После передачи своих знании шумерам и возвращения на Марс вам, как я понял, запрещены были полеты к Земле? — снова заговорил Галактион Александрович. — Как же это увязать с дальнейшим, с чем нас познакомит сейчас Эльга Сергеевна? — Да, дальше говорится о царствовании Алапара, преемником которого была Амиллар из города Пантибиблона. «В его время из моря вторично вышел полудемон Аннедот, очень похожий на Оанна (по имени Одакон). После него еще трижды сменялись царствования, и при Даосе, в прошлом пастухе из Пантибиблона, из моря снова выходили некие двойственные по виду существа, называвшиеся Эведоком, Эневгамом, Эневболом и Анементом». — Повтори, пожалуйста, — попросил Даля Инко Тихий. — Может быть, я не так понял. Ведь это невозможно! Даль, взяв из рук Эльги книгу «Античные фрагменты» Корна, строчку за строчкой перевел написанное. Гость людей был ошеломлен. — Нет слов передать мое волнение! Значит, запрет Совета Матерей был отменен в новых поколениях, и потомки современных мне мариан все-таки летали на Землю к шумерам, чтобы проверить всходы посеянных семян разума. — Может быть, не только к шумерам. На Земле есть немало загадочных следов посещения ее гостями из космоса, — пояснил Даль и добавил: — Вот они, японские «догу»!.. — Как была бы счастлива Эра! Помогите же мне пробудить ее! — Я только недоучившийся инженер, но я готов лететь с тобой к «Хранилищу Жизни». Попытаемся привести в действие автоматы, — предложил Даль. Галактион Александрович вмешался: — Не следует ничего предпринимать. Лучше всего спуститься с нашим гостем на поверхность Марса и найти там место, где можно начать археологические раскопки. — Раскопки? — нахмурился Даль. — Почему раскопки? — Потому что, лишь найдя остатки былой марсианской культуры, мы сможем обнаружить секреты их анабиоза. Лишь тогда целесообразно вернуться к прозрачному склепу. — Ты продолжаешь думать, что марсиан уже нет на Марсе? — Несомненно, как это ни тяжело будет узнать нашему гостю. Но сам по себе он бесценная находка для земной науки. И наряду с двумя мумиями, которыми мы будем располагать… — Как тебе не стыдно, Галактион, — оборвала мужа Эльга Сергеевна. — В склепе живая женщина!.. — Разумеется. Потому это вдвойне ценно для нас. Я запрошу Землю. Полагаю, нам разрешат приступить к намеченным раскопкам. Хотя я не исключаю, что нам предложат немедленно вернуться вместе с нашим гостем на Землю. Тысячи ученых заинтересованы встретиться с ним. — Уж если запрашивать Землю, то о том, как вывести из анабиоза его Эру, — сказал Даль. — О чем говорят люди? — поинтересовался Инко Тихий. — Как помочь тебе и твоей подруге, — живо ответил Даль. Галактион Александрович поморщился. — На Земле еще не погружали в анабиоз высших животных. Едва ли нам помогут… в ближайшее время. Хотя не исключено, что будут начаты необходимые исследования. Если спящая будет пробуждена на сто лет позже, для нее это не составит большой разницы. — Как не составит? А ее Инко? — гневно спросила Эльга, готовая испепелить мужа взглядом. Галактион Александрович развел руками. Инко Тихий словно догадался, о чем говорят: — Я готов ждать до самой глубокой старости.
Даль в скафандре летел среди звезд рядом с ожившей статуэткой «догу» из его юношеских грез. Серебристая труба оранжереи, вдоль которой они двигались, казалась непостижимо длинной. У Инко Тихого в скафандре не было шлемофона, пригодного для общения с радиоустройством Даля, поэтому они летели молча. Полупрозрачный куб склепа, по-прежнему наполненный беловатым туманом, наконец, показался в конце трубы. Инко Тихий залетел с нужной стороны, искусно пользуясь каким-то хитрым устройством своего скафандра, по сравнению с которым ракетница Даля выглядела первобытным орудием. Инко повис с наружной стороны склепа «Хранилище Жизни» перед знакомым ему местом входа в шлюз. Створки двери подчинились его сигналу и раскрылись. И Даль следом за ним оказался в предкамере. Вскоре и она наполнилась полупрозрачным туманом, и они через внутренние створки вошли в камеру «Хранилища». Очевидно, здесь можно было дышать, потому что Инко снял с себя шлем и знаком предложил Далю сделать то же самое. Он хотел поговорить с ним. — Сделано как у древних фаэтов, — сказал он. — Привод механизмов от взгляда. Слишком тонко. — Если привод действует от взгляда, то тем более начнет действовать от прямого включения. Ты знаешь, где находится привод? Я предпочел бы разобрать его и заменить работу тонких механизмов прямым включением. Когда-то я увлекался автоматами, даже делал робота, искусственного человека. — Помни, что твой старший брат не дал тебе права разбирать механизмы. Я привел тебя сюда потому, что твоему взгляду подчинился первый автомат. Посмотри, прошу тебя, на крышку ложа. Сосредоточься. Даль склонился над хрустальным гробом. Нежное лицо с загнутыми, готовыми вздрогнуть ресницами приблизилось к нему. У этой женщины глаза должны быть прекрасными. — Она словно уже просыпается, — сказал Даль. — Не раньше, чем твоя воля включит механизмы. Даль еще ниже склонился над крышкой и стал в упор смотреть на спираль, приходившуюся как раз над ясным лбом спящей. Он вложил в свой взгляд всю силу желания помочь Инко Тихому и его подруге, прекрасной просветительнице людей. Но спокойное лицо спящей не дрогнуло. Недвижной осталась и крышка гроба. — В твоей оболочке для головы слышен голос старшего брата людей, — сказал Инко Тихий, протягивая Далю снятый им шлем. У Даля помутилось в глазах от напряжения. Почему же не срабатывают автоматы? Какой требуется код? Может быть, надо решиться на вскрытие механизмов, замкнуть накоротко сигнальную цепь, работающую от биотоков мозга? Мало ли что могло произойти за десяток тысяч лет! Может быть, Галактион и решится? Даль взял у Инко свой шлем и услышал голос брата: — Получено сообщение с Земли. Повторяю его в третий раз: «Прекратите все попытки вмешательства в устройство анабиозной камеры. Если на Марсе не удастся найти указания, как вывести из анабиоза спящую, будет прислан специальный корабль, который доставит камеру всю целиком в околоземное пространство. Ученые всего мира примут участие в оживлении спящей». Понятно? — Что он говорит? — спросил Инко Тихий. — Эту камеру отбуксируют к Земле. Там знатоки знания приложат все усилия, чтобы вернуть твою Эру к жизни. — На Земле нет нужных знаний. Я найду мариан, покажу людям вход в их глубинный город. — Если он населен, — издалека донесся по радио голос Галактиона Александровича, которому Даль перевел слова Инко. — Мариане не могли все погибнуть. Среди них найдутся те, кто по древним письменам знает секрет «Хранилища Жизни», — уверенно сказал Инко Тихий.
Глава четвертая НЕОПЛАЧЕННЫЙ ДОЛГ
Итак, я, Инко Тихий, носивший на Земле имена Кетсалькоатля и Кон-Тики, возобновляю после пробуждения свои записки — отчет перед Разумом. Переход от сна к бодрствованию заложен в существе каждого, но требуется время, чтобы организм начал работать нормально. В «Хранилище Жизни» автоматы, пробудившие меня, не только отогрели мое тело, вернули силу мышцам, ввели в кровь бодрящие вещества, но и сообщили мне угол сдвига созвездия. Я был потрясен сознанием числа пролетевших тысячелетий. Меня разбудили люди, поднявшиеся в космос на своей высшей ступени развития. Я сам мечтал о такой встрече с ними, но — увы! — мое пробуждение не принесло мне полного счастья… Не знаю, чем вызвана мучительная боль в затылке: остаточным состоянием длительного замораживания или напряжением, с которым я старался взглядом включить автоматы пробуждения Эры. Эра лежит, спокойная и прекрасная, такая же, какой я видел ее на ложе холодного сна перед тем, как самому занять место рядом. Я не только помню, я ощущаю ее светлую прощальную улыбку. Ее губы и сейчас полуоткрыты, готовые снова улыбнуться, ресницы способны вздрогнуть, глаза открыться, но… моя Эра остается недвижной. Возможно, за время сна я утратил силу взгляда, в моем мозгу произошли какие-то изменения, и его ослабленные биотоки не в состоянии привести в действие автоматы… Мои новые братья, на которых я лишь и надеюсь, проявляют ко мне участие. И мне стыдно признаться, что они кажутся мне более чужими, чем их дикие предки, которых я стремился приобщить к добру и знанию. Те люди древности были яснее для меня: они боялись боли и смерти, но бывали отважны, они любили неистово и ненавидели безмерно, покорно трудились, но стремились к богатству и власти, были жестоки и кровожадны, но бывали нежны и сострадательны. А главное, всегда стремились узнать больше, чем знали, шли всегда вперед, жадные к неизвестному. Новые люди, напоминая во многом прежних, все же в чем-то другие. Если младший брат их вождя как-то ближе и понятнее мне, то сам вождь с его уверенностью в гибели марианской цивилизации и даже с упрямой надеждой на это (во имя чего?!) хоть и не жесток и кровожаден, как жрецы Толлы, но неприятен мне. Женщины не играют, по-видимому, у них первой роли, как на Маре, но не подчинены мужчинам, как на древней Земле, и даже каким-то способом влияют на поведение мужчин. Сами они тоже принадлежат к изучающим, хотя и должны будут выполнять все обязанности матерей. Эта двойная нагрузка представляется странной. Может быть, моя Эра, проснувшись, ближе сойдется с ними, поймет их. Но ее нет со мной… Боль в затылке невыносима. Что предвещает она? Скорый мой конец? Старшая из земных женщин, местная Сестра Здоровья, изучавшая окоченевший труп фаэтессы, сомневается, полностью ли я подобен человеку и можно ли ко мне применять знакомые ей средства? Но боль в затылке ничтожна по сравнению с болью в сердце. Ловлю себя на том, что я, ради любви к людям ушедший из своего времени, недостаточно сердечно отношусь сейчас к ним. После совместного полета с Далем (так зовут брата вождя прилетевших людей) к «Хранилищу Жизни» и бесплодных попыток включить автоматы для пробуждения Эры я узнал, что земляне решили переправить «Хранилище Жизни» к Земле, чтобы изучающие могли там применить все свои знания для спасения Эры. Я благодарен им, я не напрасно поверил в них, погружаясь в холодный сон, но ведь у людей нет нужных знаний!.. Я охотно согласился помочь вождю прилетевших людей, Галактиону, в попытке найти мариан. Правда, цели у нас с ним разные. Он стремится найти лишь следы их былого пребывания на Маре, убежденный в гибели их цивилизации, мне же нужны сами мариане, близкие мне дети моего народа, сохранившие древние секреты холодного сна и способные пробудить Эру. Самое трудное — это неподдаваться ужасающему одиночеству, победить свое горе, победить самого себя. Мне удалось это сделать, потому что мое желание спасти Эру совпало со стремлением людей разведать Мар и спуститься на его поверхность. Но что я увижу там? Становилось жутко. Ведь тысячелетия прошли не только в космосе, они пролетали и на Маре. Какой они оставили след? Ведь ничто в мире не может быть неизменным. Неужели прав холодный Галактион? Я указал пилотам, в какое место следует посадить корабль, чтобы оказаться вблизи Города Долга. Город Долга! Его символом были древнейшие стихи Тони Фаэ!.. Как хотелось мне прочесть их людям на земном языке! У меня был пример Даля, овладевшего мертвым языком мариан и опыт изучения живых языков древней Земли. И я принялся изучать современный язык землян. Он назывался русским, одним из распространенных в числе многих. Мой словно просветлевший за бесконечно долгий отдых мозг был подобен земной высохшей губке, жаждущей влаги. Он с легкостью впитывал в себя новые понятия. Люди радовались моим успехам и уже обменивались со мной репликами без переводчика. К этому времени «Поиск» (улыбка судьбы снова свела меня с этим названием корабля) опустился на Мар.С той же тревогой, что и люди, смотрел я на поверхность родной планеты, которую, казалось, оставил совсем недавно. Сколько охватывал взор, во все стороны простиралась голая равнина, изрытая полузанесенными песком ямами. На непривычно близком (по сравнению с Землей) горизонте виднелась серебристая башня «Поиска», а за нею — горная гряда. Хребты были на прежних местах, но в остальном я не узнавал Мара. Где же оазисы, на которых работали мариане в скафандрах? Где же марианская растительность, пусть уступающая земной, но все же живучая, сочная, вкусная? Наконец, где же тоненькие цепочки следов остродышащих ящериц, единственных живых существ, обитавших на поверхности Мара? Пустыня была мертва. Поражала отсутствием знакомого кратера, в котором прежде был оазис с утесом городских шлюзов перед ним. В моем шлеме люди поместили электромагнитное устройство, позволявшее мне слышать их голоса. Я уже достаточно понимал теперь каждого из них, но в решительную минуту нам приходил на помощь Даль. Глядя на мертвые пески, Галактион сказал: — Анчару бы расти в этой пустыне чахлой и скупой. — Анчар — ядовитое дерево смерти из стихов нашего великого поэта, — объяснил Даль. Дерево смерти! Даже ему не было места в пустыне!.. — Оазис… здесь… был, — выговорил я на языке людей. — Оазис? — переспросил Галактион. — Был? Это очень верно! И совпадает с моей теорией гибели марсианской цивилизации.
Несколько дней прилетевшие люди, называвшие себя археологической экспедицией, с помощью хитроумной машины раскапывали горы песка. Однако все было напрасно. Фиолетовое небо, красноватые пески, синие, словно земные, тени, горы… «Планета Анчар», как назвал Мар Галактион, объясняя, почему никто не обнаружил здесь следов жизни. Мой скафандр фаэтов был неуклюж, и я почти не мог помогать людям. Как я жалел, что у меня не было легкого скафандра, в каком я выбегал когда-то на поверхность Мара! Обе женщины были лучшими помощниками Далю, чем я. — Галактион! — позвала старшая (Эльга) мужа. — Твердая порода. Оплавленный гребень. На метеоритный кратер непохоже. У меня перехватило дыхание. Я хотел объяснить Галактиону что мы у цели! Но все русские слова разом вылетели у меня из головы. А Даль был занят с младшей из сестер (Таней) определением состава найденной породы. Он называл обнаруженные вещества, которые говорили им многое (а для меня были новыми понятиями), доказывали, что здесь когда-то произошел ядерный взрыв. Я понял, что ядерные взрывы — это и есть распад вещества, погубивший цивилизацию фаэтов. — Галактион, — торжественно сказал я, — мы у цели. Вы, люди, обнаружили занесенный песком кратер, оставшийся от войны распада между базами Фобо и Деймо, начатой накануне гибели Фаэны. Город Долга поблизости. Его почему-то тоже занесло песком. — Потому что некому стало очищать скалу от наносов, — уверенно ответил мне вождь людей. — Стебелек! — раздался взволнованный крик младшей сестры, Тани. — Это первая такая находка на Марсе, — обрадовался Даль. — Спасибо тебе, Инко, без тебя мы не нашли бы. Я с грустью рассматривал стебелек со свернувшимися трубочкой листьями. Трудно было в нем узнать предка той самой кукурузы — дара звезд, — которая была привезена нами на Землю. Когда-то подземная река по прорытому древними марианами глубинному руслу питала влагой исчезнувший оазис. Но, видно, еще действовала былая оросительная система, если стебелек рос здесь сам собой!.. Галактион сказал: — Если и было орошение, то давно заброшено. Можно удивляться, что потомки фаэтов так долго жили на неприютной планете. Возможно, они переселились на Землю и какой-нибудь земной народ-завоеватель и являет собой их потомков. Меня покоробило это предположение: — Мариане не способны на завоевания! — Но твои рассказы, Инко, должны были заронить в твоих соплеменниках желание жить под открытым небом, дышать естественным воздухом среди щедрой природы. Ради этого можно было и потеснить на Земле малокультурные племена. Все ясно! Очевидно, мариане и составили основу населения материка Мю! Вот почему там была так высока культура. Моя гипотеза подтверждается, многое становится понятным! Что я мог возразить? Отказываться от надежды, что потомки переселившихся на Землю мариан сохранили в древних письменах секрет холодного сна? Я стал расспрашивать о материке Мю. — Увы, друг, — ответил Даль. — Материк Мю если и существовал, то погиб в одном из катаклизмов, потрясших Землю многие тысячи лет назад. Едва ли кто-нибудь мог выжить или сохранить письмена. Но земные ученые помогут тебе, откроют секрет холодного сна вновь.
Галактион торопил продолжать раскопки, ему хотелось добраться до утеса шлюзов, и он все расспрашивал меня, где его искать. Я первый заметил хорошо знакомый мне по прежней жизни на Маре зловещий столбик песка на горизонте. Я предупредил людей о надвигающейся опасности. — Мы не станем бросать раскопки, — упрямо заявил Галактион. — Лишь ради них мы здесь. — Надо спасаться, — убеждал я. Я уже переживал подобную бурю, когда с Моной Тихой отправился в заброшенный Город Жизни искать Тайник Добра и Зла. Буря, как и тогда, упала прямо с неба. Люди еще не знали, что на Маре вихревые возмущения атмосферы перемещаются не только по поверхности планеты, но и вертикально. Вихрь обрушился на пустыню, и она ожила в неистовом, но мертвом движении. Ураган сбил всех с ног, кроме меня, устоявшего благодаря неуклюжему и все же устойчивому скафандру фаэтов. Внутрь шлемов проникал грохот бури, пересыпавшей горы песка. Небо скрылось. Тяжелые тучи спустились к самой поверхности, а им навстречу встала черная колонна, которую люди зовут смерчем. Упершись в небо, он словно закрутил там тучи спиралью. Скоро и мой скафандр не удержал меня на ногах. Я оказался рядом с Галактионом, который пытался с помощью электромагнитной связи передать на корабль местонахождение своей экспедиции, чтобы пилоты могли откопать нас. Я услышал в шлеме и голос Даля, говорившего на родном мне языке. Он тревожился, но не за себя, даже не за женщин, а за меня, свидетеля древности. — Нельзя, чтобы все так нелепо кончилось, — сказал он. — Нельзя, — согласился я, думая о спящей Эре. — Будет страшно, если она проснется, а меня не будет. — Мы выживем, Инко! Нам нельзя не выжить! — Ты знаешь, горячий Даль, когда меня еще не повалило, я успел заметить, что черный смерч, пройдя вблизи: засыпанного кратера, на миг оголил знакомый утес шлюзов. — Вот видишь! Я говорю, мы не имеем права погибать! — воскликнул Даль, но уже по-русски. — Не имеем, — подтвердил Галактион. — Как же нам выбраться? — спросила Таня. — Нас засыпало, как в могиле. — И она замолчала. — Не смей, Таня! Ты девушка Земли, — сказала Эльга, очевидно не желая, чтобы люди проявляли при мне слабость. А я и сам был слаб. Я был в отчаянии от того, что не могу что-либо сделать, никому не могу помочь, что никогда больше не увижу ни Мара, ни Земли, ни Эры… И тут Даль сказал: — Выжить — это наш долг. Долг? И я прочитал на родном своем языке стихи о Долге:
Глава пятая УЧЕНИЕ СТРАХА
С горьким чувством иду я по затхлым и пыльным галереям глубинного Города Долга. Только в ближних к шлюзам пещерах можно встретить бесшумные тени… Да, только тени мариан! Как мало напоминают они моих современников! Великий Жрец всюду сопровождает меня. Походя на большеголового ребенка с тоненькими ручками и ножками, он не достает мне до плеча и говорит дребезжащим, плаксивым голосом: — В древней келье, которую отыщет божественный Инко, будет создан Храм, где поклоняющиеся воздадут сердечную хвалу сыну Моны-Запретительницы. Мне уже привелось быть богом Кетсалькоатлем на Земле, и я поклялся никогда больше не играть подобной роли; и вот, спустя тринадцать тысяч земных лет, помимо моей воли меня снова провозглашают божеством, но теперь на родном Маре, не знавшем в мое время никаких суеверий. Старичок привык к моим протестам и терпеливо разъясняет божественное учение Страха. — Как могли вы дойти до этого? — перебиваю я. И старый Жрец не устает напоминать, что еще Великий Старец (их главный бог!) первым наложил запрет на опасные знания. Затем его великий пророк Мать Мона запретила полеты в космос к Земле, населенной чудовищами, которые вырывают друг у друга сердца и стремятся в своей свирепой жестокости к захвату чужих стран, к порабощению или уничтожению народов. И эти демоны непременно прилетят на Мар, чтобы разделаться с марианами. У мариан одно средство спасения: уйти навек в глубинные убежища и никогда не появляться на поверхности. Вот почему уже тысячи циклов в пустынях Мара не найти никаких следов мариан, все оазисы засыпаны песком, великое орошение талыми водами полярных льдов заброшено, мариане питаются только тем, что можно получить в недрах. Итак, Великий Старец — первый бог, а чудесные стихи Тони Фаэ, нашего древнейшего поэта, стали теперь бездумными молитвами. Мариане бормочут их во время религиозных обрядов. Невежество порождено страхом, разложившим культуру, убившим Знание. Не мудрено, что ни Великий. Жрец, изучавший больше других, ни кто-либо другой из мариан ничего не слышали о холодном сне. Для них я просто бессмертен, как и подобает богу. Бедная моя Эра! Кто пробудит тебя? И когда?С немалым трудом нахожу я в сети новых пробитых туннелей старую «пещеру подземного дерева». Конечно, от растения не осталось и следа, но древние кельи на месте. И сердце болезненно сжалось. Грустно смотрю я на знакомую с детства стену. Сейчас здесь нет энергопотока и на ней не вспыхивает красками взрыв метеорита, сразивший моего отца. На месте былой картины в каменных натеках с трудом можно угадать древний барельеф с чудо-башней фаэтов, с помощью которой они летали среди звезд. При виде очертаний сказочного корабля горькие воспоминания охватывают меня. Рассматриваю сохранившиеся фигурки в диковинных скафандрах, и они оживают в моей памяти. Вот там с краю могла бы стоять Кара Яр, холодная и яркая, мужественная и спокойная. Рядом с нею Нот Кри, острый, всегда споривший, ничего не принимающий сразу, бесстрастный в суждениях, но безутешный в любви и горе. Одна нашла себе могилу в земле инков, разверзшейся под нею, другой не пожелал выплыть из водоворотов острова Фату-Хива. А вот справа — моя несравненная, нежная, кроткая и самоотверженная сестренка Ива! Она осталась на Земле ради людей с другом своей жизни, мудрым добряком Гиго Гантом. А вот эта, едва различимая фигурка в центре, словно прикрытая каменным занавесом, могла бы быть моей Эрой, которая не умерла, как все другие, и которая все же не жива… С потолка кельи свисает сталактит. Его не было прежде. С полу к нему тянется оплывший сталагмит. Здесь, на этом месте, услышал я впервые и стихи Тони Фаэ о Долге: «Мечтай о счастье, о любви и ты, но помни: корень Жизни — ДОЛГ!» Я произнес эти знаменательные слова, когда нас с людьми засыпало песком и уже не осталось надежды на спасение. А жрецы Страха, оказывается, в ужасе наблюдали за действиями страшных пришельцев, свирепых демонов Земли, ищущих вход в Город Долга, чтобы вырвать сердца у мариан, захватить их родные пещеры. И жрецы исступленно молили всемогущего бога. Великого Старца, спасти мариан, послать на земные чудовища все силы Мара. И когда, словно в ответ мольбам, тучи песка взмыли в воздух и черный смерч засыпал песком жестоких демонов, на глазах у бледных, перепуганных мариан навернулись слезы благодарности. И вдруг электромагнитная связь, перехватывавшая до сих пор лишь устрашающую речь землян, донесла до мариан слова главной их молитвы, которую читал кто-то из пришельцев на древнейшем языке мариан, сохранявшемся в богослужениях. Мариане были потрясены. Ведь им напомнили о Долге, всколыхнули доброе начало, заложенное в сердце каждого. И мариане, преодолев свой страх, пришли на помощь засыпанным песком пришельцам. Они не могли не прийти. Такова была их сущность. И в шлюзе города, освобожденные от скафандров, мы, пришельцы (я и мои новые друзья с Земли), жадно вдохнули сочный искусственный воздух Города Долга. Мариане толпились вокруг нас, протягивая тоненькие ручки, большеголовые, похожие на робких и любопытных детей, наивных, пугливых и добрых. Надо было видеть, в каком неподдельном ужасе шарахнулись они в сторону, узнав, что пришельцы действительно люди с Земли (то есть демоны), а я — древний марианин, легендарный Инко, сын Моны-Запретительницы, покинувший Мар более шести тысяч циклов назад, а значит, живое подтверждение божественного учения Страха. Ведь именно Инко встречался на Земле с чудовищами, вырывавшими сердца, именно из-за него Мона запретила полеты на Землю. Я постарался было разуверить их в своей божественности, рассказал о холодном сне, даже признался, что рассчитываю на их помощь в пробуждении Эры, но маленькие большеголовые дети лишь недоуменно моргали огромными, как у ночных птиц Земли, глазами. Они ничего не знали о холодном сне и той, что спит до сих пор в «Хранилище Жизни». Даль, мой новый друг, стал с жадностью расспрашивать мариан, которые кое-как понимали его. Галактион и Эльга показали себя подлинными изучающими. Несмотря на все пережитое, они были увлечены теперь историей «ископаемой народности», как назвал Галактион глубинных мариан. Мне же горько было узнавать историю увядания великой марианской культуры, наследовавшей цивилизацию фаэтов, а ныне задавленной, поглощенной религией Страха. Видимо, не сразу восторжествовало это мрачное учение. Культура мариан сопротивлялась. И не один раз был нарушен запрет Моны лететь к Земле. Но, очевидно, привезенные оттуда впечатления говорили не в пользу людей. И недальновидные Советы Матерей вместе с новыми жрецами повернули цивилизацию мариан в тупик. Уничтожались всякие следы пребывания мариан на поверхности. Ее можно было видеть лишь жрецам-стражам через оптические устройства, которые люди называли перископами. От такого перископа не отходила младшая из женщин Земли, Таня. Она больше других страдала от нашего заключения, первая ощутила себя пленницей. Мариане, конечно, не прибегали к силе, к принуждению. Мы пользовались в Городе Долга полной свободой. Но скафандров и шлемов с переговорными устройствами у нас не было. Когда Таня увидела в перископ двух пилотов «Поиска», бродивших на месте наших недавних раскопок, она поняла, что не в состоянии дать им о себе знать без скафандров и шлемов. Она попросила Даля объяснить марианам, что необходимо сигнализировать пилотам. Но мариане боялись. И слова Даля пугали их еще больше. Таня не понимала этого, не могла понять. Мне тоже нелегко было понять, как отказались мариане от познания Вселенной, вычеркнули из своих знаний звездоведение. Выводы учения Страха, хоть на чем-то прежде основанные, постепенно выродились, превратились просто в пугающие образы демонов с Земли. Как же могли мариане выдать свое присутствие этим демонам, сила которых таилась в их угрожающей башне? И мариане затаились в своих норах. А вместе с ними свободными пленниками сидели и мы. Пилоты приходили к месту раскопок каждый день и, выбиваясь из сил, пытались откопать наши трупы. Но им удалось найти лишь механический копатель, которым управлял Даль, и больше ничего. По-видимому, они получили с Земли какое-то указание, потому что принесли с собой странное сооружение из легких труб. Вероятно, они оставляли указательный знак, где «погибла первая марсианская археологическая экспедиция», чтобы новые корабли землян могли найти это место и откопать погибших археологов. Водрузив знак, пилоты двинулись к видневшемуся вдали «Поиску». За ними тянулись цепочки следов на песке. — Они уходят! — в отчаянии крикнула Таня и залилась слезами. — Они сейчас улетят! Рыдания не надо переводить на другие языки, они понятны всем и на Земле, и на других планетах. — Надо догнать, остановить их, — сказал Даль и обратился к Великому Жрецу, умоляя его отдать хотя бы один скафандр или даже шлем от него, в котором было переговорное устройство. Великий Жрец закивал своей тяжеловесной для его хрупкого тела головой, что означало у мариан отрицание, отказ. Мне пришлось объяснить это Далю. Мы с ним вместе прильнули к перископу. Шлюзы находились над нами, выбитые в утесе. Я хорошо знал их устройство. Их никто не охранял, да мариане и не способны были применять силу. Решение озарило меня. В памяти вспыхнули незабвенные дни юности и увлечения бегом без дыхания. Кара Яр, Нот Кри! Многим тогда это казалось нелепым дурачеством. Но вот настал миг, когда я должен был доказать, на что способен марианин. — Что он делает! — закричала Таня. — Остановите его! Мариане испуганно отшатнулись от меня, когда я ринулся к шлюзам. Без всякого скафандра, в одном облегающем костюме, в котором я пролежал тысячелетие в «Хранилище Жизни», я выскочил из шлюза в пустыню. Здесь, на Маре, я уподобился земным ловцам жемчуга, ныряющим порой на несколько минут в океан. В свое время, увлекаясь бегом без дыхания, мы с Ивой и Карой Яр мечтали, что мариане когда-нибудь смогут приспособиться к острому дыханию, наподобие остродышащих ящериц, чтобы наши потомки смогли наконец выйти из глубинных убежищ на поверхность, под фиолетовое небо, победив неуклонное увядание нашей расы. К сожалению, это так и осталось несбывшейся мечтой. На деле наши потомки совсем отказались от поверхности планеты с ее непригодной для дыхания атмосферой. И их раса вконец увяла. Но я принадлежал еще к прежним марианам, которые шутя, ради спорта, пробегали без дыхания в пустыне по тысяче и больше шагов. Помню, как волновал меня всегда переход от пещерных потемок к сиявшей в лучах солнца пустыне. Правда, это не шло ни в какое сравнение с земным освещением. Но глаз наш непостижимо приспосабливается к самым резким изменениям силы света. Я бежал вначале зажмурившись, потом открыл глаза и увидел перед собой две удалявшиеся фигуры в скафандрах. Сколько сот шагов до них? Ноги мои размеренно двигались, неся меня. Последний вдох я сделал в шлюзе перед тем, как выскочить в пустыню. Конечно, ни один марианин не мог представить себе, что это возможно. Но я должен был спасти людей, я должен был спасти мариан, победив их лжестрах, я должен был пробудить свою Эру. Я пробежал шагов триста. В глазах у меня помутилось. Ведь я так давно не тренировался в этой игре!.. И все-таки навыки, обретенные моим телом ценой неустанных тренировок, не исчезли бесследно. Даже спустя долгие годы (я исключаю тысячелетия сна, к счастью ничего не изменившего во мне) весь я, словно ощущая вернувшуюся юность, превратился в бег. Да, именно не бежал, а превратился в бег. В другое время я не поверил бы, что это возможно… И еще мне в помощь дул со спины ветер, больно раня песчинками голый затылок, шею и уши, но помогая бежать. Вскоре я почувствовал, что сил больше нет, рот открылся, чтобы глотнуть отравленный воздух, как это бывает на Земле с тонущими под водой. Мне показалось, что ноги мои подкашивались, что я падаю, в глазах помутнело. Но, сильно нагнувшись вперед и вынося перед собой ноги, я не упал. И еще через мгновение снова с прежней яркостью увидел башню корабля «Поиск», две фигуры в скафандрах, приближавшиеся к нему. Я думал только о том, что от того, добегу ли я до корабля или нет, зависит все будущее Мара, мариан, людей, Эры… И силы вернулись ко мне раньше, чем я пробежал половину пути до «Поиска». Снова ноги сами собой понесли меня к цели. Тут один из пилотов обернулся, может быть, для того, чтобы в последний раз взглянуть на оставленный знак, насколько он приметен. И он увидел меня, ошеломленный несуразным видением. Мог ли человек (а я ему представился, конечно, человеком) бежать без скафандра по марианской пустыне? Он бросился мне навстречу. Но я бежал быстрее. Сказались мои натренированные в земных условиях мышцы. Ведь на Маре для меня была лишь половина привычной тяжести. И я не бежал, а летел к «Поиску». И я добежал. Я промчался мимо космонавта, спешившего мне навстречу (это был Крутогоров), мимо другого, только теперь обернувшегося на возглас командира. Я ухватился за внешние скобы, как когда-то мой древний друг Чичкалан (Пьяная Блоха), и взлетел по ним к шлюзу корабля, который открывался сам собой. Больше я ничего не помню.
Часть третья ДОЛГ РАЗУМА
Любовь, гений, труд — все это вспышки сил, вышедших из единого пламени…Р. Роллан
Глава первая ПРОБУЖДЕНИЕ
Я поклялся вернуться к своим запискам лишь в день пробуждения Эры. И вот я дождался его… Трудно передать, что переживаю я сейчас, умудренный несколькими жизнями, которые прожил на непохожих планетах в разные тысячелетия. Я снова чувствую себя робким, как в непостижимо далекой юности. Мне страшно предстать перед Эрой. Какие чувства вызову я в ней: радость или горе? Имею ли я право что-либо напоминать ей, вступающей в новую жизнь? Люди слишком часто разрушают свои семейные пары, расходятся. Можем ли мы с Эрой быть исключением? Вместе с двумя земными учеными вхожу я в космический корабль ближних рейсов, который постоянно курсирует между земными научными центрами и «Хранилищем Жизни», доставленным на околоземную орбиту. Сколько раз я уже подлетал к этому космическому центру, выросшему вокруг прозрачной камеры, где продолжала спать моя Эра! В стороны от прозрачного куба протянулись толстые спицы огромного колеса, напоминающего Фобо. По существу, это и было орбитальной научной станцией, на оси которой, сохраняя невесомость парящего в воздухе саркофага Эры, находилось «Хранилище Жизни». В ободе же колеса, где ощущалась нормальная земная тяжесть, работали, сменяя друг друга, ученые. Сменяя… в поколениях. Сколько раз посещал я их лаборатории, знакомясь с ходом столь трудных, требующих непостижимой выдержки и терпения планомерных и неотступных работ. И всякий раз я просил провести меня к прозрачной камере с висящим саркофагом, вход куда до поры до времени был строжайше запрещен. Через прозрачные стенки и крышку гроба, биованны, я с болью любовался чертами дорогого мне лица. Оно, как на миллионах изображений, знакомых каждому живущему на Земле, оставалось прежним, готовым улыбнуться, ожить, радуясь свету и добру… Я занимал кресло напротив профессора Петрова. Но это не он, не вождь первого отряда людей, разбудивших меня. По фантазии родителей имя его звучит как игра слов. Неон Дальевич Петров, — сын моего первого друга среди новых людей. Виднейший биолог (Жизневед по-мариански) объединенного мира Земли, посвятивший свою жизнь проблеме анабиоза высших организмов. В свое время Даль сказал, что если не он, то его сын Неон сделает так, что я увижу свою Эру живой и по-прежнему прекрасной. Сам он занимался совсем иными проблемами, но слово свое сдержал. Напротив меня сидели его сын и его внук, заслуженный профессор и молодой ученый. Десятки тысяч животных были погружены ими в холодный сон и благополучно вернулись к жизни. Более тысячи человек проделали на себе опаснейший эксперимент, и пробуждены. И последним из них был сам Неон Петров. Потому он кажется таким молодым, хотя недавно отметил свой пятидесятилетний юбилей, а также появление внучки, которую назвали Эрой, — в честь моей подруги, ждавшей своего пробуждения, и в честь новой эры (таково совпадение звуков марианской и земной речи!), наступившей со дня начатого полвека назад космического «переливания крови». Сын Неона Иван сам разбудил отца после его семилетнего сна в анабиозе. Это была первая видная научная работа молодого ученого. Но что значит семь лет по сравнению с тринадцатью тысячами лет сна моей Эры! Но ведь я-то живу, как и все остальные на Земле, спавшие только по ночам! Так я успокаиваю сам себя. Неон уверен в успехе пробуждения, к которому так долго никто не решался приступить. Но я знаю: более критически настроенный и не по летам осторожный Иван волнуется. Из тысячи человек, погружавшихся в анабиоз, только двое не проснулись. И трое скончались вскоре после пробуждения. — Только пять человек на тысячу, — говорил отец. — Целых пять человек на тысячу! — говорил сын. Все зависит, как на это смотреть… Но почему мне волноваться? Поколения ученых в течение полувека во всех тонкостях изучали аппаратуру древних мариан. Разобрав на детали саркофаг-биованну, в которой я спал, они построили второе «Хранилище Жизни» и для пробы усыпляли и пробуждали в нем животных и людей, самоотверженно шедших на риск. Чем отплатить мне им? Впрочем, они рассматривают свои усилия как выполнение долга перед марсианами, в свое время предотвратившими столкновение Земли с Луной. Пилоты привычно подвели космический корабль к месту стыковки. Сердце колотилось во мне, готовое выскочить. Я не думал, что оно может так вести себя у стариков. Бритое, энергичное, оттененное седыми висками, пожалуй, даже чуть суровое лицо Неона Петрова спокойно, а Иван щурится, проводит рукой по белокурым длинным волосам и нервно теребит курчавую, плохо растущую бородку. По внутреннему переходу в месте стыка корабля мы перебираемся на орбитальную станцию. Научные сотрудники исследовательского центра почтительно встречают своего руководителя и радуются Ивану, общему любимцу. Неон действует быстро и решительно. Слишком много времени уже было затрачено на подготовку. Он предлагает немедля приступить к пробуждению Эры. К своему изумлению и радости, я узнаю среди присутствующих, прилетевших раньше нас, своих старых друзей: прежде всего Эльгу Сергеевну, ныне члена-корреспондента Академии наук, все еще бодрящуюся, но досадно пополневшую женщину с белоснежными волосами, заложенными тяжелым узлом на затылке. Десять лет назад я присутствовал на ее серебряной свадьбе с академиком Леонидом Песцовым. Галактион Петров, тоже уже давно академик, не мог ей простить разрыва с ним, и, хотя прошло много лет, все же не явился на их серебряную свадьбу. Но сюда он прилетел. Очень постаревший, сутулый, обрюзгший, с ненужной в условиях невесомости, но привычной палочкой в руках, он стоял в стороне, удерживаемый магнитными подошвами. Он присутствовал здесь как самый почетный гость, как руководитель первого отряда ученых, нашедших в космосе «Хранилище Жизни». А вот Даля и его жены Татьяны Сергеевны, близких моих друзей, не было. Оба они долго жили в Антарктиде. Он освобождал ото льда материк, а она искала там стоянки доисторического человека, и не только искала, но и нашла! Успела найти до своей кончины… Я обещал прилететь туда к Далю, и, возможно, с Эрой, после ее пробуждения… После пробуждения! Как предстану я перед нею, седобородый глубокий старик, заканчивающий свою жизнь на Земле, куда мы с Эрой так стремились. Ей еще предстоит увидеть дальнейшую жизнь людей, которые распространяют сейчас на весь земной шар те принципы, которые мы с нею вместе закладывали когда-то в основу общины инков: трудятся все, бесплатный хлеб всем… Кем я стану для Эры? Древний старец, лишь носящий имя любимого в прошлом юноши? Живое, но дряхлое материализовавшееся вдруг воспоминание о прежней жизни? Впрочем, я не так уж дряхл. В особенности если сравнивать меня с Галактионом или хотя бы с тем же неистощимым весельчаком Песцовым, супругом Эльги Сергеевны. По курьезному стечению обстоятельств, если сбросить со счетов время моего многотысячелетнего сна, то я как-никак моложе этих академиков. Слабое утешение! Вряд ли оно поможет Эре перенести неотвратимый удар. Но ничего не поделаешь. Можно с помощью холодного сна перескочить через десяток тысячелетий, но невозможно двинуться хоть на день назад, не говоря уже о том, чтобы помолодеть хоть на десять лет! Таков закон причинности! Десять лет! Смешно! Что значат они в моем преклонном возрасте? Восемьдесят, семьдесят — не все ли равно! Чтобы быть ровней моей Эре, мне надо помолодеть на пятьдесят, вернее, на пятьдесят один земной год!.. Цилиндрический коридор, в конце которого помещалось «Хранилище Жизни», чем-то напоминает мне оранжерею фаэтов, хотя и не прозрачен. Мы, присутствующие при пробуждении, стоим около единственной прозрачной стенки, примыкающей к «Хранилищу Жизни». Отсюда виден висящий в воздухе гроб моей Эры. Впрочем, его надо называть биованной. Иван ведает автоматикой, той самой, которая не сработала полвека назад. Неон руководит последовательностью операций, отвечая за их биологический и психологический результат. Мы с ним долго обсуждали, как подготовить Эру к встрече со мной. Неон — человек редкого хладнокровия и чуткости. Меня он понимал не то что с полуслова, а просто с одного взгляда. Мне не приходилось встречать подобных людей на Земле или марсиан на Марсе, даже в мое далекое время. В нем словно одновременно жили Нот Кри, Кара Яр и Гиго Гант, друзья моей прошлой жизни. Он утешал меня: — Хорошо, что тебе, Инко, не удалось в свое время включить автоматику биованны Эры. Из-за обнаруженных неисправностей Эра никогда не проснулась бы. Так или почти так сказали бы мне Кара Яр или Гиго Гант. — Чудо, что тебе удалось проснуться самому. Теперь все будет в порядке. — Это уже звучал голос Нота Кри. И так же, как пятьдесят один год назад, видел теперь я заполнившийся мутным туманом прозрачный куб «Хранилища Жизни». Но теперь передо мной был специальный экран, на котором можно было видеть без помех все, что происходит в камере. Крышка гроба поднялась, та самая крышка, которую я так безуспешно пытался поднять силой воли, даже отчаянием. И лицо Эры вздрогнуло. Ресницы шевельнулись. Нежные губы растянулись между ямками щек. Она улыбнулась! Это было невероятно! Незадолго до этого ледяная, мертвая, как метеорит, она ожила теперь в улыбке… Глаза ее открылись, и она стала кого-то искать около себя. Потом сделала движение корпусом (ее мышцы уже были разогреты массажем, им была возвращена былая сила). От этого движения тело ее взмыло над гробом и повисло в тумане. Теперь сквозь мутную пелену можно было разглядеть две отделившиеся одна от другой тени. Наука Земли победила! Чудо свершилось! Но почему же чудо? Тринадцать тысяч лет? Но ведь одноклеточные организмы, обнаруженные в вечной мерзлоте Земли, оживали спустя двести пятьдесят миллионов лет! Значит, не чудо, а явление природы, которым можно овладеть. И я сам тому первое доказательство. Но теперь не я один буду свидетелем древности. На экране видно было, как озабоченно озирается Эра, конечно разыскивая меня. Она уже заметила исчезновение из камеры второго саркофага. Он был давно извлечен, чтобы на нем изучить всю технику марианского холодного сна. Неон Петров подошел ко мне и тихо сказал: — Ты можешь обратиться к ней, Инко. Она должна узнать твой голос, если… если память ее проснулась вместе с ней. Неон испугал меня, и я поспешно позвал Эру через микрофон: — Эра, родная! С добрым утром новой жизни! — Инко?! Какое счастье! Ты уже проснулся? Где же ты? Кто нас разбудил? Люди или мариане? — Люди, подруга моя! Люди, которые достигли того уровня развития, о котором мы для них мечтали. — Как хорошо, — вздохнула Эра. — Но где же ты, почему я только слышу твой голос и не вижу тебя? Я любовался лицом Эры на экране, сменой на нем радости, недоумения, тревоги, потом снова счастливой улыбки. Профессор Неон Петров решительно открыл дверь в прозрачную камеру, столько времени запретную, и смело вошел в нее. Клубы пара вырвались ему навстречу и окутали нас, словно морозный воздух Антарктиды, ворвавшийся в теплое помещение. — Приветствую тебя, дочь мудрых мариан, просветительница людей! — сказал он на языке древних мариан, специально овладев им с помощью аппаратов «Черного Принца» и моей с Далем консультации. — Приветствую тебя, гостью людей, вступающую в новую жизнь. — Привет тебе, Человек, знающий наш язык. Но я могла бы сама говорить с тобой на одном из земных языков. Скажем, на языке людей Толлы или инков, наконец даже на языке шумеров. — Лучше я буду говорить на твоем языке, самоотверженная Эра. Языки, о которых ты вспоминаешь, почти все забыты на Земле. — Ты пугаешь меня. Человек. Я только что слышала голос моего Инко, но вижу только тебя. Что с ним? Жив ли? Не запись ли его голоса слышала я? — Он жив и ждет тебя. Но я должен убедиться в твоем хорошем самочувствии прежде, чем подвергнуть тебя столь тяжелому потрясению. — Потрясение? Ты правильно сказал на нашем языке? Почему потрясение? Не все удачно было с его пробуждением? — С его пробуждением было все удачно. — Значит, с моим? — догадалась Эра. Неон помог Эре встать на пол камеры и научил пользоваться магнитными подошвами. — Ты — Человек, пробудивший моего Инко? — спросила Эра, возясь с ботинками и поглядывая снизу вверх на Неона. — Нет, не я, которого зовут Неон, а мой отец Даль. — Он был стар, твой отец, когда пробуждал моего Инко? — осторожно спросила Эра, выпрямляясь. Подошел Иван Петров, застенчиво глядя на прекрасную царевну из давней сказки. — У него бородка как у моего Инко в юности, — кивнула в его сторону Эра. — Это мой сын и первый помощник. Имя его Иван. — Шумеры звали моего Инко Оанном. Где он? Ты не ответил, как давно твой отец разбудил его? Неон медлил с ответом, и это намеренное промедление было подготовкой к тому, что должно было обрушиться на Эру. — Мой отец Даль, первый знаток языка мариан, разбудил твоего Инко еще до моего рождения. На минуту повисла тишина. Слышалось постукивание чьих-то магнитных подошв. — Но у тебя взрослый сын! — с ужасом произнесла, наконец, Эра. — Или теперь вырастают быстрее? — Прежде чем наши жрецы здоровья начнут знакомиться с тобой, чтобы оградить тебя от всех невзгод, ты увидишься со своим Инко. На лице Эры легли решительные морщинки между бровей и по обе стороны губ. — Я готова ко всему, — раздельно произнесла она. Неон сделал знак, и я отделился от толпы встречающих Эру в новом тысячелетии и направился в прозрачную камеру. Я старался держаться прямо, почти отрываясь от магнитных подошв, которыми прищелкивал при каждом шаге. Туман уже рассеялся, и Эра могла видеть меня. Я был неоправданно слаб. Все два года, которые Неон после собственного пробуждения готовился к пробуждению Эры, я ни разу не рискнул посмотреть на себя в зеркало. Мне было страшно. Но свою белую бороду я мог видеть и без зеркала. Конечно, ничего не стоило ее отрезать. Но разве в ней только было дело? Я старался, все эти годы живя предстоящей встречей с Эрой, поддерживать в себе бодрость. Никто прилежнее меня не занимался физическими упражнениями, бегом (и даже без дыхания!). Поэтому я выглядел моложе дряхлых стариков Галактиона и Песцова. Но все равно я представал перед Эрой глубоким старцем. И мы встретились… Она еще неловко стояла на прилипших к полу магнитных подошвах. Увидев статного, как она потом признавалась, старца с длинной белой бородой, она в первый момент не могла поверить, что это я. Но потом поняла все, подготовленная к жестокой правде умными словами Неона. Она бросилась ко мне, прильнув к моей груди, едва доставая мне до подбородка, пряча лицо в моей бороде. Я гладил ее плечи. — Мы будем вместе, — говорил я. — Считай меня своим отцом в этом мире. — Ну нет! — воскликнула она и подняла ко мне свое лицо, покрытое первыми в новом мире слезами. — Нет, Инко! Если ты сам в сердце не изменился, ожидая меня, то я уж, во всяком случае, не изменилась. — Лучше бы я умер, — прошептал я. — Как ты можешь так говорить? Ведь тогда бы мы не были вместе сейчас! — Но между нами полвека. — Разве это пропасть тысячелетий? Мы вместе перешагнули через них и, пока живы, будем вместе. — Вместе! Наконец-то вместе! — сказал я, вглядываясь во влажные глаза моей воскресшей, прекрасной подруги.Глава вторая ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ
Поземка только начиналась. Белая пустыня, недавно разделенная золотистой дорожкой, протянутой к багровому солнцу, теперь вспенилась и кипящим морем ринулась на вездеход. Но машина уверенно продолжала свой путь по накатанной дороге к «Базе переливания крови», как назывался кочующий по Антарктиде лагерь запуска ледяных ракет. Вскоре пенный поток скрыл колею. Белые языки взмывали к тучам, холодным пламенем охватывая вездеход. И он уже будто плыл по белому кипящему морю, уровень которого зловеще поднимался, наполовину затопив летящим снегом кабину. Пока пурга разыгрывалась, оба пассажира любовались непривычной стихией. Ведь каждая крупинка здесь была застывшей водой, столь редкой на Марсе. Скоро в окна уже ничего не стало видно. Вездеход словно опустился на дно бушующего потока. Дикий свист и вой проникали сквозь обшивку кузова и леденили кровь. Но экипаж машины был спокоен. Локаторы позволяли впотьмах двигаться и полярной ночью, и в лютую пургу. Могучий старец смотрел в мутные окна с улыбкой. Он бывал здесь не раз. Его молодая спутница невольно жалась к его плечу. Иногда они обменивались молчаливыми взглядами. Они все еще не могли наглядеться друг на друга. Со стороны можно было подумать, что это любящий дед и внучка. Но это были муж и жена, соединившиеся в самую страшную бурю на Земле и теперь трагически разделенные по возрасту полувеком. Старец все внимательнее всматривался в знакомые и, казалось бы, на глазах меняющиеся черты любимого лица. Он старался думать, что счастлив, что скоро они вместе с Эрой полетят на родной Марс, а сейчас увидят, как взлетают в космос исполинские ледяные глыбы. Они уносились туда изо дня в день вот уже пятьдесят лет. Теория вероятностей, имея дело с большими числами, не может исключить единичных отступлений, аварийных случаев, когда запущенный в космос многомиллионный по счету айсберг из-за отказа двигателей вдруг обрушится обратно на Антарктиду или в океан. За все пятьдесят лет выполнения галактического плана Петрова было отмечено два таких случая. И вот по стечению обстоятельств третий случай приключился именно тогда, когда вездеход с двумя бесценными для человечества гостями Земли двигался по остаткам ледяного панциря Антарктиды. Если бы ледяной снаряд размером с многоэтажную башню, как и все остальные, долетел до Марса, то при падении образовал бы там кратер, разбросав сверкающие осколки. Этого не произошло. Ледяная глыба обрушилась рядом с вездеходом и ударила раздробленным хвостом по кабине.
Механик-водитель и штурман были сразу убиты на месте. Оба пассажира лежали без сознания, обливаясь кровью. Первой, спустя немалое время, пришла в себя Эра. Она увидела перед собой по-былому рыжую, а не белую бороду Инко, и не поверила глазам. Не мог же он вдруг помолодеть? Но он не помолодел. Просто его борода была окровавлена. Эра заставила себя пошевелиться. Оказывается, хоть и оглушенная, она может двигаться. С ужасом увидела она смятую кабину управления и два изуродованных трупа в ней и зарыдала. Но тотчас взяла себя в руки. Она была когда-то врачом и умела повиноваться долгу. Людям уже не помочь, но умирающий Инко лежал рядом. Эра расстегнула на нем одежду, обнажила зияющую рану на шее. Нашла в аптечке бинты и умело остановила кровотечение. Страшно было подумать, сколько крови он уже потерял! Лицо его стало землистым, губы ссохлись, грудь судорожно вздымалась. Как же дать людям знать о несчастье? Эра с трудом открыла внутреннюю дверь в кабину управления: незнакомая аппаратура, ни конусов, ни сфер, ничего привычного по «Поиску» или глубинным городам. Где же тут приборы электромагнитной связи? Работают ли они? И Эра в отчаянии стала наугад крутить маленькие цилиндрики ручек. При этом она рассказывала о том ужасе, который произошел. И вдруг догадалась, что все напрасно. Если ее даже и услышат, то ни слова не поймут. Она стала говорить на языке людей Толлы, на языке инков, даже древних шумеров. И, наконец, зарыдала по-женски, горько и безутешно. Всхлипывая, она повторяла уже только марианские слова. Но сколько она ни крутила незнакомые ручки, в кабине не раздалось ни звука. Очевидно, никто не услышал одинокого призыва о помощи. И никто вовремя не найдет исковерканного вездехода с умирающим марсианином Инко и его беспомощнойподругой. И тогда марсианка, подчиняясь скорее отчаянию, чем здравому расчету, решила двигаться к «Базе», таща на себе бесчувственного мужа. Она смастерила из обломков вездехода подобие саней, никогда в жизни их не видя, использовала полозья, со слезами упорства высвободив их из-под вездехода. На эти полозья она положила Инко, закутав его всем, что только могла найти в вездеходе. Потом впряглась в самодельные лямки и потащила сани навстречу морозному ветру. Колючий снег бил в лицо, слепил глаза. Впрочем, увидеть что-либо и так было невозможно. Эра лишь стремилась не сбиться с колеи, по которой тянула полозья. Навстречу летело холодное, обжигающее пламя, состоящее из крупинок застывшей влаги. И даже слезы на глазах превратились в льдинки, ресницы смерзлись. Дышать становилось все труднее. Тело изнемогало от усилий. Как сурова, оказывается, прекрасная Земля! Эра, собрав все дремавшие в ней тринадцать тысяч лет силы, закусив омертвевшие губы, исступленно двигалась вперед. Она не знала, что такое заряды, как называют люди молниеносные полярные метели. Снег разом перестал бить в лицо. Мутная пелена исчезла, словно сдернутый полог. В том месте, где перед бурей виднелось багровое солнце, теперь в нежных красках разливалась по небу оранжевая заря. Морозный воздух остановился и как будто звенел. Эра, к ужасу своему, убедилась, что потеряла накатанную колею и уже не знала, куда шла. Она остановилась, чтобы дыханием согреть Инко. Потом снова двигалась, падала в изнеможении, но снова поднималась, сама не зная, куда идет. Заря в небе стояла бесконечно долго, но сменилась наконец россыпью звезд. И тогда Эра увидела прикрывающие их цветные занавеси, свисающие переливающимися нежной радугой складками. Она никогда не могла бы поверить, что земное небо может быть настолько красивее даже космического! Но сейчас никакая красота не существовала для нее. Потом занавеси растаяли и стало светло, как при новой заре. Из-за горизонта в небо упирались лучи. Это могли быть прожекторы, как называют люди сильные светильники направленного действия. Так вот где лагерь ледяных ракет! Эра обернулась к Инко и в изумлении застыла. Точно такие же лучи вставали из-за противоположной стороны горизонта, соединяясь на небесном куполе исполинским шатром. Эра повернулась то в одну, то в другую сторону и совсем потерялась. В изнеможении опустилась она в снег около самодельных саней. Сейчас холодный сон снова охватит и ее, и Инко… Они уже засыпали так один раз, и тогда это было совсем не страшно…
Даль Александрович Петров перешагнул через свое семидесятипятилетие безо всякой торжественности. Академии и университеты мира не оказывали ему тех отменных почестей, которые десять лет назад оказаны были по поводу такого же юбилея его брату Галактиону Александровичу Петрову, академику и лауреату научных премий мира, признанному автору Великого Плана космического «переливания крови». Младший его брат Даль был лишь рядовым инженером (кое-как закончив институт) и всю свою жизнь запускал по этому плану ледяные ракеты в космос. И никто, кроме его старшего брата, не знал, что полвека назад, еще на Марсе, Далька, как тогда его называли, предложил Галактиону перебросить на Марс излишки льда с Земли. Но мог ли этот галактический замысел, выдвинутый недоучкой, тогда еще не закончившим института, вызвать к себе серьезный интерес? Другое дело, если с подобным планом солидно выступит член-корреспондент Академии наук, уже заслуженный в ту пору профессор Галактион Александрович Петров. И на далеком Марсе, в заброшенной сталактитовой пещере почти вымершего глубинного Города Долга братья договорились между собой. Ради достижения такой цели, как выход марсиан на поверхность, пригодную для жизни, авторство плана преобразования Марса не имеет значения. Но с годами Галактион Александрович так свыкся со своей ролью спасителя марсиан, что не вспоминал о давнем разговоре с Далькой, ошеломленный тогда его безумной идеей переброски льда через космос. Даль десятилетия тянул лямку, исправно запускал ледяные ракеты, решая незаметные, но важные технические задачи, до которых не опускался важный академик Петров. Никогда Даль не напомнил брату об их договоренности, по которой Галактион обязывался в свое время огласить имя истинного автора плана. Сейчас же, когда ему перевалило за восемьдесят пять лет и был он перегружен и летами, и заслугами, напоминать ему об этом Даль просто не мог. Да и не нужно ему было это. Со времени потери любимой жены Тани, ставшей видным ученым (она открыла стоянку доисторического человека на побережье Антарктиды благодаря снятому там Далем ледяному панцирю), Даль стал равнодушно относиться к себе. Он гордился сыном, прославленным профессором, гордился внуком, уже заметным биологом. И он счастлив был от того, что занят «переливанием крови», что отправляет день за днем ледяные снаряды в космос, которые, пролетев по заданной трассе сотни миллионов километров, упадут на Марс ледяными метеоритами, заполняя водой вновь рожденные моря. Был один только человек, если его можно назвать человеком, который подозревал истину и всей душой сочувствовал Далю. Это был марсианин Инко Тихий, все свои пятьдесят лет жизни на Земле отдавший обмену достижениями культуры Земли и Марса. Даль был сухоньким подвижным старичком с желтоватой сединой, обветренной кожей лица и беспокойными карими, невыцветающими глазами. Неуемный его нрав знали все, кто с ним работал. Он никому не давал покоя, обо всем заботился, все проверял, во все вникал, не ходил, а бегал, не отдыхал, а переключался на другую работу, не спал, а дремал, чтобы сразу вскочить. Надобность в нем была у всех и всегда. Величайшим наслаждением для него было видеть, как у ледяного порога (лед с материка снимался слоями) подъемный кран несчетный раз спускал на ажурной стреле металлическую форму будущего ледяного снаряда. Электрический ток нагревал ее и протаивал щель между будущим снарядом и монолитом льда; в нижнюю часть вырезанной так ледяной ракеты тем временем устанавливали реактивный двигатель и баки с горючим. По мысли Даля, все это делалось изо льда, лишь дюзы покрывались тугоплавким веществом. Предусмотренные Далем огромные ускорения разгона позволяли достигнуть нужной космической скорости так быстро, что ни ледяные дюзы, ни примыкающие к ним части корабля не успевали оплавиться, не считая внешней оболочки снаряда, соприкасающейся с воздухом. И оплавленные лишь снаружи, корабли летели в холодном космосе по расчетной трассе, автоматически корректируемые в пути. Даль так и не отвык по-детски радоваться, когда от ледяной стены, стелясь по снегу, к нему рвалось темное облако газов. Вспыхивало пламя и, превратившись в огненный столб, поднимало на себе ледяную башню. Словно в раздумье постояв на месте, она молниеносно скрывалась в небе, оставляя после себя струи дыма и пара. Взрыв ледяного снаряда в воздухе (до выхода его в космос) Даль увидел своими глазами и рассердился пока неизвестно на кого. Никакой тревоги он не почувствовал, отлично зная, что вероятность несчастья с ожидавшимися гостями от падения строптивого снаряда исчезающе мала. К домику на салазках он пошел, чтобы устроить разгром своим помощникам, ознакомиться со всеми контрольными замерами взорвавшегося двигателя и записью его работы. В этом же домике на полозьях была и приготовленная гостям комната. Даль уступил им ее, перебравшись в свою рабочую конурку, рядом с радиорубкой. Испуганный радист, не накинув даже на себя шубы, выскочил на мороз, ожидая Даля Александровича. — Она плачет! — вместе с облачком пара выдохнул он. Даль бросился в радиорубку и стал слушать никому, кроме него одного, не понятные слова. Потом Даль Александрович действовал с присущей ему быстротой. Разгромив своих помощников, отдавая краткие и точные распоряжения, он снарядил спасательный отряд вездеходов. — Пешком ведь пойдет. Можно догадаться. Нас-то не слышит, — озабоченно говорил он. Отряд вездеходов с радиолокаторами, способными обнаружить любой предмет среди снегов, помчался навстречу не дошедшему до цели вездеходу с марсианами.
Придя в себя, Эра увидела склонившегося над собой старичка с бело-желтыми волосами и живыми темными глазами. Большая его голова сидела на такой короткой шее, что казалась чуть ли не вдавленной в плечи. Он заговорил с нею на языке древних мариан. — Даль? — отозвалась слабым голосом Эра. Ведь это мог быть только он! — Здравствуй. Где Инко? — Он рядом с тобой, но… — Он плох? Говори прямо. Я врач. Переливание крови? — Так считают наши врачи, но… — Кровь мариан отличается от крови людей? Знаю. Так не теряйте времени. Я отдаю свою кровь. — Подойдет ли она Инко? Мы еще не установили. — В горький день нашей прежней жизни красавица дикарка отравила меня соком гаямачи. Из ревности, о которой я тогда впервые услышала на Земле. Инко дал мне в тот день свою кровь. Она и сейчас течет в моих жилах, и я отдам ее ему обратно. — Мы на это рассчитывали. Для операции все готово. Видно, не напрасно наш лагерь называется «База переливания крови».
Инко Тихий, оправившийся от ран, сидел у постели Эры и вглядывался в ее лицо. Она спала, словно в саркофаге-биованне. Но лицо ее было иным, чем в «Хранилище Жизни». Инко старался утешить себя — ведь потрясения не могли пройти бесследно. Эра открыла глаза, увидела Инко и улыбнулась. Улыбка сразу омолодила ее. Инко облегченно вздохнул. Конечно, ему это только показалось! Ведь не замечает же ничего Даль. Напротив, он даже сказал, что вид Эры, совсем прежней, волшебно молодит и его, Инко…
Глава третья МОРЕ СМЕРТИ
Космический корабль, в котором мы с Эрой летим, «МАРЗЕМ-119» («Марс-Земля, сто девятнадцатый») идет на посадку, и нет сил сдержать сердцебиение, которое начинается у меня всякий раз при посещении родной планеты. Что же ощущает тогда моя Эра, сидящая рядом? В иллюминаторах мелькают огненные полосы — знак торможения в новой марсианской атмосфере. Внизу беспредельным океаном расстилается зеленая равнина с голубыми кружками озер, в которых на миг отражается маленькое наше солнце, и тогда они вспыхивают рассыпанными внизу зеркальцами. — Горы! Наши горы! — взволнованно узнает Эра. — Да, родная, знакомые места, — отзываюсь я и с улыбкой добавляю: — А пустыни больше нет. Эра жадно смотрит в круглое окно. После посадки видно, что привезенные с Земли деревья и кустарники всюду привились в углекислой атмосфере и благодаря ей и половинной тяжести вымахали вдвое по сравнению с земными сородичами. — Какие исполины! — любуется ими Эра. Я помогаю ей надеть маску и заплечные баллоны, как аквалангистке. Земные космонавты радушно провожают нас до шлюза корабля. Итак, мы дома! Но… Мы идем друг за другом по пояс в траве. Озеро вблизи — зеленоватое, местами прикрытое туманом. Оно выглядит как зацветший пруд благодаря водорослям хлореллы, которые вместе с новыми лесами и травами трудятся сейчас по всей планете, насыщая ее атмосферу живительным кислородом. Так хотелось бы снять маски, вдохнуть его, но пока еще рано… — Здесь был кратер войны распада Деймо и Фобо, — напоминаю я. — Значит, перед нами скала шлюзов Города Долга, — догадывается Эра. — У меня кружится голова. Не пугайся. Не только кружится, но и полна света и радости. Мы возвращаемся в родной дом, а он перенесся на планету щедрую и цветущую, о которой мы мечтали. — И она счастливо смеется. Ее смех вспугивает стайку птах, первых обитателей преображенной планеты, не боящихся излишков углекислоты. Они вспорхнули и с звенящим шелестом полетели над приозерной дымкой тумана. Нам обоим хочется сесть и смотреть в озеро, на отражение ближних березок, полюбившихся нам еще на Земле. Но извилистая тропка зовет нас дальше. Темный утес, к которому мы идем, отражается в воде и кажется подводным. Над ним небо, уже не марсианское фиолетовое, а синее, земное! …За шлюзами нас приветливо встречают обитатели древнего Мара. Далекие потомки наших собратьев. Они кажутся Эре робкими, застенчивыми, болезненными. Это, конечно, после привычного облика бодрых, сильных, энергичных людей. Итак, мы в родном Городе Долга. Как неизменно все здесь — те же затхлые галереи, угрюмые пещеры, — и вместе с тем как все переменилось! Уже после нашего ухода в холодный сон глубоко в недрах планеты обнаружили глобальные запасы аммиака, прежде насыщавшего атмосферу первозданного Марса, который в этом отношении был похож на остальные планеты Солнечной системы. В небольших количествах аммиак встречался в недрах и прежде. Еще наши далекие предки, последние фаэты, получали из него азот для своих первых глубинных городов. Однако Море Смерти, пронизывающее поры планеты, плотность которой, как известно, меньше земной, собрало в себя все запасы аммиака, составлявшего ранее атмосферу. Оказавшись в силу какого-то катаклизма под поверхностью, аммиак уже не способствовал созданию азотной атмосферы, как на Земле или на Фаэне. Когда люди взялись за преображение Марса, они заручились содружеством марсиан. Те должны были превратить весь аммиак глубин в азот и водород, создав искусственные вулканы, в жерлах которых аммиак распадался бы на водород и азот. Постепенно содержание углекислоты, частично поглощаемой растительностью, станет в океане азота приемлемым для дышащих организмов. Нас с Эрой представили Первой Матери Роне, спустя несчетные поколения занявшей место моей матери Моны. Это была необычно высокая для подземелий марсианка, седая, стройная, с точеными чертами лица и строгими, пронизывающими глазами. — Так вот какова ты, проснувшаяся от холодного сна! — приветливо сказала она, разглядывая Эру. — Будь с нами. Мы рады тебе. Эра призналась, что хочет увидеть Море Смерти. Марсианка удивилась: — Зачем тебе это надо, дочь моя, которая могла бы быть моей праматерью? — Я видела, как люди шлют к нам живительные снаряды жизни с ледяного материка Земли. Я хочу видеть, как мариане (она выговорила мариане, как в древности) вносят свою долю. Рона улыбнулась Эре: — Ты — наша легендарная героиня. О тебе сложены сказки, и дети бредят тобой, восставшей ото сна. Я не могу тебе отказать, хотя испарения Моря Смерти ядовиты и тебе придется надевать специальный скафандр. — Мы привыкли к скафандрам, — бодро отозвалась Эра. И вот мы спускаемся по бесконечным переходам, пройдя мимо знакомых, тысячелетия назад заброшенных пещер. — Я вижу в тебе, проснувшейся красавице, символ нашей расы, — в пути говорит Первая Мать Рона. — Раса марсиан словно спала несчетные циклы в глубинах планеты. Но скоро она проснется, как проснулась ты. Я радуюсь, слушая эти слова. Почтительно иду сзади и размышляю. Все-таки не символично ли то, что марсиане насыщают атмосферу Марса нейтральным газом азотом, а люди — водой и живительным кислородом. Проводники с холодными факелами освещают нам путь. Я не знал в прежнюю свою жизнь, что марсиане могут так глубоко спускаться в недра планеты. Но за миллионы лет существования несчетные поколения все глубже и глубже вгрызались в чрево Марса. Вот тогда и был открыт глубинный аммиачный океан, получивший название Моря Смерти, ибо никто тогда не подумал о превращении его в Поток Жизни. Я слышу, как беседуют между собой две марсианки: древняя, но молодая и старая, мудрая. — Ты видела, Проснувшаяся, — Мать Рона неплохо владеет древним языком мариан, говоря с Эрой, — как с Земли посылают нам замерзшую воду. Религия страха, к счастью, у нас забыта, но последние жрецы грозили нам, что люди хотят переделать Марс для того, чтобы на нем можно было им же самим поселиться, не выпустив нас из пещер. Что ты думаешь об этом? — Я видела людей и сейчас, и тринадцать тысяч земных лет назад. Ныне на Земле живут иные люди. Они по всей планете стремятся утвердить те принципы, которые мы с Инко старались заложить в одно из первых их древних государств. Если они помогают нам, то только из добрых побуждений. — Добро? — переспросила Мать Рона. — У нас после религии страха, ушедшей в прошлое, остались еще суеверия. Помоги вместе с Инко справиться нам с ними. Скажи, зачем людям творить Добро? Неужели это выгодно? — Выгодно! — Вот как? Эра радует меня. Она прекрасно усвоила все, что я ей рассказал: — Если смотреть далеко вперед, можно понять, что для людей избавиться от излишней воды будет выгодно. Они отправляют ее на Марс с большого острова Гренландия и с ледового материка Антарктиды. Если бы лед Гренландии растаял, он поднял бы уровень океанов на четыре моих роста. А если бы растаял антарктический лед, океан поднялся бы в семь раз выше, затопив многие цветущие страны и города. — Но почему замерзшая вода Земли должна таять? — Я заглядываю в отдаленное будущее. Люди очень активны и расходуют уйму энергии. Они получают ее не только от Солнца, но и от распада вещества и, что особенно значимо, от сжигания запасов топлива миллионолетней давности. Это не только повышает на Земле уровень тепла, но и увеличивает содержание углекислоты в атмосфере. А она, как известно, пропускает солнечные лучи, но удерживает тепло почвы, как в наших былых оранжереях. И в результате люди неизбежно столкнутся когда-нибудь с перегревом Земли и катастрофическим таянием льдов. Людям все равно пришлось бы выбрасывать излишки льда, если не на Марс, то просто в космос. — Ты мудра, Проснувшаяся. Недаром на твоем прекрасном лице я вижу морщины забот и знаний. Я холодею. Мне все думалось, что это мне лишь кажется. Теперь же Первая Мать Рона подтверждает мои самые тревожные опасения. — Мудростью этой я обязана своему Инко, только ему. Первая Мать Рона оглядывается на меня. Я почтительно склоняю голову и говорю: — Земляне не забыли своего Долга марсианам, которые предотвратили столкновение Земли с Луной. Но подлинное Добро обернется добром для тех, кто его делает. — Вот как ты думаешь! — Эра недаром говорила о предотвращении грядущего потопа на Земле. — Она вполне может сменить меня на посту Первой Матери, когда совсем вернется к нам на Марс. И Первая Мать дала сигнал надеть скафандры.Нависавшие своды в каменных подтеках терялись в темноте. Под ними размеренно, лениво, но могуче колыхалось, наступая и отступая, Море Смерти. Испарения над ним были ядовиты. Но их не было видно, сама же жидкость казалась темной в свете холодных факелов. Мы с Эрой уже знали, что нескончаемым потоком эта «мертвая влага» выбрасывается из новых вулканов, где превращается в летучий газ водород и устойчивый азот, основу будущей атмосферы нового Марса. Пятьдесят лет и день и ночь из Моря Смерти через неисчислимые жерла под огромным давлением извергались струи этих газов. — Поток Жизни, — говорит про них Эра Матери Роне и поступает совершенно неожиданно, и уж совсем не как будущая преемница руководительницы марсиан. Она вдруг сбрасывает герметический шлем, ее волосы рассыпаются по плечам, и я с ужасом вижу в свете холодных факелов и отблеске аммиачного моря седые пряди. Мне не хочется верить глазам. Эра снова надевает шлем и говорит: — Таков был обычай моей юности. Первая Мать Рона. Инко подтвердит. Не было у нас более любимого упражнения, чем ныряние в отравленную атмосферу Мара и бег в пустыне. Здесь, на берегу Моря Смерти, я хотела отдать дань этому смелому спорту, на который не решалась в молодости. Иначе как же мне стать тебе помощницей? Первая Мать Рона была настолько ошеломлена поступком Эры, что ничего не возразила ей. Тяжел был подъем из невероятных глубин, занявший не один день. Я вдруг почувствовал весь груз лет. Как я хотел бы сбросить его ради юной Эры, у которой морщины забот и знаний появились здесь в марсианской глубине. Встревоженный, поднимался я, по-прежнему идя следом за Эрой и Первой Матерью Роной, стараясь размеренно дышать, как во время физических упражнений. Так началась наша с Эрой жизнь среди марсиан. Нам отвели одну из каменных келий, где мы оставались одни. — Ты знаешь, Инко, я так хотела бы дожить до мига, когда мариане смогут без скафандров выйти наружу. И поселиться на поверхности не в пещерах, а в домах, как на Земле. Я понимал, слишком хорошо понимал свою Эру. Она заметила в себе то, что я лишь начал подозревать. Недаром подолгу просиживала она при свете холодного факела перед зеркалом. Она старела у меня на глазах. Старела с непостижимой быстротой. Боюсь, что наши друзья Земли, Неон, Даль и другие, помня прекрасное лицо спящей в саркофаге, не узнают ее. Конечно, она и теперь казалась прекрасной, но ее красота стала зрелой. — Не расстраивайся, мой Инко, — говорит она с улыбкой. — Ты боялся, что вставшие между нами полвека будут барьером. Видишь, сама Природа уничтожает этот барьер. Я просто приближаюсь к тебе по возрасту, чтобы быть счастливее. Эти слова звучат для меня угрозой. Я решаю, что жизнь в глубинном городе с его затхлой искусственной атмосферой губительна для Эры. Надо тотчас увезти ее назад на Землю. Первая Мать Рона, выслушав мои опасения, соглашается. — Я хотела, чтобы она сменила меня, — говорит она, и в ее словах я угадываю страшный для меня смысл. Одновременно это звучит и разрешением увезти ее. Я даю радиограмму на Землю Далю и получаю ответ: корабль «МАРЗЕМ-119» вылетает за нами.
В назначенный день мы видим через перископы, как опускается на зеленую равнину серебристая башня корабля. Первая Мать Рона с печальной улыбкой провожает нас. — Боюсь, что двойная тяжесть скорее повредит, чем поможет Эре, — на прощание говорит она тихо только мне. Эра держится бодро. Обнимает Рону, прощается с дежурными шлюзовыми марсианами, и мы вместе с нею в легких земных аквалангах выходим из шлюзов на берег знакомого озера. До корабля отсюда не так далеко. Солнце слепит с непривычки. Эра оглядывается вокруг, словно впитывая в себя красоту нового, рожденного здесь мира и замечает в небе темную тучу, скрывшую вдруг солнце. Стаи белых птиц мечутся перед нею, как подхваченные вихрем хлопья. И сразу же мутные космы дождя преграждают нам путь. Еще мгновение, и они уже бьют нас по лицу, стекают струями по плечам и одежде. Мою бороду хоть выжимай. Дождь на Марсе! То, что на Земле казалось бы угрюмым, непогожим, здесь вселяет веселье. Эра, очевидно, поддается этому настроению. Она скачет под дождем на одной ноге, потом бежит вприпрыжку к кораблю. Но что это? В приступе восторга или безумия срывает она с себя маску, забыв, что она не на Земле! И она бежит к кораблю от того же самого, теперь залитого водой кратера, от которого полвека назад бежал я без скафандра по песчаной пустыне. Я никогда не переставал бегать, несмотря на свой возраст. Напрягая все силы, я гонюсь за нею, но отстаю, задыхаюсь, и тревога сжимает мое колотящееся сердце. Она не может бежать без дыхания, как я когда-то. И по мокрой траве бежать труднее, чем по песку, ноги запутываются в ней. И я вижу, как она падает сломленной тростинкой. Задыхаясь, изнемогая от усталости, со слезами, смешанными со струями дождя на лице, я добегаю до нее. Она лежит в изумрудной влажной траве. Наше маленькое, но яркое солнце снова выглянуло из-за туч и заставило засверкать капельки влаги на ее полуседых волосах. По ее осунувшемуся лицу текут не дождевые струи, а слезы!.. С трудом став на колени, надеваю на нее маску и приступаю к искусственному дыханию. Зачем она сделала так? Зачем? Кто поймет женщину или марсианку до конца? Космонавты в скафандрах подбегают к нам, и мы втроем несем ее к кораблю. И, несмотря на половинный земной вес, она кажется тяжелой. Только в корабле Эра приходит в себя, оглядывается, плачет и говорит: — Инко, родной мой Инко! Как хорошо! Это становится сигналом к старту. Состояние невесомости приносит ей облегчение. Но ничто не может изменить ее усталое, увядшее за время пребывания на Марсе лицо. Я надеюсь только на Землю, на нашу вторую родину.
Глава четвертая ПОСЛЕДНИЙ СОН
Земля встретила нас дождем. Но что это был за дождь по сравнению с недавним марсианским дождиком! К люку космического корабля подвели телескопический стеклянный коридор, чтобы мы посуху могли пройти в здание космического вокзала. Мы идем с оказавшимся здесь Далем. Я слушаю его печальное повествование о смерти старшего брата Галактиона и смотрю сквозь стекла на бушующую стихию. Академик Галактион Александрович Петров если не в расцвете сил, то в ярком свете славы тихо скончался на восемьдесят седьмом году жизни. Ветер налетает порывами и стучит водными струями в стекла так, что кажется, сейчас их вышибет. Потоки воды бьют толчками, стекая полупрозрачной пеленой. Только в противоположное окно можно рассмотреть, что делается на космодроме. Не только деревья, но и травы гнутся под дождем-косохлестом. На бетонных дорожках вода пузырится, словно кипит на раскаленной сковородке. Люди в блестящих плащах с капюшонами сгибаются в поясе, идя против ветра, или, повернувшись к нему спиной, пятятся к цели. Дубки, которые я приметил еще до отлета, цепко держащие листву и поздней осенью, сейчас под злым натиском тянут по ветру мокрые, темные, скрюченные и голые ветви. Умер Галактион… снискавший славу «спасителя марсиан»… Он руководил группой ученых, нашедших в космосе «Хранилище Жизни». Но пробудил меня к жизни его брат Даль. Не такой был человек Галактион, чтобы ради марсиан посвятить свою жизнь преображению Марса. Это скромно и самоотверженно делал Даль. И задолго до ознакомления с письмом-завещанием, которое оставил перед смертью брату Галактион, я допускал, что не он подлинный автор замысла преображения Марса. Так оно и оказалось. Академик Петров пожелал, чтобы после его смерти должное воздали и его младшему брату, предложившему создать искусственную атмосферу Марса. Академик Петров, уйдя из жизни, хотел показать свое истинное благородство, разделяя славу с братом. Но не таков был и Даль Петров, чтобы этим воспользоваться. Он никому, кроме меня (да и то много времени спустя), не показал письма-завещания. Но я чутьем подозревал истину, когда вместе с Эрой толпился среди учеников и старцев в мрачноватом зале крематория, напоминавшего нам тесный храм древности, хотя он стоял не на вершине уступчатой пирамиды, а среди могил, окруженных старинной крепостной стеной. По воле покойного, его прах должны не предавать земле, а развеять по ветру в поле. Он всю жизнь работал в поле, отыскивая древние захоронения. Своим посмертным требованием он отнимает возможность у будущих археологов найти свое истлевшее тело. Может быть, потому, что ему знакомо его собственное отношение к найденным останкам? Играет трогательная и торжественная музыка. Потом смолкает. Перед небольшой оградой, отделявшей гроб с покойным, стоят его близкие и почитатели. Один за другим подходят к его изголовью почтенные старые люди и говорят о заслугах ушедшего академика перед наукой. Сделать это предстоит и мне, представителю благодарной иной планеты. Не скрою, мне тяжело выразить признательность марсиан только одному академику Галактиону Петрову. И, стоя у его изголовья, я передаю сердечное спасибо Марса всем людям.…Несмотря на столь печальные обстоятельства нашего возвращения на Землю, Эра поначалу как будто ожила. Повышенная тяжесть не угнетает ее, поскольку все время полета от Марса до Земли мы с нею провели в нагрузочных костюмах из эластичной материи. Ее натяжение постоянно заменяло земное притяжение, мускулы всегда находились в работе, поэтому мы прибыли на Землю вполне подготовленными к земной тяжести. Однако скоро состояние Эры стало внушать мне еще большую тревогу, чем на Марсе. Мои опасения разделяет и профессор Неон Петров, и в особенности его сын Иван, врач. Они настаивают на переселении нас с Эрой в космический институт анабиоза, подозревая, что причина ее недуга в первых неудачных попытках ее пробуждения. Эра изменялась не только внешне, но и внутренне. Ею овладело равнодушие ко всему, кроме собственного состояния. Я часто заставал ее перед зеркалом. Даль снова уехал куда-то в Антарктиду или в Гренландию заканчивать переправку на Марс остатков ледяного покрова. Неон и Иван постоянно приходят к нам. Зима никак не устанавливается. На улице слякоть. Снег если и выпадет, то тотчас тает. Уныние овладевает мной. Раз приехали супруги Песцовы. Академик Леонид Сергеевич с Эльгой Сергеевной. Он, бодрый, огромный, едва ли не выше меня, грузный, шумный, все шутил, подбадривал меня. И мы даже сыграли с ним в шахматы, в эту мудрую игру землян, которую я успел передать в глубинном Городе Долга марсианам. — «Бухли стволы, наливались соком», — приятным сохранившимся басом напевал он и, смеясь, добавлял: — Слова и музыка «машинные», — потом продолжал: — «В воздухе пахло промокшей корою». Вам шах, божественный Кон-Тики! Чуете, что промокло? Не кора, а ваша позиция! Электронная машина сдалась бы на вашем месте. Не хотите? Ну тогда… тогда… Гм… Что это он тут надумал? «В воздухе пахло промокшей корою…» Бррр! «Где-то весна брела стороною». А ведь есть ответ, бог Кетсалькоатль! Так неужели древние инки не знали шахмат? Какое упущение! Потому их и разорили разбойники испанцы. Должно быть, у них уже была испанская партия. Предлагаю ничью. Я же не конкистадор. Не хотите? Ну, значит, вы все-таки бог Кетсалькоатль! Такое выдумать на доске!.. Сдаюсь. Браво, Инко! Объявляю тебя чемпионом Марса! Пока мы занимались с академиком Песцовым шахматами, Эльга Сергеевна и Эра уединились и секретничали. Когда они вернулись, у них был вид заговорщиц. Я невольно сравниваю девичью фигурку и головку Эры с располневшей женой академика, грузной, почти как он сам, с одутловатым лицом и белоснежными волосами. К сожалению, и у моей Эры волосы становятся серебряными, а лицо осунулось, глаза ввалились, как после тяжелой болезни. Мне больно слушать, как Эра объясняет гостям, что платится сейчас за свое озорство на берегу Моря Смерти. Я-то от Неона и Ивана знаю, что все это не так. Недуг Эры не болезнь, а ускоренное старение, вызванное необратимыми процессами, происшедшими в ее организме после первых неудачных попыток ее пробуждения! На следующий день я еду к Неону договориться о лечении Эры в космосе, может быть, невесомостью. Решив увезти ее в космос к нашим друзьям, я возвращаюсь пешком со станции электрической дороги в небольшой наш домик, окруженный подмосковным лесом. Снег все-таки выпал и заставил ветки елей пригнуться к самой земле, укрытой свежими сугробами. Слепит зимнее солнце, отражаясь в стеклах нашей веранды. Дверь открыта, словно Эра не может дождаться меня. В ее состоянии это неосторожно, нужно остерегаться простуды! В проеме двери стоит, выделяясь на фоне затемненной комнаты, темноволосая, прекрасная, счастливо смеющаяся юная Эра!.. Я бросаюсь к ней с протянутыми руками, не веря чуду, которое вижу. Но она отскакивает в глубь комнаты, кокетливо останавливая меня грозящим пальцем. Занавеси на окнах прикрыты. Вне себя от счастья, еще полный солнца, которое слепило в лесу, я отдернул занавеску, чтобы развеять полумрак, оглянулся на Эру и вижу ее испуганное лицо. Сердце сжимается у меня. Я знаю, что люди умеют делать это! Очевидно, не зря секретничали Эльга Сергеевна и Эра! Только сама Эльга Сергеевна оставила свои волосы седыми, а Эра… Волосы ее кажутся даже темнее, чем были когда-то. Они волнами ниспадают ей на плечи. Удлинившиеся глаза с потемневшими ресницами немного грустны, а губы, даже не красные, как бывало, а почему-то сиреневые, пытаются улыбнуться. Да, лицо ее все еще прекрасно! Даже и сейчас, когда, умело подчеркнутая художником (каким она всегда была, учась еще у моей матери, ваятельницы Моны) с помощью современной косметики, каждая черта ее говорит о возвращенной юности. Но ее обнаженная, когда-то великолепная шея выдает ее. Предательские морщины сводят на нет все ухищрения гримера… — Ты не рад? — робко спрашивает Эра и начинает плакать, плечи ее вздрагивают, она отворачивается. Бедняжка не подозревает, что от слез потечет краска с ресниц и будет есть глаза. Я не хочу ее огорчать, прижимаю к себе, целую пахнущие чем-то ей не присущим волосы и стараюсь сам не дать волю слезам. Когда мы сидим с ней вдвоем и обедаем, слушая чудесную земную музыку, которую оба полюбили, я рассказываю ей о предложении Неона и Ивана, готовых лететь вместе с нами. Она проницательно смотрит на меня: — Ты думаешь, Инко, им удастся что-нибудь сделать с этим отравлением на берегу Моря Смерти? Я говорю, что они надеются помочь ей. Потом мы остаемся с нею в сумерках, не зажигая огня. Я весь отдаюсь минутному обману. Со мною сидит моя прежняя юная и прекрасная Эра… Сидит в последний раз. Наутро она выходит из своей комнаты веселая, бодрая, но совершенно седая, с веером морщин в уголках глаз. Снова в ней произошла перемена. Отказавшись от самообмана с помощью красок и грима, она вдруг стала прежней Эрой, живо интересуясь всем, что происходит в мире. Она напоминает мне былую Эру, ждавшую меня в затопленном в Персидском заливе корабле, я пробирался к ней тогда под водой в скафандре каждый вечер после общения с шумерами в непостижимо далекой и неправдоподобной прежней нашей жизни. Сама она тогда по нашему уговору не встречалась с ними, но знала о них все и руководила моими действиями. И вот сейчас, когда в ней снова проснулся интерес ко всему земному, она, как мне кажется, помолодела больше, чем от белил и румян.
Разочарование ждало нас в космосе. Эре ничто не могло помочь, даже невесомость. Часы ее жизни словно пущены были со скоростью во сто раз большей, чем у всех людей. Не прошло и года со дня ее пробуждения, как от нее осталась лишь тень прежней Эры, — сморщенная, согнутая старушка… Не знаю, ради себя или ради меня, но она вдруг стала говорить, как вернуть былую молодость. Мы живем с нею в отведенной нам каюте в ободе тихо вращающегося огромного космического колеса, создающего центробежной силой искусственную земную тяжесть. Ради Эры эту силу не раз меняли, затормаживая или разгоняя колесо, чтобы изучить, как влияет тяготение на ее организм. Но причину ее старения профессор Неон Петров определил, увы, верно. Не в тяжести было дело, а в самой Эре. Два старых человека (я осмелюсь называть так нас обоих) одиноко сидят в своей каюте. Трудно говорить о чем-нибудь другом: — Если меня снова погрузить в холодный сон — Неон и Иван умеют это делать, я узнавала! — я снова стану, как прежде, молодой! Поверь мне! Верит ли она сама себе? Я делаю вид, что заинтересован проплывающими в иллюминаторе созвездиями. Одна из далеких звездочек — наш Марс. Ступим ли мы на него еще когда-нибудь? — У людей принято выполнять их последнюю волю, — говорит мне Эра. — Моя последняя воля — не позволить мне умереть от преждевременной старости, а лучше усыпить меня в анабиозе. Ты слышишь, Инко? Это моя последняя просьба к людям, к тебе. Неон знает об этом неистовом желании бедной Эры. Он разводит руками и сам проходит к ней, чтобы пообещать выполнить ее желание. Иван, как врач, постоянно наблюдавший Эру, говорит, что надо спешить. Бедняжке осталось жить… какие-то часы! За свои жизни я видел многое: страшные человеческие жертвоприношения, глобальные катастрофы, когда погружались в океан материки, а морское побережье поднималось за облака, становясь берегом горного озера. Я переплывал на плоту через океан, встречался с морскими чудовищами и еще более страшными двуногими чудищами на островах, я летал через бездну космоса, возвращаясь к людям снова и снова, я пошел на тысячелетия холодного сна, но никогда я не испытывал такого потрясения, как в эти горькие минуты, когда бедняжку Эру, вернее, то, что осталось от нее, подняли в лифте в центральный отсек, служивший ступицей огромного колеса орбитальной станции. Носилок уже не требовалось. Невесомая Эра безвольно плыла рядом со мной. А я мрачно вышагивал по металлическому коридору, прилипая магнитными подошвами к полу. За нами шли профессор Неон Петров и доктор Иван. Процессия могла бы выглядеть похоронной, если бы Эра не была еще жива… Вот прозрачная перегородка с висящими за нею двумя саркофагами. Да, двумя!.. Я ведь пообещал Эре занять место рядом с нею… Эра так слаба, что едва приоткрывает веки. Они видит два висящих в знакомом ей «Хранилище Жизни» саркофага, и губы ее слабо растягиваются в улыбку. Я придвигаю к ней ухо. Она что-то хочет сказать мне: — Мы проснемся… еще через тысячи лет… Ты тоже станешь… таким же молодым… как я… В этом она права! Мы проснулись бы ровесниками. Но, увы, дряхлыми ровесниками… Больше всего мы боимся не успеть уложить Эру живой на ее ложе. Впрочем, это уже не имеет значения. И действительно, ее улыбка была уходом в последний сон. Профессор Неон и доктор Иван убедились, что пульса у Эры уже нет, переглянулись, посмотрели на меня. Я отрицательно качаю головой. — Ничего не меняется, — через силу произношу я. — В свое время и я займу место рядом с нею. Больше мы не произносим ни слова. Медленно, один за другим, толкая вперед невесомое тело моей ушедшей подруги, сходим мы в прозрачную камеру. Укладываем Эру в предназначенный для нее саркофаг. Включать систему анабиоза уже не нужно. Долго смотрю я через прозрачную крышку на когда-то дорогие мне черты, пытаясь увидеть их на изменившемся лице покойной. Неон дотрагивается до моей руки. Надо идти. Никто не произносит пышных речей, как в крематории при похоронах академика Петрова. Скромная Эра, просвещавшая людей Толлы, инков и шумеров, нашедшая друзей среди людей современности, уходит из мира при полном молчании. И в этом молчании особая торжественность, особая значимость! Мне не передать, что чувствовал я в ту минуту и что испытывал до того каждый день, видя, как сгорает моя Эра… Неон и Иван, взяв меня под руки, выводят из «Хранилища Жизни», которое уже перестало быть им, превратившись в Первый космический мавзолей, прозрачный склеп, который будет вечно двигаться меж звезд. Неон сделал необходимые манипуляции, и я вижу, как медленно стала отодвигаться прозрачная, стенка «Хранилища Жизни». Эра уходила от меня навсегда. Тело академика Петрова опустилось вниз крематория, чтобы попасть в печь и перестать существовать. Две занавеси черного бархата, имитируя землю, сомкнулись тогда над ним. Эра уходила в серебряную чернь космоса. Я вглядываюсь через прозрачные стенки и крышку гроба, пытаюсь запечатлеть черты любимого лица. И вдруг мне кажется, что я вижу в прозрачном гробу мою прежнюю Эру с ее прекрасным лицом, спокойную, задумчивую, нежную. Она словно уснула, ожидая меня, чтобы вновь проснуться через несчетные тысячелетия молодой для нового молодого поколения фаэтов, обитающих в Солнечной системе. Я не могу отделаться от этого наваждения. Да, я успел увидеть ее снова прекрасной!.. Потом камера настолько отошла от орбитальной станции, что разобрать что-нибудь внутри ее уже невозможно. Перед тем как спуститься в лифте в жилые помещения с искусственной гравитацией, я еще раз смотрю на развернутый в небе звездный шарф. Одна из звезд особенно яркая. Это — отошедший от нас космический мавзолей. Это последним лучом своим светит мне моя Эра.
Эпилог СТО ЖИЗНЕЙ
Что человек делает, таков он и есть.Гегель
От человека остаются только дела его.М. Горький
В знаменательный день возвращаюсь я снова к своим запискам, чтобы завершить их этими мудрыми словами земных мыслителей. Выйдя из «Хранилища Жизни» после холодного сна, я дал себе слово вернуться к рукописи лишь после пробуждения Эры. Она уснула последним сном — и я совсем забросил летопись нашей с ней жизни. Но сейчас, когда мне и моему другу Далю обоим минуло по сто лет (не считая тысячелетий моего сна), мне раньше, ему позже, я снова берусь за пожелтевшую рукопись, на страницах которой оживают столь непохожие один на другой периоды моей жизни. Да полно! Периоды ли? Не вернее ли сказать мои жизни? Ведь я прожил едва ли не сто жизней! Я листаю рукопись — и все они проходят чередой. Заботой земной медицины и внука Даля академика Ивана Неоновича Петрова мы с Далем не считаемся на Земле глубокими стариками. Может быть, потому, что нисколько не менее подвижны, чем четверть века назад. Нас не лечили от старости все это время, а учили избегать ее, не поддаваться ей. Эта четверть века для Даля прошла в трудах создания новой марсианской атмосферы по плану космического «переливания крови», потребовавшему для своего выполнения три четверти столетия. И все эти семьдесят пять лет я был не только марсианином или землянином, я был потомком фаэтов, исправлявшим трагическую ошибку предков. Двадцать пять лет прошло с того горького мига, когда прозрачный мавзолей растворился в серебряной черни космоса, унося к звездам мою Эру… В памяти моей она сохранилась по-прежнему юной, прекрасной, чуткой и немного грустной, со своей кроткой улыбкой на нежном лице и задумчивым взглядом темных матовых глаз. И вот — увы! — без нее мы летим с Далем на новую пышную и щедрую планету, которая раскроет объятия коренным своим жителям, миллион лет прятавшимся в глубинных убежищах с искусственным воздухом. Новое поколение воспользуется трудами своих отцов и братьев (с Земли!) и выйдет из недр планеты под ее новое, приветливое небо! Я помню неуклюжего маленького жреца, служившего нелепой религии Страха. Большеголовый и хилый, он олицетворял собой трусливый отказ марсиан от выхода на поверхность планеты, где уничтожены были все оазисы растений. Растений! Старый жрец не хотел и слышать о них! Пришельцы с Земли, увидев оазисы, сразу догадаются,кто их возделывает, и захватят подземные убежища, чтобы вырывать в своей безмерной жестокости сердца мариан. Напуганный маленький жрец, по доброте своей спасший засыпанных песком землян, не желал им зла, но и не хотел, чтобы они сообщили на Землю о существовании мариан. Надо было видеть смятение жреца, когда он слушал страстную речь юного и неукротимого Даля: — Что ты знаешь, добрый слепец, о растениях земного мира, взрастившего нас, людей, твоих братьев? Слушай, как говорит о них мой друг Ян Пазар, земной поэт: «Сотни тысячелетий рос человек на лоне природы, научился добывать огонь, делать дубины, топоры, луки и стрелы для охоты на зверей, возделывал землю, сеял, сажал, собирал урожай, покинул пещеры, переселившись, наконец, в жилища, построенные его руками (чего не знаете вы, марсиане!) И всегда его окружали цветы, травы, деревья, служа ему, защищая и возвышая его! Он привык видеть их, обонять, ощущать на вкус, прислушиваться к ним. И они предупреждали его об опасности шорохом листьев, треском сухих сучков, а своей звучащей тишиной вселяли в него покой и светлую мечту». Ты не знаешь растений, жрец, запретивший их! «Они всегда миролюбивы и добры. И нет среди них безобразных цветков, угрожающих стеблей или враждебных стволов. Потому человек привязался к этим дружественным существам, растущим из земли. Они давали ему пищу, одежду, исцеляли его раны и болезни, пленяли своей красотой и благоуханием. И не просто пленяли, а вселяли в него бодрость, любовь к жизни и вдохновение! И никто толком не знал, что за флюиды, биотоки или эманации излучают растения, одаривая ими человека. Цветы были воплощением красоты. И человек стал украшать ими себя, свою жизнь. Цветы, травы и деревья так сплелись с человеком, что, казалось, способны стали выражать его ощущения и чувства, его страсти и привязанности. В древних наших письменах и легендах за свойственные им чудеса, целительные свойства, красоту и краски растениям приписывали божественность. И растения становились гербами правителей и государств, символами героев и святых, эмблемами праздников и событий, выражением любви и страсти, знаками восхищения и поклонения! Если цветы и травы появлялись и исчезали на глазах человека, то мимо растущих деревьев успевало пройти не одно поколение людей. Деды, а потом внуки видели, как становились все выше и толще деревья, ежегодно одаривая всех плодами. В холода они умели сбрасывать листву, засыпая терпеливым сном, чтобы с новым теплом ожить снова. Неудивительно, что для людей деревья стали воплощением силы, плодородия, вечной жизни! Самое старое дерево живет на Земле более шести тысяч лет». Твой предок и соплеменник, Инко Тихий, пробывший в холодном сне время смены четырехсот поколений людей, пережил всего лишь два поколения таких деревьев. Как же можете вы, мариане, из-за нелепого страха добровольно отказаться от такой радости, как растения?! — Горячи и проникновенны твои слова. Пришелец. И больно ранят они нас, мариан, не могущих выйти на поверхность Мара, где воздух отравлен и где — увы! — невозможно им так радостно общаться с растениями, как человеку на Земле, столь осчастливленному и столь ненасытному. Слова жреца глубоко запали в душу моего пылкого друга. Я видел, как задумался он и как сверкнули его глаза озарением, которое, как узнал я много позже, вылилось в План Великого Преображения Марса. Таков был Даль, прошедший со мной рядом три четверти земного века. И как мало времени досталось нам с Эрой! Какой-нибудь земной год, который для нее оказался длиной во всю ее оставшуюся жизнь… Все же, по ее признанию, она была счастлива, увидев своими глазами космическое «переливание крови» и Море Смерти, превращенное в Поток Жизни. Но не потому ли погибла Эра так скоротечно, что побывала в Антарктиде и глубинах Марса, так много перенеся там? Сколько раз я задавал себе этот вопрос! Все в жизни связано и вытекает одно из другого. Не будь несчастья в Антарктиде, не спасай Эра меня, перенапрягаясь выше всякой меры, не отдай она мне свою кровь, не отравись она, наконец, аммиачной и углекислой атмосферой на Марсе, может быть, и не сказались бы так трагически внутренние изменения ее организма, вызванные неудачными попытками пробуждения Эры одновременно со мной! Да, всего этого можно было бы избежать… если бы Эра не была сама собой. Как противоречива и вместе с тем как цельна ее натура! Отнюдь не подготовленная к тяжелой Миссии Разума, она все же входит в ее состав, чтобы быть вместе со мной, которого полюбила еще на Маре. В дальнейшем ей пришлось побеждать себя на каждом шагу. Начиная со встречи в космосе с блуждающим ледяным трупом древней фаэтессы. Эра испугалась ее так, что даже не могла пойти на базу Фобо. А вот женщина Земли Эльга Сергеевна бесстрашно препарировала эту замороженную мумию. Однако та же самая Эра без всяких колебаний отказалась отпустить меня одного к костру лесного охотника кагарачей и безмятежно заснула, как и я, у порога его хижины. Она рядом со мной, когда рушатся стены Города Солнца, когда наступает яростное море с одной стороны и низвергается всесжигающая Огненная река — с другой. И естественно, просто становится она моей подругой жизни на обреченном корабле инков во время всеобщего потопа. И всегда я чувствовал ее нежную верную руку, когда переплывали мы океан, сначала на корабле, потом на плоту, наконец, просто вплавь в кипящем пеной проливе у рифов острова Фату-Хива, видя вздыбленные бревна и два перышка в волосах инков. Рука об руку поднимались мы с ней по беломраморным ступеням к причудливому храму Тысячи Крыш, в портике которого нас ждала «многорукая» (по представлению людей) богиня, наша Первая Мать Мона, ставшая потом Моной-Запретительницей, чтобы оградить мариан от жестоких людей, которые когда-нибудь придут на Мар. И люди пришли на Марс! Я размышляю обо всем этом, сходя по сброшенному с корабля «МАРЗЕМ-976» трапу на поверхность Марса. Эра могла бы быть со мной, она могла бы увидеть то, что открылось сейчас мне и Далю, человеку Земли. Какие изменения произошли за четверть земного века. Разрослись марсианские леса неимоверной вышины. Кроме круглых, кратерных озер, появились реки, извилистые, поросшие гибким кустарником, местами дугой переброшенным с берега на берег. И что самое главное: всюду в листве рассыпаны крыши домиков, легких и уютных, которые построили люди для своих братьев, марсиан, отдавая им Долг Разума за спасение Земли от столкновения с Луной. Население Марса будет пока ничтожно мало по сравнению с его просторами, ждущими своих хозяев, потомков фаэтов. Фаэты — это ведь сыны Солнца! Под солнцем и жить им отныне на Марсе. Первыми выходят старцы, седобородые, низкорослые, бледные. Они щурятся от непривычно яркого света, вдыхают живительный воздух, напоенный незнакомыми запахами, и даже хватаются за грудь, словно ожегшись. Конечно, до того уже немало марсиан выходило без скафандров в новую атмосферу, самоотверженно доказав ее безвредность. Но массового выхода глубинных жителей на поверхность еще не было. Реакция тех, кто впервые дышит под небом, непосредственна. Все гуще толпа, жмущаяся к утесу и словно боящаяся отойти от привычных пещер. С удивлением смотрят обитатели недр на диковинные скопления воды в кратере и складках местности.

Некоторые, выйдя из толпы, осторожно подходят к воде, нагибаются, зачерпывают ее рукой, пьют, брызгают себе в лицо, потом на соседа… Ведь там, в глубине, каждая капля воды считалась бесценной, а здесь… щедро подаренная людям вода разлилась реками, заполнила огромные водоемы, напитав не только поверхность планеты, но и ее новую атмосферу: В небе плывут облака. Они тоже кажутся удивительными тем, кто никогда не видел неба. Какие поразительные, живые рисунки кисти неповторимого художника неистощимой фантазии — Природы! Они меняют свои очертания, никогда не повторяясь. А солнце! Солнце, которое они скрывают лишь на мгновение! Что может быть ярче этого светильника, источающего с неба, а не со свода пещеры, свет и тепло! Говорят, на Земле оно вдвое больше. Это вообще невозможно представить! Новые хозяева входят в предназначенные им, разбросанные там и тут в лесной чаще дома. Они искусно вплетены в живую природу, составляют как бы ее часть. И они кажутся чудом, ничем не напоминая пещеры и выбитые в камнях кельи. В просторных светлых комнатах легко укрыться от солнца или от дождя, этого чуда, когда с неба сказочно льется сама собой бесценная для глубин влага. И, наконец, из шлюзов выпускают детей. Щебечущая ватага вырывается из распахнутых ворот и застывает в изумлении. Ребятишки-то не знали, чего им ждать. Мгновенная тишина сменяется ликующими воплями. Малыши рассыпаются повсюду, храбро осваиваясь с новой природой, притом непостижимо быстро. Некоторые уже лезут на деревья, хотя видят их впервые. Другие валяются в траве, устраивают свалку, затевая борьбу или бег взапуски. И все это со смехом, криком. Девочки бродят среди цветов. Их тут целые поляны. И не надышаться здесь пьянящим, медвяным запахом! Кто и когда мог научить марсианок вить венки? Откуда эта изобретательность и чувство красоты? Цветы украшают, цветы — символ радости, символ любви! И рядом вода! Сколько угодно воды! Больше, чем можно было представить самому пылкому воображению! Взрослые пытаются сдержать детей. Никто из них еще не умеет плавать, и даже не знает, что это такое. И тем не менее их ватаги устремляются к озеру! Самые отчаянные влетают в воду с разбегу, разбрызгивая ее, вздымая клубы тумана. И носятся по мелководью с хохотом, визгом, криками радости. Марсиане получили земную воду, марсиане дышат воздухом под собственным небом! Так разве не лучше ли было хоть сто лет подряд слать с Земли в космос ракеты Жизни вместо того, чтобы за сто минут погубить ракетами Смерти жизнь на Земле или даже уничтожить всю планету, как случилось с Фаэной? Не так ли, Даль? Не так ли, Мада? Не так ли, Аве? Не так ли, Эра? Но только Даль отвечает мне: — Прав, тысячу раз прав один из наших видных ученых, говоря, что «нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое собственное уничтожение те силы природы, которые они сумели открыть и покорить». Никто из резвящихся в воде марсианских ребят не знал ни о Жолио-Кюри, ни об этих его словах, но новую радость жизни подарили им люди, понявшие, чему должны служить знания. И я с этими людьми всей душой до того самого мига, когда рядом с Эрой займу свое место в межзвездном мавзолее, который отыщут в космосе мои земные друзья. Дай руку мне, Даль! Мы — братья!
Октябрь 1968 г. — февраль 1971 г. Москва — Абрамцево
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Двадцать лет прошло уже с того дня, как я приступил к «ФАЭТАМ». Прочитав теперь роман как бы из другого времени, переживаю снова встречу с великим физиком XX века Нильсом Бором, которая произошла в конце 1961 года, и с особой остротой ощущаю современные наши беды и чаяния. Леонид Соболев описал нашу беседу с Нильсом Бором, как живой ее свидетель. Вижу на старой фотографии рядом с Семеном Кирсановым, Борисом Агаповым, Георгием Тушканом и другими нашими соратниками, в самом центре ее, прославленного ученого, Копенгагенскую «школу» которого считали за честь пройти выдающиеся физики первой четверти нашего века. Высокий лоб, усталый взгляд проницательных глаз, средоточие мудрости знания. Рядом — его преданная супруга, бежавшая вместе с ним на парусной лодке из оккупированной гитлеровцами Дании. За океаном он сделал бесценный вклад в создание атомной бомбы. Но он же в числе первых и отверг ее применение. Соболев вспоминал, как я задал вопрос Нильсу Бору: допускает ли тот, что планета Фаэтон, на орбите которой остались в виде кольца астероидов лишь ее обломки, разрушилась из-за взрыва океанов, вызванного взрывом в их глубине мощнейшего термоядерного устройства, во время ядерной войны ее обитателей? Нильс Бор серьезно ответил: — Я не исключаю такой возможности, но если бы это было и не так, то все равно ядерное оружие надо запретить. Это послужило мне толчком для создания «Гибели Фаэны», а потом и других частей романа «Фаэты», где представлены как земные катаклизмы, так и пути возвращения первозданной природы Марса. Но об одном ли Марсе может идти теперь речь? Не подумать ли нам о Земле, как Далька о Марсе? Не вернуть ли ей первозданную красоту и щедрость? Бездумное развитие цивилизации веками уродует Природу. Во имя сиюминутных выгод, в ненасытном стремлении иметь все больше энергии, металла, хлопка, химических средств, для комфорта насилуется плодородие земли, возникают «рукотворные моря», поглощая целые страны плодородия с городами и селами, исчезают природные моря (Аральское!), и как бы в отместку превращая в пустыни те же хлопковые поля, ради орошения которых лишилось былое море животворных вод. Мелеют и засоряются великие реки, стал «сточной канавой» поэтический Рейн, отравлены Великие Озера в Америке, и проносимые над ними кислые дожди губят все живое. Но страшнее всего, что гибнут и океаны с просторами обитания планктона и водорослей, которые поглощали избыток углекислоты. И она скапливается теперь в верхних слоях атмосферы, создавая «парниковый эффект», не пропуская тепловых излучений Земли, перегревая планету. И поэтому ныне ей грозят климатические катаклизмы с затоплением целых стран. Уже в настоящее время ощутимы первые сигналы разгневанной Природы. Миллионы людей страдают от наводнений в Бангладеш, небывалой жары и холода в США или Африке, от опустошительных ураганов в Карибском бассейне. А бесчисленные энергоустановки продолжают сжигать топливо и вместе с сотнями миллионов автомобильных двигателей пополнять смертоносный слой углекислоты, уже не поглощаемой поредевшей земной растительностью. Земле грозит не только ядерная война! И если верить тому, что люди способны возвращать к жизни умершие планеты вроде Марса, то не задуматься ли читателям о судьбе собственной Земли, не встать ли им в ряды тех, кто, подобно Дальке Петрову, готов отдать свои силы преображению планет. И в первую очередь, своей родной планеты.Автор
Александр Казанцев ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА ~ 1957


Рисунки Юрия Макарова
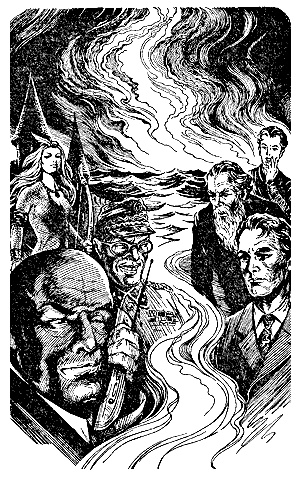
ПРЕДИСЛОВИЕ
Инженер Александр Петрович Казанцев — писатель-фантаст старшего поколения — выступил в советской литературе больше четверти века назад. Роман «Пылающий остров» — его первое большое произведение. Несколько поколений читателей знают и любят эту книгу. «Пылающий остров» — одно из произведений, определивших жанр советской научной фантастики. Хочется сказать несколько слов о научной фантастике вообще. Часто приходится встречать на страницах газет и журналов, иногда и в больших художественных произведениях утверждения о том, что действительность превзошла всякую фантазию, жизнь обогнала самую смелую выдумку писателей или реальность оказалась куда больше мечты. Надо со всей определенностью сказать, что такого никогда не было. Но если бы случилось, то означало бы, что наша судьба печальна, как печален удел людей, переставших мечтать и выдумывать, заглядывать вперед, в будущее, иногда очень отдаленное. Если фантазия, высказанная много времени назад, устарела, если мечтатель ошибся в сроке исполнения своей мечты, то так и надо писать: «в этом, конкретном случае», и никогда — «в общем». Пока жива человеческая мысль и стремление к лучшей жизни, к познанию мира, к поискам прекрасного, действительность не обгонит фантазию даже в самом далеком коммунистическом завтра. Больше того, я убежден, что фантазия станет смелее, куда больше будет мечтателей, и соответственно этому еще быстрее пойдет прогресс науки и искусства. Роман «Пылающий остров» — хороший пример обгоняющей время фантазии. В те времена, когда ученые казались большинству людей безобидными чудаками, когда грозное могущество науки еще было скрыто в ее глубинах, Александр Казанцев предвидел ту смертельную опасность, которую может принести миру убийственная сила, попавшая в руки фашиствующих маньяков войны и империализма. Сейчас, когда главная опасность — в ядерном оружии и когда возможности науки практически безграничны, уничтожение земной атмосферы, описанное в романе, может стать столь же реальным, как и отравление ее радиоактивностью. Социальную опасность капиталистической науки, служащей средствам истребления, сумел верно определить и убедительно показать автор «Пылающего острова», почему эта книга жива и актуальна в наши дни.И. Ефремов 17 апреля 1962 г.
КНИГА ПЕРВАЯ. ОБЕТ МОЛЧАНИЯ
Все идеи извечны из опыта, они — отражения действительности, верные или искаженные.Ф. Энгельс Анти-Дюринг

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧЕРНАЯ ШАМАНША
— Бае, она уже не будет говорить. Помирать будет. Передать велела. Лететь на красную звезду будешь - обязательно с собой возьми Таимбу…
Глава 1. ВЗРЫВ
30 июня 1908 года в 7 часов утра в далекой сибирской тайге произошло необыкновенное событие. Около тысячи очевидцев сообщили иркутской обсерватории, что по небу пронеслось сверкающее тело, оставляя за собой яркий след. В районе Подкаменной Тунгуски над тайгой вспыхнул шар много ярче солнца. Слепая девушка из фактории Ванавара на единственный в жизни миг увидела свет. Огненный столб взметнулся в безоблачное небо. Черный дым поднялся по багровому стержню и расплылся в синеве грибовидной тучей. Раздался взрыв ни с чем не сравнимой силы. За четыреста верст в окнах лопались стекла. Повторяющиеся раскаты были слышны за тысячу верст. Близ города Канска, в восьмистах верстах от места катастрофы, машинист паровоза остановил поезд: ему показалось, что в его составе взорвался вагон. Огненный ураган пронесся над тайгой. «Чумы, олени летали по воздуху… Ветер кончал стойбища, ворочал лес…» — рассказывали тунгусы, как в те годы называли эвенков. На расстоянии двухсот пятидесяти верст от места взрыва ураган срывал с домов крыши, а за пятьсот верст валил заборы. В далеких городах звенела посуда в буфетах, останавливались стенные часы. Сейсмологические станции в Иркутске, Ташкенте, Тифлисе и в Иене (Германия) отметили сотрясение земной коры с эпицентром в районе Подкаменной Тунгуски. В Лондоне барографы отметили воздушную волну. Она обошла земной шар дважды. В течение трех ночей не только в Западной Сибири, но и в Европе не было темноты. Сохранилась фотография городской площади, снятая в Наровчате, Пензенской губернии, местным учителем: он вышел с аппаратом в полночь на следующие сутки после тунгусской катастрофы, не подозревая о ней. В Париже, на Черном море и в Альпах стояли никогда не виданные там белые ночи. Русский академик Полканов, тогда еще студент, но уже умевший наблюдать и точно фиксировать виденное, находясь в те ночи близ Костромы, записал в дневнике: «Небо покрыто густым слоем туч, льет дождь, и в то же время необыкновенно светло. Настолько светло, что на открытом месте можно довольно свободно прочесть мелкий шрифт газеты. Луны не должно быть, а тучи освещены каким-то желто-зеленым, иногда переходящим в розовый светом». На высоте восьмидесяти шести километров учеными были замечены светящиеся серебристые облака. Многие ученые решили, что в тунгусскую тайгу упал метеорит небывалой величины…* * *
В памятное утро 30 июня 1908 года таежники-ангарцы вчетвером тянули бечеву. Они шли по крутым, заросшим лесом холмам, которые, как ножом срезанные, обрывались к реке. С обоих берегов вплотную к воде подступала тайга, вдали подернутая фиолетовой дымкой. Впереди шел ссыльный Баков, человек лет пятидесяти, богатырского сложения, с густой рыжей бородой. Раскатистый бас его, когда он окликал товарищей или громко хохотал, далеко был слышен по реке. Угрюмые таежники любили его за этот смех, уважали за силу и ученость и жалели. Знали, что неладно у Бакова с сердцем — иной раз привалится спиной к лиственнице и глотает ртом воздух. В тайге не принято спрашивать: кто ты, откуда, за что сюда попал. С виду Баков мало чем отличался от других таежников. Его подстриженные в кружок волосы, запущенная борода, ободранная охотничья парка, изношенные ичиги, что ссыхаются на ноге, принимая ее форму, и не натирают потому мозолей, — все это мало помогло бы, скажем, председателю последнего Международного конгресса физиков мистеру Холмстеду узнать здесь, в далекой тайге, петербургского профессора Бакова. Столичные же врачи ужаснулись бы, услышав, что Михаил Иванович, страдающий грудной жабой, выполняет работу бурлака. Внизу под обрывом, куда уходила бечева, виднелся шитик с высокими бортами и острым носом. Впереди полнеба закрывала огромная скала. Из-за нее выплывали плоты. На переднем около избушки плотовщика сгрудились овцы. Сам он, таежный бородач в синей рубахе без пояса, выбрался на свет и смотрел на небо, почесывая спину и потягиваясь. Зевая, он необыкновенно широко раскрыл рот и перекрестил его. И вдруг — страшный удар. Что-то блеснуло, ослепляя… Ангарцы, тянувшие бечеву, как шли, наклонясь вперед, так и свалились на землю. Лишь один Баков успел ухватиться за дерево и удержался на ногах. Плотовщик упал на колени. Его огромный рот был открыт. Овцы шарахнулись к самой воде, жалобно заблеяли. И тут — второй удар, еще страшнее. Избушку сорвало с плота, и она поплыла рядом с овцами. В воде мелькнула синяя рубаха… Воздух, густой, тяжелый, толчком обрушился на Бакова. Его руки сорвались, и он полетел с обрыва в воду. Выплыв на поверхность, он увидел на реке водяной вал, похожий на высокий берег. Захлебываясь, Баков ловил ртом воздух… Баков видел, как переломился густой плот, как встали торчком бревна. Вода обрушилась на Бакова. Не запутайся бывший петербургский профессор Баков в бечеве, не вытяни его ангарцы из воды — не произошло бы многих удивительных событий… Костер ярко пылал. У огня, растянутая на кольях, сушилась парка Бакова. Ангарцы сидели молча. Каждый из них один на один вышел бы на медведя, в шитике не устрашился бы переплыть пороги. Кое у кого за плечами были и не такие дела; не боялись они ни бога, ни черта, но сейчас присмирели, когда повалило их наземь, — крестились. У костра обсыхал и угрюмый плотовщик в синей рубахе, потерявший всех своих овец. Баков сидел, прислонившись спиной к лиственнице. Сердечный приступ прошел, но левая рука ныла. Однако Баков уже гремел своим завидным басом: — Божьим знамением попы пусть пугают, а вам, охотникам, только глазу да руке верить можно. А камни, что с неба падают, и увидеть и пощупать можно. Находят их немало. — Чтой-то камушек этот, паря, больно велик сегодня, — сказал седой благообразный ангарец. — Верно! — согласился Баков. — Нынче брякнулась о землю целая скала, не меньше той, что на дороге у нас стояла. Только упавшая скала, по вероятности, была железной. — Не слыхивал про такие скалы, — сказал плотовщик. — А вот про черта слыхал. — Падают железные скалы, — заверил Баков. — Редко, но падают. Раз в тысячу лет. — А ты видел? — След, что такая упавшая скала оставила, видел. — Это где же, паря, ты его видел? — В Америке. На съезд один ездил. Есть в Северной Америке каменистая пустыня Аризона. И место в ней есть — каньон Дьявола… — Я говорил — черт, — вставил плотовщик. — В ту пустыню тысячу лет назад упала с неба железная скала. Я купил у индейцев два ее маленьких осколка. Смотрел и воронку, что там осталась. С доброе она озеро, шириной больше версты. А глубина до ста сажен! — Ого! — отозвался молодой таежник. — Без пороха та скала взорвалась, как ударилась о землю, — продолжал Баков. — Летела она раз в пятьдесят быстрее, чем винтовочная пуля. Вся сила, которую скала в полете имела, сразу в тепло перешла. — Известно, — сказал плотовщик. — Пуля в железо ударится — расплавится от тепла. Только, по-моему, это не скала была, а черт. — А ты у черта рога щупал? — лукаво спросил Баков. — Попадется, так и пощупаю, — ответил сибиряк. — Больше версты воронка! — свистнул самый молодой из таежников, видимо только теперь представивший величину кратера. — А какая нынче в тайге сделалась воронка? Страсть охота поглядеть. — Наверно, не меньше, чем в Аризоне. Плотовщик долго молчал, приглядываясь к Бакову, потом пододвинулся к нему. — Я вижу, ты, мил человек, из ученых, — почтительно начал он. — Бечева, видать, сердцу твоему не под силу. Пошто бы тебе нам грамотой своей не пособить? Давай подрядись ко мне. Мы с тобой наперед плотов на шитике сплавимся. Страховую премию за овец мне схлопочешь? Баков даже сел, забыв про сердце. Плыть вниз по Подкаменной Тунгуске, мимо места катастрофы в тайге?.. Профессор способен был юношески увлекаться. И когда он «вспыхивал», как говорили его былые сотрудники, то уж не знал удержу. Сутками напролет сидел в лаборатории, и его оттуда порой выводили под руки. А если не было вдохновения, неделями мог валяться на диване, ленясь подойти к столу. Поднявшись во весь рост, он оказался почти на голову выше кряжистого плотовщика. — Схлопочу тебе премию, хозяин! — заверил Баков. — Схлопочу, ежели доставишь меня к месту, где взрыв произошел, ежели согласишься вместе со мной кратер посмотреть. — Смотреть — смотри. А я, паря, для опасности, в шитике тебя обожду. Баков хохотал. Хлопая таежников по спинам, торопил своего нового спутника. Плотовщика звали Егором Косых. Он дивился на неуемного ссыльного. Но и сам заразился его нетерпением. Поручив своим помощникам собирать разбитые плоты, он принялся снаряжать шитик, имевшийся на одном из плотов. Через час Баков и Косых, простившись с ангарцами, поплыли вниз по Подкаменной Тунгуске. Зашло солнце, наступили сумерки. Небо затянуло тучами, стал накрапывать дождь, а темноты все не было, и путники не останавливались. — Что-то долго не темнеет, — удивился сибиряк, никогда не видавший белых ночей. Остановились на привал, так и не дождавшись темноты. — Тут уж, Михаиле Иванович, твоя скала ни при чем, — сказал Косых, смотря на освещенные без солнца тучи. — Говорю тебе — черт. Ночью пошел сильный дождь, но по-прежнему было светло. Пораженный профессор отметил, что желтовато-зеленые, иногда розовые лучи пробиваются через слой дождевых туч. На третьи сутки шитик достиг Ванавары. Три домика фактории ютились на высоком берегу. Здесь путники встретили первых очевидцев катастрофы — охотников-тунгусов. Баков сидел с тунгусами на берегу, угощал их табаком, рассуждал об охоте, о погоде и постепенно подводил разговор к интересующему его предмету. Но старый тунгус Илья Потапович Лючеткан, с коричневым морщинистым лицом и такими узенькими глазами, что они казались щелками, неожиданно сам заговорил об этом: — Ой, жаркий ветер был, бае! Потом наши люди ходили в тайгу. Олени находили, дохлый, шерсть паленая… Видали: вода вверх сильно бьет. Много сажен… Пришли, рассказали. Потом очень кричали, корчились. Все сгорели, померли. Пойди посмотри, бае. Ожогов не найдешь, однако. Старый, иссохший, в высокой шапке и в парке с цветными ленточками, шаман начал камлание. Он бил в бубен и кричал, что ослепительный Огды, бог огня и грома, сошел на землю и сжигает всех и вся невидимым огнем. Глаза у шамана закатывались, он страшно вращал белками и бился о землю, пока на губах у него не выступила пена. Собравшиеся в кружок тунгусы курили трубки и кивали головами. — Говорю, черт, — сказал Косых и сплюнул. Верный условию, он готов был ждать Бакова, который решил отправиться в тайгу. Плотовщик, которому почему-то полюбился ссыльный, пытался даже подрядить ему в провожатые тунгусов, но никто из них не согласился. — Вот что, паря, — сказал тогда Косых. — Один в тайге пропадешь. Мне теперь черт не брат. Пошто бы и не посмотреть на этого ихнего Огды! Пойдем для опасности вместе, только слово дай, что премию мне схлопочешь. Баков рад был товарищу. Поговорив с тунгусами, решили не идти в тайгу пешком, а плыть в шитике по таежным речкам. Место катастрофы находилось верстах в шестидесяти от Ванавары. Тунгусы помогли перетащить шитик волоком до бурной речки. Сплавляясь по ней, можно было, как они говорили, добраться до страшного места. Тунгусы с жалостью смотрели на «отчаянных бае» и качали головами. Шитик помчался по бурной воде, проскакивая меж подбеленных пеной камней. Вскоре Баков и Косых увидели небывалую картину. Тайга, где нет опушек и прогалин, где лиственницы растут одна подле другой, — эта тайга, сколько хватал глаз, была повалена, деревья вырваны с корнями, которые обращены были к центру катастрофы. Два дня плыли путники среди поваленной тайги. Баков подсчитал, что деревья вырваны на площади диаметром верст в сто двадцать, а если прибавить и вырванные на возвышениях, то площадь лесовала будет не меньше всей Московской губернии. Косых дивился и угрюмо молчал. Один раз только сказал: — Видать, паря, здешний дьявол будет поболе американского. Баков и сам думал, что кратер в тайге, к которому они стремились, может действительно оказаться больше аризонского. — Эх, Егор Егорыч! — с размаху ударил он таежника по плечу. — Теперь бы под мое начало экспедицию Императорской Академии наук вызвать! Какой научной сенсацией была бы находка гигантского метеорита! — Известно, — соглашался Косых. — Я б тебя, отец, коллектором экспедиции назначил. — Пошто ж не так? Можно и коллектором. Премию за овец схлопочем — и депешу в Петербург, в самую эту академию. — Как бы не так! — вздохнул и сразу ссутулился Баков. — Для академического начальства не существует больше профессора Бакова, который два года назад должен был баллотироваться в академики. Есть политический ссыльный, у которого дочь жандармы убили на Обуховском и который… Э, да что там говорить! — И он махнул рукой. Косых умел ни о чем не спрашивать и стал свертывать цигарки и для себя и для Михаила Иваныча. Больше об этом не говорили. Баков прекрасно понимал, что ему суждено сейчас тянуть бечеву или наниматься к плотовщикам, а не возглавлять научные экспедиции. И все-таки он оказался первым ученым, добравшимся до центра тунгусской катастрофы. Баков и Косых, поднявшись на возвышенность, увидели внизу долину, в сторону которой были повернуты все вывороченные корни. Сверху отчетливо был виден фонтан воды. Но он бил не со дна кратера, который рассчитывал увидеть здесь Баков. Кратера не было!.. Там, где гигантский метеорит, летя с космической скоростью, должен был врезаться в землю, а его энергия движения перейти в тепло и вызвать взрыв, — в этом месте никакой воронки не оказалось. Вместо ожидаемого исполинского кратера Баков и Косых увидели лес, стоящий на корню… Это был странный, мертвый лес с деревьями без вершин, коры и сучьев. Их словно срезало, как заметил сразу Баков, вертикальной, рухнувшей сверху волной. Деревья уцелели лишь там, где были перпендикулярны ее фронту. Всюду, где удар пришелся под углом, лиственницы были повалены веером на гигантской площади. — Айда, паря, вниз, — предложил Косых. — Что-то чудно мне это… — Стой, дурная голова! — рявкнул Баков. — И шагу не смей делать! Сдается мне, что бог Огды имеет отношение не только к шаманам, но и к физикам… Сибиряк удивленно посмотрел на своего товарища, который, как он уже успел убедиться, трусостью не отличался. — И придется нам с тобой, Егор Егорович, все-таки написать в Академию наук! — закричал на всю долину возбужденный Баков. Он стоял подбоченясь и смотрел вниз на диковинный мертвый лес, в котором смертельно были поражены богом Огды тунгусы.* * *
Баков написал в Императорскую Академию наук о тунгусском феномене, настаивая на присылке в тайгу экспедиции, в которой он готов был принять участие хотя бы в качестве проводника или рабочего. Профессор долго ждал ответа, но так и не получил его. Он загрустил. Целыми днями валялся на лавке в избе Егорыча в одной из енисейских деревень. Плотовщик Косых так и не добился страховой премии за овец. Ему пришлось продать избу, в которой лежал Баков, неудачливый его ходатай. Косых не рассердился на Бакова. Такой же одинокий, как и он, без угла и пристанища, Косых привязался к Бакову и стал уговаривать его отправиться на промысел в тайгу, где была у него заимка. — Может быть, паря, снова в те места заглянем, — подмигнул он. Только они двое и думали о тунгусском феномене. В царской России никто не заинтересовался им. Царскому правительству в темные годы реакции было не до того.Глава II. ЧЕРНАЯ ШАМАНША
Таежная заимка походила на маленькую крепость. Угрюмый хозяин обнес ее тыном, хоронясь и от зверя и от варнака. Тяжелые ворота запирались на крепкие запоры. Крыша прикрывала не только избу, но и двор. Лиственницы вплотную подступали к одинокому жилью, которое казалось таким же дремучим, как и сама тайга. Собаки залаяли все разом. Зазвенели за забором цепи, захрипели, заливаясь, псы. Перед воротами стояли два человека, с виду не походившие ни на таежников, ни на беглых. Один из них, низенький, скуластый и косоглазый, одетый в теплую синюю кофту, изо всех сил бил в ворота палкой. Другой, худой и высокий, был одет в узкое городское пальто и в мягкую шляпу, нелепо выглядевшую в тайге. Растопыренные локти делали его фигуру неуклюжей. Собаки бесились, они лаяли теперь с надсадным воем. Наконец одна из них завизжала, остальные приумолкли. За тыном послышался раскатистый бас: — Молчать, прощелыги! Цыц, жандармы! Кто таков? — Мало-мало открывай! Человек ходи-ходи тебя ищет, — сказал низенький. — Проходи, ходя, мимо. Хозяина нет, а работник его тебе не нужен. — Михаил Иванович! М-да!! Не откажите в любезности, откройте. Это я — Кленов… ваш бывший студент… Откройте! — Что такое? Что за мистификация? — С этими словами рыжебородый мужик богатырского роста открыл калитку и загородил ее проем своей фигурой. — Кленов, Иван Алексеевич! Ваня! Да какими же вы судьбами! Дай задушу по-медвежьи! Шесть лет не видел ученой бороды! И таежник сгреб приезжего в объятия. — Михаил Иванович! Профессор! Голубчик! Простите, что обеспокоил… Но я сразу к делу… Времени, осмелюсь заметить, терять нельзя. — У нас в тайге время не ценится. Проходите, голубчик. Это кто же с вами? Проводник? Кленов кивнул головой и задумчиво взялся за бородку. Он был еще совсем молодым человеком, вчерашним студентом, по-видимому только что получившим университетский значок. — Это — кореец Ким Ид Сим. Я называю его по-английски Кэдом. — Почему по-английски? — весело гремел Баков, подталкивая впереди себя Кленова. — Вы неисправимый англоман. — Видите ли, профессор… его рекомендовали мне как надежного человека… И он поедет с нами в Америку. — Куда, куда? — переспросил Баков и расхохотался. Кленов, смущенный, растерявшийся, стоял в сенях. — Видите ли, многоуважаемый Михаил Иванович, я везу вам приглашение профессора Холмстеда приехать к нему в Аппалачские горы, где у него есть лаборатория. Он готов предоставить ее в ваше распоряжение. — Вы, милейший Иван Алексеевич, шутник. Профессор Холмстед, очевидно, не подозревает, что Баков отныне не петербургский профессор, а таежный ссыльный, раз в неделю обязанный ходить к уряднику отмечаться. — Напротив, Михаил Иванович. Холмстед прекрасно все знает. Он написал, что уважает чужие политические взгляды и считает за честь предоставить убежище политическому эмигранту, который способен принести пользу науке. — Постой, постой! Я еще не эмигрант. Разговаривая, все трое вошли в избу. В ней жили одни мужчины, но пол был чисто выскоблен. Лавки и крепко сколоченный стол кто-то недавно смастерил из свежевыструганной лиственницы. От нее ли или вообще от не успевших еще потемнеть со временем бревенчатых стен пахло смолой. Вопреки обычаю, икон в углу не было. Баков еще раз обнял своего гостя, а проводника дружески потрепал по плечу, отчего тот заулыбался, выпятив редкие зубы. — Кэд поможет вам бежать. Вас хватятся не раньше чем через неделю. Вы будете, осмелюсь уверить вас, далеко… Потом все тот же Кэд проведет вас через китайскую границу. Мы сядем на пароход в одном из китайских портов. Умоляю вас, Михаил Иванович, соглашайтесь! Ведь здесь, в тайге, погибает богатырь русской науки! Баков усмехнулся. — Да… богатырь… — Он постучал себя в грудь. — Действительно, погибает… грудная жаба — и ни одного модного врача, который берется довольно безуспешно ее лечить. — Вот письмо мистера Холмстеда. Не откажите в любезности прочесть его. Я осмелился вести с ним переписку от вашего имени. Баков покачал головой, взял письмо и быстро пробежал глазами. — Ну, вот что, господа почтенные. Сейчас я выставлю на стол угощенье. От спирта в тайге отказываться нельзя. А вы, дорогой мой Иван Алексеевич, рассказывайте… все рассказывайте, и прежде всего про нашу физику. Что там нового. Поддержана ли кем-нибудь моя гипотеза о существовании трансурановых элементов? — М-да… — Кленов сидел на лавке, так и не сняв пальто; шляпу он положил рядом. — Ваша гипотеза о трансурановых радиоактивных элементах вызвала всеобщий интерес. У вас немало последователей. Некоторые из них, осмелюсь огорчить вас, готовы оспаривать ваш приоритет… — Ну и черт с ним, с приоритетом! Была бы лишь науке польза. — Какой вы русский человек, право, Михаил Иванович! — улыбаясь, сказал Кленов. Баков усмехнулся и поставил на стол бутылки, хлеб и еще какую-то снедь. — Наиболее сенсационным событием 1913 года надо считать открытие голландским физиком Камерлингом Оннесом явления сверхпроводимости… — Как, как? — остановился с откупоренной бутылкой в руке Баков. — Если электрический проводник — скажем, свинец — заморозить в жидком гелии до температуры, близкой к абсолютному нулю, то всякое электрическое сопротивление мгновенно исчезает. Баков тяжело опустился на скамью, налил дрожащей рукой спирта в стакан и одним духом выпил его. — Повторите! — потребовал он. Кленов обстоятельно рассказал о сверхпроводимости. — Ходя, пей! — приказал Баков проводнику. — Если бы твоя башка понимала, что он тут говорит, ты бы колесом прошелся по избе. — Моя мало-мало ничего не понимай, — закивал головой проводник и подобострастно принял из рук Бакова стакан. — Явление сверхпроводимости очень мало изучено, Михаил Иванович. Едва увеличивается магнитное поле, как сверхпроводимость мгновенно исчезает… Двое ученых оживленно беседовали о физике, а проводник-кореец, очевидно захмелев, сидел, привалившись к стене, и похрапывал. — Черт возьми! — вскочил с лавки Баков. — Если вы думаете, что ваш профессор только тянул здесь бечеву, то вы заблуждаетесь, господин Кленов. Не угодно ли взглянуть? — И он положил перед Кленовым выцветшую любительскую фотографию. — Что такое? — внимательно разглядывая снимок, спросил Кленов. — Я думал, что был единственным исследователем района падения Тунгусского метеорита, о чем и писал вам, голубчик. Однако я ошибся. Вот такое существо я встретил в запретном месте, куда не покажется ни один тунгус… Вблизи вот от этого мертвого, стоячего леса. — И он положил на стол еще несколько фотографий поваленной тайги. — Кто же это такой? — спросил Кленов, рассматривая первый снимок. — Не такой, а такая. Всмотритесь. Кленов видел на фотографии утесы, белую пену горной речушки, черные камни, у которых вздымались буруны, и остроносую лодчонку-шитик с высокими бортами. В лодке стояла, управляя веслом, женщина с развевающимися волосами. На ней была лишь набедренная повязка. — Это что? Негатив? Почему она черная? — поинтересовался Кленов. — Это позитив, милейший! Она чернокожая. — Ничего не понимаю, — признался Кленов. — Откуда здесь, в тайге, чернокожие? К тому же она, как мне кажется… очень рослая. — Боюсь, что я не достал бы ей до плеча. А волосы у нее огненные, рыжие, как моя борода… — Простите, но какое отношение это имеет к физике? — Быть может, не меньшее, чем остальные фотографии… Но об этом потом. Итак, бежать? Бежать в Америку, к Холмстеду? Исследовать сверхпроводимость или искать трансурановые элементы, черт возьми! Баков встал и прошелся по горнице. Он взъерошил бороду, потом потер руки. — Бежать! — убеждающим тоном повторил Кленов. — И как можно быстрее. Кэд проведет вас через границу… — Быстрее? Не могу, голубчик. Мы с вами должны прежде повидать эту чернокожую… Уверяю, она имеет отношение к физике. Кленов стал нервно теребить бородку. Его водянисто-голубые глаза выразили неподдельное отчаяние. — Что мне с вами делать? — Готовиться в поход! Мы выедем немедленно. Кэд останется здесь, а я достану тунгуса Лючеткана с верховыми оленями. — Вы с ума сошли, профессор! Мы не имеем права терять времени. — Вы только послушайте, милейший, — наклонился к Кленову профессор Баков. — Я навел о ней справки. Она шаманит в роде Хурхангырь. Несмотря на протесты Кленова, Баков тотчас же отправился в тунгусское стойбище. Вернулся он к вечеру в сопровождении безбородого старика с узкими щелками вместо глаз. Они привели с собой трех верховых оленей. Лючеткан, потирая голый подбородок, по просьбе Бакова рассказывалудрученному Кленову про шаманшу: — Шаманша — непонятный человек. Порченый. Баков пояснил, что тунгусы порчеными называют душевнобольных. — Пришла из тайги после огненного урагана, — продолжал старик. — Едва живой была, обгорела вся. Говорить не могла. Много кричала. Ничего не понимала. И все к тому месту ходила, где бог Огды людей жег… — Помните, Иван Алексеевич, я писал вам? — прервал Баков. — Живой приходила. Видно, знакомый ей бог был. Значит, шаманша. Потом увидели: одними глазами лечить умеет. Люди рода Хурхангырь прогнали старого шамана. Ее шаманшей сделали. Другой год ни с кем не говорила. Непонятный человек. Черный человек. Не наш человек, но шаман… шаман! — Я в отчаянии, Михаил Иванович! — пробовал протестовать Кленов. — Я привез вам приглашение самого Холмстеда, а вы увлекаетесь поисками какой-то дикарки. Однако Баков настоял на своем. Утром двое ученых в сопровождении Лючеткана выехали верхом в стойбище Хурхангырь. Всю дорогу Баков фантазировал, ставя Кленова в тупик своими неожиданными гипотезами. — Чернокожая, чернокожая! — говорил он, задевая носками сапог за землю. При его росте казалось, что он не едет верхом на олене, а держит между колен это маленькое животное. — Вы думаете, что тунгусы, или эвенки, как они сами себя называют, милейшие и добрейшие в мире люди, — и есть коренные жители Сибири? — Понятия не имею. — Эвенки, почтенный мой Иван Алексеевич, принадлежат к желтой расе и родственны маньчжурам, соседям вашего Ким Ид Сима. Когда-то они были народом воинственных завоевателей, вторгшихся в Среднюю Азию. Однако они были вытеснены оттуда якутами. — Тунгусы, якуты в Средней Азии? Не легенды ли это? — Ничуть, дорогой мой коллега. Изучайте, кроме физики, и другие науки. Эвенки были вытеснены из Средней Азии якутами и отступили на север, укрылись в непроходимых сибирских лесах. Правда, и якутам пришлось уступить завоеванную ими цветущую страну более сильным завоевателям — монголам — и тоже уйти в сибирские леса и тундры, где они стали соседями эвенков. — Кто же в таком случае коренные жители Сибири? Может быть, американские индейцы? — Отчасти верно. Действительно, люди сибирских племен вышли из Сибири «тропою смелых» через Чукотку, Берингов пролив и Аляску и заселили Американский континент. Но не о них будет речь… Не угодно ли закурить? — протянул Баков Кленову портсигар. — Спасибо, Михаил Иванович. Я ведь не курю. — Я сам отпилил заготовку для этого портсигара от кости коренного обитателя Сибири. Кленов испуганно посмотрел на Бакова, а тот расхохотался: — Это был бивень слона. — Может быть, мамонта? — робко поправил Кленов. — Нет. Бивень был прямой, а не загнутый. Его принес мне Егор Косых. Он исколесил таежные болота и гривы. И на 65o северной широты, насколько я мог потом определить это по карте, и 104o восточной долготы он открыл «кладбище слонов». Горные кряжи заборами отгородили плоскогорье со всех сторон. Жаркое сибирское солнце растопило слой вечной мерзлоты и оголило кости. Три недели Егор Егорыч не ел ничего, кроме «пучек» — местного растения из семейства зонтичных, весьма пригодного для дудочек и очень мало для гастрономических блюд. Он оставил на кладбище слонов всю провизию, лишь бы принести мне, ученому человеку, как он говорит, неведомую кость. — Что же следует из всего этого, если даже, осмелюсь так выразиться, поверить вашему неграмотному таежнику? — Из этого следует, милейший, что в Сибири до последнего ледникового периода был жаркий африканский климат. Здесь водились тигры, слоны… — Вы хотите сказать, что и люди, обитавшие здесь… — Вот именно! И люди, обитавшие здесь, были совсем другие, чернокожие. Не хотите ли еще раз взглянуть на фотографию? Кленов замахал руками: — Простите меня, профессор. Я ваш недавний студент. Но я лишь экспериментатор. Я верю только опытам, а не гипотезам. — Вам не нравится эта гипотеза о затерянном племени чернокожих сибиряков? Хотите, я взволную вас другой? Кленов, может быть, и не хотел, но Баков обращал на это очень мало внимания. — Что вы думаете, почтенный мой физик-экспериментатор, о единстве форм жизни Вселенной? — Откровенно признаюсь, профессор, ничего не думаю. Это так далеко от физики… — Быть может, и не так далеко… — снова загадочно сказал Баков. — Во всяком случае, надо думать, что формы эти бесконечно разнообразны, — заметил Кленов. — Не вполне, — пробурчал Баков. — И у лягушки и у человека по пяти пальцев на конечностях и сердце в левой стороне. — Совершенно справедливо. — На голове почти у всех животных по два глаза, по два уха… Словом, похожего много. — Пожалуй, — согласился Кленов. — А как вы думаете, по какому пути могла развиваться жизнь на другой планете? — Простите, профессор, осмелюсь возразить вам. Я считаю саму постановку вопроса… не научной. Баков громко расхохотался. Олень Кленова, который шел рядом с оленем Бакова, шарахнулся в сторону. — А между тем это любопытнейший вопрос! Знаете ли вы, Кленов, замечательного мыслителя прошлого века Фридриха Энгельса? — Я далек от его понимания классовой борьбы и ее значения. На мой взгляд, вершителем судеб человечества может быть только человеческий Разум и Знание. — И носителями Разума и Знания вы готовы считать лишь наших с вами почтенных коллег? — М-да… мне кажется, что только ученые могут принести человечеству счастье. Впрочем, я далек от политики, хотя и готов сопровождать вас в изгнание, быть вашим учеником и помощником. — Если бы у меня хватило времени, я прежде всего выучил бы вас марксизму. Так вот! Я встречался с Фридрихом Энгельсом, с этим замечательным человеком, когда еще пылким юношей бывал за границей. Старый философ рассказывал мне, что работает над книгой о природе, применяя для понимания ее законов материалистическое учение и диалектический метод. Он в этой работе затрагивал вопросы, закономерности возникновения и развития жизни. Жизнь, первая живая клетка, неизбежно должна была возникнуть, когда условия на какой-нибудь планете оказались благоприятными. Развитие жизни всюду должно было начинаться с одних и тех же азов. Высшие формы жизни, по крайней мере у нас на Земле, связаны с позвоночными, у которых наиболее совершенная нервная система. А высшим среди высших является то позвоночное, в котором природа приходит к познанию самой себя, — человек. Я бы не ожидал встретить на другой планете в роли тамошнего «царя природы» муравья или саламандру. Условия на планетах разные, вернее — смена этих условий различна, а законы развития жизни одни и те же. Все преимущества строения позвоночных, которые определили высшую ступень их развития на Земле, неизбежно сказались бы и на любой другой планете, если условия вообще допускали бы там возникновение и развитие жизни. Но уж если жизнь возникла, то она будет развиваться и в конце концов, как говорил Энгельс, неизбежно породит существо, которое, подобно человеку, познает природу. И клянусь вам, Кленов, на расстоянии версты оно будет походить на человека! Оно будет ходить вертикально, будет иметь свободные от ходьбы конечности, которые позволят ему трудиться, развить этим свое сознание и возвыситься над остальными животными. Конечно, в деталях разумные существа других планет могут отличаться от нас: быть других размеров, иного сложения, волосяного покрова… ну, и сердце у тех существ не обязательно будет в левой стороне, как у земных позвоночных… Кленов тяжело вздохнул: — Я не понимаю, почтенный Михаил Иванович, какое это все имеет отношение к физике или черномазой шаманше? Баков загадочно усмехнулся: — Как знать! Вот, например, мертвый стоячий лес, который я сфотографировал среди поваленной тайги. Не кажется ли вам, что взрыв произошел не на земле, а верстах в пяти над нею? Взрывная волна ударила во все стороны. И там, где фронт ее был перпендикулярен деревьям, они не были повалены, потеряв лишь верхушки и сучья. Но всюду, где удар пришелся под углом, деревья были повалены, а на возвышенностях — даже на сотню верст. Видите? — И Баков показал на возвышенность, по склону которой лежали стволы деревьев. — Что же из этого следует? — недоумевал Кленов. — То, что метеорит никогда не падал в тайгу, — отрезал Баков. Они могли ехать рядом лишь по краю болота, где тайга расступается. Болото кончилось, и деревья сомкнулись. Баков, ударяя своего рогатого конька пятками, погнал его вперед за оленем Лючеткана.Глава III. ТЯЖЕЛЫЙ ПОДАРОК
В стойбище со странным названием «Таимба» русских приняли радушно. Они остановились в чуме старика Хурхангыря, старейшего в роде. Михаил Иванович всячески допытывался, из какого рода живущая в стойбище шаманша. Но удалось ему установить только то, что до появления ее в роде Хурхангырь о ней никто ничего не знал. Возможно, что языка и памяти она лишилась во время катастрофы, по-видимому окончательно так и не оправившись. Лючеткан сказал русским, что у шаманши есть свои странные обряды. И он шепнул, что покажет бае камлание. Оказывается, она шаманила ранним утром, когда восходит утренняя звезда. Лючеткан разбудил Бакова и Кленова до рассвета. Они встали и вышли из чума. Глядя на рассыпанные в небе звезды, Баков сказал Кленову: — Джордано Бруно сожгли на площади Цветов в Риме за то, что он предположил существование жизни и разумных существ, кроме Земли, на многих мирах. — В наше время вас не сожгут на костре, но я не советовал бы вам, Михаил Иванович, выступать с подобными утверждениями. Баков усмехнулся. Конический чум шаманши стоял у самой топи. Сплошная стена лиственниц отступала, и были видны низкие звезды. Лючеткан сказал: — Здесь стоять надо, бае. Ученые видели, как из чума вышла высокая женщина, а следом за ней три старушки тунгуски, казавшиеся совсем маленькими по сравнению с шаманшей. Процессия гуськом двинулась по топкому болоту. — Бери шесты, бае. Провалишься — держать будут. Стороной пойдем, если смотреть хочешь. Словно канатоходцы, с шестами наперевес шли двое ученых по живому, вздыхающему под ногами болоту, а кочки справа и слева шевелились, будто готовые прыгнуть. Даже кусты и молодые деревья раскачивались, цеплялись за шесты и, казалось, старались заслонить путь. Ученые повернули за поросль молодняка и остановились. Над черной уступчатой линией леса, окруженная маленьким ореолом, сияла красная звезда. Шаманша и ее спутницы стояли посреди болота с поднятыми руками. Потом скрывшиеся в кустарнике наблюдатели услышали низкую длинную ноту, и, словно в ответ ей, прозвучало далекое лесное эхо, повторившее ноту на какой-то многооктавной высоте. Потом эхо, звуча уже громче, продолжило странную, неземную мелодию. Баков понял, что это пела Таимба. Так начался этот непередаваемый дуэт голоса с лесным эхом, причем часто они звучали одновременно, сливаясь в непонятной гармонии. Песня кончилась. Ни Баков, ни Кленов не могли двинуться. — Не кажется ли вам, что это доисторическая песнь? Не верна ли моя гипотеза о доледниковых людях? — испытующе спросил Баков. Кленов недоуменно пожал плечами. Днем ученые сидели в чуме шаманши. Их привел туда Илья Иванович Хурхангырь, сморщенный старик без единого волоска на лице. Даже ресницы и брови не росли у этого лесного жителя. На шаманше была сильно поношенная парка, украшенная цветными тряпочками и ленточками. Глаза ее были скрыты надвинутой на лоб меховой шапкой, а нос и рот закутаны драной шалью. Гости сидели в темном чуме на полу, на вонючих шкурах. — Зачем пришел? Больной? — спросила шаманша низким бархатным голосом. И обоим ученым сразу вспомнилась утренняя песнь на болоте. — Вы верите только экспериментам? — прошептал Кленову Баков. — Наблюдайте, я проведу сейчас необыкновенный эксперимент. — И он обратился к шаманше: — Слушай, бае шаманша. Ты слышала про Москву? Есть такое стойбище. Много каменных чумов. Мы там построили большой шитик. Этот шитик летать может. Лучше птиц. До самых звезд летать может. — И Баков показал рукой вверх. — Я вернусь в Москву, а потом полечу в этом шитике на небо. На утреннюю звезду полечу, которой ты песни поешь. Шаманша наклонилась к Бакову — кажется, понимала его. — Полечу на шитике на небо! — горячо продолжал Баков. — Хочешь, Таимба, возьму тебя с собой на утреннюю звезду? Шаманша смотрела на Бакова синими испуганными глазами. В чуме стояла мертвая тишина. Кленов потерял дар слова от возмущения. Но Баков не оглядывался на него. Он тщетно старался разгадать черты скрытого шалью лица. И вдруг шаманша стала медленно оседать, потом скорчилась и упала на шкуру. Вцепившись в нее зубами, она принялась кататься по земле. Из ее горла вырывались клокочущие звуки — не то рыдания, не то непонятные, неведомые слова. — Ай, бае, бае! — закричал тонким голосом старик Хурхангырь. — Что наделал, бае! Нехорошо делал, бае. Шибко нехорошо… Иди, скорей иди, бае, отсюда. Священная звезда, а ты говорил плохо… — Разве можно задевать их верования, профессор! Что вы наделали! — сокрушался Кленов. Ученые поспешно вышли из чума. С непривычной быстротой бросился Лючеткан за оленями. Трудно найти более миролюбивых людей, чем тунгусские лесные охотники, но Баков теперь их не узнавал. Ученые уезжали из стойбища, провожаемые угрюмыми, враждебными взглядами. — Я не могу понять, как вы с вашим добрым сердцем могли так жестоко поступить, — едва сдерживая себя, говорил Кленов. — Батенька мой! Мы на пороге великого открытия! Если бы мне понадобилось не только напугать старуху, но и самому умереть от разрыва сердца, я бы все равно пошел на это. Баков всегда был таков. В Петербурге его недолюбливали за то, что он не скрывал своих симпатий и антипатий, что называется — рубил сплеча, и во взглядах и суждениях своих был невоздержан. — Вам нужно беречь свое больное сердце для действительно крупных научных открытий, которые ждут вас не в тайге, а в лаборатории Холмстеда! — возвысил голос Кленов. — Дорогой мой, надо видеть связь между высказыванием Энгельса, характером взрыва в тайге и реакцией Таимбы! — сказал Баков. Кленов не ответил. Он мысленно проклинал охранку, которая довела крупного ученого до теперешнего состояния. Погода испортилась. Резко похолодало. Выпал снег. За весь путь до Подкаменной Тунгуски ученые не сказали ни слова. Шитик Бакова ждал его. Он решил отпустить тунгуса с оленями и продолжать путь по реке. Лючеткан распрощался с русскими и уехал в свое стойбище. — Садитесь на весла, — предложил профессор Кленову. — Это должно вас успокоить. Они сели в шитик и молчали до того самого момента, когда, почти достигнув противоположного берега, услышали за спиной один за другим два выстрела. Оглянувшись, они заметили на берегу подпрыгивающего тунгуса. Он размахивал двустволкой. Рядом с ним виднелся сохатый. Ни минуты не колеблясь, повинуясь общему молчаливому решению, Баков и Кленов развернули шитик и изо всех сил стали грести обратно к берегу, где ждал тунгус. Шитик с разбегу почти наполовину выскочил на камни. — Бае, бае! — закричал тунгус. — Скорее, бае! Времени бирда хок. Совсем нету. Шаманша помирает. Велела тебя привести. Что-то говорить хочет. Ученые понимающе посмотрели друг на друга. Баков когда-то слышал, что лоси бегают по восемьдесят верст в час. Но ощущать это самому, судорожно держась за нарты, чтобы не вылететь, видеть проносящиеся, слитые в мутную стену пожелтевшие лиственницы, щуриться от летящего в глаза снега… Нет! Ощущения этой необыкновенной гонки он не мог бы передать. Тунгус неистовствовал. Он погонял сохатого диким криком и свистом. Комья мокрого снега били в лицо, словно началась пурга. От ураганного ветра прихватывало щеки, как в мороз. Вот и стойбище. Кленов протирал запорошенные глаза, растерянно щурился. Толпа тунгусов ждала прибывших. Навстречу им вышел старик Хурхангырь: — Скорее, скорее, бае! Времени совсем бирда хок! — По щекам его одна за другой катились крупные слезы. Оба ученых побежали к чуму. Женщины расступились перед ними. В чуме было темно. Посередине на высоком ложе с трудом угадывалось чье-то огромное тело. Баков схватил Кленова за руку. Он смутно видел, скорее мысленно рисовал незнакомые, по-своему красивые черты смолисто-черного лица, странные выпуклости надбровных дуг, строго сжатые губы, тонкий нос. Разглядеть все это было нельзя. Баков полез в карман за спичками. Но Кленов остановил его. — Неужели умерла? — тихо спросил Баков. Кленов наклонился, стал слушать сердце. — Не бьется! — испуганно сказал он. Потом стал выслушивать снова. — У нее сердце… в правой стороне! — отпрянув, прошептал он. — Я этому не удивляюсь, — сказал Баков и скрестил на груди руки. Безмолвный, погруженный в свои мысли, стоял он над умирающей неведомой женщиной. Вокруг толпились старухи. Одна из них подошла к Бакову: — Бае, она уже не будет говорить. Помирать будет. Передать велела. Лететь на красную звезду будешь — обязательно с собой возьми Таимбу… И вот еще передать велела… для шитика твоего… — И старуха протянула Бакову небольшой предмет, с виду просто кусок металла. Баков взял его и почувствовал, как руку потянуло книзу. Даже самородок золота не был бы таким тяжелым. Старухи заплакали. Ученые тихо вышли из чума. Они уже ничем не могли помочь умирающей.Глава IV. БЕГСТВО
— Ходи-ходи мало, тихо… Тут кустах лодка будет… Баков едва слышал шепот проводника. Приходилось сжимать зубы, чтобы не застонать. Знакомая одуряющая боль шла от сердца, отдавалась в лопатках. Онемела левая рука. Только люди с больным сердцем знают, что зубная боль не самая мучительная. Но Баков не мог, не имел права стонать. — Мало-мало тише, однако. Ходи змеей, пожалуйста. Холодный пот выступил у Бакова на лбу. Теперь бы полежать здесь, в кустах. Может быть, отпустит, пройдет приступ… Но останавливаться нельзя. И Баков, кусая губы, полз. Под крутым бережком у корейца была спрятана лодка. Он скользнул вниз. Баков лежал на спине и широко открытыми от боли глазами смотрел на черное небо, на котором не было видно ни одной звезды. «Плохо с сердцем, — думал профессор. — Так много надобно сделать… Трансурановые!.. Холмстед будет потрясен. Хоть бы годик еще прожить…» Кэд обматывал тряпками весла. «Ему, по-видимому, не впервые переходить границу. Контрабанду, что ли, носит?.. Где его только достал Кленов? Бедняга Иван Алексеевич волнуется, поди, сейчас». Баков ощупал в кармане кусок металла, завернутого им для предосторожности в свинец. Еще на заимке он сравнил вес куска с самородком золота, найденным им в тайге. Слиток сразу показался Бакову необыкновенно тяжелым, но результаты первого опыта превзошли все ожидания. Неведомый металл был не только тяжелее золота, но и тяжелее урана. Баков определил его атомный вес в 257. А ведь уран имеет всего лишь 238! Когда-то, еще в Петербурге, профессор Баков, анализируя открытие супругами Кюри радия, высказал предположение о существовании на Земле, если не теперь, то в прошлом, элементов тяжелее урана, трансурановых, которые успели ныне распасться на более легкие элементы, как распадается радий, в конце концов превращаясь в свинец. Баков назвал в своей статье гипотетический элемент, самый тяжелый из трансурановых, радием-дельта. И вот случай передал в руки ученого металл, который несомненно, судя по весу, относился к трансурановым. Это и был предсказанный им радий-дельта! Исследовать его, как можно скорее всесторонне исследовать! Сообщение о радий-дельта будет не менее сенсационным, чем открытие сверхпроводимости. Кстати, надо повторить опыт Камерлинга Оннеса, посмотреть, как будет влиять радий-дельта на сверхпроводимость. А главное, торопиться нужно, успеть, пока сердце… Откуда-то появился Кэд и потянул Бакова за собой. Через минуту Баков был уже в лодке. Кореец заставил его лечь на дно. Сам он примостился на скамейках так, что мог грести лежа. На носу и корме лодка имела фальшивые борта и похожа была на бревно. Обмотанные тряпками, весла бесшумно опускались в воду. Пошел сильный дождь. По тихому Амуру, скрытая темнотой и ливнем, поплыла коряга. Когда лодка достигла середины Амура, Баков тихо сказал: — Слушай, ходя! Одну вещь мне достать шибко надо. — Можно достать, — шепотом согласился кореец. — Деньги надо. — Самородок золота видел у меня? Отдам. — Чего надо-то? — Жидкий гелий мне нужен. — Жидкий? Пить будешь? — Нет. Люто холодная жидкость. В Токио, в университете, наверно, она есть. — Если мало-мало есть, берем, — успокоил Кэд. — Харбин будем — знакомый японец скажу. Золото шибко любит. На русском берегу прозвучал выстрел. Там не могли слышать шепота беглецов. Просто казак выстрелил «для опасности» в корягу…* * *
Кленов шел по улице Харбина. Навстречу ему бежали китайчата, которые продавали «Русское слово». Бородатый купец в поддевке открывал лавку. Путейский инженер с бакенбардами и в фуражке с молоточками проехал на рысаке. Подковы звонко цокали по булыжной мостовой. Китаец нес на голове огромную корзину. Дворник отборной русской бранью отчитывал провинившегося мальчишку. Какая-то дама с помятым лицом остановила Кленова и спросила по-русски, как ей пройти к вокзалу. Кленов ответил по-английски, что не понимает. Дама проводила его удивленным взглядом. Кленов читал русские вывески и никак не мог представить себе, что он в Китае. Вот и нужный переулок. Сомнительный кабачок. Хозяин уже знал Кленова в лицо. Четвертый день этот хорошо одетый господин сидит в его заведении, завтракает здесь, обедает, ужинает, но ничего не пьет. Наверно, ждет кого-то… Кленов занял привычный уже столик у окна, вдали от входа. По грязной клеенке ползали мухи. Подбежавший китаец с косой смахнул салфеткой со стола невидимые крошки. Но мухи снова сели. Кленов приготовился долго ждать. И вдруг в кабачок вошел Баков, такой же огромный, как и в Петербурге, как и в тайге, но чем-то не похожий на прежнего Бакова. Он гладко выбрит! Он без бороды! Кленов приподнялся было, но услышал знакомый голос: — Мало-мало сиди, пожалуйста, шуметь шибко не надо. Оглянувшись, он увидел Кэда. Баков протянул руку и тяжело опустился на стул. Только сейчас, глядя на безбородое лицо Бакова, Кленов понял, как сильно изменился профессор. Он помнил его в университете десять лет назад — шумного, любящего пошутить со студентами, помнил на студенческих сходках, которыми профессор не гнушался, встречал его и на студенческих пирушках, на которых профессор пил больше всех и громче всех пел запрещенные песни. В 1905 году произошло с Баковым несчастье: его дочь, курсистка, не вернулась с Обуховского завода, когда там были беспорядки… С тех пор и заболел тяжело сердцем профессор Баков, с тех пор и стал он резок в словах и выступлениях, которые в конце концов привели его в сибирскую ссылку. — Здравствуйте, голубчик Иван Алексеевич, — сказал Баков, тяжело дыша. — Был я сейчас здесь в подвале. Ничего, подходящее место. — В каком подвале? — ужаснулся Кленов. — В винном, под кабачком. — Зачем вам винный погреб? — недоумевал Кленов. — Задержаться нам с вами придется, дорогой ассистент. Исследуем здесь подарок Таимбы. — Боже мой, Михаил Иванович! Нас ждет Холмстед! Первоклассная лаборатория! Приборы! А вы… о винном погребе. — Вот именно, голубчик. Не уверен я, что доберусь до этих приборов… — Что вы говорите, Михаил Иванович! Вы прошли самое, осмелюсь вам заметить, трудное. — С этим ходей, — указал Баков на маленького Кэда, — я бы к черту в пекло пролез и обратно выбрался вместе с котлом кипящей смолы. Но я не знаю, довезет ли он до Холмстеда вот эту деталь моего организма. — И Баков постучал в левую часть своей груди. — Опять сердце, Михаил Иванович? Баков кивнул: — Поторопиться хочу. Отдал ему самородок золота. Пусть достанет баллон жидкого гелия и кое-какое оборудование, самое примитивное… Я ведь еще не забыл, какой талант экспериментатора обнаружил когда-то профессор Баков у студента Ивана Кленова… А? Иван Алексеевич? Беретесь повторить опыт Камерлинга Оннеса со сверхпроводимостью? Кленов действительно был изумительным экспериментатором, а Кэд — бесценным человеком. За короткий срок в винном погребе под харбинским кабачком, который содержал подозрительный толстый и неряшливый китаец, оборудовали физическую лабораторию. В нее были протянуты электрические провода, доставлены кое-какие приборы, а главное — баллон жидкого гелия, присланный в адрес кабатчика из Токийского университета. В этой примитивной лаборатории Кленов по настоянию совсем расхворавшегося Бакова повторил опыт Камерлинга Оннеса. Он опустил в жидкий гелий свинцовый проводник. При температуре -271 °C всякое электрическое сопротивление в нем исчезло. — Голубчик мой, — сказал наблюдавший за приборами Баков, — понимаете ли вы, что это значит? Если ток проходит без затраты энергии, то в магнитном поле вокруг проводника сохраняется энергия. Ее будет сохраняться в пространстве огромное количество. Перед нами сверхаккумулятор! — Это было бы так, если бы сверхпроводимость не исчезла при больших магнитных полях, — напомнил Кленов. — А вы пробуйте, изучайте, экспериментируйте… Мы с вами уже определили немало любопытнейших свойств радия-дельта. Он радиоактивен, он и служит катализатором для редких химических реакций. Посмотрим, как он влияет на сверхпроводимость… — Создать защитный слой, который предохранил бы сверхпроводник? — спросил Кленов. Баков кивнул. Только Кленов с его изобретательностью и блестящим талантом экспериментатора мог осуществить задуманный Баковым опыт. Он создавал все необходимое для эксперимента «из ничего». И результат превзошел все ожидания. Баков не допускал в подвал никого, даже верного Кэда, который был этим почему-то очень обижен, но в конце концов покорно смирился. Только установив, что радий-дельта действительно способствует сохранению явления сверхпроводимости при сильных магнитных полях, только убедившись, что они с Кленовым на пороге величайшего открытия. Баков согласился ехать дальше к Холмстеду, чтобы там завершить начатую в харбинском кабачке работу. — Голубчик Иван Алексеевич, — говорил Баков, тяжело дыша, — осчастливим человечество! Каждый в жилетном кармане сможет носить Ниагару… — Надобно разыскать месторождения радия-дельта в тайге, — предлагал Кленов. — Боюсь, голубчик, что эти месторождения находятся за много миллионов километров от тайги, — полусерьезно, полушутя говорил Баков. Еще в Шанхае в ожидании американского парохода Баков начал писать статью о радий-дельта, которая должна была явиться продолжением его старой работы о трансурановых. Писал ее Баков в номере отеля, лежа в постели. Доктор-англичанин, осматривавший его, запретил ему вставать. Отведя Кленова в сторону, врач посоветовал сразу же по приезде в Сан-Франциско пригласить лучших профессоров. Прощаясь, он многозначительно покачал головой. И все же Баков настоял на своем отъезде. Рикши и кули, иностранные моряки и зеваки в порту с любопытством наблюдали, как к джонке пронесли на носилках какого-то больного господина. Когда джонка подплыла к стоявшему на рейде пароходу, оттуда для больного специально спустили на канате кресло. Все долгое морское путешествие Кленов и Кэд трогательно ухаживали за Баковым. Уже не гремел больше раскатистый бас профессора. Он часто впадал в забытье и, как казалось Кленову, заговаривался. Чем иным, кроме бреда, мог объяснить Кленов то, что Баков все чаще вспоминал о взрыве в тунгусской тайге, который произошел якобы не от удара метеорита о землю, а на высоте пяти верст над землей, в воздухе; о чернокожей Таимбе, найденной тунгусами в тайге после взрыва и мечтавшей «вернуться на красную звезду». Однажды во время бреда профессор заговорил даже о каком-то межпланетном корабле, который взорвался, не долетев до Земли… Баков бредил, но у Кленова в багаже лежала вещественная память о таинственной Таимбе — неведомый трансурановый элемент, названный Баковым, радием-дельта…* * *
Бывший петербургский профессор Михаил Иванович Баков умер 28 октября 1913 года в Сан-Франциско, не дописав последнюю научную статью, так и не увидевшую света. Возможно, что в этой статье он сумел бы с неумолимой логикой связать взрыв в тайге, появление Таимбы я ее радий-дельта, суливший миру необыкновенные перспективы. Но смерть профессора Бакова на время оборвала нить, ведущую к изумительному открытию. Ученые вернулись к проблеме Тунгусского метеорита лишь сорок лет спустя.ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЛЕТАЮЩИЕ ДЕРЕВЬЯ
— Потом, делая вид, что смотрите на небо, потихонечку переводите глаза на листву, только так, чтобы дерево не заметило!.. Потом дождитесь, когда над листвой пойдут облака, а ветер начнет раскачивать верхушку, тогда… — Что тогда? — Тогда прищурьтесь… — Прищуриться? — Да-да… И оно полетит! — Кто полетит? — Дерево.
Глава 1. СОЖЖЕННЫЕ СНЕГА
— Хелло! Осторожно!.. Гэй!.. Испуганный голос прокатился в ущелье, отдался глухим эхом. Три лыжника мчались вниз. Снежные блестки слились в искрящиеся полосы. Мутной пеленой проносились стены ущелья. Они в тиски зажимали дорогу, кончаясь наверху снежной, словно раскаленной добела кромкой. Дорогу выбирал мужчина с энергичным, красивым лицом. Он умело лавировал между камнями. Вслед за ним, повторяя его движения, неслась тоненькая девушка. Шарф ее развевался по ветру, чуть наклоненная вперед фигурка напряглась. Позади, почти сев на корточки, катился человек гигантского роста; его мокрое лицо было багрово. Лыжи первого затормозили внезапно. Его ботинки выскочили из креплений, и он покатился по каменистой земле. Однако тотчас встал. Девушке удалось остановиться. Дальше лежали только пятна рыхлого снега. — Бросайте лыжи! — закричал мужчина, поднимая с земли шапку. Видя, что девушка не может справиться с ремнями, он вернулся к ней и стал на одно колено. Подъехал третий лыжник. — Ураганом несет… Чертово облако!.. — прохрипел он. Девушка взглянула вверх. — Скорее, мистер Вельт! Скорее… — шептала она. Вверху, почти касаясь снежного склона, плыло странное огненное облако. — Поздно заметили! — сказал Вельт, вставая. Все трое побежали. Они прыгали по камням, проваливались в снег, скользили по замерзшим лужам… Огненное облако окутало снежный склон. Никто не видел, как осели подтаявшие сугробы, как мгновенно вспыхнули смолистые ели, как смешался едкий дым со странным светящимся туманом. Снега словно горели: над ними струился серо-фиолетовый дым. По свежим лыжным следам помчались мутные воды. Будто спасаясь от огня, они прыгали по камням, смывали снег, шипели, набухали, пенились… — Ганс, надо остановиться! — крикнул Вельт, видя, что девушка теряет силы. — Нет… бежать… Вода! Облако растопило снега! Вельт подбежал к девушке. Она, уже ко всему безразличная, прислонилась к каменной стене. Молодой человек схватил ее на руки. — Позвольте мне! — закричал гигант. Но Вельт не обернулся. Прыгая и спотыкаясь, бежал он вниз. Ганс старался держаться рядом. Дорога шла между неприступными скалистыми бастионами. Ни одно деревце, ни один куст не росли на темном граните. Путь был только один — вперед! Бежать, бежать… Спасение в том, чтобы достигнуть Белой виллы. Но до Белой виллы было далеко. Лишь в самом конце ущелья, над зеленью горного склона, поднималась круглая башенка, словно каким-то чудом перенесенная в эту глушь.* * *
Со дна ущелья к узорным воротам благоустроенного парка вела недавно проложенная крутая дорога. Сейчас по ней с треском и дымом взбирался автомобиль марки «лексингтон», с высоким шасси, позволяющим проходить по плохим американским дорогам. Низенький человек с раскосыми глазами поднялся из-за руля и открыл ворота. Со стороны дома к воротам спешил румяный старик. Был он сед, прям и сух; шел непомерно широкими шагами, почти не сгибая ног в коленях. — Хэлло! — закричал он, подойдя к автомобилю, и протянул руку молодому человеку с небольшой бородкой. — Как ваши дела и мои поручения, мистер Кленов? Приехавший неуклюже поднялся, уронил несколько пакетов и попытался выбраться из машины. Старик помог ему, придерживая рассыпающиеся свертки. Сойдя на землю, молодой человек протянул руку старику, хотя они уже поздоровались. — Профессор, здравствуйте! Ужасная досада! Кругом неудачи. В городе все сошли с ума. Там царит, я осмелюсь так выразиться, массовый психоз. Ни я, ни Кэд ничего не могли достать… Реактивы, профессор, столь необходимые нам реактивы, полностью закуплены военными фирмами, получившими европейские заказы. В одном месте с меня запросили десятикратную цену. Возмущенный, я отказался… Потом искал целый день. И представьте себе, не только реактивов — даже сливочного масла не мог достать, честное слово! И сахара тоже, профессор, нигде нет… Не обещают раньше завтрашнего дня… У всех на уме и на языке только война. — Постойте, Джонни! Как так — нет сахара? С чем же мы будем пить кофе? Молодой человек смущенно погладил бородку. — Вы поразительно непрактичны! — рассердился профессор. — Мыслимое ли дело — на Американском континенте в 1914 году от рождества Христова не достать масла из-за того, что где-то в Европе началась война! — Я и сам об этом думал всю дорогу, мистер Хомстед, и решил, что война — это несчастье. Ее нужно прекратить. — «Прекратить»! — передразнил профессор. — Хватит с меня одного сумасшедшего ассистента, который мечтает с помощью своих открытий зажечь в Ирландии революционный пожар! Не вы ли прекратите войну? Профессор и его ассистент шли по направлению к флигелю. Немного подумав, Кленов серьезно сказал: — Да, это сделаю я, профессор. Старик остановился и вопросительно посмотрел на молодого человека. — Не болтайте, Джонни! Какое вам дело до войны? Я понимаю, конечно, — сахар! Это действительно проблема. Но высшие идеалы… Плюньте! Наука есть наука, она призвана служить только коммерции. — Профессор высоко поднял плечи. — Научные открытия должны делаться ради них самих. Когда открытие сделано, вот тогда его можно продавать. — Продавать кому угодно? Не думая, для каких целей оно может быть использовано? — Вообразите себя, Джонни, на одну минуту продавцом иголок. Какое вам дело до того, собирается ли покупатель проглотить ваши иголки, положить их соседу в суп или зашить дыру на жилете? Вы продаете свои иголки и делаете свой бизнес. Так делайте, пожалуйста, свои иголки, мистер Кленов, с помощью предоставленных мною машин, а продавать буду я, не задумываясь, кого они уколют. Пусть Ирландец тешится своими идеями. Это заставляет его лучше работать. Мой принцип — привлекать к работе людей любых взглядов. Но вы — здравомыслящий человек, блестяще завершивший работу своего покойного шефа! Верьте мне, я сумею ее реализовать, и у нас будет американский комфорт, несмотря на европейскую войну. Кленов с сомнением покачал головой: — Я не думал обо всем этом раньше. Но теперь твердо решил продиктовать Европе свою волю. Порукой тому — сила нового открытия! — Джонни! В европейские дела я вмешиваться не посоветовал бы даже президенту, а не то что вам. Я готов месяц просидеть без сахара, лишь бы не беседовать с вами об этом еще раз. Все, сэр! Старик повернулся и зашагал к флигелю, над которым возвышалась небольшая круглая башенка. Обычно Кленов никогда не поднимался туда, зная, что профессор не любит, когда мешают его работе; отсюда он наблюдал отдаленный склон, где, по слухам, находилась его вторая, секретная лаборатория. Стоя посреди дорожки. Кленов сосредоточенно рассматривал ботинки. Вдруг он услышал крик. Из окна башенки высунулся встревоженный профессор: — Эй, Джонни! Живо! Узнайте у Кэда, не вернулись ли Мод и Вельт! Кленов послушно отправился разыскивать Кэда. Через минуту он поднялся по крутой лестнице в башенку и, открыв дверь, увидел согнувшуюся пополам тощую фигуру профессора, смотревшего в маленький телескоп. — Нет, мисс Мод не возвращалась, Вельт и Ганс — тоже. Профессор повернулся, посмотрел мимо Кленова и спустился вниз. — Проклятый Ирландец! — крикнул он. Растерявшийся Кленов неуверенно вошел в башенку, заглянул в телескоп, направленный на ближайший горный склон. — Что это? Откуда здесь горный поток? — пробормотал он. Выпрямившись, Кленов увидел в окно, что старик Холмстед бежит, а его догоняет Кэд. — Спасите, спасите их, Кэд!.. Вода… Моя девочка… — донеслось до Кленова. Кэд, не отвечая, почему-то побежал обратно к вилле. — Куда же вы, Кэд? Надо помочь! — кричал ему старик. Испуганный и запыхавшийся Кленов догнал профессора только у ворот. Он уже видел бегущих людей и слышал рев воды. Из-за камней выскакивали грязные, пенящиеся буруны. Поток, вздымая облака брызг, затоплял ущелье. Вельт бежал по колено в воде. Ганс, несший теперь Мод, поскользнулся. Вельт обернулся и на мгновение остановился, но в лицо ему ударила пена. На секунду мелькнуло тело Мод. Разъяренная вода смыла людей и понесла их по придорожным камням.
Рядом с профессором и Кленовым появился Кэд. Быстрыми движениями он привязал к дереву веревку. В следующее мгновение он ринулся вниз по крутому откосу. Сорвавшиеся камешки не поспевали за ним. Вдали на поверхности воды показались Ганс и Вельт. Головы их, то исчезая, то появляясь, казались маленькими точками. Кленов прислонился к дереву и закрыл глаза. Он очнулся оттого, что Холмстед тормошил его. — Тащите же! Тащите! — кричал старик. Кленов с трудом понял, что от него требовалось. Вдвоем, напрягая все силы, они принялись тянуть веревку. К концу веревки Кэд привязал обыкновенную рыболовную сеть, которой он перегородил узкое, бурлившее теперь пеной ущелье. Поток мчал свои жертвы прямо на эту преграду, и скоро в натянутой, готовой порваться сети бились, словно гигантские рыбы, трое людей. С большим трудом удалось вытащить их на скалы. Кэд, державшийся за другой конец сети, выбрался из воды последним. По мокрому лицу его расплывалась кровь. Поток набухал, затопляя скалы. Медлить было нельзя. Кленов и Холмстед неумело понесли Мод. Вельт и Ганс плелись сзади. Когда они находились уже в безопасности, профессор многозначительно взглянул на Вельта. Тот понимающе кивнул. — Кажется, я разбил стекло на часах, — сокрушенно сказал Ганс. Вновь рожденный поток бился внизу, как непрекращающиеся волны прибоя.
Глава II. ТАИНСТВЕННЫЕ ГАЛОШИ
В глуши Аппалачских гор затерялась крутая, едва проходимая дорога. Пара лошадей с трудом тащила несколько необычный груз. На прочной телеге, типа переселенческих фургонов, лежало нечто вроде огромной металлической бочки. Рядом шел пожилой человек с седыми бакенбардами. Он нещадно колотил лошадей и ругался. Чуть выше, за поворотом дороги, отдыхали двое. Один из них, коренастый и плотный, починял развалившуюся обувь. Другой, длинный и рыжий, лежа на траве, смотрел в небо. — Нет, мистер Серджев, меня все-таки интересуют эти газетные сообщения. — Опять вы об этих репортерских измышлениях! Газетам мало материала о европейской войне! Вместо того чтобы раскрыть истинную сущность этой кровавой бойни, они для развлечения и возбуждения читателей выдумывают басни о страшных огненных облаках. — Однако ведь Билль клялся, что сам видел такое облако, когда шел по старой просеке. — Бросьте! Билль всегда пьян. — Нет! Что же это может быть: выброшенный из вулкана пепел или шаровая молния? — упрямо спрашивал рыжий. — Откуда я знаю! Вы славный парень, Джимс, но у вас есть два существенных недостатка. Вы ничего не умеете делать и чересчур много расспрашиваете. Вы не похожи на американца. — Да, я англичанин, мистер Серджев. Оба мы с вами здесь иностранцы. Но неужели вы ничего не слышали об облаке? Ведь вы давно околачиваетесь в этих местах. — Да, но скоро уйду. Началась война. Надо бороться. — На чьей стороне? — живо спросил Джимс, незаметно взглянув на своего товарища. — Против обеих сторон, — сказал Серджев, надевая башмак. — Мистер Серджев, — Джимс закинул руки за голову, — вот вы, вероятно, революционер… Мне, конечно, нет до этого никакого дела. — Джимс сплюнул. — Но скажите: вы не встречались в этих местах с неким Ирландцем, не имеющим другого имени? Он тоже мечтает о революции, об освобождении Ирландии. Серджев подозрительно посмотрел на своего товарища. — Я пойду, — сказал он, поднимаясь, — есть хочется. — Куда? — зевнул Джимс. — Да, недурно бы закусить. — В Пенсильванию. На уголь. В рабочие районы. — Нет, я остаюсь. Я хочу еще побыть в этих местах. Серджев встал. Он был молод и коренаст. Из-за поворота показалась телега с цистерной. Возница остановил лошадей, сунул в колеса палку, чтобы повозка не скатилась вниз, и сказал сиплым голосом: — Пусть кошка научится плавать, если я когда-нибудь еще предприму сухопутный рейс! Даже в бурю против ветра я берусь двигаться быстрее… — Посмотрев на рыжего, он добавил: — Пусть проглочу я морского ежа, если вы не англичанин! Джимс повернулся, чтобы лучше разглядеть говорившего. Увидев странную повозку, он тотчас же сел. — Хэлло, сэр! Как вы поживаете? Не хотите ли поболтать? Куда вы везете эту игрушку? — Этот бочонок? К черту в лапы, сэр! Вот что, парни, я моряк, но плаваю нынче по суше и хочу нанять вас обоих на работу. Мои лошади очень устали, а ехать далеко… Если же яопоздаю, то сумасшедший Ирландец переломает мне все шпангоуты. Слово «ирландец» подбросило Джимса в воздух. — Конечно, конечно! Мы поможем вам. Мы рабочие с лесозаготовок, ищем работу. И если вы хорошо заплатите… — Заплачу, если вы согласитесь проглотить язык. Понятно? — Конечно, сэр! — воскликнул Джимс, словно собственный язык был его любимым лакомством. — Чего вы радуетесь? Напали на след, что ли? — сердито спросил Серджев. — Бросьте ваши подозрения! Я просто рад, что мы нашли работу. Ведь небось жрать-то и вы хотите? — скороговоркой буркнул Джимс. Серджев сплюнул. — Итак, вы — наш босс! — поклонился Джимс вознице. — Не угостите ли чем-нибудь новых пристяжных? — Угощу, но не раньше, чем пришвартуемся у берега горного озера. Придется, парни, вам до вечера потопать. — Это нам не привыкать! Эй, Серджев, беритесь за колесо, вы, босс, за другое, а я буду тянуть лошадь. — А не лучше ли вам тянуть бочонок, а не лошадей? — сердито заметил босс. — Беритесь-ка оба за колеса, получите по полтора доллара. Джимс с необычайным рвением ухватился за колесо. Серджев после минутного колебания взялся за другое. Моряк взмахнул бичом, выругался, лошади рванули, и телега со скрипом тронулась. Медленно ползли мимо скалы и деревья. Жара, казалось, усилилась вдвое. Ноги скользили по гладким камням. Колеса подпрыгивали на ухабах и выбоинах дороги. Возница не переставал ругаться. Лошади были в мыле. Джимс хрипло дышал. Серджев изумленно поглядывал на своего случайного товарища. Никогда он не видел, чтобы тот так старался. Медленно тянулись бесконечные часы утомительного подъема. Люди едва волочили ноги. Моряк не давал передохнуть. Наконец между стволами сосен что-то блеснуло. — Вода! — заорал Джимс. — Пришвартоваться! — скомандовал моряк. — Здесь переночуем. Обессиленный Джимс упал на траву. Пот струился по его красному лицу. — Жарко, — согласился босс, принимаясь распрягать лошадей. Серджев подкладывал камни под колеса телеги и всовывал палки между спицами. Сквозь поредевшие сосны теперь было видно озеро. Деревья спускались к нему амфитеатром. Озеро было странно разделено на две половины. Одна его часть, покрытая тенью, казалась темным бархатом, в то время как другая — ярким шелком. Серджев с интересом рассматривал этот уголок, не нанесенный, быть может, ни на одну географическую карту. — Итак, босс, выкладывайте, что в вашем бочонке? — Эге! Не иначе, как вы думаете, что он полон рома! Джимс сделал неопределенное движение, выражавшее и любопытство и безразличие. — Так слушайте, соотечественник! Пусть обрасту я водорослями, если в этом бочонке не самый отвратительный в мире газ, за которым мне пришлось сделать не одну тысячу миль по Тихому океану… — Моряк раздул огонь. — Кстати, джентльмены, вы никогда не слышали об острове Аренида? — Нет, сэр! — Так запомните это слово на всю жизнь! Аренида! И пусть три года я не буду пить рома, если проболтаюсь о тех страхах, которых там натерпелся. — Но что это за остров Аренида, сэр? — спросил преисполненный любопытства Джимс. — Его нет ни на одной карте. Говорят, в прошлом году на него наткнулся один пьяный капитан, который клялся последней каплей джина, что прежде на этом месте никакого острова не было. — Что же это за остров? Какая на нем растительность? — Какая там растительность! Там нет ничего! Разве это остров? Это просто кончик трубы, через которую черти проветривают свое помещение. Серджев, нехотя прислушивавшийся к словам старого моряка, внезапно насторожился. Движение его не ускользнуло от глаз Джимса. Вскочив на ноги, он стал смотреть в том же направлении, что и его товарищ. — Что такое? — закричал Джимс. — Что это за странная фигура? Здесь такая жара, что не знаешь, куда деться, а к нам идет человек в плаще, да еще с зонтиком! — Но самое интересное, Джимс, у него на ногах, — сказал Серджев. — На ногах? Правда! Никогда в жизни не видел такой обуви. — Этот род обуви, дорогой Джимс, носят только в одной стране. — Эй, что там за человек, одетый словно в штормовую погоду? Странный человек приближался. Непромокаемый плащ с капюшоном развевался на его неуклюжей высокой фигуре. Привлекшая внимание Серджева обувь поблескивала на солнце. — Ведь на нем галоши! Настоящие русские галоши! — шепнул Серджев. — Русский? — воскликнул Джимс. Человек в галошах подошел к путникам вплотную и вежливо снял шляпу. Вместе с зонтиком под мышкой у него был зажат какой-то небольшой предмет. — Добрый вечер, джентльмены! Если я не ошибаюсь, вы приняли решение остановиться здесь надолго. — Сдается мне, сэр, что скорее высохнет Тихий океан, чем мне удастся сдвинуть с места вот этого парня, — сказал моряк, ткнув пальцем в изможденного Джимса. Странный человек задумался. — Это совершенно неожиданная встреча, джентльмены. Я сделал много миль по трудной дороге, чтобы достичь этого глухого места… И вдруг застаю здесь вас… — Вы не очень довольны этим? — спросил Джимс. — Видите ли, джентльмены… Я не знаю, как лучше вам сказать… Я прошел много миль… Я осмелюсь обратиться к вам с просьбой… — Пожалуйста, сэр. — Не откажите в любезности покинуть это место и удалиться отсюда миль на пять… — Что?! — взревел Джимс. Незнакомец смутился и неловко растопырил локти. — Я очень прошу вас, джентльмены. Вам, право, лучше всего удалиться отсюда. — Но ведь мы уже распрягли лошадей, разожгли костер и мечтали о сосисках! — поднялся удивленный моряк. — Мы свернули все паруса, сэр… Кроме того… — Уж не откупили ли вы эти места? — недружелюбно вставил Джимс. — Джентльмены, не просите меня объяснять свою несколько странную просьбу. Для вас это только лишний час пути, для меня это потеря целых двух дней, в течение которых люди убивают друг друга. А ведь время не терпит. — Вы что, парень, свидание, что ли, здесь назначили красотке? — захихикал Джимс. — Я не шучу, сэр. Мне необходимо это озеро и его окрестности. Я забочусь только о вас, о вашей безопасности, вернее — о ваших удобствах. Я готов помочь вам тащить телегу. Только, пожалуйста, уезжайте отсюда! Джимс, Серджев и моряк удивленно переглянулись. — Послушайте, — сказал Серджев, — но ведь должны же быть у вас какие-то соображения! Ведь мы здорово устали. Подъем сюда чертовски крут. — Джентльмены, это очень сложно. Это будет звучать очень странно, даже неожиданно. — Да-да, — вмешался Джимс, — мы желаем знать причины. — Джентльмены! Я прошу… Не вынуждайте меня. Я не уверен, что вы поймете меня… — О-о! Он считает нас идиотами! Благодарим вас, сэр. — Нет-нет! Я, право, далек от этой мысли. Я не хотел вас обидеть. Но это действительно будет звучать странно. Я даже готов… Только согласитесь, выслушав меня, удалиться. Джимс уселся поудобнее: — Рассказывайте. Я обещаю вам: мы уедем, если ваш рассказ покажется нам интересным. Моряк смерил Джимса взглядом и сплюнул. Человек в плаще погладил небольшую бородку: — Что ж, я готов. Заранее прошу простить меня за несколько необычные мысли. Но прошу помнить — вы вынудили меня к этому! — Незнакомец простодушно улыбнулся. — Джентльмены, с моей точки зрения, люди не должны воевать. А если они начали, то в это дело надо вмешаться. Серджев насторожился. Джимс толкнул его в бок. — Это должна сделать наука. Мы, ученые, сильны, мир должен повиноваться нам. Вот в этих руках имеется средство, которое позволит мне пригрозить миру, продиктовать ему свою волю! — Пока что он не мог даже нас отсюда выжить, — шепнул Джимс. — Я вижу, вы слабы в законах человеческой борьбы. Никогда один человек не сможет повернуть мир! — сказал Серджев. — Да, я не изучал законов общественной жизни. До сих пор я ощущал в себе только смутные идеи. Однако вот этой штукой, этим сгустком энергии я хочу остановить войну, пригрозив всем дуракам, которые дерутся! Наука дала мне право ультиматума миру. И мне надо на этом озере испробовать мой аппарат, джентльмены… Вы видите, я откровенен с вами. — Вы что ж, желаете поставить в угол провинившихся королей и императоров? — засмеялся моряк. — Да-да, сэр… Я хочу наказать их, как непослушных детей. И они будут вынуждены меня послушаться. Тогда наступят совсем другие времена. Мы ликвидируем войска. Превратим вооруженные силы всех государств в технические армии, солдаты которых будут работать в общественных предприятиях на благо страны… — Послушайте, батенька мой! — резко оборвал Серджев, переходя на русский язык. — Скажите, из какого сумасшедшего дома вы сбежали? Мы отведем вас обратно. Человек в галошах нахмурился. — Милостивый государь, — заговорил он тоже по-русски, — я позволю себе заметить, что никто не давал вам права меня оскорблять. Вы сами вынудили меня к изложению моих мыслей. Мне необходимо место для опыта. А вы… вы… милостивый государь… — Да понимаете ли вы, товарищ… вы же бредите! Верно, что против войны надо бороться, так как она нужна только капиталистам. Но бороться надо силой организованного класса, а не одному ученому. Поймите, наконец, это! — К сожалению, у меня нет времени для политических дискуссии, к которым я не подготовлен. — Незнакомец нахмурился. — Джентльмены! Я тщетно пытался уговорить вас покинуть район опыта. Я вынужден принести вам свои извинения, но… я не могу больше считаться со случайными помехами. Я сожалею, джентльмены… Человек в галошах открыл зонтик и пошел к озеру. Моряк, наклонившись к Серджеву и Джимсу, тихо сказал: — Ребята, я, кажется, узнаю его. Это один из помощников моего босса, профессора. Надо думать, он рехнулся. Все трое неподвижно смотрели, как спускался к воде человек в плаще. Он остановился на обрывистой скале. Его черный силуэт выделялся на фоне далекой светящейся зелени. — Надо будет заварить горячих собачек, парни! Я захватил с собой целый пакет. Хорошие сосиски! Сколько времени-то? — И моряк вынул часы. — Тысяча три морских черта! Часы мои остановились. Джимс посмотрел на свои часы. Они тоже стояли. Огорченный моряк открыл заднюю крышку часов, где у него был вделан маленький компас. — Вот чудак, — продолжал он, — хочет прекратить войну! Пожалуй, легче сделать себе спасательный пояс из якоря… Эй! Что за наваждение? Компас мой напился рому! Вместо севера он показывает на ту скалу, где стоит этот чудак! Все посмотрели на раздраженного человека под зонтиком. Тот взмахнул рукой, и в воздухе что-то блеснуло. Предмет полетел неожиданно далеко и упал в воду. Человек неуклюже спрыгнул со скалы и со всех ног пустился бежать. Вскоре он скрылся за деревьями. — Конечно, сумасшедший, — заявил Серджев, пожав плечами. — Эй, ребята! Компас мой теперь показывает на середину озера. Чудеса! Свистать всех наверх! Начинается шторм! Действительно, с озером происходило нечто необыкновенное. — Серджев, ущипните меня, пожалуйста, или расскажите, что видите сами, — прошептал перепуганный Джимс. В середине озера, на том месте, где упал предмет, с шипением поднимался столб пара. Через несколько секунд там образовалась воронка. Из нее со свистом стал вырываться пар. Минуту назад лениво-спокойное озеро забурлило. Воронка с каждым мгновением расширялась, превращаясь в огромный кратер. — Кажется, стало видно дно, — буркнул Серджев. Отхлынувшая от берегов вода ринулась затоплять образовавшуюся брешь. Но, попадая в кратер, новые массы воды, словно соприкасаясь с раскаленным, неохлаждающимся телом, превращались в пар. Выброшенное кратером туманное облако окутало окружающий лес, клубясь в верхушках деревьев. Меньше чем в пять минут все горное озеро было осушено и превращено в туман. — Серджев… мистер Серджев! Где же вы? Я ничего не вижу… Голос пропал, как в вате. Лошади тревожно ржали. Моряк беспрестанно ругался. Густой теплый туман застыл в воздухе. Трудно сказать, что именно произошло в следующие минуты: подул ли с гор холодный ветер или свершилось еще что-нибудь. Во всяком случае, необычайное облако пролилось дождем. Что это был за дождь, отлично почувствовали наши путники. На несколько минут вода буквально повисла в воздухе. Затем она ринулась вниз с грохотом горного обвала. Она била, давила, хлестала… — Держитесь за деревья, ребята! — заорал моряк. Дымящиеся струи мчались в котловину озера. Вода достигла пояса. Люди судорожно хватались за деревья. — Это же кипяток, мистер Серджев!.. Спасите! У меня в Стаунгтоне маленькая сестренка… Спасите, мистер Серджев! — Клянусь дном океана, мне залило мою трубку! Эй! Лево на борт! Прячьте голову в карман! Но каждый мог кричать только сам для себя. Низвергавшийся с неба водопад заглушал все. Ливень кончился через несколько минут. Вода озера по крутым берегам стекла обратно, оставив в лесу поломанные ветви, торчащие стволы, перевернутую повозку с напоминающей гаубицу цистерной. Жалкие, мокрые люди беспомощно глядели друг на друга. — Если это сумасшедший, то опасный сумасшедший! — сказал Серджев. — Джентльмены! Не хочет ли кто горячих собак? У меня в телеге был целый пакет сосисок. Они наверняка сварились. — Идите к дьяволу! — сказал мрачно Джимс. — Больше мы вам не работники. — Пойдем, — позвал Серджев, — телега уже больше не поедет. Из ближайшего пункта мы пришлем вам помощь, старик. Джимс выжимал воду из своего костюма. Ноги его по щиколотку были в грязи. — Да, теперь я понимаю, зачем нужны были галоши! — вздохнул Серджев. Простившись с моряком, Серджев и Джимс поплелись по дороге, еле вытаскивая из грязи ноги. Вид у них был жалкий. Мокрые и худые, они походили на ощипанных птиц, вздумавших прогуляться по болоту. Пройдя несколько шагов, Джимс вспомнил про Ирландца, передумал и вернулся к старику с цистерной. Серджев пошел один, насвистывая. Хорошенько обдумав все случившееся, он решил молчать. Все-таки политическому эмигранту лучше быть подальше от полиции.Глава III. СБРОШЕННАЯ МАСКА
Страшное огненное облако, близкая гибель и, наконец, почти чудесное спасение сказались на дочери профессора Холмстеда: она стала задумчивее, не прыгала больше по дорожкам парка на одной ноге и не надоедала Вельту требованиями отправиться на лыжную прогулку в горы. Как-то сразу из девочки она превратилась в девушку. Она даже почувствовала себя обязанной заниматься со своим спасителем Кэдом. Правда, занятия она любила обставлять самым необыкновенным образом. Кэд должен был забираться с ней вместе или на ветви старого дуба, или на крышу виллы. Сегодня местом своих занятий они избрали только что организованную лабораторию низких температур, где с компрессоров для сжатия водорода не убрали еще промасленной бумаги. Мод разложила перед собой тетради Кэда на лабораторном столе, смешно надула губы и важно сказала: — Кэд, я недовольна вами: вы опять ничего не выучили. — О леди! Кэд много-много работы… Босс посылал его в Нью-Йорк. — Ах, так? Отец хочет мешать нашим занятиям? Я ему задам! Я его заставлю самого с вами заниматься, и вы сделаетесь тоже ученым, Кэд! Лицо Кэда растянулось в улыбке: — Мистер Холмстед делал уже так, что Кэд перестал быть дикарь — он стал человек… Мод вздохнула и, подперев подбородок ладонями, задумалась. Кэд почтительно ждал. — A у вас в Корее бывает снег? — внезапно спросила Мод. — Кэд родился не Корея — Карафуто… Сахалин… Там снег бывает совсем часто. — А японцев вы любите? Кэд помрачнел: — Кэд ненавидит японца. Мод спохватилась: — Что же вы не отвечаете мне урок? — Простите, мисс Мод! — послышался гулкий бас. — Ах, это вы, Ганс! — радостно закричала Мод. — Едва нашел вас, мисс Мод. Вы, вероятно, забыли, что мистер Вельт ждет вас у пруда? Мод расхохоталась и всплеснула руками: — Ай-ай-ай, совсем забыла! — Потом вдруг покраснела и стала собирать тетради. — Кэд, вы меня простите… Девушка поспешно выбежала из лаборатории, понеслась было бегом по дорожке, но вдруг остановилась и, важно ступая, медленно направилась к пруду. Еще бы! Ведь ей в первый раз в жизни назначили свидание. Конечно, это ужасно неловко, что за ней надо было присылать шофера Ганса. Но это ничего! Мод закинула назад голову, встряхнула волосами и пошла еще медленнее. Из-за чугунной решетки за ней наблюдал человек в котелке. Сейчас он сильно отличался от жалкого, вымокшего и грязного рабочего с лесозаготовок — Джимса, принявшего недавно столь необычную ванну. Однако это был он. Вынув свою записную книжку, он аккуратно записал, что дочь профессора была в лаборатории низких температур. Так и должен был поступать человек, попавший в число сыщиков частного сыскного бюро, охранявших лабораторию Холмстеда от постороннего любопытства. Вельт еще издали увидел неторопливо идущую девушку. Стройный, подтянутый, он бросился к ней навстречу, взял ее руки в свои, но она неловким движением высвободила их и покраснела. — А я совсем забыла о своем обещании… — сказала она, может быть извиняясь, а может быть немного лукавя. — Сядем? — предложил он. — Сядем, — согласилась девушка и уселась, поджав под себя ноги. Помолчали. Мод подперла подбородок ладонью. Сердце ее колотилось. Ведь это же было ее первое свидание! Почему он молчит? О чем надо говорить в таких случаях? Наверно, о стихах. — Вы умеете писать стихи, мистер Вельт? — Я? — удивился Вельт, но потом смутился. — Откуда вы это знаете? — спросил он тихо. — А я не знаю, — призналась Мод. Вельт вздохнул. Мод — тоже. Ей становилось скучно. Право, читать о свиданиях куда интереснее! — Я прочту вам, мисс Мод, свое стихотворение, если вы только никому-никому об этом не скажете! — Пусть кошка научится плавать, клянусь дном океана, якорь мне в глотку, если скажу кому-нибудь слово! — выпалила Мод. Вельт испуганно посмотрел на девушку. — Это я слышала от того седого джентльмена, который приходил к отцу на прошлой неделе, — объяснила Мод, оправдываясь. — Ну, читайте, читайте! Вельт встал и, глядя вдаль, начал:
Перед ним стоял незнакомый низенький человек с багровыми пятнами на лице, с опущенными уголками рта, весь напряженный, собранный, словно приготовившийся к прыжку. — Проклятье!.. Какую чушь несете вы, Кэд! — Не Кэд, а Кадасима, мистер Фредерик Вельт! — прошипел низенький человек. — Я требую извинений, господин ученый. Вы оскорбили офицера японской императорской армии! Секунду Вельт не понимал еще, кто стоит перед ним. — Кадасима… — произнес он, невольно отступая. Маленький японец надвигался на него. Неторопливым движением он достал из кармана очки в золотой оправе. Никогда прежде полуграмотный кореец Кэд не пользовался очками. По изменившемуся лицу Кадасимы проползла усмешка. Вельт увидел редкие, выпяченные вперед зубы. Ему стало не по себе. Он уперся спиной в стену. Рука Вельта потянулась к карману. Кадасима усмехнулся еще раз, и в следующий момент Вельт судорожно дернулся и упал на колени. Низенький японец выворачивал ему руку. — Ах, господин «белый»! Каково вам стоять на коленях перед «цветным»? Вельт скрипнул зубами, но не застонал. Между тем Кадасима ловко вынул из кармана Вельта револьвер. Потом неожиданно ударил американца ребром ладони по горлу. Вельт захрипел, привалился к стене и сполз на пол. Глаза его закатились и налились кровью. — Джиу-джитсу, сэр. Японская борьба. Учитесь! — Японец повернулся к двери и быстро запер ее на засов. — Приступим к переговорам, — сказал он, левой рукой ловко доставая из золотого портсигара папиросу. — Вы испортили мне все дело, едва не свели на нет те годы, которые я провел у Бакова и у Холмстеда. Любознательность ученого подсказала мне это полезное место для моей работы. Но я должен объяснить вам, коллега, что в жилах моих течет кровь, не позволяющая сносить оскорбления! У сынов древней страны Ямато есть свои священные законы. Оскорбленный дворянин или отвечает на оскорбление, или прибегает к благородному харакири. Но харакири — это величайшее уважение к врагу. Я не склонен проявлять его к вам. Вы можете сохранить вашу драгоценную жизнь, если выполните три условия… Первое, что мне нужно, — это краткая информация о сущности изобретения мистера Кленова. Я желаю знать, что за сила находится в руках у этого «испарителя озер». Второе: изложение тайны огненного облака. Я хочу знать, в какой связи оно находится с работами некоего ирландского революционера, рассчитывающего с помощью своих изобретений привести к гибели Британскую империю, в чем ему нельзя не сочувствовать. И, наконец, третье условие: сын американского миллионера Фредерик Вельт приносит свое извинение полковнику генерального штаба японской императорской армии Юко Кадасиме. Вельт молчал. Только теперь он смог вздохнуть. Какие-то посторонние мысли лезли в голову. Оказывается, если лежать на полу, то в окно видны верхушки деревьев. Как это странно! Приятно, что так тихо вокруг, и в то же время страшно. Дверь лаборатории заперта. Лабораторию стерегут, конечно, только снаружи. Взятый стариком самонадеянный сыщик Джимс делает обход. Боже, какой идиот! Неожиданно создавшееся положение показалось Вельту необычайно нелепым, и он не смог сдержать улыбки. Кадасима поднял с полу стек. — Если не ошибаюсь, коллега, вы изволили смеяться? — произнес он язвительно. Раздался свист рассекающего воздух стека, и ярко-багровая полоса перерезала лицо американца, пройдя по левому глазу. Вельт зарычал и вскочил на ноги. Маленькое дуло его собственного револьвера смотрело на него. — Успокойтесь, коллега! Вы хотели меня ударить — я ударил, теперь мы квиты. Вы слышали условия, на каких я оставляю вам жизнь? Угодно вам их принять? — Вы ошибаетесь, полковник. Я люблю жизнь, но не стану торговать ею. И я не боюсь вас! Стрелять в меня вам невыгодно: сюда придут сыщики и накроют вас… Вельт замолчал. Оба совершенно явственно услышали, как кто-то трогает снаружи дверь. — Не пробуйте кричать, коллега! Теперь мне нечего терять, — прошептал Кадасима. Вельт принял позу боксера. Предстояла схватка за право жить. Бокс против джиу-джитсу. Первым нанес удар Вельт. Это был прекрасный удар. Им можно было нокаутировать быка. Но японец был слишком легок. Он просто отлетел назад, ударившись спиной о дверь. — Я недооценивал вас, коллега! — прохрипел он. Вельт, не упуская мгновения, наступал. Как брошенный камень, метнулся вперед его кулак. Японец охнул и упал. Вельт хотел шагнуть к нему, но вдруг почувствовал, что его ноги сжаты ногами японца. Он хотел всей тяжестью обрушиться на противника, но Кадасима, лежа на полу, рывком повернулся. Американец неуклюже взмахнул руками и грохнулся на спину. Головой он с размаху ударился о станину компрессора. Грузное тело его только один раз судорожно дернулось. — Все! — сказал, поднимаясь, японец и стал искать упавшие очки. Очки разбились. Подобрав осколки и спрятав их в карман, Кадасима подошел к противнику и толкнул его ногой. Потом он оттащил обмякшее тело в сторону и накрыл бумагой с компрессора. Другим куском бумаги он вытер на полу красную липкую дорожку. Неподвижное тело Ганса, так и не пришедшего в себя, он также прикрыл ворохом бумаги. Сделав это, Кадасима отряхнул костюм и стал что-то искать своими близорукими глазами. Увидев в углу револьвер Вельта, он поднял его, осмотрел и сунул в карман. Подойдя к двери, японец осторожно открыл ее. Перед ним стояла испуганная Мод. Она заметила облако и стремглав прибежала сюда, но дверь почему-то оказалась закрытой. Японец опустил глаза. Девушке показались странными красные пятна на его скулах. — Мисс… забывай что-нибудь эта комната? — не поднимая глаз, спросил Кэд. — Где мистер Вельт? — Мистер Вельт… сильно быстро ушел. Девушка оглядела пустую лабораторию. Ворох бумаги в углу не привлек ее внимания. Кэд упрямо закрывал дверь. Мод взялась за ручку. Кэд с нескрываемой злостью захлопнул дверь, поспешно повернул ключ и положил его в карман. — Кэд, что вы делаете? Не говоря ни слова и не оглядываясь, Кэд зашагал к главному подъезду виллы. Мод шла за ним. Дверь у главного подъезда, в которую вошел Кэд, тоже оказалась запертой изнутри. «Боже мой! Что же это такое? С беднягой что-то случилось! Надо сейчас же позвонить по телефону мистеру Кленову, он должен быть в своей лаборатории».
Глава IV. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ
Кленов обернулся на звук открываемой двери и увидел Кэда. — Как, — удивился ученый, — разве уже пора обедать? Представьте, я не успел еще ничего сделать. — Нет, барин… Еще рано, рано. Обед еще сырой… Кэд пришел подмести пол, — на ломаном русском языке сказал слуга. — Ах, так!.. Ну хорошо. Тогда не обращайте на меня внимания. Мне только надо найти корень одного уравнения. Я очень благодарен вам, Кэд. Право, я мог бы сам… Так… общий интеграл… Японец зашел Кленову за спину и резко опрокинул его назад вместе со стулом. Кленов вскрикнул, но не успел опомниться, как был связан по рукам и ногам. Во рту, больно придавливая язык, торчал кляп. Японец поставил стул перед лежащим Кленовым и сел. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Японец полез в карман. Вынув оттуда лишь одну оправу от очков, он усмехнулся и положил ее обратно. Потом достал портсигар и не спеша закурил. — Вы удивлены, Иван Алексеевич? — начал Кадасима на чистом русском языке. — Обстоятельства, уважаемый Иван Алексеевич, говоря точнее — чрезвычайные обстоятельства, вынудили меня к столь поспешным действиям. Прошу вас рассматривать их только как меры предосторожности. Я льщу себя надеждой, что мы с вами сумеем договориться. — Японец откинулся на спинку стула и с наслаждением затянулся. — О, я знаю русских, точно так же, как и русский язык. Не правда ли, я недурно им владею?.. Что же вы молчите? Ах да! Я и забыл, что сам принудил вас немного к молчанию. Итак, давайте договариваться, Иван Алексеевич. Я вам освобожу рот, а вы дадите мне честное слово не кричать, Кстати, это и не поможет. С вашим опасным другом Вельтом я уже разделался. Профессор Холмстед не вернулся еще, как вы знаете, из лаборатории номер два. Одним словом, мы одни, Иван Алексеевич. Кадасима встал и, непривычно подтянутый, прошелся по комнате. Одну стену занимал огромный мраморный щит с желтыми вертикальными полосками шин. Для лабораторных нужд здесь можно было получить любое напряжение. Кадасима скользнул взглядом по табличке с надписью «2000 вольт» и усмехнулся. — Итак, мистер Кленов, — обернувшись, сказал он теперь на превосходном английском языке, — вы изложите мне сейчас сущность замечательного изобретения профессора Бакова. С помощью его вы собираетесь, вероятно, прославиться. Я не прошу вас, конечно, рассказывать о таинственной идее ирландского ученого, так опекаемого вашим шефом. Я прекрасно осведомлен, что ее скрывают также и от вас. Итак, того, что мне известно о вашем сверхаккумуляторе, как вы его называете, совершенно недостаточно. Я, желаю знать, каким путем можно добиться такой «концентрации энергии, как это можно сделать физически? С самого начала я пристально следил за достижениями профессора Бакова и вашими, как за достижениями своих собратьев по науке. Однако благодаря скверному характеру вашего друга Вельта и чувству достоинства, отличающему японского дворянина от остальных смертных, я лишен возможности продолжать свои наблюдения, интересующие меня с чисто научной точки зрения. К сожалению, теперь я располагаю слишком малым временем и вынужден прибегнуть к некоторому ускорению естественного хода событий. Изложив необходимые мне сведения, вы получите право пользоваться в дальнейшем жизнью по собственному усмотрению. Начинайте, мистер Кленов. Вы можете не бояться научных терминов. Я получил известное образование… в Кембридже. Некоторые мои труды имелись в библиотеке вашего покойного патрона, профессора Бакова, и, быть может, вам приходилось их просматривать. Неторопливой, пружинящей походкой японец подошел к Кленову и, помедлив несколько мгновений, вынул у него изо рта кляп. — Советую вам, Иван Алексеевич, принять мои несомненно гуманные условия, — закончил он, снова переходя на русский язык. — М-да… мистер… мистер… — Ах, простите! Я не представился вам, коллега. Право, это невежливо. Еще раз простите. С вами говорит полковник японского генерального штаба Кадасима. Вы удовлетворены? — Д-да… Вполне… — Кленов помолчал. — «Исследование конденсаторов как источников энергии», издание Кембриджского университета, 1907 год. Помню. Итак, мистер… Кадасима, я должен вам сказать, что никогда не предполагал делать тайну из моих работ. Я позволю себе заметить, что, как и профессор Баков, работаю только для науки, во имя блага человечества, во имя великих идей мира и прогресса. — Конечно, коллега, все это мне прекрасно известно. — Но, мистер Кадасима, вы плохо знаете меня. Я не привык уступать силе! — Кленов говорил по-английски, не желая, видимо, переходить на родной язык. — О-о! Коллега, эта черта характера называется, если не ошибаюсь, упрямством! Вы, вероятно, думаете, что я играю с вами — как это говорится по-русски? — в бирюльки? — Он встал и наклонился к Кленову. — Я не стану в вас стрелять, чтобы не производить шума, Иван Алексеевич, но… я напоминаю лишь вам, что мы находимся в Америке. Здесь электричество, господин доктор, применяют даже для казни! Кадасима выпрямился, решительно подошел к щиту и стал присоединять провода к шинам, подключаемым к высокому напряжению. Кленов пошевелил бескровными губами. Он понял, что хотел сделать японец. В это мгновение зазвонил телефон. По горной ухабистой дороге трясся «лексингтон». В нем, крепко держась за кузов, сидел профессор Холмстед. Он возвращался из своей лаборатории э 2, где после опыта имел со своим помощником длинный разговор. Этот человек был скромен и тих, начитан, образован. Но свою трубку он всегда раскуривал, зажигая страницы, вырванные из сочинений Шекспира. Не повышая голоса, он замечал, что и англичане, и вся их культура заслуживают той же участи, что и страницы Шекспира. «Только тогда Ирландия будет свободной», — говорил он. Это был страшный человек, но удивительный ученый. «Что за времена! Ирландец и Баков… И такие два изобретения делаются одновременно. Огромная ответственность лежит на мне! Но иначе и быть не могло, если решился приглашать на работу людей с сомнительным политическим прошлым». Старик вздохнул и взглянул на небо. Там, среди потемневших туч, резко выделяясь на их фоне, плыло огненное облако. Это летящее зарево казалось Холмстеду зловещим. Оно мчалось по направлению к горам, постепенно уменьшаясь в размере. Ирландец работал. Холмстед едва ли не впервые в жизни потерял нить своей мысли. Выглянув, он попросил шофера свернуть на проселочную дорогу. Дорога шла вдоль быстрой горной речки. Неспокойные струи слегка пенились, и на зеленоватой поверхности тянулись белые жилки и полосы. Вода походила на мрамор. Обрывистые склоны спускались к быстрине. Казалось странным, что этот маленький ручеек мог прорыть себе путь в такой толще. Постепенно река становилась спокойней. Воды становилось все больше и больше. Наконец пенные волны успокоились. За поворотом, где дорога проходила под нависшей скалой, показалась плотина. Река исчезла. Вместо нее огромным удавом сползала вниз металлическая труба, скрываясь в небольшом здании из красного кирпича. Автомобиль, скрипя тормозами на спуске, остановился около калитки. Профессор Холмстед, опираясь на палку, направился к домику под черепичной крышей. Навстречу уже шел инженер этой затерянной в горах гидростанции. — Хэлло, Сэндерс! Заехал к вам по двум причинам. Во-первых, я зол, как биржевик, потерявший в один день не меньше миллиона; во-вторых, я должен предупредить вас, что работы непоседливого ученика покойного русского профессора заставят нас скоро значительно увеличить нагрузку в лаборатории номер один. Инженер, пожилой, бритый и спокойный, крепко потряс профессору руку и пригласил его войти. Профессор вошел в уютное помещение. За стеклянной перегородкой почти беззвучно вращались турбины. — Придется вам перейти на круглосуточную работу. Это нам нужно для зарядки новых кленовских аккумуляторов. Инженер приподнял бровь и пододвинул профессору коробку с сигарами. Холмстед вытянул ноги, порывистым движением достал из кармана ножичек, обрезал кончик сигары и задумался. …Поднявшись в свою комнату в мезонине, Мод бросилась к телефону. Долго никто не отвечал. Мод нервно вертела ручку индуктора. Наконец она услышала голос Кэда: — Да, да, леди… Кэд много-много не понимай… Он ходил по всем комнатам. Мистер Кленов и мистер Вельт нигде нет. Он сейчас быстро-быстро бежит парк… Трубку повесили. «Боже, что это? Значит, теперь Кэд в комнате Кленова! Что ему нужно там? У него было такое недоброе лицо… Как узнать, что там происходит? Неужели Кленов в опасности? Что делать?» Мод металась по комнате. «Ах, если бы увидеть… увидеть!» О счастье! Как она не подумала об этом сразу! Там, наверху, обсерватория отца. Из башенки, наверно, видно окно лаборатории. Там телескоп… Заскрипели ступеньки под торопливыми шагами. Кадасима повесил телефонную трубку и снова подошел к своему пленнику. В руках у него были концы проводов, присоединенных уже к шинам высокого напряжения. Не говоря ни слова, он стал обматывать левую руку и горло ученого оголенной проволокой. — Вы понимаете, надеюсь, Иван Алексеевич, что я должен спешить? Угодно вам начать свои объяснения? Иначе я буду вынужден включить две тысячи вольт на эти шины. Не спуская глаз с Кленова, японец подошел к щиту. — Вы убийца, Кэд! Вы преступник! — прохрипел ученый. Закрученный вокруг горла провод перехватил голос. Кадасима рассмеялся: — Преступник? Убийца? Как это все наивно звучит, коллега! Знаете ли вы, что, работая здесь, в лаборатории, над своими изобретениями, вы служите смерти! Вы становитесь соучастником массовых безжалостных убийств. Если хотите знать, то вы, Иван Алексеевич, во сто крат больше убийца, нежели я! Уничтожая вас, я спасаю десятки тысяч, а быть может, и миллионы людей! Кленов поежился. Японец взялся за рукоятку контактора: — Будете ли вы говорить, коллега? — Нет, мистер Кадасима! — твердо ответил Кленов. — Пока я работаю для науки, для ее высоких идей, я работаю для жизни. Это вы хотите заставить науку служить смерти! Но я не стану убийцей, мистер Кадасима! Лицо японца передернулось. — Я ненавижу вас, изобретатель! Вам удалось сделать то, о чем я мечтал многие годы… Я ненавижу вас! Мод вскочила из-за телескопа. Чтобы не упасть, она прислонилась к стене. За окном были видны провода высокого напряжения. Плавной дугой провисая между чешуйчатыми изоляторами, шли они от высокой мачты, через трансформатор, к тому щиту, около которого стоял этот ужасный человек. Провода протянуты в каких-нибудь десяти футах от окна, как гигантские струны. Они даже гудят, тихо и печально. Этот звук песет смерть! С внезапной решимостью девушка бросилась к окну. Загремел упавший на пол телескоп. Схватив медную трубу, Мод прижала ее к груди… Внизу была земля, посыпанная песком аллея… Мод раздвинула трубу телескопа и что-то прошептала. Кадасима улыбнулся. Кленов в последний раз увидел его отвратительные зубы и закрыл глаза. — Я презираю вас! — сказал он и отвернулся. Снова выступили красные пятна на скулах Кадасимы. Еще более сузились маленькие глазки. — Хорошо, коллега. Если не я… если не Япония, то и никто другой, никакая другая страна не будет владеть вашим изобретением! Тело Кленова напряглось. Он силился порвать свои путы. В этот момент японец включил контактор… На секунду Кадасима скользнул взглядом по изогнувшемуся дугой телу и не спеша вышел из комнаты. …Холмстед и инженер Сэндерс вздрогнули. Что-то щелкнуло, и тотчас завыла маленькая сирена. Зажглась красная сигнальная лампочка. Инженер вскочил. — Выбило масленик, профессор! — сказал он и побежал к щиту. — Профессор! Мистер Холмстед! — послышался через минуту его голос. — Я ничего не понимаю! Масляник выключило на линии лаборатории, в то время как там не предполагалось нагрузки. Вероятно, что-нибудь произошло! — Странно, странно… — шептал обеспокоенный старик, глядя на приборы. Масляный выключатель «вышибло» на линии, питающей Белую виллу. Сработали аппараты защиты, автоматически выключающие сеть в случае аварии или перегрузки налинии. — Да-да, странно… странно… Я обеспокоен. Я должен сейчас же ехать, — говорил Холмстед, тщетно пытаясь найти свою палку. — Право, сэр, в этом нет ничего особенного. Обычное короткое замыкание. Вот ваша палка… Простите, профессор, не эта дверь. Сюда, направо. Старик, задыхаясь, почти бежал к машине. Его нагонял Сэндерс, держа в руке шляпу гостя. Уже по одному виду профессора шофер все понял. Едва Холмстед вскочил, на подножку, автомобиль рванулся с места. Сэндерс смотрел вслед, растерянно вертя в руках шляпу профессора. Ветер раздувал седые волосы ученого. Всю дорогу Холмстед нагибался вперед, словно хотел этим прибавить скорость автомобилю. Его тощую фигуру на каждом повороте, на каждом ухабе кидало из стороны в сторону. Вот наконец и знакомый поворот, крутой подъем, чугунные ворота… Шофер отчаянно гудел, но на дорожке никто не появлялся. Прижав руку к сердцу, профессор соскочил на землю. К нему услужливо подбежал человек и поднял котелок. — Частное сыскное бюро! — отрекомендовался он. Старик смотрел словно сквозь него. — Что случилось? — Мы ничего не заметили, сэр! — сказал Джимс. Профессор нервно тряс калитку. За оградой было мертво. Мистер Джимс и шофер переглянулись. Холмстед стал неумело вставлять ногу в чугунный узор калитки, чтобы перелезть через нее. — Подождите, сэр! — услужливо сказал Джимс. Подскочив к воротам, он вынул из кармана звенящую связку. Повозившись с полминуты, он театральным жестом распахнул калитку. Угрюмый Холмстед быстро зашагал по дорожке. Растрепанные волосы его развевались. Сыщик и шофер шли сзади. Джимс вынул револьвер и спустил предохранитель. В напряженном молчании продвигались они вперед. Вдруг шофер остановился и протянул руку. Старик вскрикнул и, неуклюже подпрыгивая, побежал к флигелю. Плечи его странно поднялись, ноги казались непомерно длинными. Задыхаясь, он остановился на дорожке перед флигелем и склонился над тем, что лежало на песке. Шофер и сыщик сняли шляпы. — Мод! Мод! — шептал старик, ощупывая распростертое тело девушки. Джимс поднял с земли обгорелую трубку телескопа. Он посмотрел наверх. Там плавными дугами провисала линия высокого напряжения. — Короткое замыкание, — прошептал Джимс, указывая рукой на почерневший провод. — Мод! Мод! Девочка моя! — все повторял старый профессор. Мод слабо застонала: — Спасите… мистера Кленова! Профессор сделал жест рукой. Сыщик и шофер, как-то странно пригибаясь, бросились к Белой вилле. Через несколько секунд со стороны виллы послышались тяжелые удары. Это выламывали дверь. Особенно старался Джимс. Ярость при мысли, что кто-то опередил его, удваивала его силы. Дверь сорвалась с петель. Шофер и Джимс, пробежав коридор, на секунду остановились перед лабораторией. Держа револьвер в вытянутой руке, Джимс стал осторожно открывать дверь. На полу сидел Кленов и старался развязать руки. Увидев вошедших, он указал глазами на щит: — Не понимаю, почему нет тока! Ведь контактор включен. Только теперь Джимс заметил провода, соединявшие горло Кленова с шинами высокого напряжения. Он прыгнул к щиту и рванул рукоятку контактора. Шофер старался освободить Кленова. — Кто это сделал? — спросил сыщик. — Мистер Кадасима… из Кембриджа. — Какой Кадасима? — Кэд, Кэд! Полковник Кадасима. Мистер Джимс выхватил записную книжку. Освобожденный от пут, Кленов тяжело опустился на стул. — Все-таки, джентльмены, я не вполне понимаю… почему я жив? — смущенно сказал он, вертя в руках поднятый с полу кляп. — Насколько я могу догадаться, сэр, вас спасла мисс Мод, дочка профессора, — вежливо сказал Джимс. — Мисс Мод? — Да, сэр! Она выбросилась из окна обсерватории на провода высокого напряжения. — Выбросилась?.. Каким же образом это могло спасти меня? — Леди держала в вытянутой руке медную подзорную трубу, которой и замкнула провода, пролетая мимо них… Короче говоря, она, если сказать попросту, пережгла пробки. — М-да… не пробки пережгла, а вызвала короткое замыкание линии, — поправил Кленов задумчиво. Потом, словно спохватившись, он вскочил и нетвердой, но торопливой походкой пошел к выходу. Шофер направился за Кленовым, а Джимс с профессиональной тщательностью стал обследовать помещение. От его взгляда не ускользнуло ничто, даже недокуренная папироса Кадасимы и осколок от его очков. Мод сидела рядом с отцом на садовой скамейке. Она видела, как вышел из дома Кленов, как ускорил он шаг, направляясь к ней, как, наконец, побежал. С широко открытыми глазами он остановился перед ней. Мод улыбалась, а он, запыхавшись, говорил: — Как же так? Вы спасли меня… Это ведь очень опасно — прыгать из окна! — Я все видела в телескоп, мистер Джон, — слабым голосом произнесла Мод. — Но ведь… ведь можно было просто выбросить на провода трубу… — О нет, Джонни, — вмешался Холмстед, — труба могла отскочить и не замкнуть сразу двух проводов. Надо было крепко держать ее в вытянутой руке. — И я не могла поступить иначе, — добавила Мод и постаралась улыбнуться. Кленов совсем растерялся от этих простых слов: — Право, я не смею выразить… Я готов теперь для вас… тоже выпрыгнуть из окна. Он смотрел на Мод и словно видел ее впервые. Синие глаза, светлый пушок на щеке… Когда она выросла? Странно, почему раньше он не замечал, как она хорошо улыбается? Холмстед похлопал Кленова по плечу. — Все хорошо, что хорошо кончается, мой молодой друг! Вельт очнулся первым. В чувство его привела мучительная боль в затылке и левой половине лица, перерезанной рубцом. Шурша бумагой, он с трудом приподнялся и пополз к телу Ганса. По дороге ему попался стек. С проклятьем он поднял его. Разбросав бумагу, прикрывавшую Ганса, он с тревогой склонился над ним, но тут же вскочил возмущенный. Ганс храпел, он мирно спал: обморок перешел в сон. — Какая скотина! — процедил сквозь зубы Вельт и бесцеремонно толкнул Ганса ногой. Ганс сел, растерянно оглядываясь. Вельт сердито повернулся к нему спиной и, превозмогая боль, встал. Но, взглянув в окно, Вельт забыл обо всем. Там, за окном, рядом с Мод, держа ее руки в своих, сидел Кленов. Вельт готов был закричать. Он чувствовал, что теряет сознание. Эта сцена была той каплей, которая переполняет даже бочку… — Хэлло, джентльмены, — прозвучал сзади голос. — Как вы поживаете? Чутье сыщика никогда не обманывает! Наконец-то я нашел вас! Вельт резко обернулся. Гнев, дикий, безотчетный гнев застилал ему глаза. Перед ним глупо улыбалась физиономия сыщика Джимса. — Идиот! — закричал Вельт. Джимс никак не думал, что это могло относиться именно к нему. Он подошел совсем близко к Вельту и, потирая руки, сказал: — Вы спасены, джентльмены! Спасены мной! Вельт заскрипел зубами от ярости и сжал стек. Снова в лаборатории раздался свист… Мистер Джимс вскрикнул и схватился за лицо. Тайный агент «Интеллидженс сервис» ничего не видел левым глазом и дрожал от обиды и боли. — Клянусь кровью, это неслыханное оскорбление! Это никогда вам не простится! — закричал он и выбежал из лаборатории. Дверь хлопнула. — Идиот! — еще раз крикнул Вельт и, обессиленный, повалился на пол. Сидя на ворохе бумаги, Ганс тупо смотрел на него.Глава V. КОМИССИЯ АМЕРИКАНСКОГО СЕНАТА
Мистер Вельт-старший подошел к окну. Из его особняка на Риверсайд-драйв был виден море-подобный Гудзон с высокими обрывистыми берегами. Над ними выступали ломаные силуэты Джерсей-сити, Хобокена, Вихевкена. По реке плыли пароходики, сновали неуклюжие паромы с тоненькими трубами и пустыми чревами, где помещаются перевозимые экипажи и железнодорожные вагоны. По набережной медленно катились автомобили. Шины их оставляли на мокрой мостовой быстро исчезающие следы. Старик долго смотрел в дождливую, туманную даль, сжимая в руке нераспечатанный государственный пакет. В кабинет вошел секретарь и почтительно склонил голову. Старик быстро повернулся: — Как здоровье Фреда? Вы узнали? — Положение серьезное, сэр. Мистеру Фредерику предстоит трепанация черепа. Профессор Миллс не теряет надежды… Старик скомкал письмо и опустился в кресло. Рукой он закрыл глаза. Сквозь пальцы он видел стекло, по которому медленно стекали дождевые капли. За окном стало мутно. Вельт вздохнул. Секретарь исчез. Долго смотрел на плачущее стекло мистер Вельт, прозванный на Уолл-стрите Волком за несокрушимую, уничтожающую силу своих миллионов. Потом распечатал скомканный конверт. Ах, это то самое, о чем так просил его сын! В письме мистер Вельт-старший ставился в известность, что он включен в число членов комиссии американского сената, которая должна в строго секретном порядке ознакомиться с изобретением доктора Кленова, работающего в лаборатории профессора Холмстеда в Аппалачских горах. Мистер Кленов избрал американский сенат своим посредником в общении с воюющими странами, предполагая продиктовать им свою волю, подкрепленную полуфантастической угрозой. Мистер Кленов известен как человек нормальный во всех отношениях, а авторитет его шефа, известного американского исследователя профессора Холмстеда, заставляет верить в существование действительно серьезных научных работ, дающих возможность молодому ученому разговаривать языком политика. Ознакомление с этими работами в свете оценки их значимости для Соединенных Штатов и поручается комиссии сената. Мистер Вельт прошелся по комнате. Мысли о сыне и его друге Кленове перемешивались у него в голове. Зачем им понадобилось назначить эту поездку именно сегодня, в день операции! Старик насупился и вытащил часы. Немец по происхождению, Вельт был аккуратен во всем, что касалось дела. До момента отъезда комиссии сената, где он участвовал в качестве военного эксперта как владелец военно-промышленного концерна, оставался час; до начала операции профессора Миллса — два с половиной часа. Низенький Вельт тщательно растер мешки под глазами, потом вызвал секретаря и велел ему послать Фреду коробку его любимого соленого печенья. — Бедный мой мальчик! Я хотел подарить ему яхту. Уже велел отделать каюту мамонтовой шерстью… Старик снова подошел к окну и посмотрел на мутные силуэты городов противоположного берега. Капли, стекавшие по стеклу, все больше заслоняли вид. Старик вынул платок… Профессор Холмстед отставил назад ногу и взялся руками за борта пиджака, как это он делал всегда, поднимаясь на кафедру. — Леди и джентльмены! — начал он. — Я считаю за величайшую честь говорить перед вами о великом изобретении, осуществленном в стенах моей скромной лаборатории. Мне трудно передать ту гордость и радость, которые наполняют мое сердце от сознания, что это грандиозное изобретение, работа над которым была начата в далекой России, завершено моим учеником и ассистентом мистером Кленовым, по зову которого вы и прибыли, господа сенаторы, как представители американского народа. Но прежде чем мистер Кленов сообщит вам мотивы, побудившие его пригласить вас, я как ученый сочту своим долгом познакомить вас с далеко идущими перспективами этого замечательного изобретения. Профессор откинул назад голову, достал большой клетчатый платок и высморкался. Лишь на секунду взглянув в свой блокнот, он продолжал: — Леди и джентльмены! Мистер Кленов, мой ассистент, несколько лет проработавший в моей лаборатории, дарит миру аккумулятор энергии, который уже теряет право носить название аккумулятора. Чтобы охарактеризовать этот прибор, пришлось бы ввести в употребление новое слово — скажем, «сверхаккумулятор». Кленов нашел средство растворять энергию в пространстве, окружающем крохотный прибор, размером не больше дешевой сигары. Таким образом, невидимую энергию, окружающую этот приборчик, можно передавать из рук в руки, положить в карман, послать по почте, наконец, продавать с полок десятицентовых магазинов или украсть из банковского сейфа. Наш аккумулятор вытеснит из употребления обыкновенные сорта топлива, равно как и применяющиеся ныне тепловые двигатели. Мы организуем Концерн легких электрических двигателей, которые будут питаться энергией сверхаккумулятора, не имеющего, как я уже имел честь вам сообщить, ощутимого веса и почти не занимающего места. Я позволю себе, леди и джентльмены, нарисовать несколько картин будущей жизни «эпохи сверхаккумулятора». Представьте себе вашу будущую квартиру. Она насыщена электричеством. Электричество освещает вас, отапливает, готовит вам обед, стирает белье, приносит звуки из далеких концертных залов, приводит в движение домашние машины для рубки мяса, шитья платьев или бритья ваших щек. Но к вашей квартире не подходят провода городских электростанций. Нет! Вместо счетчика электроэнергии в вашей квартире есть небольшое устройство, напоминающее карманный электрический фонарик. В это устройство ежемесячно вы вставляете крошечную батарейку, представляющую собой наш сверхаккумулятор. Это ваша собственная электростанция. Батарейки в изящных корзинках будут разноситься по квартирам агентами нашей компании. Исчезнут неуклюжие автомобили: они будут заменены электромобилями с легкими электрическими двигателями… Представим себе нашу будущую прогулку на электромобиле. Вы садитесь в сигарообразный лимузин. Перед вашими глазами, сразу же за выпуклым ветровым стеклом, начинается дорога. Нет громоздкого бензинового мотора впереди вас — электромоторы расположены непосредственно у колес. Перед вами только руль. Нет никаких рычагов для перевода скоростей — есть лишь педаль под ногой, задающая скорость вашему экипажу. Вы нажимаете педаль, и электромобиль плавно и бесшумно двигается с места. Нет привычного для автомобилей нашего, 1914 года шума и треска. Вам не надо вылезать из автомобиля, чтобы завести мотор. Не сходя с места, вы приводите свой экипаж в движение. С колоссальной скоростью вы проноситесь по широким дорогам будущего. В пути вы вспоминаете, что надо пополнить запасы энергии. Вы подъезжаете к «автомобильной колонке». Но что это за колонка? Это не газолиновые станции, которые строятся сейчас по нашим дорогам. Нет! Это миниатюрный киоск, где за наличную плату вам обменяют истощенную батарейку на заблаговременно заряженную. Вы вставляете эту батарейку в гнездо на щитке перед вами и продолжаете свой путь, не заботясь в течение месяца о пополнении горючего. Перенесемся мысленно на север. Представим себе мороз, снега и северное сияние. Поражайтесь! В этой суровой обстановке люди ходят без тяжелых шуб. Женщины идут в легких платьях, мужчины — в элегантных спортивных костюмах. Но они не мерзнут. Ведь материя их костюмов прошита тонкими металлическими нитками, которые нагреваются все время проходящим по ним электрическим током. Батарейка спрятана в изящной сумочке прелестной леди. Провода соединяют сумочку с платьем. У мужчин аккумулятор прикреплен к поясу, как кобура револьвера у ковбоя. Люди в легких летних костюмах плывут во льдах Антарктики, чтобы утвердить на Южном полюсе звездный флаг. На их судне электрические моторы. Кочегаров нет! Инженеры в безукоризненно белых костюмах изредка меняют аккумуляторные батарейки, питающие энергией судовые машины. Судно затерто льдами. Прежде отважные путешественники терпели страшные лишения, порой погибали. Теперь же люди спрыгивают на лед, в руках у них электронагревательное устройство. Они располагают его перед судном. Включается электрический ток от сверхаккумулятора — и перед судном канал чистой воды! Лед растоплен. Путешественники продолжают свой путь. Они достигают великого Южного материка, садятся в сани, имеющие электрический привод от крошечных аккумуляторных батарей. Без труда достигнут Южный полюс, с помощью аккумулятора растоплен лед, и люди встают ногами на твердую землю завоеванного полюса, вкапывая в нее древко американского флага. По рельсам железных дорог мчатся электровозы. Машинист, покидая кабинет дежурного по станции, вместе с жезлом захватывает в карман батарейку. Отправляясь на прогулку в горы, вы не берете с собой спичек. Нет! В вашем жилетном кармане батарейка, она заменит вам костер. Собираясь на охоту, вы захватываете электрическое ружье; оно питается аккумулятором, помещающимся в прикладе: выстрелы его бесшумны, они не спугнут дичи. Домой вы возвращаетесь, нагруженные охотничьими трофеями. Довольные и усталые, вы готовы лечь в постель. Электрическая грелка согреет вам холодные простыни. Вы уснете, а утром электрический будильник возвестит час пробуждения, одновременно включив электрический кофейник. Электрические батареи будут везде, повсюду. Они будут разноситься разносчиками, перевозиться электромобилями, доставляться по воздуху в отдаленные местности на электролетах. Появится громаднейший спрос на заряженные батарейки. Предприимчивые промышленники организуют специальные концерны зарядки аккумуляторов. Они выстроят огромные энергоцентрали, использующие энергию солнца, ветра, морей. На этих центральных станциях будут заряжаться в невиданно массовых масштабах крошечные стандартные аккумуляторные батарейки, которые затем с большой коммерческой выгодой будут продаваться во всех странах мировых континентов… Профессор Холмстед замолк, как это он делал всегда, когда хотел проверить произведенное своей речью впечатление. Затем он принял позу величайшего внимания, что-то записал в свой блокнот и сказал: — Я понимаю вас, сэр! Я ожидал этого вопроса и готовился к нему. Вполне естественно желание уважаемого сенатора от штата Иллинойс узнать, каким же путем могут быть достигнуты такие необыкновенные результаты. В свете новейших данных я с охотой объясню вам сущность открытия профессора Бакова и доктора Кленова, прибегая к некоторому упрощению для большей образности моего изложения, что и прошу мне великодушно простить… Итак, джентльмены, вам, конечно, известно, что каждое вещество состоит из атомов, представляющих собой элементарные электрические заряды — электроны, движущиеся вокруг положительно заряженного ядра. Я всегда представлял себе их как неутомимых маленьких работяг, бегающих подобно белкам в колесе и тем делающих свои бизнес. Одно вещество отличается от другого, леди и джентльмены, только размерами центрального ядра и количеством бегающих в хороводах маленьких работяг. Но… — Холмстед поднял вверх палец, — не все электрончики имеют занятие — работу. Есть и безработные, не занятые ни в одном из упомянутых мною атомных предприятий. Они способны свободно двигаться по веществу. Когда под влиянием внешних усилий — электрического напряжения, как мы его называем, эти «безработные» электроны получают стремление двигаться вдоль проводника в виде своеобразных процессий безработных, мы, физики, воспринимаем это явление как электрический ток. Правда, леди и джентльмены, трудно ожидать, чтобы такая процессия не встретила на своем пути сопротивления и всевозможных препятствий. В таких процессиях, как вам, конечно, известно, приходится затрачивать немало энергии. В науке мы рассматриваем это явление как электрическое сопротивление, на преодоление которого требуется непроизводительная затрата электрической энергии. Увы, это сопротивление неизбежно существует для всех стран… то есть, простите, проводников! Но, господа сенаторы, конечно, вам также известно, что такие процессии безработных работяг-электрончиков не могут не сказаться на окружающей среде. В самом деле, это движение сопровождается могучими вихревыми «возмущениями» мирового эфира. Эти возмущения превращаются в подлинные эфирные ураганы, содержащие в себе громадные количества потенциальной энергии, которая, как и всякая другая энергия, господа сенаторы, может вырваться наружу! В науке, точно так же как и в политике, эти эфирные ураганы ощутимы. Они особенно заметны, когда проводники свернуты в катушку. Ураган, как бы врываясь в катушку, увлекает за собой все металлические предметы, то есть действует притягательно на ряд тел, вызывая таким образом физические «события». Мы называем это магнитным полем. На вашем языке, господа сенаторы, это может иметь другое название. Итак, джентльмены, если большое количество потенциальной энергии может содержаться в магнитном поле — эфирном урагане, или «мировом возмущении», то почему бы не использовать этого для целей накопления энергии? Ведь с аналогичным накоплением энергии в политической атмосфере нам, не без некоторого страха, приходится встречаться ежедневно. Прекрасная идея! Но… никакое тело не позволит в своих пределах свободно двигаться процессии работяг-электрончиков и вызывать «общественное возмущение». Поэтому из-за необходимости преодолевать электрическое сопротивление подобное аккумулирование энергии до недавнего времени, господа сенаторы, не имело практического значения… Однако, леди и джентльмены, не имея в виду далеко идущих параллелей, я должен сказать, что в науке произошел некий переворот. В прошлом, 1913 году голландский физик Камерлинг Оннес открыл явление сверхпроводимости. Он установил, что при замораживании проводника до температуры, близкой к холоду межпланетных пространств, всякое электрическое сопротивление мгновенно исчезает. Движение маленьких работяг — электрический ток, как сказал бы ученый-физик, — не встречает больше сопротивления внутри тела. Работяги становятся подлинно свободными! Их движение вызывает во всем мировом эфире грандиозные ураганы творческой, готовой вырваться наружу энергии. При этом нет никакой затраты непроизводительного труда, господа сенаторы. Нет больше сопротивления движению работяг-электрончиков! Освобожденные космическим холодом тела открывают новые, невиданные прежде возможности. Они становятся источниками огромнейших аккумулированных в них количеств энергии. Вот почему моему ассистенту доктору Кленову удалось сосредоточить в магнитном поле маленькой замороженной катушки несметное количество энергии, перспективы применения которой я имел честь только что вам изложить… Профессор Холмстед прервал на этом месте свою интересную речь, потому что звонили — надо было открыть дверь, а во всем доме, кроме него, никого не было. Не было, конечно, и почтенных сенаторов, к которым обращена была речь старого профессора. Они существовали лишь в воображении Холмстеда. Приняв самый обыкновенный, житейский вид, он, немного ссутулившись, направился к двери. Он был явно недоволен тем, что кто-то помешал его подготовке к столь ответственному выступлению перед специальной комиссией американского сената. Профессор открыл дверь и вздрогнул от неожиданности. Перед ним стоял скромный человек в помятом дорожном костюме. У него были печальные глаза и курчавая борода, оставлявшая подбородок голым. — Вы… вы здесь? — Да, профессор, — спокойно ответил пришелец. — Вы оставили лабораторию? — Там сейчас маленький Бернштейн. Ключ я взял с собой. — Оставить только одного мальчика? Это легкомысленно! — Бросьте, профессор!.. Мне стало известно о комиссии сената. Я хочу при этом присутствовать. Недалеко то время, когда заговорю я, а моим голосом — ирландский народ. Но до тех пор я обещаю вам, профессор, быть смирным и незаметным. Я только хочу поучиться у своего коллеги. Холмстед поморщился и схватился за голову: — Я, наверно, скоро сойду с ума! Моя тихая лаборатория превращается в центр политических интриг. В конце концов, я только ученый. Я могу руководить научными работами, но не политикой. Нет, не политикой! Проходите. Извините меня, вероятно, вы устали с дороги… Ведь вы прошли такой путь пешком! Я осмелюсь предложить вам ванну. Кроме того, я прикажу приготовить для вас горячего кофе. Печальный человек посмотрел на профессора и оглядел свой костюм: — Благодарю вас, я с удовольствием освежусь и приму более достойный вид. Все-таки сенаторы… И он усмехнулся. — Ну как ваш любимец, мальчик Бернштейн? — спросил Холмстед. — О-о! Это талантливый мальчик. Мы с ним еще многое сделаем. Вы знаете, профессор, у меня нет в жизни ничего, кроме моих идей. Вам известно, как погибли все мои близкие. Мальчика я полюбил. И я сделаю из него человека! Профессор вздохнул и, думая о комиссии американского сената, пошел готовить ванну Ирландцу.Глава VI. ЧЕК В МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
Мод и Кленов теперь часто ходили в горы. В последние дни они много времени проводили вместе. Забирались на ближние вершины или гуляли по парку. Началось с того, что Кленов рассказал Мод о своих таежных приключениях, о «русском богатыре» Бакове, о чернокожей шаманше… Взволнованно рассматривала Мод любительскую фотографию странной женщины в лодке. — Негритянки такие не бывают, — шептала девушка. Увлеченная загадочной Таимбой, она пыталась повторить ее дуэт с собственным голосом. Мод уходила в ущелье и там пела, стараясь, чтобы и ее голос слился с отголоском. Но эхо звучало слабо, у Мод ничего не получалось. И тем больше околдовывал девушку воображаемый голос Таимбы. Мод заставляла Кленова вновь и вновь повторять этот рассказ. Кленов рассказал о последних днях профессора Бакова, о его предсмертном бреде… — Неужели он говорил о взрыве межпланетного корабля в тайге? — ужаснулась Мод. — Он был очень болен, — оправдывал своего учителя Кленов. — Неужели вы не понимаете, Джон! — волновалась девушка. — Неужели вы не понимаете, что ваш учитель разгадал тайну тунгусской катастрофы! Я теперь уверена, уверена, что вы видели и говорили… с живой марсианкой! Напрасно Кленов смеялся, а потом даже возмущался: Мод стояла на своем и слышать не хотела никаких опровержений. Кленов уступал и с улыбкой соглашался с Мод. Так завязалась их дружба. Мод выведала у Кленова его сокровенные мечты о будущем человечества и предотвращении войн. Если кому-нибудь эти мечты могли показаться наивными или беспочвенными, то для Мод они были откровением. Кленов казался ей великим, и вместе с тем он был простодушен и ласков, восхищал и смешил ее на каждом шагу. Оказывается, он не знал названий ни одного дерева. Он их просто делил на лиственные и хвойные. Из лиственных он мог наверняка определить только березу. Девушка устраивала ему экзамены и хохотала до слез. — Джон, знаете ли вы, что деревья могут летать? — однажды спросила Мод. Они стояли с Кленовым на скалистом обрыве, откуда хорошо была видна Белая вилла и резко вырисовывалась на горизонте одинокая вершина Ктэдн. — Нет, не знаю, — почти испуганно ответил Кленов, постоянно становившийся в тупик от вопросов Мод. — Это надо только подглядеть, мистер Джон. Хотите, я вас научу? — Пожалуйста, я буду очень рад! — поспешно согласился Кленов. Они сели на траву. — Слушайте, Джон. Надо выбрать ясную погоду, но с маленьким-маленьким ветерком. Потом лечь невдалеке от дерева, которое хочешь подглядеть, и не обращать на него внимания. Только запомните, что деревья очень хитрые! — Мод приложила палец к губам. — Да-да… — неуверенно соглашался Кленов. — Потом, делая вид, что смотрите на небо, потихонечку переводите глаза на листву, только так, чтобы дерево не заметило! Понимаете, Джон? Потом дождитесь, когда над листвой пойдут облака, а ветер начнет раскачивать верхушку, тогда… — Что тогда? — Тогда прищурьтесь… — Прищуриться? — Да-да… И оно полетит! — Кто полетит? — Дерево. Кленов глубокомысленно замолчал. В душе он думал, что раз кругом так хорошо, почему бы деревьям немного и не полетать! — А знаете ли вы, какие бывают облака? — Облака? Да, конечно: кучевые, перистые… — Ах, нет, совсем не то! Вы ничего не знаете, кроме своей милой науки. Только не думайте, что я на нее сержусь. Я ее тоже люблю. — Какие же бывают облака? — слегка дрожащим голосом спросил Кленов. Мод мечтательно запрокинула голову: — Слушайте, Джон. Смотрите… Да нет, не на меня!.. Вон на то облачко, которое плывет вверху. Вы видите его? — Да, вижу. — Знаете, что это такое? — Нет. — Это чье-то счастье. Кто-то упустил его. — Счастье? — удивился Кленов. — Да-да! Каждое облачко — это счастье. Люди не умеют удержать свое счастье, вот оно и уносится от них по небу. Иногда упущенного счастья носится по небу много-много. Тогда все становятся хмурыми, и мне делается жаль людей. Они такие глупые! — А тучи, мисс Мод? — А тучи — это когда упущенного счастья слишком много. Оно тогда превращается в печаль, а потом плачет. — А когда безоблачно? — Это значит, что люди нашли все счастье, какое могли. — Значит, под безоблачным небом люди счастливее? — Счастливее! — уверенно заявила Мод. — И на душе всегда веселее. Вы замечали это? Да? Значит, тогда и в вас попал кусочек облака. Кленов молчал, обдумывая интересную и новую для него гипотезу. — А вы знаете, Джон, улетевшее облачко счастья можно вернуть! — Как же, мисс Мод? — Я научу вас. Дайте руку! Кленов почувствовал в своей ладони пальцы Мод. От этого сердце у него тоже захотело полететь, как дерево. — Вот… Теперь смотрите на то облачко, которое мы заметили. Только не оглядывайтесь на меня. Смотрите… смотрите… смотрите… — Я смотрю, — прошептал Кленов. — Вы видите, что облачко тает? — Вижу! Вижу! — Это оно спускается к нам, — сказала Мод и посмотрела Кленову в глаза. Глаза у Мод были синие, как небо, в котором уже растаяло облачко. Вдруг Мод вскочила, на лице ее был неподдельный страх. Кленов виновато поднялся. Мод дрожала. Она смотрела на небо. Там вместо облака, о котором они только что говорили, плыло сконцентрированное в одном месте зарево. Оно быстро летело по ветру. Темно-фиолетовые края оттеняли его ослепительный блеск. — Джон, бежим! Мы должны спасаться! — закричала Мод. Она схватила растерявшегося Кленова за руку и потащила за собой. Ученый бежал, неуклюже спотыкаясь, и бормотал: — Странно, но оно совсем не походит на шаровую молнию, как об этом писали… — Джон, не упадите! Они выбежали из леса. Отсюда начинался крутой спуск по нагроможденным скалам. Внизу виднелась полускрытая зеленью Белая вилла. Странное облако приближалось. — Бежим! Скорей! Я должна спасти вас! — Мод, Мод… Опасности нет, уверяю вас! Нельзя ли не так быстро? Я задыхаюсь… — Нет! Нет! Я знаю!.. Бежим! Скорей! — Мод, дорогая… Шаровая молния пройдет много выше! — Нет, вы не знаете… Скорей… Оно ужасно! Скорей вниз! Мальчишеская фигурка Мод легко перепрыгивала с камня на камень. Кленов отстал от нее. Вдруг Мод вскрикнула и исчезла. В первый момент Кленов растерянно озирался, потом бросился вперед, к тому месту, где только что стояла Мод. С трудом вполз он на скалу и, судорожно держась за шершавую мшистую поверхность, заглянул вниз. У него закружилась голова. Мод лежала на следующем уступе, футов на тридцать ниже. Ее волосы золотились на солнце, а рука, как-то неестественно выгнувшись, оперлась на камень. Кленов хотел закричать, но лишь слабо застонал. С искаженным лицом он стал прыгать с камня на камень. Никогда нельзя было ожидать от него такой ловкости. Девушка тихо стонала. Кленов бережно поднял ее на руки, прижав ее голову к своей. На щеке он почувствовал что-то липкое. С неожиданно появившейся силой нес Кленов девушку по опасному спуску. Полчаса состарили его на пять лет. Высокий, ссутулившийся, упрямо и бережно нес он безжизненное тело. Белая вилла была уже близко. Кленов терял последние силы: ноги подкашивались, в горле жгло. Когда Кленов подходил к воротам, кто-то из сыщиков подбежал к нему, предлагая помощь, но он только покачал головой. Сыщик пошел рядом, боясь, что молодой ученый упадет. По аллее навстречу спешил предупрежденный профессор. Его обогнал невысокий человек с бородкой. Он подошел к Кленову и, не говоря ни слова, взял у него девушку. Холмстед подхватил падающего Кленова. На дорожке остался лежать кожаный поясок Мод. Ирландец положил девушку на широкий диван в лаборатории. Тяжело опираясь на руку профессора, туда же пришел Кленов и опустился на стул около дивана. Тихо, прерывающимся голосом рассказал он профессору о причине несчастья. Холмстед помрачнел. — Вот видите, — сердито обратился он к Ирландцу, — что наделал ваш легкомысленный уход! — Что такое? — выпрямился Ирландец. — Ваш мальчик Бернштейн выпустил облако. — Возможно ли? Он осмелился на самостоятельный опыт! — нахмурился Ирландец. — Значит, это моя вина! — Дорогие мои! — сказал Холмстед, стараясь вернуть себе обычный тон. — Возьмем себя в руки, друзья, как подобает истинным американцам! Мы должны сейчас скрыть свое горе. Скоро сюда прибудет комиссия американского сената. Профессор старался казаться спокойным, но это плохо удавалось ему. Он нервно разломал вынутую из кармана сигару и почему-то стал складывать ее остатки с бумажник. Кленов безучастно слушал, не спуская глаз с Мод. Ирландец, положив девушке на голову мокрое полотенце, отошел к окну. — Джонни, вам придется привести себя в порядок и встретить представителей народа, являющихся по вашему зову, — сказал старик. — Мне не до этого. Я не могу, — покачал головой Кленов. — Пусть приедут в другой раз. Профессор выпрямился: — Это невозможно, дорогой мой сэр! Не будьте малодушны. Мы должны достойно встретить почтенных джентльменов. Мы продемонстрируем им опыт. Кленов отрицательно покачал головой и посмотрел на Мод. Ее глаза были закрыты, но ресницы заметно вздрагивали. Холмстед болезненно поморщился, потом откинул назад волосы. — Бездействие никогда и никому не помогало. Лишь деятельность является лучшим лекарством от всего. Прошу вас, Джонни, сделайте нужные вычисления! Аккумулятор необходимо дозарядить. Я уже включил его, но надо определить допустимый предел. Укажите его. — Но я не могу… Ирландец тихо подошел к Кленову и положил ему руку на плечо: — Друг мой, мужайтесь! Она успокоилась. Ей лучше. Будьте мужчиной, ученым и борцом! В этот момент тихо заговорила Мод: — Джон, милый!.. Летящее пламя догоняет наше облачко… Оно сожжет его! Джон!.. Спасите его! Кленов хрустнул пальцами. Холмстед большими шагами стал расхаживать по лаборатории. Ирландец резко повернулся от окна: — Джентльмены! Я вижу приближающиеся автомобили. — Это сенаторы! Джонни, я прошу вас… Как автор послания к американскому сенату вы должны встретить их! Кленов отрицательно покачал головой: — Нет, я не могу! Пусть приедут в другой раз. Ирландец неслышными, мягкими шагами подошел к Кленову. — Мистер Кленов, — он взял его руку, — встаньте! Меня зовут Лиам. Нас разъединяли, но мы… наши жизненные задачи должны объединить наши открытия. Вместе мы сможем перевернуть мир, заставить его жить по-иному! Дайте мне руку, Джон. Меня зовут Лиам. Кленов поднялся, удивленно смотря в печальные глаза Ирландца. Профессор глядел на двух своих помощников и растерянно тер переносицу. — Идите! — сказал Лиам. Кленов беспомощно повернулся к Мод. Она приоткрыла глаза, улыбнулась: — Джон… милый… идите! Кленов выпрямился и медленно пошел к двери. Он даже не взглянул на распределительный щит, мимо которого проходил, хотя стрелка амперметра сильно отклонилась вправо, и так и не сказал ничего о пределе зарядки аккумулятора. У чугунной ограды парка стояли три автомобиля. В переднем, где шофером был Ганс, сидел старик Вельт. По дорожке к калитке шел высокий человек с растопыренными локтями и опущенной головой. Почтенные сенаторы с любопытством наблюдали за «диктатором мира». Кленов подошел к воротам и открыл калитку. При этом он повернулся лицом к Белой вилле. В этот момент ворота качнулись, и дорожка заколебалась под его ногами. В уши, сотрясая мозг, ворвался удар. Он причинил физическую боль, сжав голову, отдавшись в затылке. В глазах помутилось. Сквозь мутную пелену Кленов увидел что-то черное и красное. Летящие тени сливались, дрожали, превращаясь в расплывчатые пятна на закрытых веках. Гора мохнатого дыма взвилась над тем местом, где была лаборатория. Вихрь с корнем вырывал деревья. По воздуху со свистом летели их исковерканные стволы. Деревья летали! Сверху с грохотом сыпались полурасплавленные камни недавно существовавших стен. Кленова бросило на исковерканную чугунную решетку ворот. Он видел, как часть горы, заросшей парком, дрогнула и стала сползать вниз. Жуткое, почти физически ощутимое движение целого горного склона становилось все заметнее. Трещина разорвала дорожку, как ленту. Через несколько мгновений трещина стала гранью обрыва. Лежавший на дорожке кожаный поясок свесился и стал тихо раскачиваться. Стекла автомобиля были разбиты камнями при взрыве. Ганс прикрывал ладонями окровавленное лицо, а сзади него… Выпрямившись во весь свой маленький рост, в автомобиле позади шофера стоял толстяк — владелец мирового военного концерна, прозванный на Уолл-стрите Волком. Он быстро жевал сигару. Мешки под глазами стали красными. Маленькие глазки, не моргая, смотрели на то, что могла сделать только одна стихия. — Такая сила! Такая сила!.. О-о! Господа ученые, теперь я верю вам, — говорил он, протягивая вперед руку. Кленов, не понимая, смотрел на поднимающийся столб дыма, смешанного с пылью. Высоко в синем-синем небе плыло легкое, прозрачное облачко. В глазах у Кленова все запрыгало, исказилось. Первый раз в жизни он плакал. — Мод!.. Мод!.. — беззвучно шептал он. — Это я… я убил тебя своим сверхаккумулятором… Из придорожного кустарника показались робкие фигуры сыщиков. Вельт-старший говорил, обращаясь к Кленову: — Хэлло, мистер Кленов, вы гениальны! Слава и богатство возместят вам тяжелую потерю. Такова жизнь, молодой человек! О, как я вас понимаю! Нельзя сделать яичницу, не разбив яиц, молодой человек. Я знаю, что такое горе. Я отец! Итак, располагайте моим капиталом. Сколько нужно вам для восстановления лаборатории? Кленов смотрел на Вельта. Фигура его казалась мутной, расплывчатой, словно он смотрел на нее через стекло с ползущими по нему дождевыми каплями. — Это я виноват, — повторил он, — я вовремя не приостановил зарядку… Магнитное поле разорвало катушку… Вельт рассердился: — Что вы там бормочете? Я предлагаю вам деньги! Оставим комедию с сенаторами. Я предлагаю вам чек на миллион долларов! Продолжайте ваши работы. Они нужны мне. Я оплачиваю их. Миллион долларов! Вельт быстро вынул чековую книжку и нацарапал подпись. Потом подумал, разорвал и начал писать снова. Подошедшие сыщики расступились. Кленов пятился от автомобиля. Вельт протягивал чек: — Успокойтесь. Берите. Ведь вы же друг моего сына! Я уже люблю вас. Здесь чек почти на миллион, на целых восемьсот тысяч! Только за одно ваше обещание продолжать работы. Я хочу, чтобы вы не чувствовали сейчас одиночества. Мы с вами, дорогой мальчик! Кленов молча отвернулся. Его высокая фигура сутулилась, плечи дрожали. Из обрыва, словно туман, поднималась пыль. Подъехал еще один автомобиль. Это был вызванный Холмстедом врач. — Сэр, вам уже некого больше лечить, — мрачно сказал один из сыщиков. Шуршали камешки, скатывающиеся по вновь образовавшемуся обрыву. Звук их пропадал где-то внизу. Кожаный пояс больше не лежал на краю пыльной дорожки…ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ХРАНИТЕЛЬ ТАЙНЫ
— Осмелюсь пожелать вам тысячу лет жизни! Любите человечество, заботьтесь о нем и храните свою тайну.
Глава I. ВОЛШЕБНЫЙ ЗАМОК
Кузнечики в траве так отчаянно звенели, что солнце в небе утомилось, рассердилось и решило сжечь их живьем. Но доставалось от этого не одним только кузнечикам. Почтенный датский пастор не знал, куда девать свою и без того поджарую особу. Он незаслуженно страдал от солнца, так как к звону кузнечиков не имел ровным счетом никакого отношения. Он вытащил из-под шляпы платок, громогласно высморкался и, приподняв шляпу, снова накрыл платком свою голову. Потом спросил шедшего с ним крестьянина: — Скажите, Петерсен, вы совершенно уверены в том, что виденное вами правда? Толстый, красный Петерсен, опиравшийся на палку, догнал пастора и сказал: — Клянусь вам, господин пастор, в тот день я был совершенно трезв! Я принес заказанный мне бидон молока и корзину с разной провизией… Дорога, по которой они шли среди вересковых ютландских степей, сворачивала в небольшую буковую рощу. Сучковатые, черные с подветренной стороны буки тихо шелестели листвой — может быть, о том, какие здесь бывали прежде дремучие леса и какой могучей державой была Дания. Скоро над поломанными вершинами деревьев выросли шпили и зубчатые стены старинного замка. Быть может, в нем жил когда-то строптивый рыцарь, не раз враждовавший с самим королем. Теперь замок одряхлел. Долгие годы был он заброшен. И только за последние месяцы произошли в нем неожиданные перемены. — Так вы говорите, что у корзины была ручка? — продолжал пастор. — Совершенно верно. Я приделал ее от старого ведра, после того как на прошлой неделе новую корзину у меня забрал господин Стонсен. Вот уже месяц, как я ношу провизию в это обиталище дьявола! Меня пропускал туда детина ростом вот с этот бук. В достопамятный день я, как и обычно, поставил корзину и бидон возле стены и хотел закурить трубку… — Скажите, Петерсен, не почувствовали ли вы в этот момент желания произнести имя господа бога? — Клянусь вам, господин пастор, я не почувствовал такого желания! В эту минуту я почувствовал, что кто-то тянет у меня из кармана часы… — Продолжайте, продолжайте, господин Петерсен! Я должен все это хорошенько запомнить. — Я схватился за карман, чтобы поймать негодного воришку, и, представьте, никого около себя не увидел! — Вспомнили ли вы, сын мой, о боге хоть в этот момент? — Нет, господин пастор! Я так растерялся, что это не пришло мне в голову. Да простит мне господь! Верно, это и послужило причиной всех моих несчастии. Петерсен захромал сильнее. Они вошли теперь в жиденькую тень. Прямо перед ними вставали высокие морщинистые стены и новый железный мост, переброшенный через ложбинку, когда-то бывшую глубоким рвом. Ворота под беззубым, с выпавшими кирпичами, сводом блестели свежей краской. Старый замок походил на дряхлого Фауста, которого Мефистофель еще не кончил омолаживать. Петерсен остановился: — Клянусь вам, господин пастор, когда я вижу это чертово место, у меня подкашиваются ноги! Я ни за что не вернулся бы сюда, если бы мне было заплачено за мою провизию и молоко! Но уверены ли вы, господин пастор, что в вашем присутствии дьявольское наваждение не повторится? — Сын мой, обратим мысли свои к небу и призовем на уста свои молитву! Конечно, искуситель коварен. Уверяю вас, что взятая мною на себя миссия едва ли окупается… Петерсен решительно двинулся вперед: — Полноте, пастор! Я и так обещал вам половину того, что мне должны. Не могу же я еще приплачивать вам от себя! Служитель церкви закашлялся: — Сын мой, мы приближаемся. Думайте о боге и продолжайте ваш рассказ. — Не успел я опомниться, как на моих глазах часы выскочили из кармана и унеслись прочь! — Господин Петерсен, а вы уверены, что в тот день вы брали с собой часы? — Так же уверен, пастор, как в том, что мне остались должны семнадцать крон. Пастор вздохнул. — Когда часы улетели от меня, я выругался. — Ну вот видите, сын мой! Вы сами способствовали дьяволу. — Да-да… И в тот же момент увидел, как мой бидон сам собой повернулся и покатился. Верьте мне, он, как обезьяна, забрался по совершенно отвесной стене да так и остался там, словно прилипнув! — Великий боже, какие необыкновенные вещи рассказываете вы, Петерсен! Клянусь вам, если бы я не знал ваши склонности… — Да-да, пастор! А следом за бидоном поползла корзина, ручкой вперед, медленно так… Доползла до стены и стала подпрыгивать на месте: хлюп, хлюп, хлюп! А подняться никак не могла. — Великий боже! — И представьте себе, пастор, тут-то я и увидел свои часы! Они прилипли к стене на уровне второго этажа. Я очень испугался и бросился бежать. Падал я несколько раз и, право, не могу вам точно сказать, когда именно повредил себе ногу… Однако, пастор, замок уже близко. Прошу вас, выньте свой требник! Пастор достал молитвенник и, надев очки в металлической оправе, забубнил себе что-то под нос. Несколько раз он спотыкался. — Прошу вас, Петерсен, поддерживайте меня, иначе я могу упасть. — Ах, у меня и без того подкашиваются ноги от страха! — Мужайтесь, сын мой! Помните, что дома вас ждет фру Петерсен, которая уверена, что ваши часы и деньги за провизию остались у господина Стонсена, трактирщика. Пастор не успел договорить. Оба спутника вздрогнули и оглянулись. Сзади них послышался топот. Из-за деревьев показался всадник. Пыль покрывала его серый дорожный костюм. Взмыленная лошадь испуганно косилась на путников. На мосту, где остановились пастор и Петерсен, всадник придержал коня и окинул их угрюмым взглядом. Один его глаз был прикрыт несколько более, чем другой. Петерсен низко кланялся. Пастор кивнул с достоинством. Всадник не ответил. Открылись ворота. В них показался привратник. — Хэлло! Кто это? — обратился к нему всадник, указывая глазами на стоящих на мосту людей. — Это Петерсен, он приносит провизию. А это господин пастор. — Пусть они объяснят вам, что им надо! — сказал всадник и проехал в ворота. Пастор раскрыл требник и, сопровождаемый Петерсеном, медленно направился к привратнику. — Господин привратник, — начал пастор, — хозяева этого замка, принимающие у себя невежливых всадников… — Это и был сам хозяин, господин пастор! — Гм… гм… — замялся пастор и оглянулся на Петерсена. Привратник ухмыльнулся. Пастор вынул платок из-под шляпы, высморкался и, приняв важный вид, продолжал: — Итак, хозяева или хозяин этого замка остались должны почтенному господину Петерсену за молоко и провизию… — И за часы, — высунул голову из-за плеча пастора Петерсен. — И за разбитые часы, — неуверенно подтвердил пастор. — Что ж, пройдите во двор и присядьте вот здесь, — указал привратник рукой на поросшие мхом камни около черной от времени стены замка. Петерсен боязливо прошептал: — Пастор, пастор! Это и есть то самое чертово место! Высоко подняв голову и читая вслух молитвы, пастор двинулся к проклятому месту. Старинный молитвенник в окованном железом переплете он держал далеко перед собой. Вдруг неведомая сила выхватила из рук почтенного пастора молитвенник, сорвала с него очки и бросила то и другое в стену. Там вещи и прилипли на уровне второго этажа. Следом за ними загромыхала железная палка Петерсена. Несчастный пастор опустился на землю, словно из-под него выдернули почву. Его ноги в грубых деревенских сапогах нелепо торчали в разные стороны. — Что же вы не призываете господа бога, господин пастор? — зашипел крестьянин. Побледневшие губы пастора дрожали. Петерсен тихонько сел рядом с пастором, трясущимися пальцами держась за его рукав. Вдруг молитвенник, очки и железная палка отделились от стены и грохнулись на землю. Палка, отскочив от камня, ударила пастора по ноге. — Ой-ой! — жалобно застонал служитель церкви, пытаясь отползти в сторону. Но Петерсен не отпустил его рукава и последовал за ним на корточках. — Ха-ха-ха-ха! — загромыхал кто-то сзади. И без того перепуганные, пастор и крестьянин оглянулись. Там, взявшись за бока, широко расставив ноги в желтых гетрах, хохотал недавний всадник.
— Спаси нас великий боже! Если ты дьявол, то сгинь… Тьфу! Тьфу! Тьфу! — Что вы плюетесь, почтеннейший? — сказал всадник, подходя к пастору. Серое от пыли лицо всадника с пронизывающими холодными глазами, один из которых был прикрыт больше другого, казалось страшным. Всадник остановился перед стеной и смерил глазами расстояние до второго этажа. — Не меньше нескольких миллионов гаусс! Вы поняли это, почтеннейший? — О-о нет, сударь… — пролепетал пастор. — Вы, кажется, пришли за каким-то долгом? — Так точно, сударь, — вставил Петерсен. — Сколько? — Двадцать крон, сударь. — Получайте ваши кроны и проваливайте! Ну? Петерсен подхватил деньги и заковылял к воротам, позабыв свою палку. Пастор пошел было за ним, но вернулся и с вороватым видом подобрал разбитые очки и молитвенник. Оглянувшись еще раз на страшного всадника, он, сильно припадая на левую ногу, затрусил вслед за Петерсеном. Ударив стеком по гетре, всадник пошел к замку. — Вы не можете спорить против того, господин Петерсен, что я помог вам получить деньги, — говорил пастор, когда они с Петерсеном выходили из рощи. Из-за деревьев поднимались суровые башни волшебного замка. — Я не понимаю вас, пастор! При чем тут вы? Ваш требник ведь не остановил дьявольского наваждения! — Не хотите ли вы сказать, что мне не причитаются мои деньги? — Я хочу вам только сказать, что вам не причитаются мои деньги! Возмущаясь и споря, удалялись эти хромающие на разные ноги фигуры, пока совсем не скрылись за поворотом. Поднявшись по изъеденным веками ступеням, всадник остановился перед массивной, обитой железом дверью. Бросив недокуренную папиросу на пол, он позвонил. В двери открылось круглое окошечко, и чей-то глаз прильнул к нему. Потом за стеной загрохотало, и дверь медленно растворилась. Перед всадником вытянулся человек гигантского роста. — С приездом, мистер Вельт! — Хэлло, Ганс! Как дела? — В полном порядке, мистер Вельт! — Работаете? — Так точно, мистер Вельт. — Это я уже видел! Ганс поднял бесцветные брови: — Осмелюсь… Мне кажется, вы еще не могли быть в лаборатории. — Совершенно достаточно, Ганс, быть около нее. Итак, идем! Покажите, как вы тут устроились. — Слушаюсь, мистер Вельт. Сопровождаемый верным Гансом, Фредерик Вельт вошел в большой зал с узкими стрельчатыми окнами. Со сводчатого потолка свешивались гирлянды изоляторов, поддерживающих провода высокого напряжения. На изоляторы сурово смотрели со стен портреты древних рыцарей. Гигантские трансформаторы наполняли помещение ровным гулом. Из-за стены слышалась работа каких-то машин. Фредерик прошел в следующую комнату. Воспоминания об Америке, о Мод проснулись в нем. Три так знакомых ему компрессора работали здесь, сжимая воздух, водород и гелий. Фредерик подавил в себе минутное чувство грусти. Вместе с Гансом они прошли в полутемный коридор и поднялись во второй этаж. Миновав галерею старых фамильных портретов прежних владельцев замка, они вошли в просторный, но темный зал. Он был пуст. Лишь древние рыцарские латы немыми стражами охраняли дверь в противоположном конце зала. Вельт, остановившись посередине, оглядывал помещение: — Право, недурное место! А? Как вы думаете, Ганс? Немного мрачно… — Совершенно с вами согласен, мистер Вельт. Внимание Вельта привлек какой-то металлический звук. Он вздрогнул и оглянулся. В полутемном зале никого не было. — Гм… Средневековые рыцари плохо заботились об освещении. Но, по-моему, здесь никого нет, кроме нас, Ганс? — Точно так, никого! Лязгающий звук повторился. Вельт схватил Ганса за руку. Они ясно увидели, как оба рыцаря, словно по команде, подняли свои железные руки и протянули их к охраняемой двери. — Что за чертовщина! — прошептал Вельт. Латы покачнулись, с металлическим звоном грохнулись на пол и замерли у стены в самых неожиданных позах. — Фу, черт! Воображаю, что было бы с милейшим пастором! Однако, Ганс, надо будет убрать этих железных кукол — они не рассчитаны на миллионы гаусс. — Будет исполнено. — Теперь предупредите Кленова, что я иду к нему. Вельт подошел к узкому окну, а Ганс направился к двери. Через минуту дверь открылась, и, споткнувшись о рыцарский шлем, вбежал Кленов. Он крепко обнял Вельта, и друзья поцеловались. — Я рад, что ты приехал, Фредерик! Может быть, оттого, что именно ты вернул меня к жизни и к работе, я так остро ощущал твое отсутствие. — Джон, твои слова — лучшая награда для меня! Но расскажи, как твои дела. — Все в порядке, Фред! Я восстановил защитный слой. Можешь быть уверен. Теперь мы поставим мир на колени! Вельт радостно улыбнулся: — Начало уже положено. Я только что видел, как ты не только поставил на колени, но и уложил на пол средневековых рыцарей и одного пастора. Кленов только теперь заметил лежащих рыцарей и кивнул головой. — Да, я не учел, что магнитное поле распространяется сюда, — рассеянно сказал он. — Итак, мы снова вместе, Фред! Нам сейчас же надо обсудить многое. У меня готовы все расчеты для строительства электрической пушки. Я даже избрал жертву. Тот самый остров Аренида, о котором когда-то рассказывал наш профессор. Я представляю себе, какое впечатление произведет его уничтожение на воюющие страны! Разговаривая, Кленов и Вельт прошли в лабораторию. Это была комната, служившая прежним владельцам библиотекой. По стенам и сейчас еще стояли старинные шкафы, наполненные книгами. Кленов показал рукой на возвышавшийся посередине бетонный постамент: — Вот здесь находится наш соленоид. Он залит жидким гелием. Изоляцией от внешнего мира служат слой жидкого водорода и слой безвоздушного пространства… К постаменту подходили толстые провода, подвешенные к потолку на изоляторах. — Джон, ты превзошел все мои ожидания! Показал себя хозяином в этих владениях. Ты заслуживаешь, чтобы я подарил их тебе. В такой короткий срок ты превратил этот мрачный памятник старины в современную лабораторию! Я верю в тебя и в наши светлые мечты, Джон! Вельт хлопнул Кленова по плечу. Кленов опустил голову: — Наши мечты… Это единственное, что осталось в моей жизни. Счастье человечества и уничтожение войн! Личной жизни у меня не может больше быть. Но я благодарен тебе, Фред, что ты своей дружеской заботой вернул меня к жизни. — Не будем вспоминать, Джон! Кстати, сегодня я подумал о том, что при прохождении тока через твой соленоид он будет притягивать к себе железные предметы с той же силой, с какой будет притягиваться к ним сам. Когда сверхаккумуляторы проникнут во все мелочи обихода, придется в корне менять материалы привычных предметов. Железо будет изгнано. В быту будут применяться только алюминиевые и другие немагнитные сплавы. Подумай, каких неприятностей наберешься, имея в кармане аккумулятор, скажем, для велосипеда… За тобой погонятся все консервные банки! Ха-ха-ха! Кленов улыбнулся и пожал Вельту руку: — Спасибо, Фред! Ты всегда стараешься отвлечь меня от воспоминаний. Но скажи, когда же мы получим возможность построить свою электрическую пушку и, грозя ею, предъявим ультиматум Вселенной? — Сядем, Джон. Мне надо поговорить с тобой. Все идет по намеченному нами плану. Мы перебросили наше оборудование в этот удобно расположенный и в то же время нейтральный пункт. Здесь мы и будем строить нашу электрическую пушку. Но ты понимаешь, конечно, что для этого нужно много и материалов и денег. — Ах да, деньги… Я не думал об этом. Здесь уж я полностью полагаюсь на тебя. Надеюсь, тебе удалось все устроить? — Да, мой мечтатель, мне удалось организовать Общество уничтожения войны! — Общество? — удивился Кленов. — Да, акционерное общество. Оно уже располагает капиталом в несколько миллионов долларов. В него вошли крупные промышленники, военные специалисты, общественные деятели. Только с их помощью… с помощью их денег мы сможем осуществить свои грандиозные замыслы. Кленов задумался. — Да, я плохо разбираюсь в таких вещах. Но, пожалуй, ты это все хорошо придумал… А? — Верь, Джон! Это выгодно нам. Они рассчитывают на будущие блага от монопольного использования твоего аккумулятора, мы же используем их деньги теперь. — Да-да… — задумчиво согласился Кленов. — Кстати, президентом общества будет мой отец. Он хороший старик, ты не суди его… Вице-президентами будем ты и я. Завтра в Копенгагене в твоем присутствии состоится первое заседание общества. — Завтра? — Потом мы привезем сюда эти денежные мешки. Надо будет показать им что-нибудь поэффектнее: например, накалить добела или взорвать вон тот холм. — Что ж, это можно, — равнодушно сказал Кленов. — Итак, Джон, позаботься о всех приготовлениях. Завтра мы едем в Копенгаген, а потом продемонстрируем членам общества нашу силу. — Хорошо, — медленно ответил Кленов. — Тогда мне надо сейчас заняться приготовлением защитного слоя. И он взял с постамента небольшую свинцовую коробочку. Эту коробочку Кленов берег больше жизни. В ней заключался секрет той силы, которую он собирался обрушить на непокорные страны мира. В ней хранились запасы необыкновенно редкого элемента — радия-дельта. Этот элемент был неизвестен научному миру. Неизвестен потому, что неопубликованная статья Бакова о радий-дельта, как тот назвал элемент за его радиоактивность, а также и сам поразительно тяжелый самородок остался у Кленова. По приезде к Холмстеду Кленов, как завещал ему Баков, занялся сверхпроводимостью. Конечно, без радия-дельта он не добился бы столь значительных успехов. Дело в том, что открытое в 1913 году голландским физиком Камерлингом Оннесом явление сверхпроводимости, которое использовал Кленов для накопления в магнитном поле катушки огромных количеств энергии, внезапно исчезало, едва сила тока и магнитное поле достигали определенной величины. Еще в подвале харбинского кабачка профессор Баков предположил, что явление сверхпроводимости, то есть полного отсутствия электрического сопротивления, является следствием особой, «первичной», как он назвал, атомно-молекулярной структуры. Он предположил, что атомы проводника при низких температурах получают возможность расположиться отдельными группами, замыкающими внутри себя электрические поля. При этой структуре свободные электроны выискивают в движении такие пути, когда им не надо преодолевать электрическое поле. При повышении температуры тепловое движение атомов разрушает эту структуру, электрическое поле распространяется на весь объем проводника, и электронам приходится при своем движении производить работу, что и воспринимается как полное электрическое сопротивление. То же происходит и при большом магнитном поле. Атомы уже не могут расположиться группами, соответствующими первичной структуре. Внешние магнитные силы располагают их иным способом. И снова электрическое поле распространяется на весь объем проводника, и электронам вновь приходится проделывать работу, преодолевая сопротивление. Конечно, эта гипотеза была на уровне знаний 1913 года, но она помогла Бакову и Кленову принять решение искусственно задержать первичную структуру проводника, покрыв его особым радиоактивным слоем, основным компонентом которого был радий-дельта. Цель была достигнута. Радиоактивное влияние слоя оказалось тем тормозом, который сохранял в проводнике первичную структуру. Атомы продолжали существовать, объединенные, по тогдашнему представлению, в элементарные группы, замыкающие внутри себя электрические поля. Между этими группами сохранялись те свободные дорожки, по которым электроны могли двигаться, не преодолевая сопротивления. При этом Кленову удалось заставить эти электроны двигаться с большей, чем обычно, скоростью, благодаря чему через тонкую проволоку он смог пропускать при том же количестве свободных электронов значительно больший ток, не разрушая вещества проводника. Таким образом, элемент радий-дельта, заключенный в коробочке, которую Кленов держал в руках, являлся ключом к тайне концентрации огромных количеств энергии в малых объемах. Всего этого Вельт не знал. Кленов никогда не делился с ним подробностями исследований профессора Бакова и тайной тунгусской тайги. Естественно, что Вельт не обратил внимания на то, что Кленов, сняв с одной из полок несколько старинных книг в золоченых переплетах, просунул руку с коробочкой за полку и сделал движение, словно закрывал невидимую дверцу. В комнате даже послышался звук ржавых петель, но Вельт пропустил его мимо ушей. Мог ли он знать, какое значение будет иметь эта коробочка для его собственной судьбы и судьбы всего мира?
Глава II. ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ ВНОВЬ
Решено было на следующий день рано утром перенести заряженный аккумулятор в приготовленную для него глубокую шахту. Шахту рыли ночью, в страшной спешке. — И зачем только этому чудаку ученому такой глубокий колодец понадобился, да еще на холме! — пожимали плечами рабочие. К утру шахта была готова. Нести аккумулятор взялся силач Ганс. Собственно, особой силы для этого не требовалось, так как аккумулятор был не больше чемодана. Но у Ганса был такой вид, словно он готовился сразу ко всем двенадцати подвигам Геракла. Кленов и Вельт лично осмотрели весь путь, по которому должен был проследовать Ганс со своей ношей. Все, что хоть отдаленно напоминало железо, постарались убрать с дороги. С аккумулятором под мышкой, как-то по-особенному тяжело придавливая сапогами пол, Ганс отправился из зала-лаборатории. Вдруг его ощутимо потянуло к дверной ручке. Но в массивном немце упрямства было не меньше, чем веса. Он крепко уперся ногами, не выпуская вырывающийся цилиндр. — Придется тебе притормозить, — сказал он аккумулятору довольно нежно. Дверь сама собой закрылась. — Мистер Вельт, осмелюсь просить вас: откройте эту проклятую дверь! — попросил Ганс. Вельт налег на дверь, но с тем же успехом можно было стараться сдвинуть с места Ганса. Действительно, дверь казалась привязанной невидимой веревкой к окаменевшему в напряжении Гансу. — Хэлло, Ганс, надо вам отойти в другой угол, иначе здесь и троим не справиться. Ганс отошел. Сила, с которой он невольно держал дверь, ослабла, и дверь наконец удалось открыть и привязать к стене. Но пройти в дверь Гансу все же не удалось. Цилиндр с непреодолимой силой потянул его за собой и прилип к дверной ручке. Ганс попробовал оторвать аккумулятор сначала деликатно, потом понатужился, крякнул, побагровел и рванул, не обращая внимания на какой-то треск. Увидев обращенные на себя взоры, Ганс смутился, опустил аккумулятор и убедился, что к нему прилипла вырванная из двери ручка. Немец виновато заулыбался. Оторвать ручку от цилиндра пытались втроем, но безуспешно. — Зачем же ломать улучшенную случаем конструкцию аккумулятора? — сказал, смеясь, Вельт. — Ведь теперь есть, по крайней мере, за что нести гладкий цилиндр… Ты, Джон, не предусмотрел этого. Ганс обрадовался. — Ах ты, умница моя! — обратился он к аккумулятору. — Сама себе ручку приделала! Ручки на всех дверях по пути Ганса пришлось заблаговременно отвернуть. Но перед входной, обитой железом дверью остановились в нерешительности. — Хэлло, Ганс! Путь один — через окно, — сказал Вельт. Окно открыли, и Ганс вылез в него, по дороге вырвав из подоконника несколько гвоздей. Едва встал он на землю, как почувствовал, что тяжесть аккумулятора удесятерилась. Ганс крепко держал дверную ручку, но цилиндр оторвался от нее и упал на землю. Ганс нагнулся, пытаясь поднять аккумулятор, который словно наполнился свинцом. — А ну-ка, на первой скорости! — сказал он, с трудом выпрямляясь вместе с цилиндром. Но тут произошла странная вещь. Почва зашевелилась под ногами у Ганса. Не успел он отскочить в сторону, как из земли вырвался заржавленный меч и впился в цилиндр, немного смяв его оболочку. За мечом из земли тянулась тяжелая, видимо бронзовая, цепь. — Ах ты, умница моя! Сама себя на цепь посадила! — закричал Ганс. Ни меч, ни цепь оторвать не удалось. Пришлось поднимать каменную плиту. Вельт проявлял признаки нетерпения. Ганс с трудом отвалил плиту. Цепь тянулась дальше, в подземелье, где конец ее был прикован к человеческому скелету. Спустившийся в подземелье Ганс притих. Вельт рассердился и сам спрыгнул вниз. Увидев, что цепь прикована к кольцу, опоясывающему позвоночник, он одним ударом ноги сломал кость и вырвал цепь. — Нам надо спешить, — сказал он, отталкивая череп ногой. Плиту опустили, оставив в покое потревоженные кости. Кленов, отвернувшись, стоял у стены. Ганс изрядно измучился. Кроме аккумулятора, ему пришлось тащить еще и дверную ручку, и меч, и цепь, и еще целую кучу неизвестно откуда взявшихся железных предметов. Вдруг послышался лай. Ганс, расставив ноги, обхватил обеими руками рвавшийся аккумулятор и прижал его к животу. Из-за угла выскочил пес Герт — любимая собака Кленова. Он приближался с лаем, переходящим в испуганный вой. Не успел никто опомниться, как Герт, пролетев последние шесть шагов по воздуху, с жалобным визгом ударился в грудь Ганса. — Ошейник! — закричал Кленов. Он бросился к несчастной собаке и освободил ее от железного ошейника. Перепуганный пес скулил и лизал ему руки. Ганс отер рукавом пот с лица и, взявшись за цепь, закинул аккумулятор за спину. — Идти через ворота нельзя, — сказал Кленов, — ведь у нового моста железная ферма. — Что ж делать, — хрипло вздохнул Ганс, — придется перелезать через стену замка! Притащили две наскоро связанные лестницы, и по ним Ганс, не обращая внимания на подозрительный треск, вместе со своим диковинным грузом поднялся вверх. Лестницы перенесли на противоположную сторону, и он сравнительно благополучно, если не считать двух сломанных ступенек, спустился. Старательно обойдя мост, Ганс в конце концов закончил свое необыкновенное путешествие. Аккумулятор вместе со всеми прилипшими к нему предметами опустили в шахту и вывели оттуда два провода. По этим проводам Кленов хотел пропустить ток, чтобы нагреть аккумулятор немного выше критической температуры. Тогда явление сверхпроводимости должно было мгновенно исчезнуть. Под влиянием тока аккумулятора катушка, вновь обретя полное сопротивление, расплавится, и вся энергия ее магнитного поля перейдет в тепло. На эффект этого явления рассчитывал Вельт, думая продемонстрировать его членам Общества уничтожения войны. — Ну, джентльмены, сейчас я способен выпить пива не меньше, чем кабатчик из «Гофманских кабачков» в Берлине, который пьет по кружке с каждым посетителем! — сказал Ганс, садясь к рулю автомобиля. — Да, телосложением вы для этой роли подходите, — сказал Вельт, — и вы сможете это сделать тем скорее, чем раньше довезете нас до железнодорожной станции Вайле. — О'кей! — сказал Ганс по американской привычке. Действительно, он в кратчайший срок домчал до станции Вайле Кленова и Вельта. Даже не дождавшись отправления поезда, он засел в железнодорожном буфете и надолго оставил там память о своем пребывании. Когда его патроны достигли станции Фридериция и паровоз со всем составом въехал на паром для переправы через пролив Малый Бельт, Ганс кончил только вторую дюжину кружек. Встревоженный буфетчик, чтобы не ударить лицом в грязь перед таким достойным посетителем, послал за пивом на соседнюю станцию, так как на свои запасы не надеялся. Как мелькали перед глазами Кленова и Вельта километровые столбы между станциями Одензее и Люберге, так перед захмелевшим Гансом проходили вереницы новых пенящихся кружек. Переправа Вельта и Кленова через пролив Большой Бельт для Ганса ознаменовалась тем, что он потребовал себе сразу дюжину кружек и пролил их, опрокинув стол. Когда же вечером Вельт оставил Кленова в ресторане копенгагенского отеля, Ганс мирно спал под столом, сотрясая станционное здание громоподобным храпом. Кленов сидел в ресторане за отдельным столиком и задумчиво смотрел на давно остывший стакан черного кофе. Вельт ушел повидаться с прибывшими членами общества и подготовить заседание. В голове Кленова было пусто. Ни одна мысль не шла на ум. Процедура заседания представлялась скучной и утомительной. Пожалуй, впервые за последние месяцы Кленов сидел без дела, не за работой. Обычно он никогда не позволял себе этого. Он знал, какие тяжелые мысли неизменно приходят к нему в такие минуты. Так и сейчас: он чувствовал, что болезненные воспоминания вновь овладевают им. Тюльпан черного дыма над лабораторией… Больница, куда он попал почти без всякой надежды на выздоровление… Его взял оттуда Фред, сам только что выписавшийся из клиники после трепанации черепа. Вельт окружил Кленова заботой: он ухаживал за ним, как преданный брат. Фред понял мечту Кленова об ультиматуме Вселенной, поддержал его идею и этим вернул Кленова к жизни. Как горячо обсуждали они с Вельтом план действий! Фред понимал его с полуслова. Им нужно было выбрать место вблизи воюющих стран, откуда они могли бы пригрозить всей Европе страшным оружием Кленова, заставив правительства повиноваться. Вельт отыскал и купил в Дании старинный замок, где Кленов оборудовал лабораторию. Теперь он мечтал только об одном: скорее приступить к строительству электрической пушки. Выбрасывая из нее свои насыщенные энергией аккумуляторы, будущий повелитель мира мог вести войну с любой непокорной страной. Кленов невидящим взором посмотрел в окно. За стеклом мелькали огни вечернего города. Экипажи, автомобили, пешеходы однообразной пестротой раздражали глаза. Его внимание привлек автомобиль несколько необычной формы, остановившийся у подъезда отеля. На радиаторе развевался флажок. Из автомобиля выскочил военный в незнакомом Кленову мундире и, открыв дверцу, вытянулся во фронт. Из машины вышел другой военный. Проходя мимо окна, за которым сидел Кленов, он повернул голову. Глаза их встретились. Кленов вздрогнул. Военный улыбнулся и взял под козырек. Он что-то сказал своему спутнику и зашагал к подъезду отеля. Кленов инстинктивно оглянулся, отыскивая глазами полицейского. Воротничок больно сдавил горло, словно оно было туго затянуто медным проводом. Военный не торопясь подошел к столику Кленова и улыбнулся, выставив свои редкие зубы. Кленов вскочил, задыхаясь. — Прошу вас, Иван Алексеевич, садитесь! Не могу вам передать, как рад вас видеть, — сказал пришедший на чистом русском языке. Он сел против Кленова, хотя тот продолжал стоять. — Я крикну сейчас полицейского! — прошептал ученый. — Совершенно напрасно, Иван Алексеевич! Сейчас мы уже не в Америке, а в Дании, где ваш собеседник пользуется правом дипломатической неприкосновенности военного атташе. Ваше обращение к полиции повредит только вам. Человек в форме полковника иностранной армии поправил большие круглые очки в золотой оправе. Широко раскрытыми глазами смотрел на него Кленов. Это был Кадасима. — Я искал случая встретиться с вами, — сказал японец. Кленов сел. — Как? Вы знали, что я здесь? — приглушенно сказал он. — Не только знал, но и пристально наблюдал за вами, за вашими закупками, приготовлениями. Вы плохо скрывали все это. Поэтому-то я и хотел повидаться с вами, чтобы предостеречь… из личного расположения к вам, конечно! — Вы? Почти мой убийца! И говорите о личном расположении! — громко сказал Кленов. — Тише, Иван Алексеевич, здесь могут найтись люди, понимающие по-русски, а от этого будет худо только вам. Русские умеют расправляться с изменниками даже за границей! Кленов снова вскочил: — Что вы хотите этим сказать, милостивый государь? — Успокойтесь, Иван Алексеевич, прошу вас, не привлекайте ничьего внимания. Я же говорю, что сам хотел повидаться с вами, следовательно, все вам объясню. Кленов сел, тяжело дыша. — Прежде всего я прошу выслушать меня. Это необходимо, я бы сказал, для нашего взаимного понимания. Я отнюдь не убийца — я солдат и ученый. Во время нашей последней встречи я пытался убрать вас с дороги только потому, что вы объективно вредны для человечества… Да-да, именно объективно. Изобретатель чудовищного смертоносного оружия, которому безразлично, кому оно будет служить, — страшная угроза всеобщему миру! — Вы ошибаетесь, милостивый государь! Это не так. — Предположим… Позднее мы вернемся к этому. Во время нашей первой встречи вы обладали тайной, которую мужественно отказались мне открыть. Я уважаю вас за это… Но… тайну эту вы могли открыть другой стране, чем сделали бы ее сильнее моей родины. Как патриот я не мог этого допустить! Я говорю: к сожалению, и в то же время искренне рад вас видеть. Такова уж двойственность человеческих отношений. Итак, как я уже сказал, я не убийца. Я солдат и ученый. Мне кажется, мы даже породнились. Мне хочется считать себя вашим крестным отцом… Кленов при этих словах передернул плечами. Кадасима невозмутимо продолжал: — Последний раз в Америке я видел вас издали, когда с ближайшего горного склона наблюдал чудовищный взрыв Белой виллы покойного Холмстеда. Вы, конечно, понимаете, что с моей стороны было бы непростительным не быть тогда в курсе ваших дел даже и после моего исчезновения. Доклад о всем виденном послужил некоторым смягчением моей вины перед пославшими меня. И вот два месяца назад я снова увидел дорогого мне человека. И где же? Здесь, в Дании! Мой прежний опыт и теперешнее официальное положение быстро помогли мне разобраться, в чем дело. Назначение ваших трансформаторов и компрессоров понятно для меня. Это живо напомнило мне Америку и Холмстедов, которым я верно служил, закончив за это время одно интересное исследование… Итак, вы решили вернуться к своему страшному изобретению? Значит, окончательно погибло только одно пылающее облако? А ваше… Подождите, не перебивайте!.. Для кого же вы готовите свое смертоносное изобретение? На чьи деньги? Для какой цели? Ответы просты и ясны. Для концерна мистера Вельта-старшего, на его деньги, для той страны, которая больше заплатит мистеру Вельту. Чудовищное оружие может быть использовано против России в теперешней войне. Следовательно, вы, господин Кленов, изменник! — Ах, нет, господин Кадасима! Ничего вы не знаете! Это вовсе не так, — несколько растерянно сказал Кленов. — Но согласитесь, что это так выглядит. — У моего изобретения сейчас другое назначение, иная роль и концерна Вельта в этом деле. — У вашего изобретения одна цель — уничтожение! Кленов выпрямился: — Вы правы, господин Кадасима: уничтожение. Но уничтожение чего? Войны! Теперь пришла очередь Кадасимы удивляться. — Мое средство настолько сильно, что, когда оно будет известно всему миру, люди не осмелятся поднимать друг на друга оружие. Владея миром, я могу приказывать им. Я могу, например, разрушить какой-нибудь остров — скажем, Арениду — и показать всем, какой силой обладаю. Я прикажу прекратить войну! Я не изменник, господин Кадасима, я служу человечеству! Кленов залился румянцем. От волнения он опрокинул на скатерть свой стакан черного кофе. Японец усмехнулся: — Вы горячитесь, Иван Алексеевич! Это нехорошо. Мне горячность не раз портила карьеру. Конечно, слово «изменник» оскорбительно, и я понимаю вас. Я сам как дворянин не выношу оскорблений и в подобных положениях теряю над собой власть. Только потому, что это благородно, император простил меня. С тех пор он посылает меня лишь на легальную работу. — Я не изменник, господин Кадасима! — Вы искренни, коллега, я вижу это. Но все же ваши действия расходятся со словами. — Это неверно, господин Кадасима! — Зачем же вы собираетесь демонстрировать свое изобретение военным экспертам воюющих стран? — Каким военным экспертам? — Разве вам надо перечислять воюющие страны, которые не прочь купить ваше изобретение и договариваются об этом с концерном Вельта? — Это чудовищно… Сразу с обеими сторонами?! — О, в этом нет ничего удивительного! Так принято. Торгуют же враждующие стороны между собой военным снаряжением! Просто эти грузы сначала покупаются у американских или английских промышленников для Швеции или Норвегии, а оттуда переправляются куда надо, с известной накидкой за хлопоты, конечно. — Это бред! — Иван Алексеевич, разве вы не знаете, что ваше и вашего учителя Бакова изобретение котируется на военной бирже и будет принадлежать тому, кто больше даст! — Вы клевещете, Кэд! Это ужасно… ужасно! Лучше бы вы тогда меня убили! — Я тоже думаю, что это было бы лучше, но… что поделаешь! Японцы умеют склоняться перед судьбой. — Я вам не верю. Вы клевещете на моего друга, на Фреда. Я требую доказательств! — А если я представлю их вам? — Тогда, клянусь памятью Мод, никто никогда не увидит этого изобретения! Боже мой, а я, глупец, мечтал о технических армиях! Кленов до боли сжал виски кулаками. Японец снял и протер очки. — Хорошо, мистер Кленов, — сказал он, переходя на английский язык, — я постараюсь представить вам доказательства. Вас же прошу вести себя так, словно мы столь счастливо не встретились… Позвольте вам пожелать… Полковник встал и взял под козырек. Кленов сидел неподвижно, рассматривая черное пятно на скатерти. Он не откликнулся на два вежливых предложения официанта сменить скатерть. На третий раз он поднял глаза и сказал на непонятном официанту языке: — Боже мой! Как я мог поверить… Мечтатель! — Так точно, — сказал официант. — Неужели я только орудие в их руках? — Так точно, сударь, необходимо сменить скатерть. Странный посетитель молча поднялся и, не расплатившись, направился к выходу. Официант хотел остановить его, но потом решил посоветоваться с метрдотелем. Тот посмотрел вслед Кленову и сказал: — Что ты, что ты! Ведь он занимает лучший номер в гостинице. — Неужели! На лестнице Кленова догнал Вельт. Он хлопнул его по плечу и прошептал на ухо: — Приехали! Собрав всю свою волю, Кленов обернулся к Фредерику. Он посмотрел на его открытое, мужественное лицо, несколько обезображенное рубцом, проходящим через левый глаз. Неужели шпиону и убийце нужно верить больше, чем другу? Нет! Враг хочет посеять раздор между ними. Не выйдет! Он сейчас же все расскажет Фреду. — Идем в малый зал ресторана, я снял его на весь вечер. Там состоится первое заседание нашего общества. Что же ты стоишь? Идем, ведь нас ждут! — Надо идти сейчас же? — Конечно! Все уже там. Я пришел за тобой. Кленов хотел что-то сказать, но Фред схватил его за руку и повлек за собой.Глава III. ОБЩЕСТВО УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЙНЫ
Малый зал ресторана был отделан черным бархатом. Тяжелые портьеры плотно прикрывали окна и двери. Ни один звук не доносился сюда ни с улицы, ни из внутренних помещений. У дверей стояли два дюжих человека в наглухо застегнутых сюртуках. Увидев Вельта, они расступились. Все сидящие за столом с любопытством оглянулись на Кленова. Кленова поразило, что стол был накрыт и ужин, по-видимому, был в самом разгаре: кушанья начаты, бутылки откупорены. Значит, эти люди давно уже были здесь. И Фред, пока Кленов разговаривал с Кадасимой, сидел с ними. Кленову бросилось в глаза, что присутствующие держались обособленно. Ему показалось, что двое справа — один высокий, сухой, с серыми глазами, другой низенький, живой — говорили по-английски. Напротив них молча обменивались взглядами два господина в черных сюртуках. Оба держались прямо, не прикасаясь к спинке стула. Усы у них были закручены так, что поднимались почти к самым глазам. Они старались не глядеть на своих визави. Кленов мысленно отмахнулся от невольных подозрений. Возможно ли, чтобы офицеры двух воюющих армий встречались за одним столом! Напротив Кленова сидели два толстых, обрюзгших человека, которые не проявляли интереса к окружающему, а были заняты едой. Двое, с закрученными усами, насторожились. Вельт поднялся. Справа перестали разговаривать. — Господа! Позвольте, сославшись на произнесенное уже мною выступление, от имени президента Общества уничтожения войны, моего отца, открыть заседание общества, выразив уверенность, что в результате его деятельности война закончится быстро! — Вельт вложил в последние слова особый смысл. — Разрешите, по поручению моего отца, передать председательствование вице-президенту общества доктору Кленову! Кленов вздрогнул. Этого сюрприза он никак не ожидал. Как он должен держаться? Что говорить? Все присутствующие сухо похлопали, оглядывая Кленова пустыми глазами. Булькнуло в бутылке. Кто-то наливал в стакан вино. Звякнул нож о тарелку. Кленов упорно молчал. Попросив разрешения у Кленова, снова поднялся Вельт: — Я позволю себе попросить господина вице-президента познакомить хотя бы вкратце присутствующих с его прогнозом будущей жизни человечества, а также с сущностью того могучего средства, обладателем которого становится наше общество. Снова все захлопали в ладоши. Что это? Издевательство? Открывать свои сокровенные мысли перед этими, может быть, переодетыми генералами? Или говорить с ними о величайшем средстве разрушения, чтобы у них загорелись глаза?.. Нет, он не может говорить, даже если бы это было и не так! Удивленный молчанием Кленова, Вельт делал ему через стол отчаянные знаки. Кленов встал. Любопытные взгляды ощупывали его. — Господа! Я буду краток. Мне нет надобности рассказывать о своем изобретении, когда я могу его вам показать. Я приглашаю вас в Ютландию. Кленов сел. Члены общества склонили головы друг к другу. Заговорили тихо. Кленову казалось, что они говорят на разных языках. — Нам нравится деловой тон господина президента, — сказал на плохом английском языке человек с закрученными усами. — Джентльмены любят краткие заседания! — сказал высокий справа. — В таком случае, — вставил Вельт, — мы могли бы немедленно сесть в заказанный мною экстренный поезд. Он ждет нас. Высокий и низенький справа поднялись, отодвинув стулья. Двое с закрученными усами последовали их примеру. Встал и Кленов. Вельт взял его под руку. — Ты произвел очень выгодное впечатление, — сказал он Кленову на ухо. …В предрассветном тумане, ранним утром следующего дня, по дороге к буковой роще один за другим ехали три автомобиля. В первом, кроме Кленова и Вельта, сидели еще два сытых человека неопределенной национальности. Остальные члены общества разместились в других автомобилях. Было еще темно и сыро. Люди зябко кутались в пальто и плащи. Всю дорогу Кленов молчал. Он отказался давать какие-либо объяснения до приезда в замок. В конце концов любопытные толстяки оставили его в покое. Не доезжая замка, автомобили остановились. В серой мути поднимались промозглые тени зубчатых стен и сутулых башен. Все члены общества, разбившись на группки, столпились у автомобиля Кленова. — Обратите внимание, джентльмены, на ваши компасы! — нарушил Вельт пустую, давящую тишину. Все вынули, вероятно запасенные ранее, компасы. Зачиркали спички, вырывая из темноты силуэты деревьев и кустов. — Смотрите на стрелки компасов, джентльмены! — торжественно продолжал Вельт. Высокий вытянул руку по направлению своей стрелки. — Странно: вместо севера стрелка показывает на восходящее солнце, — сказал его низенький спутник и быстро повернулся. — Джентльмены! Уже дает о себе знать изобретение мистера Кленова! — возвестил Вельт. — Вы имеете в виду этот холм? — спросил господин с усами. — Именно, — сказал Вельт. В это время Кленов, до сих пор понуро сидевший, встал на сиденье. — Господа, — сказал он, — в глубине этого холма скрыт небольшой соленоид, в магнитном поле которого содержится несметное количество энергии. Любой из вас, нажав кнопку вон на том дереве, может возродить в Ютландии миллионы лет назад потухшие вулканы. — О-о! — сказал один из толстяков. — Этодолжен сделать промышленник. Позвольте мне, господин ученый. С этими словами он вылез из автомобиля и направился к дереву, где стоял Ганс. Все члены общества вооружились биноклями. — Командуйте, господин вице-президент! — закричал толстяк. — Сейчас. Подождите минутку, господин промышленник! Кленов немного помедлил, взявшись за борта своего пиджака. — Итак, джентльмены, через несколько мгновений я вызову к действию энергию, законсервированную в аккумуляторе. Для этого надо лишь нарушить условия существования сверхпроводимости — явления, конечно, вам не известного. Нужно лишь разомкнуть проводник, поднять температуру или нарушить целость защитного слоя. Всем этим можно управлять по желанию. Члены общества напряженно ждали. — Итак, мы начинаем! — с театральным жестом сказал Кленов и махнул рукой. Толстяк нажал кнопку. В то же мгновение из вершины холма вырвался огромный огненный столб. Он достиг облаков и словно прожег их. Холм раскололся, как хрупкий шар, и из трещин его вырвались ослепительные молнии. Деревья на холме повалились и вспыхнули. Давящий, оглушительный грохот докатился наконец до оцепеневших зрителей. Развороченный холм превратился в пылающий костер. С неба, оставляя слепящий след, сыпались куски лавы. Стало светло, как днем. Черные стены замка побагровели. Раскаленный холм сверкал, словно упавшее с неба солнце. На него нельзя было смотреть. Глаза не выдерживали, да и лицо начинало ощущать палящий ветер. — Поразительно! — Восхитительно! — С этим средством можно уничтожить не только войну, господин вице-президент, — сказал подошедший толстяк, потирая словно замерзшие руки. Остальные молчали. — Господа члены общества! — громко произнес Кленов, опять вскакивая на сиденье. — Господа генералы и капиталисты! По-видимому, мы плохо понимаем друг друга. Вы считаете меня полусумасшедшим утопистом, с которым надо играть какую-то комедию. Но это неверно. Я деловой человек, и я не случайно демонстрирую вам средство уничтожения, которому нет равных. После того как вы видели все это собственными глазами, я считаю, что мы можем говорить с вами откровенно. Представьте на минуту, что я знаю ваши национальности и истинную цель вашего приезда… Вельт непонимающе смотрел на Кленова: — Джон, подожди… Что ты хочешь сказать? — Господа, я показал вам могучее средство, которое в ваших руках может служить… — Кленов осмотрел присутствующих и произнес, чеканя каждый слог: — Служить уничтожению чего угодно, кроме войны! Но не думайте, что это смущает меня. Напротив! Вы можете лишь упрекнуть меня в маленькой хитрости. Я изобретатель, и я торгую своим изобретением. Продаю кому угодно. Хочу взять возможно больше. Покупайте, господа! Продается, но только за наличные. Фредерик Вельт лишился дара слова и растерянно смотрел на Кленова. — Замечательно… Замечательно, господин ученый! Вы мило провели нас, очень мило провели! — сказал нажимавший кнопку толстяк. — Мы думали, что с вами надо ломать комедию, что вы чудак, а вы, оказывается, деловой человек, заодно со своим другом! Хе-хе-хе! — Сколько! Сколько! — кричал Кленов. — Господин вице-президент, верьте нашему акционерному обществу! Мы… — В Америке говорят: «В бога мы веруем, а остальное — наличными!» — Хотите миллион франков? — закричал маленький черноволосый. — Миллион марок! — вмешался усатый. — Мне уже предлагали однажды миллион, только миллион долларов! Все молчали. — Кто больше? — кричал исступленно Кленов. — Полмиллиона фунтов стерлингов! — выдавил из себя высокий. — Простите, герр ученый, снаряды, подобные виденному, можно производить в массовом порядке? — Конечно, господин генерал, быстро, дешево и сколько угодно! — О-о! Это прекрасное зажигательное средство. Мы сговоримся с вами. Сколько вы хотите? — Скажите нам: сколько вы хотите? — Я прошу еще немного внимания! — перекричал всех Кленов. Все стихли. — Господа, час назад мы именовали себя членами Общества уничтожения войны. Я спрашиваю вас: будут ли возражения против того, чтобы в названии нашего общества откинуть последнее слово… в знак взаимного понимания… — Браво! Пусть будет Общество уничтожения! — закричал один из промышленников. — Очень остроумно! — Позвольте, — наконец вмешался Фредерик Вельт, — я считал бы излишним дальнейшие разговоры о покупке изобретения. Оно уже принадлежит нашему обществу. — Браво, Фредерик! Ты прав. Оно принадлежит обществу… Довольно, господа! Теперь мне все понятно. Объявляю… Первым актом Общества уничтожения, который я произведу, будет уничтожение моего открытия! Клянусь памятью той, которую я любил, никто не увидит больше зрелища, подобного сегодняшнему! Никогда мое изобретение не попадет в человеческие руки, не станет средством убийства! Теперь я потерял все… Господин Фредерик Вельт, я хочу вам сказать, что вы подлец! — Джон! — отшатнулся Вельт. — Да, подлец, надругавшийся над моими наивными мечтами, продавший мою душу! Тяжелее всего мне было потерять друга, но теперь мне все равно. Можете считать, что ни меня, ни моего изобретения не существует. Вам не удалось довести до конца ваш чудовищный обман. Пропустите меня! Пораженные люди расступились. Вдруг послышался шум мотоцикла. Все смотрели на согнутую фигуру Кленова и обернулись только тогда, когда мотоцикл остановился около них. — Господин Кленов! — произнес человек в кожаном шлеме. Кто-то указал рукой на удаляющийся на фоне пожара силуэт ученого. Посланный бегом нагнал Кленова и передал ему пакет. — От полковника Кадасимы, — сказал он, прикладывая руку к шлему. — Уже не надо! Передайте господину Вельту, — сказал Кленов и зашагал дальше. Посланный пожал плечами и вернулся к группе оживленно шептавшихся людей. — Кто здесь Вельт? — спросил он. Вельт вздрогнул и протянул руку. — А! Я знаю теперь, чья это работа! — закричал он, разорвав конверт. — Подождите, мистер Кленов, вам так просто не уйти от меня! Ганс, за мной! Массивный Ганс присоединился к своему патрону, и они бросились догонять Кленова. — Что вам нужно от меня? — крикнул ученый, обернувшись. — Я нахожусь в нейтральной стране. Вы не имеете права ко мне прикасаться! — Бей его! — закричал Фредерик Вельт и, догнав, ударил Кленова по голове. Кленов зашатался. Подоспевший Ганс навалился на него. В это время послышался лай. Со стороны замка быстро несся какой-то темный комок. Через секунду Герт прыгнул на кучу барахтающихся тел. Несколько мгновений ничего нельзя было разобрать. Слышались рычание, возня, хрип. Потом один за другим прозвучали два выстрела. Собака взвизгнула и стихла. Один толстяк обратился к другому: — А не правда ли, красив был мой вулкан? — О да! Но посмотрите, мой компас уже показывает на север!Глава IV. ЕДИНСТВЕННЫЙ ПАССАЖИР
Район Ютландского замка охранялся частной полицией Вельта. Ни один экипаж, ни одна автомашина не могли появиться в запретной зоне, охватывавшей не только замок и рощу, но и соседнее селение, где жили враждовавшие между собой пастор и Петерсен. Осенней дождливой ночью на дороге к замку появилась автомашина с закрытым коробчатым кузовом. Опущенный шлагбаум остановил ее, а подошедшие сыщики с электрическими фонариками обнаружили на кузове знаки красного креста. Низенький санитар в очках, сидевший рядом с шофером, на хорошем английском языке объяснил, что карета «скорой помощи» вызвана крестьянином Петерсеном. Один из сыщиков вскочил на подножку и доехал до дома с толстыми каменными стенами, высокой черепичной крышей и узенькими окнами. Живший напротив пастор, услышав треск автомобиля, схватил зонтик и выскочил на улицу. Он тщетно напрягал слух, силясь разобрать слова громкого разговора, доносившегося из дома Петерсена. По улице, едва освещенной из окон пастора, с видом наслаждающегося погодой человека разгуливал сыщик в промокшем пальто и набухшем котелке. Пастор сложил молитвенно руки и подумал, что бог карает неблагочестивого Петерсена, который обделил служителя господа в памятный день посещения жилища дьявола. С сокрушением, но не без некоторого торжества следил пастор, как два санитара выносили из двора Петерсена носилки. Первый санитар был коренастый, огромного роста и только покрякивал; второй был тоже высок, но худ, горбился и, видимо, готов был выронить из рук ношу. — Не хотел бы я быть на носилках, — подскочил к пастору сыщик в надежде что-нибудь выведать. — Сейчас их уронят в грязь. Кто это такой грузный заболел? — Ах, почтенный господин! — сказал пастор. — Бог видит, что фру Петерсен добрая женщина, и не надо ей ставить в вину ни ее толщины, ни жадности мужа. Тут и сам Петерсен появился на наружной лестнице дома, громко выкрикивая, что не заплатит ни полкроны и напрасно бессовестный санитар пытается у него чего-нибудь выудить. Пастор сокрушенно покачал головой и многозначительно посмотрел на сыщика. Тот понимающе усмехнулся. Он умел с одного взгляда разгадывать людей. Низенький санитар и Петерсен, спускаясь с лестницы, продолжали спорить о каких-то кронах. Потом дверца автомобиля хлопнула, шофер со второй попытки завел ручкой мотор, и карета не спеша двинулась по раскисшей грязи. Петерсен продолжал кричать вслед: — Пусть у них лопнут глаза и шины! Будят ночью порядочных семейных людей, когда в доме все здоровы, включая даже откормленную свинью! Врываются, как грабители, и требуют платы за напрасный вызов! Сыщик заинтересовался, пастор вытянул шею. — Послушайте, любезный, — спросил сыщик, подходя к Петерсену, — разве у вас никто не заболел? Крестьянин стал призывать бога в свидетели, что он, Петерсен, не подозревал даже, что бывают кареты «скорой помощи», и уж, во всяком случае, он ничего не станет платить. Достойный последователь Шерлока Холмса молча нырнул во двор Петерсена. Петерсен хотел пойти за ним следом, но вспомнил, что стоит на лестнице в туфлях, длинной ночной рубашке и колпаке. Через улицу он заметил своего врага под зонтиком и погрозил кулаком. Появился очень довольный сыщик. Петерсен осветил его фонарем. — Пахнет хлороформом, — объявил сыщик. — Я сразу все понял. — Где ощутили вы столь странный запах, почтенный господин? — осведомился пастор. — В хлеве, патер. В хлеве этого хозяина! — И он указал на белую фигуру. — Я отлично знаю, чем пахнет в хлеве, — буркнул Петерсен. — Но вы не знаете, что он пуст, — заметил сыщик. — Как так — пуст? — завопил Петерсен и метнулся во двор, напоминая перепуганное привидение. Через секунду он выскочил на улицу, размахивая фонарем: — Грабят! Моя свинья! Она весила двести три килограмма! — Ее было очень тяжело нести на носилках, — продолжал наслаждаться видом Петерсена сыщик. — Я думал, уронят носилки в грязь. — Бог мой! — воскликнул пастор. — Они недостойно усыпили ее хлороформом, и пока скаредный господин Петерсен… — Ах, да замолчите вы, молитвенник в человечьем переплете! Боже мой! Моя свинья, моя толстенькая хрюшка! Надо просить владетельного господина из замка догнать грабителей… — Я могу сообщить мистеру Вельту, — задыхаясь от смеха, сказал сыщик. — Он вдоволь позабавится. Вельт действительно хохотал, когда услышал от промокшего под дождем Ганса всю эту историю. Тот знал его причуды и был уверен, что босс не разрешит гнаться за мнимой каретой «скорой помощи». Вельт, развеселившись, решил, что ловкие грабители заслужили вознаграждения. И карета «скорой помощи» беспрепятственно неслась среди ютландских вересковых степей. Внезапно она остановилась в пустынной местности. Задняя дверца кареты открылась, и из нее вытолкнули огромную свинью. Свинья упала на дорогу, потом встала на ноги и очумело огляделась вокруг. Начинало светать, шел мелкий дождь. Автомашина умчалась. Свинья улеглась в дорожную грязь. — Какой ужасный запах, не правда ли, Иван Алексеевич? — сказал низенький санитар, снова открывая заднюю дверцу машины. — Пусть в целях гигиены карета «скорой помощи» немного проветрится. Мы, японцы, особенно ценим свежий воздух. — Я не понимаю, зачем вы способствовали моему бегству? — спросил второй санитар, худой и высокий. — О, господин Кленов, только во имя интересов великой страны Ямато! Однажды бог воздуха Шанаи, беседуя с супругой и задумчиво глядя на облако, окунул свое копье в пурпуровое море. Капли, упавшие с копья, затвердели и образовали Страну Восходящего Солнца. Этой стране невыгодно, чтобы господин Вельт вынудил господина Кленова открыть тайну сверхбомбы. — Эта тайна никогда и никому не будет открыта! — О! Теперь я в этом уверен. Пусть так — никому. Все же нам, извините, выгодно вырвать господина Кленова из рук Вельта… Почтительно умоляю, не благодарите. Сентиментальность некоторых лиц, помогавших вам нести носилки, чужда вашему покорному слуге. — Слуга! — усмехнулся Кленов. — Вы действительно когда-то были слугой. — О, я часто вспоминаю с восхищением об этом времени! Харбин, 1913 год. Почтенный и больной профессор Баков и его молодой, извините меня, ассистент Кленов… Как сейчас вижу вас обоих в тайге, а потом в харбинском кабачке. Верьте мне, я искренне сожалел о смерти замечательного русского ученого, но плохого верноподданного Российской империи профессора Бакова, скончавшегося в Сан-Франциско на наших с вами руках. Ведь в то время я подумал, что от молодого ученого будет мало пользы. Слава императору, я ошибся. Вы великолепно продолжили дело своего учителя, реализовали его идею… — Вы действительно были живым свидетелем всей истории этого изобретения. Многие позавидовали бы вашей осведомленности. — Это мое призвание. Еще в Томске, где я держал парикмахерскую, я узнал, что профессор Баков сослан в тунгусскую тайгу. Я счастлив, что мои друзья рекомендовали меня вам, который полюбился еще в университете профессору Бакову. Ах, эти студенческие волнения! Зачем было профессору Бакову, который высказал столь интересные мысли о трансурановых элементах, проповедовать еще и опасные взгляды? Ему пришлось не только подать в отставку, но и отправиться в ссылку. Я сочувствовал ему как ученый и был просто обрадован, узнав, что он получил приглашение от Холмстеда, который славился своей готовностью поддержать любого смелого исследователя, невзирая на его политические взгляды… Сожалею и о том, что профессор Баков, находясь в моих руках во время перехода границы, еще не сделал своего открытия. — Вы говорите страшные вещи, господин Кадасима! — Служение долгу, только служение долгу, Иван Алексеевич! И вот теперь мой долг повелевает помочь вам достигнуть берегов Америки. — Мне тяжело пользоваться вашей помощью. — О, не переоценивайте моей помощи! — загадочно улыбнулся японец. Пока шофер стирал с кузова знаки красного креста, Кадасима и Кленов гуляли по пустынной отмели. Уже рассвело. Далеко в море — берега Ютландии отличаются мелководьем — виднелся моторный бот. От него к берегу шла шлюпка. — Я позаботился обо всем, — говорил Кадасима. — Спрячьте ваши новые документы. Полагаю, что они уберегут вас от Вельта. Осмелюсь пожелать вам тысячу лет жизни! Любите человечество, заботьтесь о нем и храните свою тайну! Кленов взял протянутый ему Кадасимой бумажник и потер свой бритый, порезанный подбородок. — Пусть кошка научится плавать, если я знаю еще где-нибудь такое чертово мелководье! — послышался голос из шлюпки. — Тысяча три морских черта! Джентльмену придется промочить ноги, чтобы добраться до шлюпки. — Прощайте, господин Кадасима. — Кленов решительно вошел в воду. — Счастливейшего плавания! — расплылся в улыбке Кадасима, выставляя редкие зубы. — Наука бездонна. Почтительно желаю вам достичь невиданных глубин! Осмелюсь напомнить, что бот должен курсировать в заданном квадрате близ американских берегов. За вами придет, извините меня, береговой катер! — И Кадасима снова обнажил свои выпяченные зубы. Кленов, зайдя по колено в воду, неловко перебрался в шлюпку. — Пусть мне повесят якорь на шею, если вы не сбрили бороду, сэр! — сказал встречавший Кленова моряк. — Когда я видел вас в последний раз, вы боялись промочить ноги и носили удивительную обувь. — А, это вы, — рассеянно отозвался Кленов. — Да, тогда на мне были галоши. Надеюсь, вы не в претензии за тот дождь? — Дождь? Это был единственный случай, когда моряк мог достойно утонуть, находясь на суше. Если доберетесь до тех мест, передайте почтение боссу Холмстеду и его дочке, которая очень мило советовала кошке плавать. — Ваш привет некому передавать… — мрачно сказал Кленов и посмотрел на берег. Он еще видел маленькую фигурку японца, стоявшего рядом с автомашиной, но не мог разобрать выражения его лица… На моторном боте был лишь один пассажир. Маленькая команда часто видела его на носу. Он стоял там, скрестив на груди руки. Его даже прозвали «впередсмотрящий». Шкипер считал своим долгом подходить к пассажиру, молча выкуривать трубку, сплевывать, конечно, не в море, а на палубу и вежливо говорить: — Если проскочим мимо германских подводных лодок, то вас, возможно, все-таки похоронят на суше, — и хохотал, тряся седыми бакенбардами. Кленова не трогал этот тяжеловатый юмор. Плавание длилось больше недели. Нужный квадрат был достигнут. Бот курсировал вдали от берегов, ожидая, когда обещанный катер придет, чтобы снять пассажира. Прошло два дня, а катера не было. Очевидно, кто-то, получивший указания Кадасимы, опаздывал. …Командир подводной лодки, спешивший к указанному квадрату, вынужден был потерять много времени, чтобы уйти от преследования американских эсминцев, принявших лодку за германскую. Не мог же командир дать приказ о всплытии, чтобы обнаружить свою принадлежность к союзному американо-японскому флоту! Ведь японской подводной лодке совершенно нечего было делать вблизи американских берегов. Все же, несмотря ни на что, подводная лодка стремилась найти в море одинокий моторный бот. …Перископ, чуть высунувшийся из воды, заливало волной. Изображение маленького бота то появлялось, то исчезало. Командир лодки не отрывал от перископа глаз. Ему нужно было убедиться, тот ли это бот, о котором сообщал полковник Кадасима. На носу стоит какой-то человек. Скрестил руки на груди… Да, несомненно, это то самое судно. Подводная лодка спрятала перископ и стала подкрадываться к боту, ориентируясь на шум его винта. Раздались короткие слова команды. У офицера был тонкий фальцет. Моряки заняли места по боевой тревоге. Когда, по расчетам командира, подводная лодка достаточно близко подошла к боту, над поверхностью моря снова появился перископ. — Тысяча три морских черта! — крикнул шкипер. — Кажется, один из них высунул посушить свое копыто. Шкипер встал у руля, готовый изменить курс, чтобы увернуться от торпеды. — Что случилось? — спросил спокойно Кленов. — Германская подводная лодка, — отозвался шкипер и бросил Кленову пробковый пояс. — Боюсь, что это японская, — тихо сказал Кленов. По пузырькам, появившимся на поверхности воды, шкипер угадывал путь торпеды. Он быстро перехватывал рукоятки на штурвале, силясь повернуть судно. Но торпеда была выпущена умелой рукой. Враг словно знал, где окажется бот, и торпеда шла именно туда. В перископ было хорошо видно, как над ботом взвился черный дым. Суденышко переломилось пополам. Торпеда была рассчитана на более солидные, корабли. Офицер видел на волках две или три головы. Но он не дал команды всплыть. Лодка разворачивалась под водой и уходила. Ее командир не получил указаний спасти кого-нибудь из команды или пассажиров потопленного бота.КНИГА ВТОРАЯ. ПОДЖИГАТЕЛЬ ПЛАНЕТЫ
Мы в состоянии зажечь целые стены пламени вдоль границ цивилизованного мира и двинуть эти стены на наших заклятых врагов во имя воцарения мира на земле.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЛАН ОГНЕННОЙ МЕТЛЫ
…Я дам вам движущиеся стены огня, и они огненной метлой выметут все зараженные пространства. В дальнейшем эти дезинфицированные и освобожденные области будут заселены новыми людьми, необходимыми для обеспечения деятельности предприятий…
Глава 1. ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА
Чудесные бывают рассветы под Москвой! Утро еще не наступило в этот знаменательный день, и полупрозрачная пелена стелилась кое-где по низинам у перелесков. Словно легкие белые шарфы легли на зелень травы, и не ощущалось даже дуновения ветерка, который смог бы развеять их. Белоствольные березовые рощи будто поднимались из упавших облаков. А высоко в предрассветной бледной синеве тоже плыли облака, и они казались отражением тех, что лежали на земле. Не проснулись еще птицы, не застрекотали в траве кузнечики. Солнце еще не поднялось над зубчатой линией лесов, а только сделало ее отчетливой на заалевшей части неба. И вдруг свистящий звук шин разорвал сонный покой. По шоссе с огромной скоростью мчалась желтая машина с синей полосой вдоль кузова. Казалось, сейчас она оторвется от асфальта, взлетит. Из репродуктора на ее, крыше неслись вначале неразборчивые, а потом ошеломляющие звуки: — Всем машинам прекратить движение! Пропустить кортеж! Кортеж состоял из трех машин: милицейской впереди, такой же желто-синей позади и черной автомашины посредине эскорта. В столь ранний час на шоссе почти никого не было. Только два велосипедиста в спортивных майках и молоковоз из ближнего совхоза испуганно шарахнулись в сторону и остановились. Шофер в кепке, надетой задом наперед, покачал головой, провожая глазами тройной желто-сине-черный вихрь, и остановился взглядом на следах от шин на асфальте, где занесло бешено мчавшиеся машины на повороте. — Как на пожар! — глубокомысленно изрек он. Такие же кортежи машин неслись в этот час по многим дорогам. Кого-то спешно доставляли в этот предутренний час с подмосковных дач в столицу. Машины влетали на городские улицы, и всякое движение на них заблаговременно приостанавливалось. Ранние прохожие удивлялись: — Что это? Для делегаций рановато. На аэродром самолеты прилетают в более удобное время. — Может, преступников важных везут? С охраной! — Тоже скажешь! Охрана-то какая? Орудовцы! — Да, пожалуй… Должно быть, не преступники… Так кто? — К центру едут. Верно, на заседание какое…. экстренное… Машины действительно мчались по трассе, по которой не раз приезжали делегации с Внуковского аэродрома, — широкой магистрали Ленинского проспекта, парадному входу новой Москвы. Но на этот раз они не проследовали к Москве-реке, не проехали по Каменному мосту к Боровицким воротам Кремля. Сопровождаемые милицейским эскортом автомашины одна за другой подкатывали к воротам Академии наук СССР, где в нарушение всех обычных правил вместо регулировщика ГАИ стоял полковник с жезлом и сам пропускал машины к подъезду. Приехавшие были по преимуществу почтенные люди. Но были среди них и молодые. Встречались и женщины, пожилые или средних лет, все изысканно одетые. Мужчины не уступали им в элегантности одежды, в особенности один молодой академик, вставший из-за руля своей машины. Он поднимался по старинным мраморным ступеням, ставя на них… тапочки, впопыхах надетые на босу ногу. С ним раскланивались, спрашивали: — Какие предсказания, Николай Лаврентьевич? Судя по вашим тапочкам, будет ясно? — Скорее гроза, — отмахнулся ученый. В дверях встречались давно знакомые люди: — Батюшки! Николай Евгеньевич! Вы-то как успели? — Нормально, как говорят мои студенты, — с улыбкой отвечал толстяк в косоворотке. — Вылетел сегодня утром, прилетел вчера в полночь. — Время обогнали? — Разница во времени с Камчаткой десять часов. А лететь-то на сверхзвуковом лайнере меньше? Не так ли? — Все ясно. — Хорошо бы, все так ясно было. — В самом деле! А по какому мы все здесь поводу? — Спросите что-нибудь полегче, как говорят ваши студенты. Так, переговариваясь, даже с шуточками прошли спешно доставленные сюда маститые ученые в зал заседаний Президиума Академии наук, где уже находилось несколько военных высших чинов. Помещение было не слишком большим, но с высоким потолком. Все усаживались за общим столом, во главе которого рядом с президентом Академии наук стоял министр Сергеев, а чуть поодаль от него никому из ученых не известный человек атлетического телосложения в несомненно тесном для него костюме как бы с чужого плеча. — Не откажите в любезности осведомить нас, что случилось, — попросил ученый, надевший тапочки на босу ногу. — Что случилось?.. — переспросил министр. Был это невысокий коренастый человек, одетый, по его обыкновению, в военную гимнастерку старого покроя. Он молча и внимательно оглядывал собравшихся. Потом заговорил тихим, неторопливым, немного глуховатым голосом, как бы обращаясь к каждому из ученых в отдельности: — Меня спрашивают: что случилось? Мы собрались здесь в связи с тем, что в Тихом океане загорелся воздух. — Что? Что такое? Как так?! — шорохом пронеслось по залу заседаний. — Чепуха какая-то! Нонсенс! — возмутился кто-то. — Воздух гореть не может, — назидательно произнес седобородый старец в академической шапочке. — Азот воздуха, насколько известно науке, соединяясь с кислородом, не выделяет тепло, а поглощает. Потому атмосфера нашей планеты вполне устойчива. Бойтесь стать жертвой антинаучной сенсации. — И все же, — раздельно и твердо продолжал Сергеев, — как бы антинаучно или сенсационно это ни выглядело, воздух Земли сгорает. Науке были известны пять окислов азота. Речь идет о шестом. Атлетического склада человек, стоявший поодаль от него, по его приглашению сделал шаг вперед. — Шестой окисел азота, товарищи ученые, образуется при горении воздуха в присутствии редчайшего катализатора — фиолетового газа на острове Аренида, Там и загорелась атмосфера. Я сам это видел. — Кто это? Кто такой? — наклонялись друг к другу академики. А он был спокоен, этот неизвестный. Говорил уверенно, видимо заранее обдумав слова, звучавшие удивительно просто, хотя они и имели зловещий смысл. — Считаю долгом добавить, что все сказанное нашим гостем наблюдалось с наших кораблей и космических спутников, — заявил президент Академии наук. — Не угодно ли ознакомиться с фотографиями, полученными из космоса? Желателен однозначный вывод. Сергеев стал передавать ученым фотографии. На них виднелись характерные для земной атмосферы закрученные спиралями облака. В центре заснятого из космоса циклона горела яркая звезда пожара. — Людям угрожает всеобщее удушье. Нам предстоит высказаться по этому поводу. Ради этого мы и собрались здесь, — заключил министр. — Нет, это невозможно! — Воздух не горит! Это что-то другое, — послышались протестующие голоса. — Я понимаю, что иной раз в науке новое и непривычное встречается сомнением или даже отрицанием, — раздельно сказал министр. — Но сейчас у нас с вами нет времени для дискуссий. Конечно, проверка необходима, она будет сделана. Но… я попросил бы считать, что доказательства уже в наших руках. И на их основе нужно наметить конкретные действия. Возражения затихли, уступив место напряженной тишине. Министр оглядывал всех внимательным взглядом.Глава II. КАРЬЕРА МИСТЕРА ТРОССА
Из богатого особняка на аллее миллионеров Риверсайд-драйв в Нью-Йорке открывался великолепный вид на мореподобный Хадсон-ривер (Гудзон). Над высокими обрывистыми берегами поднимались ломаные силуэты городов Джерсей-Сити, Хобокена, Вихевкена. Владелец особняка стоял у окна, всматриваясь в знакомый пейзаж, а может быть, и в поток автомобилей, мчавшихся мимо его парка. Раздраженно отвернувшись от окна, он прошел к подковообразному столу, на котором лежала папка с надписью:«ЗАПРЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ».Он достал из папки листок с пометкой «Распространено в ООН» и углубился в его чтение, хотя каждое слово здесь было ему знакомо. «В мексиканской сельве, дремучей и душной, где сплетение лиан останавливает даже ягуара, не так давно был найден мертвый каменный город. В нем среди неистово цветущей зелени, крикливых птиц и крадущихся диких животных уже много сотен лет не жил никто. Люди словно вымерли, оставив неприкосновенными свои творения. Одной из загадок вечности выглядит этот город древних майя, названный его поздними „открывателями“ Паленке, что по-испански означает „Крепость“. Но кто и почему покинул эту „крепость“? Как могли взять ее завоеватели без всяких разрушений? Какой страх, болезнь или веление богов изгнали из города все его население? Представим себе другое творение рук человеческих — современный мегаполис, город-гигант с небоскребами, эстакадами дорог и улиц, мостами, подземками, заводами с точными станками и сложным оборудованием. Чтобы захватить такой город, завоевателям нужно не только уничтожить его защитников, но придется разбомбить небоскребы, разрушить мосты, дороги, заводы… словом, превратить мегаполис в руины и эти руины в конце концов получить в качестве военных трофеев. Бесценные же строения, оборудования фабрик и лабораторий, научные институты, многоэтажные жилые здания, в которых могут жить миллионы людей, — все это зря погибнет, не достанется никому. Огромные богатства бессмысленно пропадут. Так нельзя ли найти объяснение заброшенному городу древних майя Паленке и воспользоваться этой разгадкой для современных целей? Если, пусть на короткий срок, каким-то чудом над древним городом майя был поврежден защитный слой атмосферы, предохраняющий Землю от смертоносных космических излучений, то все живое под брешью должно было погибнуть: животные, растения, люди… Можно представить себе, как зловонные миазмы поднимались над опустевшими камнями, засохшими стеблями и свернувшимися листьями. Потом, после того как затянулась «рана атмосферы», всепобеждающая сила жизни во всех буйных формах сельвы обрушилась на мертвые камни «побежденной крепости», которую неприятель мог бы получить в первозданном, виде, необитаемую и беззащитную. То же самое могло бы случиться и с любым мегаполисом современности, на который просто нецелесообразно сбрасывать разрушительные термоядерные бомбы. Куда рациональнее воздействовать на среду обитания, «пробить» окно в защитном слое атмосферы над вражеским мегаполисом или даже над целой страной. Обитатели побежденных городов без всяких «затрат» со стороны противника под влиянием космических излучений тихо уйдут в лучший мир, оставив победителям в полной сохранности все свои ценности. Наступит час — и победители вступят в очищенный город, чтобы воспользоваться всеми благами современной цивилизации, высокой и гуманной. Так обещала еще нейтронная бомба. Они снова запустят станки на заводах, станут у лабораторных приборов, заселят опустевшие квартиры, обставленные прежними хозяевами. Сады же и парки новые обитатели мегаполиса посадят сами, когда рана атмосферы затянется. Легко представить себе, что такой способ ведения войны привлечет к себе внимание тех, кто не думает о благе всего человечества, а лишь ищет способы наиболее выгодно вести войну, конечно же, агрессивную и несправедливую. Встает вопрос: допустимо ли современному человечеству так играть со средой своего обитания, чтобы наносить страшные раны самой земной атмосфере, которая может и не залечить их? Не своевременно ли поставить вопрос о запрете всякого воздействия на среду обитания в военных целях?» Под документом стояла подпись: Дим Тросс. Хозяин особняка разгладил знакомый текст старческой рукой, захлопнул папку и вернулся к окну. Когда в потоке автомобилей на Риверсайд-драйв он увидел ярко-красный спорткар, огромный, прижавшийся к мостовой, то перешел к другому окну, выходившему в парк, где по числу экзотических деревьев можно было судить о вложенных в него миллионах. На аллее показалась тонкая фигурка женщины. Она остановилась у яркой клумбы. Владелец особняка нажал кнопку, и на окно опустилась тяжелая штора. …К высокой ограде парка подъехал ярко-красный спорткар. Из него вышел статный, спортивного склада, широкоплечий человек с внимательными глазами и седеющими висками. Его собранность и упругая походка не позволяли судить о возрасте. Он остановился перед затейливой, чугунного литья калиткой и позвонил. Калитка сама собой открылась, и в «домофоне», вмонтированном в нее, послышался почтительный голос дворецкого: — Прошу вас, мистер Тросс. Приехавший решительным шагом направился по аллее между пышными магнолиями и араукариями к стеклянной веранде особняка. Над яркой клумбой редкостных орхидей склонилась тонкая женщина в длинном облегающем платье. При виде мистера Тросса она резко выпрямилась и дерзко взглянула ему в лицо. Тросс вежливо поклонился. Это была высокая брюнетка, которая могла бы позировать Тициану или Рафаэлю. Но застывшее изображение на картине не вязалось с обликом такой женщины. В ее движениях ощущалась резкость электрических ударов, а в сильном теле — гибкость шелковой петли. Блистательная итальянка из старинного аристократического рода Медичи, ныне мисс Иоланда Вельт, сменила свое древнее имя и стесненную в средствах молодость на слепящий блеск жены миллиардера. Она склонилась опять к орхидеям, но сразу отпрянула от них. — Прекрасные цветы, — вежливо заметил Тросс. — Я мечтаю вывести такие, аромат которых парализовал бы человека. — Вот как? — И я поднесла бы вам такой букет. — Польщен. Но я не ожидал от вас склонности к параличным… — Мужу моему не грозит паралич, — вызывающе бросила Иоланда. — Кажется, он ждет вас… — она имела в виду паралич. — Благодарю вас, мэм. Спешу к нему, — откланялся Тросс, ловко воспользовавшись игрой слов. Иоланда колко взглянула ему вслед, когда он начал подниматься по мраморным ступеням. Дворецкий вышел навстречу и почтительно открыл бесшумную дверь размерами с церковный орган. — Босс у себя наверху, — склонив лысеющую голову, с почтительным придыханием произнес он. Тросс взбежал через две ступеньки по внутренней дворцовой лестнице и оказался в огромном холле, уставленном белой мебелью времен Людовика XVI, с красочными гобеленами на стенах (пейзажи, пастухи, пастушки, водопады), бесценными фарфоровыми вазами, на которых прекрасные маркизы в белых париках приседали перед кавалерами в длинных чулках и ботинках с пряжками. Перед дверью в кабинет босса он остановился лишь на мгновение, а войдя в кабинет, оказался в другом мире. Все здесь было нарочито просто: стекло и полированная мебель, стены, отделанные дубовыми панелями. На них — модные абстрактные картины непостижимых сюжетов. Лишь на одной из них можно было угадать, что там изображен Белый дом в Вашингтоне. Тросса встретил Фредерик Вельт, глава военного концерна. Он был стар. Блистательная Иоланда больше годилась ему во внучки, чем в жены. Но держался он прямо, сухой, подтянутый, совершенно лысый. Старый шрам пересекал его лицо. Из-за этого один глаз у него был сощурен больше другого. И казалось, что Вельт все время прицеливается. На нем был спортивный костюм, сшитый, конечно, у лондонского портного, и желтые гетры на тонких ногах. — Хэлло, Тросс! — дружелюбно встретил он вошедшего. — Хочу вас порадовать. Похлопывая Тросса по спине, он подвел его к картине с Белым домом. Нажав на раме кнопку, он откинул картину на себя, превратив ее в столик. За ней в стене открылся бар, уставленный пузатыми бутылками и причудливыми флягами в виде сатиров и нимф. — Обещаю вам, парень, там, — он постучал пальцем по оборотной стороне картины, — вы станете моим пресс-секретарем. — И он уселся около бара, пригласив и Тросса. — Когда вы попадете туда, — улыбнулся Тросс. — Даст бог, даст бог, Тросс? И с вашей помощью тоже. Разве вы разучились хлестко писать или не заинтересованы в этом? — Я заинтересован в хорошем бизнесе, сэр. Можно и в Белом доме. Но желательно с вами, босс. — Хорошо сказано, мой мальчик! Налейте себе и мне вот этого коньяку. Его готовят у подножия горы, где высадился Ной. В Белом доме наши рюмки будут наполнять вице-президент или государственный секретарь. — Позвольте пока выполнить мне их миссию. — Эту и еще другую, ради которой я и пригласил вас. Вы знаете, Тросс, я сейчас предавался воспоминаниям, читал ваше знаменитое обращение в ООН. — Я до сих пор чувствую свою вину. — Пустое, мой мальчик! Вы выполнили мое задание. Нам нужно было «прикрыть» важную разработку. А если обращение в ООН написано моим ближайшим помощником, никому в голову не придет заподозрить наш концерн в такой разработке. — Но тем не менее к нам посыпались заказы из многих стран. — Лишь до тех пор, пока эти и впрямь перепугавшиеся идиоты не запретили всякое воздействие на среду обитания. Хороший урок для нас с вами. Не правда ли? — Я думаю, сэр, мне не следовало упоминать о среде обитания, ограничиться лишь рекламой средства, пробивающего защитный слой атмосферы. — Это ничего не изменило бы. — Вы так думаете? — Подозреваю. Кто-то действовал очень ловко. И ему удалось сорвать наше дело. Все заказчики взяли обратно свои заказы, ссылаясь на запрет ООН. Теперь мы будем действовать иначе. Вы поедете в Аппалачские горы к профессору Бернштейну. — Уже? — Надо действовать быстро. Новое средство нужно обрушить на мир неожиданно, как японские бомбы на Пирл-Харбор или атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. — Вы имеете в виду воздух, сэр? Но это тоже среда обитания. — Мы не воздействуем на воздух, а используем его. Сжигают же кислород во всех тепловых машинах мира! Это не считается воздействием на среду обитания!.. Так вот. Поедете к Бернштейну и обработаете его. В Европе надо показать кое-что кое-кому. — Кому, сэр? — Известно кому, — усмехнулся Вельт. — Ловцам форели в свободное от рыбной ловли время. — Понимаю, босс. — Вы-то всегда поймете. Еще раньше, чем я скажу. Важно, чтобы это понял проф. — Я думаю, он сам ждал этого. — Неважно, чего он ждал. Важно, что я жду от него. Впрочем, я с удовольствием отказался бы от его услуг, но… — «Воздушная спичка», сэр? — Да, эта его «зажигалка». Без него никто не смог бы поджечь воздух. — Хотя формула шестого окисла и газ-катализатор известны. — В том-то и дело, что требуются его мозги вместе с запрятанным в них секретом, но желательно без всяких там идей. Второй Оппи мне не нужен. — Постараюсь обработать его, сэр, чтобы он стал надежной «газовой зажигалкой». — Вы-то сумеете, я на вас надеюсь! — засмеялся Вельт и встал, давая понять о завершении разговора. Тросс тоже встал, молча поклонился и вышел из кабинета. Иоланда ждала его у клумбы орхидей. — Вы едете куда-то? — Да, мэм. В Аппалачские горы. Она скорчила капризную гримасу: — Фи! Я думала поехать с вами на побережье. Говорят, там чудесная волна. — О'кэй, мэм. После Аппалачских гор. — Ах, как дорога вам карьера, мистер Тросс! — Бизнес есть бизнес! — усмехнулся Тросс. Бизнес был для него действительно бизнесом. Вельт заметил Тросса в Пентагоне, где он был на особых поручениях у весьма влиятельного генерала. Тот пользовался его образованностью, специальной подготовкой, как он намекал, и знанием нужных языков. Вельт сразу решил «приобрести» себе такого помощника Он привык покупать все, что ему требуется, и умел добиваться своего. Пентагоновскому генералу пришлось посчитаться с прихотью владельца военного концерна. Они ведь были связаны общими интересами. Военные не только получали продукцию заводов Вельта, но и должны были создавать такую ситуацию, когда эта продукция требовалась и на нее отпускались деньги. Конгресс следовало запугивать мощью потенциального противника, восхваляя его вооружения и устрашая ими. Тросс был прямо-таки виртуозен в этом отношении. И он понадобился Вельту. Тросс был оценен в буквальном и переносном смысле. И после соответствующих расчетов между договаривающимися сторонами перешел на работу к Вельту. Вельту необходимо было все знать о конкурентах и способствовать сбыту своей продукции. Требовался большой размах, захватывающий не только Соединенные Штаты, но и все страны, способные воевать. И неизбежность войны следовало им внушить. Тросс оказался на редкость способным малым. Он успевал все выяснить, угадать и принять решение, всегда выгодное Вельту. А для Вельта выгода была превыше всего. И он приблизил к себе Тросса, давая ему различные, в том числе и щекотливые поручения. Тросс справлялся с ними без лишних слов, которых Вельт не терпел. Он был человеком дела и ценил в Троссе тоже человека дела. Воспитанник Иельского университета, знаменитый спортсмен студенческих лет, Тросс обладал неиссякаемой энергией и был способен, как прославленный бейсболист, не только ударить по мячу, но и стремглав мчаться за ним. Причем бил он и на поле и в жизни с устрашающей силой, а бежал (или выполнял поручение) быстрее всех, снискав любовь болельщиков, одним из которых ныне стал и сам Вельт. Но теперь способности былого бейсболиста и чемпиона США в комплексном беге служили только Вельту… и никому больше! Карьера мистера Тросса была завидной. Она могла привести его вместе с боссом и в Белый дом.
Глава III. «В СТО ТЫСЯЧ СОЛНЦ ЗАКАТ ПЫЛАЛ…»
Мистер Тросс уверенно мчался в своем спорткаре по Аппалачским горам в старинную лабораторию шефа, где долгие годы работал «лохматый профессор Бернштейн». Когда-то крутая, едва проходимая дорога превратилась ныне в современное бетонированное шоссе, на котором можно было не снижать скорости на виражах, шины автомобиля лишь скрипели. Тросс сидел на сиденье, свободно откинувшись назад, и размышлял. Он держал один палец на руле, который повиновался ничтожному усилию, а на изгибы дороги реагировал сам, независимо от водителя. Иоланду всегда занимало, о чем может размышлять этот собранный, немногословный человек. Но ей никогда не удавалось проникнуть в его мысли. И только Вельт считал себя способным на это. И с ним Тросс, пожалуй, казался более откровенным, чем с другими. Лаборатория была построена еще в давние годы покойным профессором Холмстедом в глухих горах. Она походила на гасиенду американского Юга. И, как на Юге, профессора Бернштейна обслуживали здесь уже несколько десятилетий только негры. Говорят, ученый начинал тут чуть ли не мальчишкой, прислуживая некоему иностранцу, погибшему во время какой-то истории. Профессор Бернштейн, предупрежденный по телефону о приезде Тросса, вышел его встречать в окружающий лабораторию сад. Его маленькая фигурка двигалась вдоль кустов аллеи. Рука нервно задевала за листву через каждые два шага. Вьющиеся, похожие на пружинки волосы торчали во все стороны. Красный спорткар въехал на главную аллею. — Хэлло, проф! — воскликнул приехавший, выскакивая из автомашины, как ковбой из седла. — Как поживаете, уважаемый мистер Тросс? Рад вашему приезду. Какие новости? — Новостей достаточно, проф! Великий Эдисон говорил, что изобрести (или открыть что-то новое!) — это лишь два процента дела. Остальные девяносто восемь — это борьба за реализацию и сама реализация. Считайте, ваши два процента позади. Теперь в ход пошли девяносто восемь. Хозяин и гость шли к гасиенде. — Могу ли я узнать, с чего вы хотите начинать реализацию моего открытия? — С демонстрации, сэр! Именно с демонстрации! Так считает наш биг-босс. И начнем мы с Европы. — С Европы? Почему с Европы? — удивился Бернштейн. — Впрочем, я готов демонстрировать свое открытие всюду. Мне хочется быть откровенным с вами, мистер Тросс. Я ведь мечтаю о новой эре человечества. — Я тоже, сэр. — Вездесущее топливо! Вдумайтесь в это. К черту бензоколонки, нефтепромыслы и нефтяные кризисы! К черту запах бензина и выхлопных газов в городах! Топливо повсюду. Вот оно. Берите. Бесплатно! Ведь вы дышите им! — Да, дышим мы пока бесплатно. Но давать энергию бесплатно — это уже плохой бизнес! — Только бесплатно! Только так! К черту бизнес! Я переверну все устои общества. Никто не думал, что воздух может гореть. Однако это так!.. Если хотите, я объясню вам это подробно. — Разумеется, сэр. Когда у вас будет время. — Все дело в шестом окисле азота. До сих пор знали только пять… Шестой окисел, абсолютно безвредный, заменит теперь все отравляющие воздух выхлопные газы двигателей, сжигающих нефть и ее производные. Конец загрязнению среды обитания человека! Человек перестанет рубить сук, на котором сидит. — Он поступит весьма разумно, сэр. Но… вы не боитесь, что кто-нибудь украдет у вас шестой окисел азота и начнет сжигать воздух без вас? — Нисколько! — рассмеялся маленький профессор. — Ведь реакция горения воздуха невозможна без катализатора! — Я ждал, когда вы заговорите об этом. Катализатор — фиолетовый газ на острове Аренида в Тихом океане. — Вот именно. Но почему вы ждали упоминания о нем? — Я приехал к вам поговорить об этом. — Вот как? — Мистер Вельт хочет эксплуатировать Арениду. При его (и ваших!) масштабах скоро понадобится очень большое количество фиолетового газа. — О, вы правы, мистер Тросс! Я рад, что мистер Вельт разделяет мои взгляды на получение энергии новым способом. — Смею заверить вас, не только разделяет, но и… как бы это сказать… — он щелкнул пальцами, — способствует формированию масштабных взглядов на применение вашего открытия. Разговаривая, Бернштейн и Тросс прошли мимо гасиенды и оказались у беседки, откуда с горного обрыва открывался необъятный простор. Небо окрасилось алым цветом. Огромное приплюснутое солнце садилось за горизонт. Отсюда, с горы, он казался удивительно высоким, поднятым в небо и исчезающим в дымке. — Вот где ощущаешь масштабность мира, — сказал Тросс. — Да, да… я люблю думать здесь. Некоторое время оба молчали. Наконец Тросс задумчиво заметил: — Один замечательный поэт сказал: «В сто сорок солнц закат пылал…» — Не знаю, не знаю такого, — скороговоркой отозвался Бернштейн. — А я вот смотрю на небо и забываю о солнце. Мне представляется, что там уже горит вездесущее топливо, согревая Землю. — Да, профессор. Ваше открытие не меньше, чем овладение атомной энергией. Бернштейн резко повернулся к собеседнику: — Больше! Больше, Тросс! Но это совсем иное. Там ученые были легкомысленно неосторожны. Передать неуправляемую силу не ста сорока, а ста тысяч солнц в любые руки! Это безнравственно! — Ученые во главе с Оппи, с профессором Оппенгеймером, верили, что спасают цивилизацию, — возразил Тросс. — Вы так думаете? Тогда прошу вас, зайдемте в мой коттедж. Я в последние годы перебрался из гасиенды. Захотелось уюта. Впрочем, одиночество и уют не уживаются. — Возможно, — согласился Тросс и пошел следом за хозяином. Он знал, что у профессора не было жены. Бесконечно давно его жена, не пожелав разделять затворнической жизни мужа, уехала в Калифорнию. Детей у них не было. Бернштейн жил в маленьком, специально для него выстроенном доме. Ему прислуживала пожилая толстая негритянка, которая открыла им дверь и сразу же заохала, захлопотала. Вскоре она вкатила в гостиную, помещавшуюся на первом этаже (спальни были на втором, куда вела крутая лестница), столик на колесиках, уставленный бутылками, рюмками и тарелками с сандвичами и холодной курицей. Бернштейн налил рюмки себе и гостю, потом показал на огромный портрет, занимающий в гостиной целую стену: — Лорд Резерфорд! — О да! Почтенный ум, — отозвался Тросс, отпивая виски. — Содовой? — предложил Бернштейн, пододвигая сифон. — Благодарю. — Вы сказали в беседке, что ученые спасали цивилизацию? — Я склонен так думать. — Если хотите, скажу вам по секрету, Тросс. Цивилизацию спасал только один ученый в мире. — И он кивнул на портрет. — Лорд Резерфорд? — удивился Тросс. — Да, лорд Резерфорд. Великий ученый первый открыл расщепление ядра атома, и он же объявил, что никогда ядерная энергия не будет иметь практического применения! Смешно, не правда ли? Это считают классической ошибкой Резерфорда. — Что ж! И Герц, как известно, тоже не угадал века радио. Открыл свои лучи, но не придал им значения. — Нет, нет! — нервно замахал руками Бернштейн. — Такой провидец, как Резерфорд, не мог не видеть, куда заведет людей ядерная энергия! Он просто хотел спасти человечество, я в этом убежден! Он стремился увести интерес ученых от опасной области, сбить их с обреченного на трагедию пути… — Неожиданный, я бы сказал, взгляд на Резерфорда, — искренне удивился Тросс, сам наливая себе еще рюмку виски. — Неожиданный лишь для тех, кто не рискнул бы поступить на его месте точно так же… — Значит, вы, проф, поступили бы точно так же? — Тросс испытующе посмотрел сквозь опустевшую рюмку на Бернштейна. — Я? — поразился Бернштейн и положил обратно взятую было куриную ножку. — Я совсем в другом положении. — И он выжидательно посмотрел на гостя. — Вы так думаете? — усмехнулся Тросс. — Мне поручено сообщить вам, что в Европе вашим открытием интересуются не только ученые, но и эксперты армий западной солидарности. Мистер Вельт намеревается пригласить их на свой плац-парад в Ютландии, где, надеюсь, будем и мы с вами. — Вот как? — откинулся на спинку кресла Бернштейн. Казалось, волосы его поднялись дыбом. — А если я воспротивлюсь? — Ах, мистер Бернштейн! — примирительно сказал Тросс, наполняя рюмку профессора. — Что в силах сделать мы с вами, маленькие люди? Ведь шестой окисел известен такому ученому, как мистер Вельт. А остров Аренида с его газом приобретен таким магнатом, как все тот же мистер Вельт! — Но нужен им все-таки я! И я скажу вам почему, Тросс! Без меня они не умеют зажигать воздух! — Ах, проф! Не обольщайтесь. Если «спичка» изобретена, ее смогут изобрести еще раз. — Вы так думаете? Но когда? А пока диктую я. Может быть, я соглашусь поехать в Европу, но при одном условии. — Каком, сэр? — Без меня никто не отправится на остров Аренида за газом-катализатором. — Вот как? Вельт обрадуется такой заинтересованности с вашей стороны. — Пусть знает, что я планирую новую эру. Люди получат вездесущее топливо. Вы подняли брови, Тросс? Я объясню вам. Сгорает кислород, но мы восстановим атмосферу за счет бесчисленных масс хлореллы, которую разведем по всему миру. — А азот? — Недра, Тросс, земные ведра. И бактерии! Все остальное сделает солнце. Но в конечном счете его энергию через вездесущее топливо люди получат бесплатно. Тросс покосился на окно, за которым еще виднелась заря. — «В сто тысяч солнц закат пылал…» — загадочно сказал он.Глава IV. ПАРАД ИСТРЕБЛЕНИЯ
Морису Бенуа, генералу в отставке, было приятно, что в военном министерстве вспомнили о нем и в качестве военного эксперта на этот своеобразный съезд послали именно его. Похожий на огромное насекомое геликоптер, который взял пассажира прямо из центральной части Парижа, начал снижаться. Два самолета — один оранжевый, с коротенькими, похожими на перышки крыльями, другой черный, с крыльями, отогнутыми назад, как у падающей вниз птицы, — опустились на тот же аэродром. Вскоре все три машины стояли на ровном бетонированном поле. Морис Бенуа сошел на землю и с удовольствием вдохнул воздух, приносящий запах моря. Ветер всегда продувает Ютландию от моря до моря. От черного самолета к нему направлялась стройная фигура военного. — Ба, мистер Уитсли! — воскликнул Бенуа. — Это начинает походить на совпадение. Не в первый раз нам приходится встречаться за одним столом! С улыбкой шел он навстречу человеку с бритым, несколько надменным лицом, оставляющим загадкой возраст его обладателя. — Не находите ли вы знаменательным, сэр, — заговорил Бенуа, — что все приглашенные гости выбраны из числа лиц, находящихся в отставке? Полковник Уитсли холодно усмехнулся: — Очевидно, этих лиц считают наиболее весомыми. Во всяком случае, они выбраны не только из представителей Запада. — И он указал глазами на двух проходивших мимо людей. Один из них был глубокий старик с длинной седой бородой. Он казался особенно низеньким по сравнению со своим спутником-гигантом, гордо закинувшим светловолосую седеющую голову. — Японец, — сказал Уитсли. — А с ним генерал Копф, — улыбнулся Бенуа. — Я вижу, что отставка отнюдь не повлияла на его привычки. Он по-прежнему украшает свою грудь всеми орденами, какие могут на ней уместиться, а остальные в специальной коробочке носит за ним адъютант. Японец и немец холодно раскланялись с французом и англичанином. — Однако чем угостит нас сегодня гостеприимный хозяин? — продолжал болтать Бенуа, направляясь к ожидающему их автомобилю. — Я чувствую, что события переходят в новую фазу. Ведь все эти годы, несмотря на мирные декларации правительств, военные концерны продолжали напряженно работать. И теперь им необходимо организовать хорошенькую войну или начать все сначала. — То есть как сначала? — удивился англичанин. — Продукция требует сбыта. Подозреваю, что сегодня мы убедимся в устарелости всего существующего вооружения. Оно подобно прошлогодней парижской моде. И придется нам с вами, как парижским красоткам, прививать новую моду на шляпки для танков и шлейфы газов… Кстати, любопытно, что датское правительство разрешило парад продукции нашего хозяина, как смотр живых моделей в парижском ателье. Впрочем, чем это не обычное рекламное мероприятие? Наш владетельный хозяин покажет собственные машины на собственной земле вблизи собственного замка. Выехав с аэродрома, автомобили один за другим помчались по великолепной автостраде, похожей на застывшую бетонную реку. — Это ведь тоже образец продукции нашего хозяина, — указал Бенуа на автостраду. — В его универсальном магазине есть все для войны! Автострада кончилась. Бетонный ледник оборвался, повиснув острыми краями излома над железной эстакадой. — Вот и парад-плац! — сказал Бенуа. На холме, около которого остановились автомобили, было уже много людей. Старый японец и поблескивающий орденами генерал Копф стояли возле лысого, сухого старика в гетрах на тонких ногах. Уитсли и Бенуа смешались с толпой военных экспертов, прибывших из многих стран мира. — Джентльмены! — обратился к собравшимся лысый старик. — В сердце каждого живет любовь друг к другу и стремление к миру. Война — величайшее бедствие человечества. Она ненавистна людям. Но люди беспечны и наивны. Отравленные злокозненной пропагандой мира, они пугливо и неразумно отдают свои сердца и подписи, чем отнимают у нас наступательный щит атомного оружия, заставляя искать ему замену. Во имя заботы о слабых и ослепленных я продемонстрирую вам скромные достижения моей фирмы, которые помогут людям жить в мире и согласии без соседства с ненавистной системой, сеющей страх и подрывающей цивилизацию. Люди должны избавиться от вечных опасений и завоевать вечный мир на единообразной и цивилизованной земле! Да исполнится эта светлая мечта! Лысый старик протянул руку. И тотчас началась страшная канонада. Плац-парад приветствовал своих гостей артиллерийской пальбой с плотностью огня, встречавшейся во вторую мировую войну разве что под Берлином. Снаряды взрывались на небольшом, хорошо видимом отсюда участке около автострады. В небо взлетели горы земли. Воздух стал серым и непрозрачным. Черные ямы фантастической пахоты приближались к автостраде. Еще секунда — и в небо полетели глыбы бетона, скомканные куски железа. Снаряды с неумолимой последовательностью, подобно подаче суппорта на токарном станке, ложились один подле другого. Через десять минут километра автострады больше не существовало. Военные переглянулись. — Каково, ваше превосходительство? — обратился к бородатому японцу генерал Копф. Старик спокойно перевел взгляд с остатков автострады на «золотую» грудь собеседника и ничего не сказал. Канонада смолкла. И сразу зашумело в голове, зазвенело в ушах, словно воздух стал разреженным, как на высокой горе. Плац-парад представлял собой пересеченную местность, зажатую между холмами, окаймленную лесом, за которым протекала река. В долине, за ближним бугром, появилась артиллерия. Сначала ручная — ствол за плечом у проходивших солдат, потом на мотоциклах — полупушки, полупулеметы, наконец, орудия с собственными моторами, делающие до двадцати выстрелов в минуту и до ста двадцати километров в час по автостраде. Они пронеслись по холмам и скрылись в лесу так быстро, что глаз не успел рассмотреть их непривычные очертания. Люди на холме вооружились фотоэлектрическими биноклями, в которых крохотное изображение превращалось в поток летящих электронов, вызывающих в окуляре изображение, увеличенное в сотни раз. Внезапно весь склон отдаленного холма двинулся вниз. Это спускалась тяжелая артиллерия, окрашенная в маскировочные цвета. Гусеничные гиганты тащили за собой гусеничные платформы с тяжелыми орудиями. Медленно продефилировали они перед холмом. — Снаряды могут быть и атомными, — сказал владелец всей демонстрируемой техники уничтожения. Прошло еще больше получаса, а артиллерия все шла и шла. Проезжали мимо заносчивые минометы, красные огнеметы, курносые газометы. Наконец последние из них скрылись в лесу. Показались пять самодвижущихся сорокаметровых платформ, закрытых брезентом. Копф снова обратился к японцу: — Это славное потомство знаменитых крупповских «Берт», ваше превосходительство. Начальная скорость — тысяча шестьсот метров в секунду. Выстрел происходит последовательно три раза: один раз на земле и два раза в воздухе. Японец глядел на говорящего без всякого выражения. — После первого выстрела, — продолжал с удовольствием генерал, — из дула орудия выбрасывается целая пушка, которая уже в воздухе производит второй выстрел. Ствол ее падает на землю, а снаряд отправляется в стратосферу. На границе стратосферы происходит третий, и последний, выстрел. Дальше атомный снаряд полетит, ваше превосходительство, в соответствии с вашими симпатиями! — Выпуклая грудь заколыхалась, а медали весело зазвенели. Старик принял все это как должное и ничего не сказал. По полю ехала теперь зенитная артиллерия. Можно было подумать, что верхоглядные пушки, установленные на странных паучьих лапах, играют здесь чуть ли не последнюю роль. Они тонули среди машин с прожекторами, звукосветолучеуловителями, синхронизаторами, автоматическими наводчиками, постами управления и десятками других непонятных механизмов и приспособлений. Все это предназначалось для того, чтобы увидеть, услышать, учуять, потом указать, прицелиться и направить. — Девяносто процентов попадания, — сказал Бенуа. — Гарантия фирмы! В первый раз тень выражения пробежала по лицу японца, но тотчас же исчезла; он взглянул на стоящего рядом француза и сказал: — Прекрасная фирма! Следом за артиллерией двинулись ракетные войска. Первым прошел пехотный батальон. Каждый солдат нес два легких ракетных снаряда, которые мог выпустить с подставки, помещавшейся в ранце у него за спиной. Затем перед зрителями продефилировали на бесчисленных грузовиках ракеты всех видов. Тут были ракеты «гончие», догоняющие самолеты; бомборакеты, управляемые по радио; «моральные», предназначенные для деморализации отдаленных районов; «транспортные» — для спешной переброски военных грузов и многие другие. Напоминая гигантские капли, лежали они в специальных наклонных лотках на грузовых машинах. Две или три ракеты были выпущены перед самым холмом и с оглушительным ревом унеслись прочь, чтобы упасть где-нибудь в Северном море, к ужасу английских или норвежских рыбаков. Самую большую ракету, похожую на неимоверно длинный газовый баллон, вершина которого достигла бы крыши шестиэтажного дома, везли на гигантской платформе с таким числом колес, что она напоминала исполинскую сороконожку. — Какова! — восхитился генерал Копф. — Славный наследник нашей «Фау». Послышался грохот. Ракета приподнялась над платформой и некоторое время стояла в воздухе, словно опираясь на огненный столб, отделявший ее от земли. Потом она ринулась вверх и исчезла. — Она упадет в Тихом океане! — прокричал Копф. Молчавший до сих пор хозяин произнес отрывисто, не заботясь, чтобы его слышали: — Джентльмены! Все, что вы видите, еще никогда никому не было продемонстрировано. Военные кивнули. Пусто стало на плац-параде. Но где-то далеко слышалось скрежетание, постепенно переходящее в грохот и лязг. Из-за холма вылетели легкие танкетки и, щеголяя своей верткостью, быстротой и неуловимостью, словно зайцы, промчались через долину. В геометрическом порядке одна за другой прокатывались лавины танков, малых, средних, больших. Все они были одной давящей обтекаемой формы и отличались друг от друга только размерами, количеством башен и вооружением. Но вот появились какие-то грибовидные предметы. — Железные черепахи, — прошептал Бенуа. Англичанин насторожился. Действительно, странные предметы напоминали черепах. Между тем хозяин объяснил гостям: — Новейший вид танка, выпускаемый моими заводами. Горе обыкновенного танка — прямое попадание, когда снаряд легко пробивает броню. В моих железных черепах нельзя попасть снарядами перпендикулярно броне. Форма брони такова, что снаряд всегда скользнет по поверхности и не пробьет ее. Уязвить этот танк можно только навесной стрельбой, когда снаряд будет падать сверху, имея сравнительно малую скорость, но это неопасно для черепах при их отнюдь не черепашьей подвижности. Таким образом, поразить мои танки невозможно! «Черепахи», напоминающие срезанную верхушку шара, зловещие своей неуязвимостью, неторопливо проползли на скрытых гусеницах и, куда-то завернув, исчезли из виду. Несмотря на то что скрежещущие колонны уже прошли, грохот все усиливался. — Моя задача, господа военные эксперты, показать вам могущество техники. Я пригласил вас для того, чтобы вы убедились сами, что можно сделать с помощью техники, которую я даю в ваши руки! Военные эксперты переглянулись. Бенуа наклонился к Уитсли: — Мне кажется, что наш любезный хозяин начинает путать технику с философией. Помяните мое слово, он начнет нам доказывать, что решение всех споров и жизненных вопросов зависит только от науки и техники. Вместо этого англичанин схватил француза за рукав. Оба они вытянули шеи. Удивляться было чему! Плац-парад находился от моря по меньшей мере в ста километрах, но тем не менее из-за холма показалась боевая башня самого настоящего линейного корабля, а следом за ней — трубы и весь корпус гигантской бронированной машины, размером не меньше крейсера. Из труб шел дым, как у былого морского судна. Боевые башни ощерились крупнокалиберными клыками, блестевшими на солнце. Сухопутный броненосец передвигался на огромном количестве гусениц, которые специальными приборами, в зависимости от профиля местности, поднимались или опускались, меняя положение относительно судна. Случайные изменения рельефа не влияли на положение броненосца. Его гироскопические приборы быстро реагировали на малейший крен. Лишь на больших холмах сухопутный корабль величественно накренялся. Поравнявшись с холмами, броненосец дал залп из всех своих орудий. — Вот на чем можно пройти любой укрепленный район! — сказал хозяин, и в голосе его послышалась нежность. Гости смотрели в немом удивлении. Теперь было видно, что в каком бы положении ни были гусеницы, они всегда благодаря особому подвижному устройству щитов будут защищены броней, притом наиболее толстой и надежной. — Это не просто броня, — заговорил хозяин. — Шестьдесят сантиметров бетона уменьшают радиацию в сто раз. Перед вами движущееся убежище против водородных и атомных бомб. Если в него не будет прямого попадания бомбы, убежище это сохранит весь экипаж. И тогда наш сталебетонный броненосец пройдет любой опасный радиоактивный район! Броненосец шел прямо на лес. Уже начали валиться первые деревья, но громада стали и бетона, не замедляя хода, продолжала двигаться вперед. К скрежету металла теперь прибавлялся надрывный треск уничтожаемых деревьев. Сухопутный корабль прошел весь лес, оставив за собой широкую просеку измятых, исковерканных стволов, и незаметно перешагнул реку. Гости, за исключением старика японца и генерала в орденах, не могли прийти в себя. — Не находите ли вы, сэр, что плавание линкоров по земле является оскорблением великой морской державы? — обратился Копф к Уитсли, улыбаясь одними глазами. Тот скривил рот и ничего не ответил. Гости не успели оправиться от изумления, как перед ними показались три неуклюжие веретенообразные машины непонятного назначения. — Стальные кроты, — сказал хозяин. Машины подползли прямо к холму, где стояли зрители, и стали вгрызаться в него, входя в землю бесшумно, как хорошо смазанное сверло в металл. — Это подземные вездеходы. Через час они выйдут с другой стороны холма. Прекрасные помощники при закладке мин в позиционной войне! Послышался вой сирен. Все надели противогазы. Один из далеких холмов начал дымиться. Из-за него, колеблясь и меняя очертания, поднималась стена сизо-коричневого цвета. С противоположной стороны два всадника в противогазах, сидя на фантастических животных с безобразными мордами, гнали стадо баранов. Стена газа все ширилась и надвигалась. Ничего не понимающие бараны шли ей навстречу. Хозяин последним надел противогаз и скрестил руки. Сизо-коричневое облако, колыхаясь, быстро приближалось. Скоро все стало коричневым вокруг. Смутно доносилось жалобное блеянье… Весь эффект зрелища был не в удушении баранов. Газовое облако неожиданно оборвалось, ограниченное как бы ровной вертикальной стеной, и стало удаляться, причем удалялось оно совсем не по ветру. Только теперь стали видны какие-то грандиозные машины, которые с неприятным свистом ползли, словно допотопные мегатерии, следом за стеной. Гости на минуту ощутили их тяжелое дыхание. Чудовища уползли, гоня перед собой стену газа. В долине остались только два всадника, снимавшие противогазы с лошадей. Вокруг валялись трупы баранов. К ним быстро подъехал специальный отряд. Туши погрузили на машины и увезли. — Я мог бы выпустить такое же радиоактивное облако, — сказал лысый старик, передавая противогаз подскочившему молодому человеку, — но я не хотел обременять гостей слишком тяжелыми освинцованными защитными костюмами. Снова стало пусто на плац-параде. Но он скоро наполнился комфортабельными автомобилями, ничем не выдававшими своего военного назначения. В них сидели благообразные люди в белых халатах. — Что это? Санитарный отряд? — поинтересовался японский военный эксперт. — Нет, биологический, — ответил хозяин. — Ах, бактерии! — сказал японец и, сняв очки, положил их в карман. — Род бактерий отличается по цвету автомобилей, джентльмены. Черные — это чума, желтые — холера… — И гостеприимный хозяин стал перечислять своим гостям все цвета спектра. — Дальше идут инженерные части с готовыми уже мостами, передвижными окопами, специальными машинами для производства укреплений. Машины управляются по радио и прекрасно работают под обстрелом. Но это всего лишь вспомогательные машины. Я думаю, что вам будет интереснее посмотреть воздушный парад моей продукции. Блеклое солнце, на все насмотревшись, угнетенное, постаревшее, отступало к горизонту. Но ни серые, безрадостные сумерки, ни северный ветер, деловито гнавший облака, не могли, конечно, помешать продолжению парада. Черные стаи смертоносных машин, остроумно и недвусмысленно построенные хозяином в форме знака доллара, пролетали высоко в небе или же над землей на бреющем полете. Наконец парад кончился. Перед взыскательными зрителями продефилировало все, что призвано было нападать, уничтожать, сокрушать, сеять смерть… Солнце заходило на западе, оставляя за собой кроваво-красную зарю. Но — странное дело! — из-за холма, совершенно определенно находившегося на востоке, занималось другое огненное зарево. Постепенно оно росло, ширилось и наконец стало ярче заката. На лицах военных экспертов выразилось неподдельное изумление. Над холмом поднималось и медленно плыло ослепительное огненное облако, оставляя за собой густой стелющийся дым. Края летящего пламени были окрашены в фиолетовый цвет, оттеняя огненную середину облака. Люди молча смотрели на это страшное явление природы. — Что это такое?.. Что? Но никто не мог дать объяснения. Хозяин молчал, пристально наблюдая за своими гостями. Все, над чем прошло огненное облако, было превращено в пепел. Погиб и лес. Только обуглившиеся стволы деревьев продолжали дымиться. Улетавшее облако красноватым цветом освещало лица стоящих на холме людей. Хозяин молчал.Глава V. ЭКСПЕДИЦИЯ ЗА ДЫМОМ
Худой, блеклый, как выгоревшая ткань, Карл Шютте вернулся домой раздраженный и злой. Он вздохнул, глядя на мать, ничего ей не сказал, провел рукой по расчесанным на прямой пробор жиденьким волосам и поднялся на второй этаж. У двери в комнату отца Карл остановился, чтобы отдышаться. Прислушался к каким-то гремящим звукам. Потом поправил черный галстук бантиком и толкнул дверь. Быстрота, с какой старик открыл глаза, никак не вязалась с храпом, напоминавшим рев отягченного угрызениями совести льва. — Ну что? — спросил он хриплым басом. — Опять… Карл опустился на стул и закрыл ладонями лицо. Отец вскочил. Это был великан. К тому же при росте белого медведя он приобрел с годами толщину нефтяного бака. — Это в девятнадцатый раз! — пробасил он. — Убита Эльза… У нее осталась девочка. Ланьер едва ли выживет… Ланге случайно остался жив… — А сам? — Сам? Что ему!.. Сказал, что опыты переносятся в лабораторию номер двадцать девять… в подвале. Из Дании уезжает Бернштейн. Освобождается его лаборатория. Хозяин хочет, чтобы мы работали там. — Куда же уезжает Бернштейн? — Не знаю. — Карл, опустив между коленями руки, внимательно рассматривал их. — Вместе с Троссом. — В девятнадцатый раз! — снова загудел старик. — Если считать, что Ланьер не выживет, значит, еще двое. Это ничего! В прошлом году было семеро, а всего, всего… Дай мне вон тот блокнот. Тут я веду счет. Так… А всего теперь будет пятьдесят три штуки. — Пятьдесят три жизни! — Из них одиннадцать женщин: две француженки, три англичанки, две немки, шведка, две еврейки и одна американка. — Отец, я устал! Все бесполезно. Наука непогрешима. Ее нельзя обмануть. Нельзя опровергнуть положений, однажды установленных авторитетами. Фантазия — это род безумия. Можно ли в течение десятилетий пытаться воплотить в жизнь чью-то безумную мечту! Нельзя сосредоточить Ниагару в чайном блюдце, расплавлять горы аппаратом величиной с консервную банку. Безумие! Нового в мире ничего нет. Надо только изучать, только познавать, только повторять. Для человечества достаточно атомной энергии. — Э, Карл, нет! Я рассуждал бы так же, если бы сам не видел этого собственными глазами дважды. Уверяю тебя: оба раза было на что посмотреть. — Я не верю в это. Я не могу! У меня нет больше сил! — Карл, — заревел гигант, — придется тебе перевести рычаг на другую скорость. Сын умолк, еще ниже опустив между коленями руки с тонкими синеватыми пальцами. — Ты должен благодарить хозяина, что он сделал тебя ученым и ты сидишь в лаборатории, а не за рулем. Тебе нужно найти только то, что уже было найдено, и ты станешь знаменитым. Иди и успокойся. Вели матери принести мне пива. Карл безнадежно покачал головой, встал и, волоча ноги, вышел из комнаты. Вот уже двенадцать лет, как он работает в этой ненавистной ему лаборатории. Ну хорошо, каждый немец может углубиться до самого дна узенького колодца своей специальности, посвятить себя только одному вопросу, разработать его обстоятельно, методично, исчерпывающе. Но двенадцать лет!.. Сколько за двенадцать лет можно сделать неудачных опытов только в одном направлении? Нет! На это он больше не способен. Он бросит все и уедет в Германию. Карл Шютте не верит в эту идею и не может больше видеть ни жидкого гелия, ни трупов… Нужно быть не человеком, а дьяволом, чтобы все еще заставлять искать эту поистине сатанинскую мечту, от которой даже сам автор ее отказался. Внизу захлопали двери, послышались голоса. Поднялся переполох. На лестнице показалась мать. На ее морщинистом лице был испуг. — Карлхен, зови скорей отца! Приехал он! Карл замер. Синеватые тонкие пальцы быстро бегали по борту пиджака. — Хэлло, Ганс! — послышался снизу голое. — Не заставляйте себя ждать! Ступени заскрипели под тяжестью старого Ганса Шютте. Внизу у лестницы со стеком в руках, расставив ноги в желтых гетрах, стоял старый человек, затянутый в костюм. Он был совершенно лыс. Желтая кожа черепа резко граничила с дряблым, морщинистым лбом. Под презрительно прищуренными глазами темнели мешки, но сухое тело держал он подтянуто и прямо. Ганс Шютте вытянулся перед гостем. — Убрать лишних. Мне нужны вы. — Мать, Карл, оставьте нас одних да подайте пива! Пожалуйста, вот сюда! Как запомнить мне этот день? Великий бог! Как могли вы утруждать себя? Достаточно было лишь крикнуть мне: «Хэлло, Ганс!» — Довольно болтать! — Слушаюсь… — Зря я бы не заехал. Мне нужны преданные люди. Вы знаете, что я не верю никому. Я хочу послать вас в экспедицию вместе с профессором Бернштейном. И с Троссом, конечно. Но он молод. Нужен ваш опыт и хватка. — С химиком Бернштейном? — Да. Он способнее вашего сына и закончил работы Ирландца. Теперь их надо реализовать в широком масштабе. Вы отправитесь вместе с ним. В случае чего, можете размозжить ему голову. Надеюсь, вы еще способны на это? Я помню, вы ломали прежде двери в моем замке как спичечные коробки. Великан крякнул и ударил кулаком по столу. Гость вздрогнул, а старуха, вносившая пиво, чуть не уронила на пол кружки. — Пожалуйста! Прошу вас, сэр! — Что? — Трещина… — Я так и думал. Можете поставить стол мне в счет… Будете следить за химиком. Ни шагу от него! Поедете на остров Аренида. Это напоминает вам что-нибудь? Организуете добычу газа в большом масштабе. Газ выделяется там из расщелин. Создадите газосборочный завод. Возьмите мою старую яхту. Она только что вышла из ремонта. Можете собираться! Кстати, о вашем сыне: больших, чем он, неудачников я не видел! Предупредите эту бледную немочь, чтобы смотрел, с кем водится. — Слушаюсь! Могу ли я узнать, что за работы будет проводить там химик? Гигант в присутствии гостя старался сделаться возможно меньше. Он прятал голову в плечи и сгибал спину, отчего руки его почти доставали до земли. — Что будет делать там химик? Вы много хотите знать. С вами будет мистер Тросс. Надежный человек. Уж он-то присмотрит за профессором. Не то, что вы… — Полно, босс. Кто старое помянет… — Молчать! Кто старое забудет! Вот то-то! — В некоторой грубоватой фамильярности обращения хозяина к Шютте сказывались их полувековые отношения. — Слушаюсь, — с привычной готовностью отозвался Шютте. — Отправляйтесь в экспедицию за дымом! Вы поняли меня? Экспедиция за дымом, подобная той, которую предпринял когда-то старый моряк Вильямс. Кстати, вы должны взять себе в помощники моряка вроде него. У него есть племянник или сын, подходящий парень… А для чего мне понадобится этот фиолетовый газ, вы, может быть, догадываетесь! Хе-хе-хе! — Я радуюсь… — Что «радуюсь»? Вы мало знаете! Наш старик со своим «идейным» Ирландцем могли бы завертеться в своих гробах, если бы лежали в них, а не рассеялись в воздухе по милости одного нашего общего друга. Хе-хе-хе!.. Кстати, Ганс, я никогда не прощу вам его бегства. — Сэр… — Молчать! Я не хочу возвращаться к этому свинству. Довольно мы имеем теперь хлопот. Ваш сын до сих пор не может разобраться. — Сэр, мой сын прилагает все усилия, чтобы вновь решить задачу. — Здесь мало усилий. Надо иметь талант. Довольно! Итак, из двух идей, достойных бога или дьявола, одна возвращена к жизни. Ганс Шютте встал и прошелся по комнате. Половицы скрипели от каждого его движения. Он задумчиво посмотрел на аккуратные занавесочки, пощелкал пальцами перед канарейкой, потом, спохватившись, повернулся к своему патрону, неестественно прищурившему левый глаз. — Смею заметить… идеи мертвых обгоняют идеи еще живых, — многозначительно сказал он. — К черту живых! Я плюю на них! Пусть трясется над своей тайной, спасая человечество! Во всяком случае, я сохранил над ним власть. Мы займемся с вами, Ганс, вещами попрактичнее, как и подобает американцам. И у нас есть еще такие парни, как Тросс! Босс стукнул своего слугу по спине, потом с гримасой отодвинул кружку: — Возьмите пиво, оно горчит… Подробные инструкции получите на яхте. Заметьте, мы должны спешить. События нарастают. Я сам ускоряю их ход. Мой замок полон гостей… — Босс стукнул стеком по желтым гетрам и еще больше наморщил лоб. — Кстати, Ганс, катушка, кажется, опять фыркнула. Наверно, сегодня кто-то там умрет. Позаботьтесь, чтобы это не попало в газеты. В моем замке — мое государство! — Будет исполнено. — Ганс! Вам доверено большое дело. Скоро мы начинаем великую очистительную войну. По этому поводу сегодня в моем замке прием. — Вы можете надеяться на своего старого Ганса. Он еще в состоянии перейти на любую скорость… Великан, низко кланяясь, провожал своего властного и желчного гостя. Из-за хорошеньких коттеджей поселка поднимались шпили Ютландского замка. На дороге к замку близ вновь выросшей буковой рощи автомобиль Вельта остановился. В него сел ожидавший здесь Тросс. Вельт нажатием кнопки поднял звуконепроницаемую стеклянную перегородку, отгородившись ею от шофера. — Итак, — сказал он, — мы с вами приняли условие этого лохматого психопата. Пусть едет на Арениду. Разумеется, с вами. Я дам вам Ганса, пусть воображает себя начальником экспедиции, перевалите на него всю черную работу, а сами займитесь одним — обработкой Бернштейна. — «Воздушная спичка», сэр? — Вы догадливы, как всегда. Этот секрет мне нужен любой ценой. Понятно? Любой! Без него не возвращайтесь. Автомобиль въехал во двор замка.Глава VI. ЗАГАДКА СТРАННОГО ПАЦИЕНТА
По галерейному тротуару, поднятому в этом узком переулке до уровня второго этажа, чтобы расширить проезжую часть, шел высокий, горбящийся старик с немного вьющейся седой бородой и расставленными локтями. Он вошел в мезонин ветхого, словно оставленного здесь как памятник старины, дома прямо с тротуара и стал спускаться по довольно крутой лестнице, пока не остановился перед дверью со старомодной дощечкой: «Заслуженный деятель науки профессор…» Старик открыл дверь и вошел в темную переднюю. Раздеваясь, обнаружил, что был без шляпы. — М-да… — отрывисто произнес он, покачав головой. Профессор жил в комнате, где властвовали и враждовали, как два противоположных начала, книги и картины. Книгам удалось захватить все пространство внутри комнаты. Гигантские шкафы высились по стенам, как книжные крепости. Втиснутый между стенами стол полонен был книгами. Книги захватили и кресла, и маленький шахматный столик. Они лежали всюду аккуратно связанными стопками. Книги владели и воздухом комнаты, наполняя его особым запахом бумаги в старинных переплетах; книги насыщали воздух, делали его пыльным и душным. Картины хотели раздвинуть комнату и растворяли стену, на которой висели, в тихих, печально-спокойных пейзажах. Они наполняли пространство свежим воздухом березовых рощ и мягким, просеянным сквозь облачную дымку солнечным светом. И если в комнату не проникали шорохи листьев и трав, то лишь потому, что на всех картинах царила тишина. Только ее да мечтательную задумчивость природы изображал на своих полотнах художник. Поглядев на часы и обнаружив, что уже час ночи, профессор стал укладываться спать. Через четверть часа он уснул. Но, как и обычно, очень скоро проснулся с чувством, как будто бы совсем и не спал. Полежав немного с открытыми глазами, профессор встал и, не зажигая электричества, подошел к письменному столу. С улицы проникал свет фонарей, и комната казалась наполненной рыхлым серым веществом. В том месте, где стояли кровать или книжный шкаф, вещество сгущалось до совершенно черного тона. Иногда начинало казаться, что оно сгущается там, где заведомо было пусто. Тогда профессор принимался умножать в уме друг на друга шестизначные числа. Это было трудно и никому не нужно, но это убивало мучительно долгое время привычной бессонницы. Просидев так, может быть, час, ни о чем не думая или предаваясь бесполезному занятию, профессор встал и зажег свет. Он подошел к картинам. Это были картины Левитана. Профессор методично рассматривал каждую, задерживаясь подолгу около тех, где качались верхушки деревьев или в синем небе плыли прозрачные облака. Осмотрев все тридцать девять картин, профессор начал одеваться. При этом обнаружил, что одна пуговица оторвалась. Он достал из ящика шахматного столика иголку и нитку, надел очки и принялся вдевать нитку методично, долго и упрямо. Вдалеке кто-то не спеша поднимался по лестнице и кашлял. Затем наступила тишина. Вероятно, поздний посетитель звонил. Наконец хлопнула дверь. — М-да!.. — сказал профессор, вздыхая. Долгая жизнь в одиночестве приучила его разговаривать с самим собой. Днем он этого себе не разрешал, но ночью допускал скидку на бессонницу. — Я позволю себе справедливо заметить, что этот способ вдевания нитки совершенно нерационален. Чтобы так поступать, надо «нот ту ноу э би фром э балс фут», как говорят американцы, — не знать ни аза в глаза. Необходимо завтра же приобрести двадцать… нет, пятьдесят иголок и заготовить столько же ниток разной длины. М-да… Затем обратиться к кому-нибудь, обладающему хорошим зрением, с покорнейшей просьбой вдеть пятьдесят ниток в пятьдесят иголок. М-да!.. Хранить их в определенном месте. Вот, скажем… ну, хотя бы здесь. Раздался звонок. Профессор удивился и вместе с тем обрадовался. Все-таки какое-то происшествие в его однообразной бессонной ночи. Спешно натянув на себя брюки и накинув на плечи одеяло, он зашаркал в переднюю. Звонили уже второй раз. — Кто бы это мог быть? Профессор пошел было к двери, но вернулся и почему-то предусмотрительно потушил свет. И только потом снова направился к двери. Оказалось — телеграмма. Профессор поглядел на почтальона поверх очков, отчего взгляд его казался сердитым. — Вам «молния» — так что извините… Поди разбудил вас? — М-да!.. Нет, что вы, я очень рад! Все равно не спал. Где же тут расписаться, осмелюсь спросить?.. Закрыв дверь, профессор не торопясь подошел к столу и при свете уличных фонарей распечатал депешу. Телеграмма была из-за границы. Профессор поправил очки, прочел бланк и нахмурился. Потом он тяжело опустился в кресло и, обхватив голову руками, покачал головой. — М-да!.. Фирма отказалась даже вести переговоры с нашим торгпредством. В лучшем случае он ничего не знает об элементе. А если знает, то, конечно, никому не уступит, хоть и не догадывается о его назначении. Ну вот! Теперь я сделал все, что мог. Конечно, этого следовало ожидать. Даже правительство не смогло помочь. Нет,почтеннейший профессор, оказывается, вы были правы в своем сумасшедшем принципе. Надо нести это бремя, пока… пока любезный доктор… М-да!.. По китайскому обычаю, не пойдет в процессии первым! Профессор поднял очки на лоб и, отодвинув телеграмму в вытянутой руке, перечел ее еще раз. Потом, поправив одеяло, он прошаркал по седому полумраку, наполнявшему комнату, и остановился перед картинами. Обычно он зажигал при этом свет, но сейчас он делать этого не стал, по-видимому, удовлетворенный слабым отблеском рассвета. Кроме того, он вообще вел себя странно. Подойдя вплотную к одной из картин и взявшись обеими руками за ее раму, он так и остался стоять. Одеяло упало к ногам. Профессор не заметил. Раздался мелодичный звук, и рама картины повернулась на нижнем ребре. В стене открылся темный четырехугольник. Профессор сунул туда руку и зашуршал бумагами. — М-да!.. — сказал он и печально пожевал челюстями. Потом прошел к выключателю и зажег свет. Теперь потайной шкаф, вделанный в стену, был отчетливо виден. Профессор стал выкладывать на ставшую горизонтальной обратную сторону картины какие-то старые рукописи, испещренные формулами. Он перелистывал некоторые из них, задержался на странице, где был нарисован женский профиль, вздохнул и стал складывать обратно. В руки ему попало письмо.«Уважаемый профессор! Рад был убедиться, просматривая советский научный обзор, в соблюдении Вами поставленных мной на «Куин Мэри» условий. Радиофизика — достойнейшая область для приложения Ваших обширных знаний и блестящих способностей. Конечно, Вы могли бы вернуться и к былым своим исследованиям, в Вашем распоряжении окажется любая из моих лабораторий, где так удачно повторялись забытые миром открытия, применение которых, напоминаю, находится в прямой зависимости от дальнейшей заботы Вашей о счастье человечества. По-прежнему готовый к дружбе…»Дойдя до подписи, профессор раздраженно засунул письмо в секретное бюро. — Какой иронией звучат ваши слова о дружбе и человечестве!.. М-да!.. Ваше письмо лишь убеждает меня, что вам все еще не удалось «повторить» открытие моего учителя. Только то, что я жив, мешает вам воспользоваться в преступных целях тем, что уже в ваших руках. Так пусть хоть так оправдывается мое жалкое существование в моих собственных глазах! Профессор вздохнул и с шумом захлопнул шкаф. Из передней совершенно отчетливо слышался шорох. Профессор оглянулся, все еще держась рукой за раму. — О-о, профессор! Может быть, вы думаете, что на вас купальный костюм и вы идете купаться в нарисованную Левитаном речку? — послышался высокий торопливый голос. — Фу, доктор… Милейший, вы изволили меня напугать! — Что вы говорите! А я, признаться, испугался сам. Мне послышался, знаете ли, такой металлический звук… В комнату вошел маленький подвижный человек. Он быстро поворачивал свою лысую голову с вьющимися височками. При этом пенсне в старинной золотой оправе часто слетало, и доктор подхватывал его на лету и водружал на место. Криво надев пенсне на нос, доктор, потирая руки, оглянулся: — Итак, почтеннейший, что это был за металлический звук? Профессор был в явном замешательстве: — Вы… смею вас уверить… ошиблись. — Я? Ничего подобного! Я все понял. Это вы сбросили на пол свои рыцарские доспехи! — Доктор поднял одеяло с пола и накинул его на плечи профессору. — Теперь предоставим слово обвинителю, то есть мне. Слушайте и не защищайтесь! Во-первых, я предложил вам лежать. Сейчас же ложитесь на скамью подсудимых! Немедленно!.. — Милый доктор, я ложусь… ложусь! Я уже лежу! — Ах, по-вашему, стоять посреди комнаты и размахивать руками — это и есть лежать? Ну вот… Итак, вы обвиняетесь в неупотреблении прописанных мною лекарств, в разгуливании неизвестно где по ночам и несоблюдении предписанного вам режима! Или, может быть, вы думаете, что я прописываю лекарства для сохранения их потомству, а мои советы подобны советам жены магометанина, которые, по Корану, следует выслушать, а поступить наоборот? — Милейший доктор, я принципиально не употребляю лекарств! Доктор едва успел подхватить пенсне: — О! Он принципиально не принимает лекарств! Может быть, вы принципиально не будете носить брюки? У вас, почтеннейший, мания принципиальности. Почему он не переехал в новую квартиру в доме Академии наук? Принципиально? Ему, видите ли, хочется жить в этой старой дыре! Почему у него нет домашней работницы? Не догадаетесь? Так я вам скажу: он принципиально не хочет, чтобы на него работали. Он, видите ли, имеет семь стаканов и один раз в неделю моет их все оптом в электрической судомойке. У него три пары галош, которые он меняет по мере того, как они испачкаются, чтобы потом рационально вымыть их — за один прием. Он, видите ли, варит сам себе суп из бульонных кубиков. А кубики покупать можно? Кто их делает? — Кубики делают для всех, а не для меня одного. Милейший доктор, хотя вы и убежденный аллопат, но в отношении своих нападок на меня уж будьте гомеопатом — применяйте их в малых дозах, а то ваши в пору аллигатору. — А он не аллигатор? Настоящий крокодил! Почему он отказался баллотироваться в Академию наук? Я вам скажу: принципиально! Он против обязывающего звания… Откройте рот!.. А почему он не женился, этот старый холостяк? Принципиально. У него не вышло один раз, и он больше не пожелал… Откройте рот!.. — Доктор… — Покажите язык! Я доктор уже очень давно! Столько лет, сколько вы профессор. Вы, может быть, думаете, что у меня нет против вас самого главного обвинения? Вы — государственный преступник!.. Но-но-но! Не поднимайтесь! Вы покушаетесь на убийство! Что вы облегченно вздыхаете, уголовник? Повернитесь, пожалуйста!.. Так, хорошо. Вы покушаетесь на жизнь… повернитесь еще… известного… дышите!.. профессора… да дышите, я вам говорю!.. теперь не дышите…. бюллетени о здоровье которого ежедневно докладываются правительству. — Милейший доктор, если не ошибаюсь, вы опять что-то прописываете? Как я уже имел честь вам сказать, я не предполагаю принимать ваши лекарства. — Вы слышали? После этого он еще не преступник! Он собирается приблизить свою смерть! — Нет, дорогой доктор, я не собираюсь ее приближать. М-да… Я только не желаю ее отодвигать. — Может быть, вы думаете, что у вас есть такое право? — Я думаю… Это право каждого… — А! Вы слышали? Хорошо еще, что я молчаливый, а то бы я вам прочел такую лекцию о праве… — Доктор, доктор, умоляю! — Никакой пощады! Право? У вас на это есть такое же право, как зарезать меня! Вы упускаете одну маленькую подробность, что вы гражданин, у которого есть перед страной обязанности! — М-да!.. И перед человечеством. — О! Вы допускаете здесь противоречие? — Принципиально — нет. Милейший доктор, пожалуйста, не сердитесь! — Ну то-то! В следующий раз я приду к вам с ручным пулеметом. Лекарства прописывать не буду, а просто пришлю… Выходить? Ни в коем случае! Два дня лежать! Дайте-ка еще пульс. Для меня может быть удивительным ваше желание влезть в картину. Обидеть же кого-нибудь — для вас естественное проявление боевого духа. — Перестаньте шутить! В жизни своей я никого не обидел. — А меня? Или, может быть, вы думаете, что обижаться — это непрофессионально для врача? — Ну хорошо, любезнейший, не сердитесь. Я прошу у вас извинения. Простите меня, старика!.. Кстати, посмотрите в ящике, нет ли свежих газет. Окажите услугу! — Услугу? Пожалуйста! — Доктор с готовностью выбежал из комнаты. Профессор тяжелым, пристальным взглядом уставился на картину, за которой был скрыт секретный сейф. Мучительное выражение тревоги не покидало его лица до тех пор, пока доктор не вернулся с газетами в руках. — Пожалуйста, загадочный мой пациент! Вы, может быть, думаете, что, леча вас столько времени, я поставил диагноз вашей болезни? Ничего подобного! Я не поставлю его до тех пор, пока не разгадаю некоторых ваших странностей — например… словом, пока не открою тайны вашего прошлого. — Ах, смею вас просить, любезнейший, оставьте меня в покое! Мне хочется просмотреть газеты. Доктор пожал плечами, поймал пенсне и, последовав примеру профессора, погрузился в чтение газет. На лестнице слышались чьи-то шаги, голоса, с улицы доносился шум автомобилей. Стало совсем светло, и зажженная лампочка выглядела тусклой. Доктор, позевывая, украдкой поглядывал на профессора. Старик тихо лежал на кровати, вытянув свое длинное худое тело. Через лестничную клетку проникал невнятный шум репродуктора. Вдруг доктор вздрогнул и в испуге вскочил. Прямо перед ним, во всем белом, с белой развевающейся бородой, стоял его странный пациент. — Почтеннейший, почтеннейший… что с вами? Профессор ничего не мог выговорить. Губы его тряслись, очки слетели, держась только на одном ухе. У ног профессора лежала смятая газета. — Что случилось? — Нет… Нет! — Профессор сел и закрыл голову руками. — Боже мой! Ведь эту газету могут прочесть за границей. Что будет? Что будет?.. — И он замолчал. Доктор не мог добиться от него ни слова. Тогда он поднял с пола газету. В глаза ему бросилось надорванное ногтем профессора место. Это была самая обыкновенная публикация в газете «Известия» о защите диссертации на звание доктора физических наук. Несколько ошарашенный, доктор переводил взгляд с невинной публикации на почти невменяемого профессора, который теперь подпрыгивающими шагами бегал по комнате и размахивал руками. — Клянусь вам, уважаемые коллеги, что я не пожалею своего времени, своих сил, но осмелюсь воспользоваться своим правом… М-да!.. Правом выступить с уничтожающей критикой этой безумной работы, которая должна быть уничтожена как зараза, как возможная причина общечеловеческого бедствия, как символ варварства, дикости, жестокости, как страшный анахронизм, как чудовищное злодеяние, от которого следует спасти человечество! Да-да-да! Кроме того, это ненаучно и не имеет под собой никакой почвы, обречено на неудачу, неуспех и провал! М-да!.. Доктор покачал головой. Он еще раз перечел публикацию, лишний раз убедившись, что некая научная сотрудница М. С. Садовская будет защищать диссертацию на тему: «Использование сверхпроводимости как метод аккумулирования энергии». Обескураженный доктор ничего не понимал.
Глава VII. ЗАБЫТЫЕ ТЕНИ
Отвечала ли Марина на уроке арифметики, взбиралась ли на забор, чтобы пройтись по нему всем мальчишкам назло, ждала ли в балетной пачке выхода на сцену или садилась за шахматный столик с часами, она всегда волновалась… Волновалась до дрожи, до тьмы в глазах, до потери дара речи. Трудно было представить, что она может ответить хоть на один вопрос профессору, что она вообще может стоять на ногах. Марина ненавидела себя в такие минуты, презирала за слабость, отчаяние, неуверенность, но ничего не могла с собой поделать, даже скрыть своего состояния не умела. Она вообще не способна была таить чувства, плакала в кино или на спектаклях, горько обижалась и могла горячиться по любому поводу. Ее еще в школе прозвали «атомной» и «гордой полячкой», хотя она была вовсе не полькой, а скорее украинка. Перед началом защиты диссертации Марина выбрала пустынный коридор на другом этаже института и расхаживала там из конца в конец, в полном изнеможении кусая тонкие губы, сжимая побелевшие пальцы и смотря в пол блуждающими, растерянными глазами. А ведь принято было считать, что она никогда и ничего не боится. Да и сама она еще с детства не признавала трусов, третировала и изгоняла их из ребячьей ватаги, где стала вожаком. Чтобы доказать свое, она вылезала из окна четвертого этажа и, умирая от головокружения, шла по карнизу. Она была доброй, вечно подбирала жалких котят или бездомных собак, возилась с больными и слабыми, но с сильными действительно была гордячкой и даже забиякой. Она лезла в драку с какими угодно мальчишками и в схватке была такой неистово исступленной, у нее бывали такие страшные кошачьи глаза и знала она такие опасные приемы, что даже большие парни от нее отступали, говорили, что, если с ней свяжешься, потом придется делать прививки. В конце концов и они признали ее власть. Она понимала, что надо победить сейчас волнение. В прошлый раз, на защите кандидатской диссертации, она едва справилась с собой, когда увидела за столом Ученого совета министра. У него был высокий лоб и зачесанные назад волосы. После защиты министр подошел к ней. Марина уже не волновалась, но тут смутилась. Стояла молчала. Еще подумала, что на нем удивительно маленькие сапоги, и, совсем растерявшись, спросила: «Как вы находите, товарищ министр… сегодняшнюю погоду?» Ничего глупее нельзя было придумать! Она решила поправиться, чтобы выйти как-нибудь из этого ужасного положения: «Я хотела спросить… Вы, кажется, впервые в нашем институте? — И, окончательно смутившись, пролепетала: — Как вы нашли мою диссертацию?» Тогда министр сказал тихим, неторопливым, несколько глуховатым голосом: «Нахожу скверной». Сердце у Марины упало. «Я никак не могу дождаться, — продолжал министр, — когда начнется настоящее лето. Не выберешь времени рыбу поудить». «Как, вы бываете на рыбалке?» «Первый раз я был, когда рыли котлованы для фундамента. — Министр помолчал. — Потом… потом, кажется, я был еще три-четыре раза, знакомился с лабораториями и работами». «Ах да!» — прошептала Марина. Они тогда стояли вот в этом же коридоре. И никто к ним не подходил, думая, наверно, что у них серьезный разговор. «Диссертация ваша мне понравилась. Поэтому-то я и решил с вами поговорить». На этот раз Марине удалось смолчать. «На рыбалке я бываю два раза в лето, когда решается дифференциальное уравнение с тремя переменными: погодой, свободным временем и настроением». Потом министр сказал «так», как бы поставив точку, и замолчал. Больше она ни о чем спрашивать его не решилась. Она поняла наконец, что министр методично ответил на все ее вопросы, причем именно в том порядке, в каком они были заданы. Она робко взглянула на него и вдруг увидела, что у серьезного, всегда непроницаемого, как ей казалось, министра глаза ласково смеялись. И Марина почувствовала себя сразу по-другому. Теперь она могла уже внимательно и спокойно выслушать все, что он скажет ей. «Вы посвятите свою дальнейшую работу, — говорил он ей, — во-первых, вопросу сверхпроводимости, который затронули сегодня лишь вскользь; во-вторых, связи этого явления с проблемой концентрации энергии. Это нужная проблема, которой у нас мало занимаются. Свяжитесь по этому вопросу с полковником Блиц… простите, с полковником Молнией. Иван Петрович недавно перевел свою фамилию на русский язык. Для поставленных им артиллерийских задач требуются огромные сосредоточения энергии. Но эта работа имеет и более широкое значение. Когда-то я был свидетелем демонстрации одного очень эффектного опыта… Давно это было… Я собственными глазами видел осуществленный сгусток энергии. Советская наука должна решить этот вопрос. Так, — снова поставил точку министр. — Задачу эту я выдвигал перед многими профессорами, но эти, с позволения сказать, ученые разводили руками…» По лицу министра скользнула лукавая усмешка. «Да… Но смогу ли я?» «Для связи с Молнией я дам вам направление в его секретную лабораторию. Но перед вами стоят пока чисто научные задачи. Для них потребуется революционное миросозерцание и восприимчивый ум. Пусть работа эта будет вашей диссертацией». «Но ведь я уже защитила диссертацию! И потом: смогу ли я справиться с такой задачей?» «Я думаю…» «Достаточно ли моя подготовка?» «…что эта диссертация будет вашей второй, то есть докторской». «Как? Мне? На звание доктора?» «На мой взгляд, чтобы справиться с такой задачей, вы найдете у себя все данные. Наконец, в том, что вы станете доктором, ничего удивительного я не вижу!..» Раза два потом Марина приезжала к министру и стала называть его уже Василием Климентьевичем. Она рассказала о своем свидании с полковником Молнией и о намеченных ею путях решения задачи. Вот и прошли два года… Диссертация готова. Интересно, приедет ли Василий Климентьевич? Ведь он обещал. Марине было двадцать пять лет. Глядя на нее, можно было ощутить перемены, которые произошли в наших женщинах за последние сто лет. В прошлом веке ее сверстницы, выйдя замуж лет в шестнадцать, обзавелись бы уже семьями и детьми и, достигнув зрелости, массировали бы у глаз морщинки, а двадцатипятилетняя «засидевшаяся» девица начала бы уже блекнуть и увядать. Наша современница, соискательница степени доктора физики, была умнее, образованнее, начитаннее своих сверстниц из прошлого и все же оставалась юной. Иные условия воспитания, равный с мужчинами уровень развития, работа мысли и духовное богатство словно дали советским женщинам тот эликсир молодости, который их бабки тщетно пытались заменить румянами и тугими корсетами. Марина была молода и хороша собой, но самой красивой и умной, самой изумительной и непостижимой считала Марину влюбленная в нее до обожания, смотрящая на мир ее глазами восемнадцатилетняя сестренка Надя. Она нашла Марину в коридоре и помчалась ей навстречу, встряхивая мелкими кудряшками, розовощекая, пухленькая, с совершенно круглыми от переживаний чернильно-синими глазами. Она подбежала, задохнувшись, и не могла ничего выговорить. Марина ласково улыбнулась. Рядом с Надей она всегда чувствовала себя старшей, даже старой. — Какой ужас, какой ужас, Мариночка! Говорят, сам министр Сергеев приехал! Ты волнуешься? — Я? — усмехнулась Марина. — Нисколько. Это было правдой. Марина забыла о волнении. Холодная решимость, которая обычно приходила позже, когда был уже взят экзаменационный билет, сделан первый шаг на сцене или первый ход на шахматной доске, решимость и холодная ясность владели ею. — Ты узнала, что будет говорить оппонент? — беспокоилась Надя. Марина пожала плечами: — Наверно, скажет, что я заглянула в будущее. Надя смотрела на нее счастливыми глазами, любовалась ею. Пора было спускаться в нижний этаж. Взявшись за руки, сестры шли по мраморной лестнице. Их окружили молодые люди, научные сотрудники института, в отличие от сохраняющей юность Марины рано лысеющие и многие в очках. Марина здоровалась с ними, смеялась и радовала всех спокойствием. Она шепнула Наде: — Смотри, кто идет! Это профессор Горский из Ленинграда. — А кто рядом с ним? — Кто-то незнакомый. — А я знаю, — вмешался один из молодых людей, — это профессор Оксфордского университета Ленгфорд. — Идут, идут! Тише! — Кто это маленький, в очках? — Посторонитесь, не видно! — Профессор Цзе Сю-лян, а с ним рядом — доктор Джеран из Монгольского университета. Сзади доктор Мейлс из Гейдельбергского университета. — Это прямо не защита диссертации, а международный конгресс! — Звонят! Приглашают в аудиторию! — Пойдемте! — Ну где же Василий Климентьевич? Через улицу по направлению к институту мчались две фигуры. Впереди, с развевающимися седыми волосами, без шляпы, почти бежал старый профессор. Позади него, старательно семеня ногами, едва поспевала кругленькая фигурка доктора: — Почтеннейший, пощадите… Вы, может быть, думаете, что я могу закрыть перед вами шлагбаум? Ничего подобного. Мне все равно не удастся забежать вперед. Одумайтесь! Что вы делаете со мной? Ведь я только что сообщил в бюллетене, который ежедневно докладываю правительству, об ухудшении вашего здоровья. И вдруг вас видят на улице, да еще без шляпы… — Милейший, не откажите в любезности оставить меня в покое! М-да!.. — В покое? Этот сумасшедший бег по улице вы называете покоем? Профессор сердито пожевал челюстями и прибавил шагу. Доктор выхватил платок и судорожно вытер мокрое лицо. — Нет, почтеннейший! Ну зачем вам понадобилась эта диссертация? Вы для меня загадка! Оставив запыхавшегося доктора далеко позади, профессор вошел в вестибюль института. Торопливо скинув с себя пальто и расчесав сбившуюся на сторону бороду, он одернул мешковато сидевший на нем пиджак и направился по коридору. Дверь в аудиторию была открыта. Профессор остановился у притолоки, сердито смотря из-под насупленных бровей. Голову он склонил немного набок, а правую руку приложил к уху. Он слушал Марину. Он почти физически ощущал ее слова, летящие в аудиторию, слова, что заставляли то насторожиться, то задуматься, то неожиданно рассмеяться. — Я попыталась увязать высказанные мной представления о сущности сверхпроводимости с основными положениями квантовой механики и волновой теории. Моей конечной задачей было наглядно доказать, что в магнитном поле можно накапливать энергию, стоит лишь сочетать это с явлением сверхпроводимости. Разрешите мне закончить теперь научную часть своей диссертации и перейти к ее, я бы сказала, фантастической части. Я говорю — фантастической, ибо перспективам использования концентрированной таким образом энергии место скорее в научно-фантастическом романе, чем в научной диссертации. Человечество вступило в атомный век. Навсегда забыты былые страхи и пессимистические прогнозы о грозящем нам иссякании запасов топлива: каменного угля, сланцев, нефти, природных газов. В нашей стране уже работают атомные электростанции общей мощностью в миллионы киловатт. Они дают ток городам, промышленности, сельскому хозяйству. Вопрос получения энергии решен человечеством на несколько тысячелетий. И с железной закономерностью встает для решения новый вопрос — вопрос распределения энергии. Делаются попытки создания подвижных энергоатомных установок. На многие аэродромы приземляются наши замечательные паролеты, в которых паровой котел совмещен с атомным реактором. Плавают уже суда с подобными же, но более тяжелыми установками. Однако технике нужно иное, более радикальное решение. Стоит ли ставить автомобильный мотор на старую пролетку! Надо по-новому аккумулировать энергию, использовать для этого сверхпроводимость. Магнитное поле, в котором теоретически можно сосредоточить энергию, ничего не весит. Прибор можно сделать самых малых размеров. Любому потребителю энергии достаточно присоединиться к его клеммам, чтобы на длительный срок получить источник электрического тока. Ненужными станут тысячекилометровые электрические линии передач. Сверхаккумуляторы в огромном числе можно будет заряжать на гигантских атомных энергоцентралях, а потом доставлять потребителям. Раз в месяц получат маленькие цилиндры машинист электровоза, бортмеханик самолета, шофер электромобиля, тракторист электротрактора, энергетик завода, механик корабля, наконец, просто домашняя хозяйка, которая сменит у себя в квартире сверхаккумулятор с месячным запасом энергии, как меняла прежде предохранительные пробки. Ребятишки приспособят электромоторчики к самокатам или велосипедам, покупая в магазинах сверхаккумуляторы, как батарейки электрических фонариков. Сверхаккумулятор сделает человека подлинным хозяином энергии, которая поможет ему окончательно покорить природу и распоряжаться силами стихии. Поможет ему добиться полного изобилия, поднять культуру и достигнуть на дороге прогресса самого светлого счастья… — Да это же не диссертация, а целая, поэма! — шепнул седовласый ученый, сидевший рядом с министром в первом ряду. Василий Климентьевич, который все-таки, приехал на защиту, повернулся к нему, улыбнулся и кивнул в сторону Марины. — Послушайте, почтеннейший мой профессор, — шипел доктор, — почему вы решили оставить себя без бороды, выдрав ее столь свирепым и болезненным способом? — Извольте замолчать… М-да!.. Замолчать! — свирепо прошипел профессор. — Тише! — шикнули на них сзади. Марина кончила. Ей шумно аплодировали. Румяная, похорошевшая, она тяжело дышала, сердце колотилось. Поправив волосы, она отошла к стене. На ее месте стоял теперь официальный оппонент. Марина слушала рассеянно. Он не возражал по существу. Он только ставил ряд вопросов, касавшихся дальнейших перспектив развития идеи концентрации энергии с помощью явления сверхпроводимости. Во время речи оппонента стоявший у притолоки профессор кусал ус, презрительно опустив уголки губ. Доктор озабоченно наблюдал за ним. — Я позволю себе извиниться перед многочтимой аудиторией! — неожиданно прозвучал гулкий отрывистый голос старого профессора, едва смолк официальный оппонент. — Я позволю также принести свои извинения и многоуважаемому председателю Николаю Лаврентьевичу, что без приглашения вторгаюсь к вам, но я счел бы недостойным звания истинного ученого смолчать при обстоятельствах… м-да!.. при обстоятельствах, сопровождавших изложение трактовавшейся здесь работы… Марина подняла глаза и удивилась. Она даже не знала этого ученого. — Пожалуйста, профессор, мы очень рады предоставить вам слово, — сказал председательствующий молодой академик. Профессор прошел за длинный, напоминающий, беговую дорожку стол, ссутулив худую спину. — М-да!.. Детский лепет или безумный бред? Я осмелюсь предложить этот вопрос всем присутствующим. Что преподносит нам, я бы сказал, нескромный соискатель почетного звания доктора физических наук? Разве уважаемые представители научного мира имели честь собраться здесь лишь для тою, чтобы выслушивать нелепые фантазии? М-да… В первый раз за долгую жизнь вашему покорному слуге выпадает незавидная роль возражать с этой высокой кафедры ребенку или сумасшедшему. Конечно, это «эгейнст зи грэн» — немного против шерсти, как говорят американцы, но прошу покорнейше извинить старика. Привык я называть вещи своими именами. Не обессудьте!.. Слишком трудно равнодушно слышать столь вульгаризированные представления о сущности физических явлений, преподнесенные нам здесь под ярлыком серьезной научной работы! Аудитория онемела от удивления. Министр внимательно изучал лицо старого профессора, громившего основы высказанных Мариной гипотез, зло высмеивавшего ее математические построения. Стоявший в дверях доктор держал пенсне в руках и, не отрываясь, глядел на своего пациента, словно искал в его глазах разрешения мучившей его загадки. — Так выглядят, уважаемые товарищи по науке, эт ферст блаш — при первом взгляде — изложенные нам принципы теории сверхпроводимости в свете далеко не исчерпывающей, но серьезной критики… — Профессор оперся вытянутыми руками о стол и согнул узкую спину, продолжая местами налегать на букву «о». — М-да!.. Но все это бледнеет, товарищи ученые, перед второй частью выступления соискателя. Лишь одна-единственная в ней фраза доставила мне внутреннее удовлетворение. Почтенный соискатель совершенно справедливо изволил заметить, что излагаемым мыслям место не в научной работе, а в фантастическом романе. И я позволю себе добавить: в плохом, уводящем во вредную сторону романе! М-да!.. Всей силой авторитета науки я позволю себе заверить вас: оставьте далекие от реальности мечты о концентрации энергии в магнитном поле! Заниматься такой задачей — абсурд, заблуждение, нелепица, чепуха, ересь, вандализм в науке, невежество, узость взглядов, оскудение ума, отсутствие элементарного контроля над собой! Ваши предыдущие аплодисменты, уважаемые и дорогие мои коллеги, я позволю себе отнести скорей к эстрадной актрисе, ловко жонглировавшей эффектными, но невозможными положениями, чем к представителю чистой и объективной науки… В аудитории поднялся шум. Над доской зажглись и замигали буквы: «Внимание!» Шум не прекращался. Он понемногу стал затихать только после того, как молодой академик, проводивший защиту, встал и подошел к доске. Тогда особенно громко прозвучал певучий и обиженный голос Нади: — А я думала, что люди — современники революций — умеют спорить по-настоящему! Академик поднял руку и сказал: — Продолжайте, профессор! Профессор стоял все в той же напряженной позе, опершись руками о стол, и резкими движениями поворачивал голову то вправо, то влево. Марина села на пододвинутый ей стул и потемневшими глазами не мигая смотрела на этого ненавидящего ее человека. Она заметила, как преобразился он, заговорив о концентрации энергии, как страстно зазвучал его голос. Женщина, слушая, часто обращает больше внимания не на смысл слов, а скорее на тон, каким они сказаны. И, странное дело, Марина не могла найти в себе ни малейшей неприязни к своему неожиданному оппоненту. Но обида, горькая ребяческая обида подкатывала к горлу, растворялась в слезах, готовых брызнуть из глаз… Профессор продолжал: — Нам рисовали развращающие мозг картины применения аккумуляторов, использующих магнитные поля сверхмощной силы, — я бы сказал, сверхаккумуляторов. Мы слышали о карманных электростанциях, о неиссякаемых батареях, о бестопливных двигателях, гораздо более удобных, чем атомные… Я сам мог бы, бесконечно фантазируя, рассказать и более поразительные вещи. Но зачем это? Зачем? Для чего тратить силы и государственные средства на бесплодную, хилую идею? Сила уничтожит сама себя. Почтенная соискательница говорила нам об изменении структуры вещества при увеличении магнитного поля, исключающей возможность существования сверхпроводимости. Кроме того, большое магнитное поле разрушит и самое катушку, прочность которой не может быть достаточной. Вся накопленная энергия вырвется наружу, чтобы испепеляющим жаром уничтожить производящих опыт людей, будь то седой, всеми уважаемый ученый или полная жизни и любви девушка… Дорогие коллеги, товарищи ученые, я имею честь заверить вас, что теоретически нет никакой возможности предохранить проводник от проникновения в него магнитного поля! Точно так же как нельзя пропустить по нему ток больший, чем допускает его атомная структура. Нет такой возможности! Всякая попытка обречена на такую же неудачу, как и стремление получить явление сверхпроводимости при обычных температурах. Резюмируя свое выступление, я позволю себе сказать, что представленная работа порочна как в своей основе, так и в отношении намечаемых вредных перспектив, обрекающих людей на ненужный риск и горькие разочарования. Работа соискательницы не продумана, сыра, недостаточно выношена, не обоснована, мелка, легкомысленна и, самое главное, неправильно ориентирована. Приходится пожалеть о напрасном труде и потерянном времени. Будем надеяться, что это послужит хорошим уроком юной соискательнице и повернет ее честолюбивые стремления на другой, более реальный и эффективный путь, что я имею честь ей рекомендовать… Профессор кончил и быстрой подпрыгивающей походкой направился в аудиторию. Слышно было, как залетевшая в окно ночная бабочка билась крылышками о матовый колпак лампы. Профессор, шаги которого гулко раздавались в притихшей аудитории, подошел к седоволосому соседу министра и сел рядом с ним. Тот демонстративно встал и, извинившись перед Василием Климентьевичем, прошел в задние ряды. Профессор, растерянно улыбаясь, смотрел ему вслед прозрачными голубыми глазами. У него дернулась щека. Он заморгал ресницами и опустил голову, потом, раздвинув острые колени, облокотился на них, зажав ладонями виски. В течение всего времени, когда выступали ученые, пожелавшие изложить свои взгляды на использование сверхпроводимости, министр все приглядывался к старому профессору. Посматривал он и на Марину. Заметил, как выбежала она в коридор сразу после окончания речи неожиданного оппонента, как вернулась оттуда с красными глазами. На защите диссертации Марины Садовской разразился научный спор. Столкнулись разные течения и забурлили яростные штормы волновых теорий, квантов, магнитных вихрей и мириад электронов. Защита превратилась в диспут, которому не видно было конца. Но вряд ли слышал эти выступления старый профессор. Наконец он встал и неровной, спотыкающейся походкой направился к выходу. Министр поднялся и тоже вышел в коридор. В коридоре у окна стояла Марина и кусала до крови губы. Министр подошел к ней и сказал: — Так. Марина не подняла глаз. — Провалилась я, Василий Климентьевич! — Этого я пока еще не знаю… — Но ведь он говорил прекрасно! Я совершенно уничтожена… — Да, — сказал министр и помолчал. — Он говорил прекрасно, даже с излишней страстностью, пожалуй, но об уничтожении говорить преждевременно. Марина выпрямилась и постаралась улыбнуться. — Конечно, я понимаю, что это не может повлиять на решение Ученого совета, но все же обидно, Василий Климентьевич… Последние слова она прошептала одними губами, без дыхания. Министр все же услышал, но, кроме того, он услышал звук чьего-то грузного падения. Когда Марина подняла глаза, то увидела широкую спину бегущего министра. Резким движением она бросилась за ним. Поперек коридора, неуклюже согнув колени и уткнувшись лицом в толстый ковер, лежал профессор. Из аудитории доносилась монотонная речь выступавшего. Как ни спешили министр и Марина, кто-то, все же опередив их, уже склонился над профессором. — Я попрошу помочь мне поднять больного, — сказал, не оборачиваясь, низенький человек. Втроем они с трудом подняли профессора и посадили на диван. — Пульс очень плох! Этого следовало ожидать… Ведь у вас, наверно, есть машина? Надо его доставить домой. — Я уже дал распоряжение отвезти профессора. — Вот и чудесно! Он, знаете ли, такой чудак, никак не хочет иметь прикрепленной машины. — Знаю, — сказал министр. Пока доктор говорил, руки его были в деятельном движении. Он поймал пенсне, расстегнул профессору ворот и жилетку, достал из своего кармана стерилизованный шприц в упаковке и что-то впрыснул больному. Положив шприц обратно в коробочку, доктор потер ладонь о ладонь, потом обеими ладонями — лысину, наконец, быстрыми и нежными движениями стал делать профессору массаж. Увидев, что министр наблюдает за его руками, доктор сказал: — Товарищ министр, есть древняя индийская поговорка, что врач должен иметь глаз сокола, — доктор поправил пенсне, — сердце льва, — доктор прижал обе ладони к груди, — и руки женщины! — С этими словами доктор принялся снова растирать профессора. Марина стояла молча, наконец сказала тихо: — Позвольте мне отвезти его. — Нет, ваше место здесь. Я сам поеду с ним, — сказал министр. Марине показалось, что министр хочет еще что-то сказать ей. Она выжидательно смотрела на него. — Я предвижу исход сегодняшней защиты, — сказал он. — Предвидите? — насторожилась Марина. — Каков бы ни был этот исход, я хочу взять с вас слово. — Готова, Василий Климентьевич. — Прошу вас остаться стойкой. — Вот как? — Лучше всего вам поехать куда-нибудь. Ненадолго. К друзьям, родственникам… — У меня бабушка в Бресте. — В Бресте? Совсем хорошо. Побываете там в крепости. — Непременно. — Поклонитесь там праху героев. И от меня… — И министр повернулся к доктору, который осторожно помогал профессору подняться. Почти повиснув на руках доктора и министра, профессор, едва передвигая ноги, прошел к автомобилю и послушно сел в него. Он все время робко и виновато улыбался, как будто сделал что-то страшно неприличное. Стоя на крыльце, Марина смотрела, как увозили беспомощного человека, час назад уничтожившего ее. Наконец она обернулась. Перед нею стояла Надя с округлившимися глазами. — Какой ужас! — пролепетала она. — Ты знаешь? Они не присудили тебе степени доктора! Какой ужас! Что же теперь делать? — Я уезжаю. — Куда? — В Брестскую крепость. Потом к бабушке. — В Брестскую крепость? Какой ужас! Марина даже не зашла в институт, чтобы узнать официальное решение Ученого совета, она прямо проехала домой, послав Надю за железнодорожным билетом до Бреста. Автомобиль министра вез больного профессора в его квартиру. Старик привалился в углу, маленький доктор держал его за руку и все время вполголоса что-то говорил. Министр внимательно смотрел на странного старика и пытался вспомнить, где мог видеть его раньше. Он твердо знал, что до сих пор они никогда не встречались. Конечно, он мог видеть портреты знаменитого профессора, но не внешние черты казались ему знакомыми. Знакомы были какие-то неуловимые жесты, манера говорить, двигаться… Еще думал министр о провале диссертации Марины. Он чувствовал себя ответственным за этот провал, ибо именно он навел ее на мысль пойти по принятому в диссертации пути. Неужели он ошибался? Имел ли он право портить научную карьеру девушки ради проверки своих давно забытых снов? «Имел», — в конце концов решил министр. Должно быть, он стал стареть. Во время гражданской войны он не ставил перед собой вопроса, имеет ли он право послать в разведку… любимого человека. Министр вздохнул. Доктор удивленно обернулся к нему. — Да, это разведка, — неожиданно вслух сказал министр. — Вот именно! Я всегда говорю, что диагноз — это то же самое, что разведка. А лечение — это уже атака. Наши пилюли — снаряды, наши советы — дурманящие газы, а наши операции — штыковой бой! Я всегда это говорил. Министр не мог сдержать улыбки. Доктору удалось отвлечь его мысли от той разведки, в которую он когда-то послал свою жену…Глава VIII. МИРНАЯ ОХОТА
Приглашенные главой мирового военного концерна мистером Фредериком Вельтом военные эксперты крупнейших капиталистических стран ночевали в Ютландском замке. Будить гостей начали рано. Заря в это утро была серая, без красок, словно карандашом нарисованная на небе. Просто часть неба стала менее темной, будто на нее легло меньше карандашных штрихов. Когда постучали к англичанину, он уже брился. Через несколько минут, свежий, затянутый в новый френч, надушенный и надменный, он вышел в коридор. Навстречу ему шел Бенуа: — Бон жур, мон ами! Как провели вы ночь? — Плохо, — поморщился Уитсли. — Почти уверен, что вам снились огненные облака. Англичанин холодно усмехнулся: — Признаюсь вам, об этих летающих массах огня мы имели донесения еще в 1914 году. — А, вот как! — изумился француз. Англичанин пожал плечами; — Они были замечены в Америке, в Аппалачских горах. Однако после происшедшей там катастрофы все следы пропали. — Так-так-так… — задумчиво проговорил Бенуа. — А я, знаете, тоже плохо спал. Мне почему-то приснился наш хозяин в виде владельца парижского модного магазина. Он приказывал хорошеньким девушкам демонстрировать мне новые модели платьев. — Словом, вы хотите сказать, что даже во сне он продолжал вам демонстрировать свои модели. Они молча пошли по каменным плитам коридора. «Золотой генерал», как завистники прозвали генерала Копфа после выхода в отставку, которую он очень тяжело переживал, отвык вставать рано. Поэтому его бывшему адъютанту, сопровождавшему своего старого патрона в эту поездку, пришлось долго будить почтенного военного эксперта. Проснувшись, Копф потрогал на ночной рубашке орден, который он ценил больше всего на свете и никогда с ним не расставался, выполняя старую клятву, данную фюреру при его получении. Это был простой, суровый, железный орден. Копф погладил грудь и зевнул: — Неужели пора? А мне казалось, что я не успел еще заснуть. — Около пяти часов. — Точнее, адъютант! Точнее! Надо быть абсолютно точным. — Без семи с половиной минут пять. — О-хо-хо! Будем, как викинги! Однако, попробовав ногами пол, Копф покачал головой: — Наш радушный хозяин мог бы растрясти свою скупость и купить коврик за семнадцать марок! А? Как вы думаете, адъютант? — Совершенно верно, ваше превосходительство. Копф снова зевнул: — А что верно? Ничего вы не понимаете! Знаете ли вы, молодой человек, что наш хозяин ничего не смыслит в коммерции? От удивления адъютант чуть было не потерял своей выправки, которой так гордился. Копф спустил на пол вместо ковра одеяло и стал делать гимнастику. Хитро поглядывая на адъютанта, он сказал: — Разве это коммерсант? Зачем он собирает военных экспертов разных стран? Очевидно, он хочет продавать свои изделия. Ну что ж, хорошо, против этого трудно возражать. Американцы всегда продают свою военную продукцию. Это у них основной вид экспорта, как для Бразилии кофе. С рекламными целями он демонстрирует военным экспертам замечательные модели, разработанные на его заводах. Очень хорошо! Но согласитесь, что бессмысленно, мой дорогой, демонстрировать такое средство истребления, которое превосходит, а может быть, и исключает все до того показанное. О нет! Коммерсант не должен был бы так поступать! Генерал в отставке кончил свою гимнастику. — У него что-то на уме! Сегодня он устраивает охоту… — Копф выглянул в окно. — Ха-ха! Клянусь Вотаном, я ничего не вижу, кроме лугов! Не хочет ли наш хозяин охотиться на полевых мышей? — Совершенно верно. Я полагаю, что ваше превосходительство не будет иметь возможности убить здесь рогатиной своего восемнадцатого медведя. — Или триста сорок шестого кабана. — Совершенно верно: или триста сорок шестого кабана. — Давайте шкатулку. Величественный Копф, тщательно соблюдая очередность, стал надевать ордена. Не уместившиеся на его груди он оставил в шкатулке. Пять минут спустя, откинув назад красивую седеющую голову, он вошел в полутемный холодный зал со стрельчатыми окнами. Со стен тускло смотрели почерневшие портреты храбрых рыцарей, когда-то поддерживавших в стенах этого замка славный дух войны, в столь своеобразной форме возродившийся здесь вновь. С потолка зала, по непонятной прихоти владельца, свисали провода высокого напряжения. Под портретами и проводами, разбившись на небольшие группки, прогуливались военные эксперты крупнейших капиталистических стран, приглашенные архимиллионером Вельтом для участия в великосветской охоте. В зале среди военных были также и дамы. Одна из них, высокая брюнетка, непринужденно беседовала с седобородым японцем. Бросалась в глазанеестественная бледность ее лица. В двух шагах от нее в позе высшей готовности выполнить любой приказ стоял атлетического вида человек, не спускавший с нее глаз. Иногда она мило улыбалась ему, беседуя с японцем и кивая другим гостям. Копф, еще более откинув назад голову, подошел к ним и с достоинством приветствовал японского генерала и его даму. Японец блеснул стеклами своих золотых очков и ответил длинно и витиевато. Брюнетка едва кивнула и сразу заинтересовалась другими гостями, но так же быстро повернулась обратно. Это была жена владельца замка, блистательная итальянская аристократка Иоланда Вельт. А при ней состоял, чтобы угадывать ее желания, любимец ее мужа и его секретарь мистер Тросс. «Золотой генерал» направился теперь к другой даме, полной блондинке, еще издали улыбавшейся ему. Подойдя к ней, он приложился к пухлой ручке с позолоченными ногтями. Эго была подруга Иоланды, Шарлотта, жена одного из директоров концерна Вельта. Блестящее общество оживленно болтало. Звуки голосов, мешаясь под сводами, превращались в гулкий и нестройный шум. Вдруг все разговоры разом стихли. В зал вошел владелец будущих вооружений армий мира Фредерик Вельт. Как и при посещении Ганса Шютте, у него были желтые гетры на тонких ногах. — Господа! — объявил он гортанным голосом. — В знак стремления к миру всех здесь собравшихся мы сейчас превратимся в охотников! Машины ждут нас. В зале появилось несколько лакеев, одетых в шкуры. Они принялись раздавать гостям луки и колчаны со стрелами. Ими неслышно руководил Тросс. Генерал Копф повертел в руках лук и оглянулся на адъютанта: — Что вы скажете? А? — Это лук, ваше превосходительство. — Ну я знаю, что лук! Оружие нибелунгов. А это? — Колчан со стрелами, ваше превосходительство. — Его превосходительство, наверно, не привык к подобному оружию, — вмешалась Шарлотта, поведя тщательно нарисованной бровью. — Первобытная рогатина — снаряжение северного охотника — или современный истребитель! Не так ли, ваше превосходительство? Адъютант сверкнул своим безукоризненным пробором и сказал: — Его превосходительство признавал в свое время и «таубэ». — О-о! Кто ж не знает о легендарных подвигах летчика Копфа! Каждый мальчишка помнит знаменитую цифру: девяносто шесть сбитых за все войны аэропланов, — вставил оказавшийся рядом Тросс. — Девяносто девять, — скромно поправил Копф. — Девяносто девять! — воскликнула Шарлотта. — О, ваше превосходительство! Вы должны сравнять счет. Сто сбитых самолетов! Обязательно сто! Это будет так мило. — Вы угадали мою сокровенную мечту, — сказал Копф. — Я надеюсь, вы будете иметь эту возможность. Однако позвольте мне помочь вам надеть этот колчан. — О-о! Вашими руками я позволил бы даже надеть на себя цепи, а не только оружие против полевых мышей. — Вы ошибаетесь, ваше превосходительство! Я уверяю вас: у нас будет настоящая дичь. — О-о! Крупная дичь уже в ваших руках! — Неужели? А я думала, в руках Иоланды! — ответила Шарлотта, кокетливо прищурив серые глаза. Тем временем военные эксперты, уступая друг другу дорогу, вышли через окованную железом дверь Слегка позванивая шпорами, они спускались теперь по изъеденным веками ступеням. Во дворе стояло шесть автомобилей. — Поддерживающий императорский престол будет счастлив воспоминаниями об охоте, проведенной в вашем обществе, — сказал престарелый японец, усаживаясь в автомобиль. — О, ваше превосходительство! Я рассчитываю пополнить ваши воспоминания рыбной ловлей в Японии. Я так мечтаю посетить вашу сказочную страну! — ответила Иоланда. — Не правда ли, Тросс? Вы отвезете меня туда? — И она указала Троссу на место шофера в своем автомобиле. Тросс молча кивнул. — Японцы не склонны к аллегориям, но в Европе я позволю себе сказать, что наша страна — это цветок, наши женщины — это нежнейшие лепестки, мужчины — упругие стебли, наша жизнь — благоухание! Японец говорил монотонно и скучающим взором рассматривал носки ботинок. Один за другим автомобили выезжали на железный мост. Впереди всех ехали Вельт с Шарлоттой и генералом Копфом. Клочковатые облака сходились в небе гигантским веером. Карандашный рисунок неба потерял свой серый тон, на нем словно расплылась случайно попавшая туда оранжевая краска. Автомобили остановились в буковой рощице против замка. Черные, старые, узловатые деревья тянули к светлеющему небу полусгнившие вершины. Было свежо. В ветвях нестройно чирикали птички. Где-то далеко замычала корова. Видимо, датчане выгоняли на луга свои прославленные стада. Охотники поеживались, с усмешкой глядя на забавлявшее их оружие. От замка по направлению к странному, словно развороченному подземным взрывом холму пронеслись две закрытые машины. — Господа, — объявил Вельт, — автомобили выезжают по очереди через каждые две с половиной минуты. Курс держать между холмом и замком. Стрелять из автомобилей в строгом порядке, условившись между собой. Проверьте оружие, через пять минут начинаем! Тросс выскочил на землю, держа в руках конец телефонного шнура, и подбежал к дереву, где оказалась розетка. Вельт взял разговорную трубку. Крытые автомобили подъехали к заросшим американской сосной остаткам когда-то существовавшего холма. Несколько служителей с перекинутыми через плечо шкурами и доисторическими каменными топорами в руках выскочили на землю. Вельт дал команду. Автомобиль с Иоландой, Троссом и двумя военными экспертами рванул с места. Японец откинулся на подушку, Иоланда закусила тонкие губы и наклонилась вперед. Машина промчалась мимо замка и выехала на луг. Было уже совсем светло, и выскочивший из зарослей холма заяц стал хорошо заметен. Выкидывая задние ноги, показываясь, словно светлое пятнышко от зеркальца, то здесь, то там, он несся прямо наперерез охотникам. Иоланда вся напряглась и еще больше нагнулась вперед. Японец поглаживал бороду. Машина колотилась об ухабы, охотники лихо подпрыгивали на пружинах. Тросс еще прибавил ходу. Все ближе и ближе были заячьи лапы. Сидеть стало почти невозможно. Ветер ощутимым грузом ударял в грудь, в лицо, выдавливая слезы из глаз. Иоланда больно сжала руку старика. Маленькая черная шапочка с красным пером неведомо как держалась на ее гладких волосах. Японец не изменил своего застывшего лица и лишь попытался поправить прыгающие очки. Заяц почему-то не менял взятого направления и мчался по прямой. Тросс свернул немного в сторону и поравнялся с зайцем метрах в пятнадцати от него. Иоланда подняла лук и сузила глаза. Раздался легкий звон тетивы. Заяц несколько раз перевернулся через голову и заплакал, заплакал по-ребячьи — жалобно-детским криком.
Тонкие ноздри Иоланды раздувались. Тросс затормозил. Охотница выскочила первая и, слегка нагнувшись, побежала к зайцу. Подняв его за уши, она торжествующе рассмеялась. Потом бросила свой трофей в ноги Троссу. С воткнутой стрелы еще стекала кровь. — Прекрасный выстрел римлянки! — сказал итальянский военный эксперт, сидевший рядом с шофером. — Выстрел, достойный Дианы! Иоланда улыбнулась, обнажив ровные и, наверно, острые зубы. От холма к автомобилю несся второй заяц, показываясь на пригорках и исчезая в ложбинках. Он мчался по той же самой прямой, что и первый. Снова глаза итальянки сузились. — Теперь очередь вашего превосходительства, — сказала она. Заяц приближался. Старик нехотя поднял свой лук и, когда заяц проскочил мимо, не целясь, выпустил стрелу. Стрела полетела было совсем не в зайца, но тут произошла странная вещь. На глазах у всех стрела повернула и погналась за зайцем. Как и первый, этот тоже перевернулся несколько раз через голову, но не закричал. За убитой дичью отправился Тросс. Третьего зайца, совсем не целясь, убил итальянец. Вернее, он даже нарочно пустил стрелу в сторону, но она повернула в пути и настигла несчастного зайца, по необъяснимой причине никак не свертывавшего с роковой прямой. Автомобиль тихо поехал к замку. От холма скакал новый заяц, а наперерез ему мчался автомобиль с англичанином и французом. — Замечательно! — сказал итальянский военный эксперт, рассматривая стрелу. — Значит, в этом наконечнике находится следящий и направляющий фотоэлектрический глаз! Стрела как бы видит свою цель. Замечательно! — Производство фирмы «Вельт», — деловито сказал Тросс. — Замечательная фирма, — невозмутимо заметил японец. Потом добавил: — Первые удачные опыты были проделаны еще полтора года назад. Иоланда удивленно посмотрела на своего соседа. Служители в звериных шкурах, суетившиеся около закрытых машин, увидев, что очередной заяц, как и предыдущие, убит, направились к клетке. Там у стенок все еще жалось с десяток пугливых зверьков. Служитель вытащил за уши беспомощного зайчика и, нежно поглаживая его по спинке, понес к решетчатому параболическому зеркалу. Это зеркало направляло поток радиолучей. Попадавший в этот поток заяц уже не мог больше из него выбраться и сойти в сторону. Вместе со стрелами, летящими наверняка, все это дедало охоту занятием неутомительным, привлекательным и обставленным комфортабельно. Охота была в разгаре. Автомобили один за другим мчались за обреченными жертвами. Каждый военный эксперт выпускал по одной стреле и каждый раз с удовольствием отмечал попадание. Довольные, слегка возбужденные, возвращались охотники в замок. Вдали виднелось стадо мирно пасшихся на лугу коров. По прихоти Вельта, владельца этих земель, арендаторы обязательно должны были выгонять своих коров в поле для оживления сельского пейзажа, а не держать их в усовершенствованных стойлах. Солнце давно взошло, поднялся ветер, столь обычный для Ютландии, продувающий ее от моря до моря. Ведя машину твердой рукой, Тросс непринужденно объяснял как бы Иоланде, но адресуясь, конечно, к сидящим сзади экспертам: — Надеюсь, никому не составит труда представить себе, что такие устройства могут быть помещены не только на игрушечных стрелах. Придерживая рукой срывающуюся фуражку, итальянский эксперт глубокомысленно заметил: — Думается, что такое видящее и направляющее фотоэлектрическое устройство может иметь место на любом снаряде, ракете, летающей торпеде… — О да! — сказал японский военный эксперт. — Фирма господина Вельта блестяще продемонстрировала нам свои достижения. Гости въезжали в замок. Сзади них ехали автомобили с радиостанцией и пустыми клетками. Содержимое клеток перекочевало теперь в ноги к «бравым» и «метким» стрелкам. Через два часа развеселившихся и проголодавшихся охотников ждал ленч, приготовленный из убитой ими дичи.
Глава IX. ОТКРЫТЫЙ СЕЙФ
В неурочный час, когда хозяина заведомо не могло быть дома, доктор Шварцман возился у двери квартиры Кленова. Ключ, сделанный по слепку, неумело снятому доктором, никак не хотел открывать замок. — Может быть, вы думаете, доктор, что годитесь в грабители? — сам себе бормотал Шварцман. — Ничего подобного! И с этими словами он открыл дверь. — Только для истории болезни, — утешал он себя, тихо входя в квартиру. — Нечто вроде рентгена. Доктор снял пальто, вынул из кармана затрепанную книгу по криминалистике и связку отмычек, с помощью которых он рассчитывал открыть тайну профессора. Итак, картина Левитана с изображением тихой речки… Доктор стал ощупывать раму, стараясь найти отверстие для ключа. Но все получилось иначе, чем он рассчитывал. Шаря по раме, он задел кнопку, и картина сама со звоном откинулась. — Кто сказал, что у взломщиков тяжелый труд? Оказывается, ничего подобного! Сейфы вежливо открываются сами собой. Доктор пододвинул стул, уселся на него и стал выкладывать на столик, в который превратилась картина, содержимое сейфа. — Представим себе, что это легкие, — рассуждал Шварцман, сняв пенсне и близоруко заглядывая в первую папку. Увидев там формулы, он отложил ее в сторону. — Нас интересует, — он отодвинул еще две папки, — не столько почки или печень, сколько сердце… В руках у доктора оказалась изящная папка из японской соломки и приложенное к ней письмо, написанное по-русски, но, по-видимому, иностранцем. Шварцман перелистал папку. Ему попались чьи-то рукописи, какая-то фотография, документы — кажется, на датском языке — и вырезки из американских газет. Шварцман озабоченно потер височки, где еще курчавились когда-то густые волосы, потом отыскал в книжном шкафу англо-русский словарь, не очень надеясь на свое знание языка. Перевести с датского он при всем желании не мог. Обстоятельно усевшись за стол, он принялся за изучение находки. Прежде всего он прочитал письмо:РУССКОМУ ПРОФЕССОРУ ИВАНУ АЛЕКСЕЕВИЧУ КЛЕНОВУ, Москва «Примите мое преклоненное уважение, высокопочтенный профессор, и позвольте воспользоваться случаем, чтобы выразить свое восхищенное изумление вашей стойкостью и верностью вашим незыблемым принципам. В торжественный день вашего семидесятилетия почтительно осмеливаюсь послать вам в подарок папку документов, которые в разное время по некоторым причинам попали в мои руки и теперь, конечно, не представляют специфической ценности. Стремлюсь хоть этим выразить вам чувства далекого, но заинтересованного в вашей судьбе друга и коллеги из Страны восходящего солнца».Подписи не было. Шварцман покачал головой. Рукопись оказалась недописанной статьей. Шварцману бросилось в глаза старое русское правописание с твердым знаком и буквой «ять». Размашистый, но аккуратный почерк к концу рукописи менялся. Строки расходились или наезжали одна на другую. Последняя страница обрывалась на полуслове. Брызги чернил рассыпались по недописанному месту. Доктор еще раз взглянул на незнакомое имя какого-то русского профессора, автора статьи, но оно ничего не сказало ему. Рассеянно повертев в руках выцветший любительский фотоснимок, доктор с трудом разобрал на нем чрезмерно загорелую спортсменку в лодке. Он решил, что ее набедренная повязка слишком узка, и покачал головой. Наконец, возмущенно отодвинув от себя фотографию, на оборотной стороне которой было нацарапано: «Тунгусская шаманша», — он принялся за газетные вырезки. Едва начал он их читать, как забыл о приготовленном словаре.
«Нью-Йорк таймс», 1948 год, 21 мая ДЕЛО ПРОФЕССОРА ВОНЕЛЬКА «Мистер Джон Аллен Вонельк, известный физик, бывший профессор Корнельского университета, отказался отвечать на вопросы Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, куда он был вызван для дачи показаний как подозреваемый в сочувствии коммунизму. Профессор Вонельк присужден к годичному тюремному заключению за оскорбление американского конгресса».По-видимому, в газете был помещен портрет профессора Вонелька, но ножницы, вырезая текст, аккуратно обошли фотографию. Следующая вырезка, очень старая, пожелтевшая, относилась к 1916 году. Название газеты не было записано.
ТРОЕ СУТОК С ПРОБКОВЫМ ПОЯСОМ «Еще одна жертва гнусного пиратства германских подводных лодок. Как известно, три дня назад ими был потоплен американский пароход „Монтана“, плывший из Европы в Нью-Йорк. Пароход затонул в сорока милях от американского берега. Подошедшим судам удалось спасти сто двадцать семь человек, в том числе семьдесят пять женщин и детей, высаженных с корабля в шлюпках. Розыски продолжались. На второй день было найдено еще пять человек, из которых лишь двое выжили. И вот спустя трое суток после гибели „Монтаны“ в том же районе был обнаружен еще один человек, вконец измученный, потерявший человеческий облик. Пробковый пояс продолжал поддерживать его на воде. У врачей было мало надежд, что спасенный будет жить. При нем оказались промокшие документы, на которых с трудом удалось разобрать имя Джона Аллена Вонелька, американского гражданина. Ни года его рождения, ни штата, где он родился, разобрать не удалось. Проверить это по спискам пассажиров „Монтаны“, к сожалению, оказалось невозможным, потому что эти списки погибли неделю назад во время пожара в Шербурском порту. Мистер Вонельк находится в бессознательном состоянии и доставлен в одну из нью-йоркских больниц. Достоин восхищения патриотизм американских женщин. Нашлось четырнадцать девушек, которые оспаривают право дежурить у постели несчастного молодого человека, так много пережившего».На снимке было запечатлено изможденное лицо, которое вполне могло быть сфотографировано в морге. Следующая вырезка была сделана, по-видимому, из этой же газеты и относилась к тому же времени.
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ПОЛНОЙ ПОТЕРИ ПАМЯТИ «Наши читатели, несомненно, интересуются судьбой молодого человека в пробковом поясе, спасенного после гибели парохода «Монтана». Мистер Джон Аллен Вонельк пришел в себя, когда около его постели добровольно дежурила мисс Мэри X., просившая не опубликовывать ее фамилию. Благочестивая девица с материнской заботой ухаживала за несчастным. Обнаружив, что он пришел в себя, она стала молиться, а потом расспрашивать больного. Оказалось, что мистер Вонельк полностью лишился памяти. Он с трудом вспомнил свое имя, но не мог назвать ни родных, ни города, где живет, он забыл даже свою поездку в Европу и гибель парохода. Врачи заинтересованы любопытнейшим случаем, когда потрясение вызвало столь полную утрату памяти. Мистер Джон Вонельк говорит по-английски превосходно, но с чуть заметным славянским акцентом, что можно объяснить его фамилией, очевидно, чешского происхождения. Никто из родственников Джона Вонелька до сих пор не дал о себе знать. По-видимому, вся его семья погибла вместе с пароходом «Монтана». Американский фонд помощи жертвам войны среди гражданского населения объявил о том, что он принимает на себя попечение о Джоне Аллене Вонельке, после спасения рожденном вновь».
«Нью-Йорк таймс», 1 июля 1918 года «Америка славится рекордами. Однако случай в Корнельском университете не имеет себе равных ни в одной из известных нам областей. Новое своеобразное достижение принадлежит студенту Джону Аллену Вонельку, который закончил полный курс университета в небывало короткий срок — за полтора года, удивив экзаменаторов глубиной знаний. Это тем удивительнее, что феноменальный студент оказался тем самым Джоном Вонельком, о котором писали два года назад как о человеке, полностью потерявшем память после кораблекрушения. Профессор Ройтон склонен считать, что, помимо природной одаренности студента, мы сталкиваемся здесь с любопытным медицинским случаем. Мозг человека оказался совершенно лишенным оков памяти, мозговые клетки свободны для новых впечатлений и восприятий. Не ощущая тяжести воспоминаний, Джон Вонельк прекрасно запоминает теперь все новое и, вероятно, в будущем сможет показать поистине необыкновенные успехи. Многие психиатры высказали желание познакомиться с феноменом. Цирковые импресарио предлагали ему выгоднейшие контракты, но Джон Вонельк отказался и от популярности, и от предоставления себя для исследования. Он видит иной путь служения науке, поскольку получил приглашение ректора университета остаться при кафедре. Будущий ученый поделился с нашим репортером своими планами. Он заявил, что выберет для исследований область знаний, наиболее далекую от практических дел человечества, его интересует такая абстрактная проблема, как строение атома».
«Чикаго дейли ньюс», 13 мая 1932 года «Профессор Корнельского университета мистер Джон Аллен Вонельк, первый современный «алхимик» Америки, получивший в своей лаборатории искусственное золото из ртути, внезапно показал себя совершенно неделовым человеком. Как уже сообщалось, банкирам Уолл-стрита не было оснований бояться обесценивания их золотых запасов. Профессор Вонельк не без американского юмора заверил их, что производство искусственного золота при помощи ядерных превращений не бизнес для делового человека. Унция искусственного золота даже при налаженном производстве обойдется в баснословную сумму. Это заявление ученого своеобразно отразилось в высшем обществе. В моду у женщин вошли украшения из искусственного золота. До сих пор самым дорогим украшением считались брильянтовые серьги, но теперь им найдена достойная замена; ныне драгоценные камни лишь служат оправой для крупинок искусственного золота. Уникальные серьги принадлежали супруге самого Джона Пирпонта Моргана Пятого. Искусственное золото было поднесено ему в дар университетом как одному из основателей и главных жертвователей. Купить такое золото невозможно. Подделка исключена, ибо сам факт изготовления и передачи искусственного золота — крупнейшее событие для прессы и делового мира. Но сенсация на этом не закончилась. Влиятельный финансовый магнат, в прошлом тоже физик, очевидно готовый ныне спорить с самим Морганом, мистер Фредерик Вельт заказал профессору Вонельку изготовить искусственное золото для браслета, предназначенного в подарок английской королеве. Работа профессора была оценена в миллион долларов. Мистер Вонельк ответил решительным отказом. Современный «алхимик», несомненно, отличается странностями. Стоит вспомнить его необычайную биографию. Толкуют, что в свое время он терял память, вслед за чем снова учился грамоте, проявив очень слабые умственные способности. Отказ от миллиона долларов свидетельствует о новом приступе заболевания мистера Джона Вонелька».
«Вашингтон пост», 20 мая 1932 года «Наш репортер посетил профессора Корнельского университета мистера Джона Аллена Вонелька, отказавшегося изготовить за миллион долларов в своей лаборатории искусственное золото для браслета, предназначенного мистером Фредериком Вельтом в подарок английской королеве. Мистер Джон А. Вонельк — убежденный холостяк. Ему 44 года. Он высок, худ, немного сутулится. Фотографировать себя он не позволил, поэтому мы приводим его снимок с лицом, прикрытым рукой. Мистер Вонельк живет в маленькой одинокой квартирке и известен у соседей своим аскетизмом. Судя по его скромным расходам, он должен был скопить за годы своего профессорства немалую сумму, хотя в нашей стране ученому платят меньше, чем полицейскому. На наш вопрос, какую пользу смогут принести человечеству его работы по созданию искусственных элементов, мистер Вонельк ответил, что польза от его работ заключается в том, что они не приносят человечеству вреда. Несмотря на этот странный ответ, предположение о слабоумии профессора не подтверждается. Он производит впечатление весьма здравомыслящего, но лишь немного раздражительного человека».
«Сан», 20 июля 1935 года ЗНАМЕНИТЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ФИЗИК РЕЗЕРФОРД ПОСЕЩАЕТ АМЕРИКАНСКИХ УЧЕНЫХ «Великий английский ученый лорд Резерфорд во время пребывания в Корнельском университете несколько часов провел в лаборатории теоретической физики, беседуя с профессором Джоном Алленом Вонельком. Лорд Резерфорд был восхищен своим собеседником, заметив, что ему редко приходилось встречаться с изумительными экспериментаторами, осуществившими такие опыты, которые не удавались ни Резерфорду, ни его самым талантливым ученикам. Лорд Резерфорд, прощаясь, пригласил профессора Вонелька приехать в Англию, хотя бы для кратковременной работы в его лаборатории. Покидая США, лорд Резерфорд специально упомянул об американском ученом Д. А. Вонельке, которого он ставит в ряд с виднейшими физиками мира».
Сообщение агентства «Ассошиэйтед Пресс», 2 октября 1943 года «В Корнельском университете удивлены неожиданным уходом в отставку известного физика профессора Джона Аллена Вонелька, двадцатипятилетний юбилей работы которого в университете недавно отмечался. Прекратив свои многообещающие работы, профессор Вонельк перешел на службу в Радиокорпорейшн, предполагая в дальнейшем заниматься лишь исследованиями в области радиофизики. Генерал Маккрам, близкий к Пентагону, заметил, что в тяжелые дни войны с Японией и Германией поступок профессора Вонелька нельзя рассматривать как патриотический. Генерал добавил, что он не имеет в виду исследований Вонелька, которые не представляют никакой военной ценности, но поражен его гражданской недисциплинированностью».
«Нью-Йорк, таймс», 18 ноября 1943 года «Профессор Вонельк, скандально покинувший Корнельский университет, не пожелавший посчитаться с предложенной ему программой исследований, недавно сделал рассчитанный на эффект жест. Он пожертвовал значительную часть своего состояния на закупку оборудования для госпиталя, которое распорядился отгрузить Советскому Союзу. Уместно заметить, что на американскую санитарную службу мистер Вонельк до сих пор не пожертвовал ни доллара».
«Нью-Йорк таймс», 17 марта 1946 года «Профессор Джон Аллен Вонельк, отказавшийся во время войны принимать какое-либо участие в создании атомной бомбы, подписал вместе с некоторыми американскими учеными обращение, призывающее отказаться от использования атомной энергии в военных целях».
«Нью-Йорк таймс», 3 июня 1947 года «Наконец-то начинает проясняться поведение «красного» профессора Джона Аллена Вонелька! На днях Государственный департамент отказал ему в визе на выезд в Советский Союз. Так вот куда стремится крупнейший специалист по ядерной физике, которому известны многие достижения, американской науки! Нетрудно догадаться, какие сведения собирается захватить с собой в виде «невидимого багажа» почтенный профессор, еще во время войны, как утверждают многие, получивший из Москвы значительную сумму за свой уход с работы, связанной с созданием атомной бомбы. Государственный департамент мудро поступил, задержав в США человека неясных политических взглядов, обладающего секретными сведениями».
«Вашингтон пост», 26 мая 1948 года «На прошлой неделе газеты были заняты так называемым делом профессора Вонелька, отказавшегося дать показания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности и попавшего за оскорбление конгресса в тюрьму. Ценное высказывание по этому поводу мистера Фредерика Вельта. Крупный ученый-физик, руководитель промышленного концерна и подлинный сын Америки, мистер Вельт призывает к бдительности. По его мнению, люди типа профессора Вонелька требуют к себе пристального внимания. В поступках Вонелька внимательный наблюдатель легко узнает знакомый почерк. На профессора Вонелька стоило бы посмотреть со всех сторон. Не только его показания, будь они даны, но даже его имя заслуживает подозрения. Быть может, окажется полезным читать его наоборот».Доктор Шварцман в полном изнеможении достал платок и вытер лысину, потом попытался водрузить на нос висящее на шнурке пенсне. Рука его дрожала, пенсне слетело; он не заметил этого. Достав из кармана вечное перо и бланк истории болезни, он написал на нем одно слово: «Vonelk».
Глава Х. СЮРПРИЗЫ ЮТЛАНДСКОГО ЗАМКА
День складывался весело и необычно. Ленч должен был состояться в громадной столовой, где когда-то собирались все защитники замка вместе со своими оруженосцами, пажами, слугами и собаками. Пол в столовой был двух уровней. На более высоком прежде стояли столы для рыцарей, на более низком — столы оруженосцев и пажей. Собакам разрешалось быть и там и здесь. Сейчас в столовой тоже были два стола, но сервирован каждый из них был самым необычайным образом. Собственно, верхний стол даже и не был сервирован. Он был весь уставлен всевозможными колбами и непонятными приборами. Нижний же стол, по мысли, высказанной Вельту Троcсом, был отделан под траншею, так что занимавшие за ним места гости мистера Вельта могли переглядываться только через узкие бойницы. Это вызвало смех и доставило гостям несомненное удовольствие, хотя и служило довольно прозрачным намеком, если принять во внимание отведенное каждому эксперту место. Внезапно гости убедились, что и приборы у них также необычны. Вместо тарелки перед каждым стоял изящный тарельчатый пулемет, вилку заменяла миниатюрная винтовка со штыком, а нож — изогнутая острая сабля. В столовой были только одни военные эксперты. Дамы отсутствовали. Не видно было и лакеев. Все окна были закрыты. Тросс по приказу Вельта лично осмотрел их. После этого Вельт занял председательское место и оглядел своих гостей, слегка прищурив левый глаз. Француз наклонился к англичанину: — Кажется, мистер Вельт собирается угостить нас обедом в стиле не забытых им американских замашек! Кушаний не подавали. Гости рассматривали винтовочки, сабли, тарельчатые пулеметы и переглядывались через бойницы. Вдруг англичанин и француз, оглянувшись на дверь, вздрогнули. Из открытой двери зловеще вползал в комнату знакомый им по вчерашнему дню отвратительный сизо-коричневый дым. Оба хотели вскочить с места. Вельт был неподвижен, старый японец невозмутим, генерал Копф, глядя на них, тоже не двигался. Тогда и Бенуа с Уитсли остались на месте. Дым ровной стеной надвигался на обедающих. Люди закрывали глаза, готовые чихать, задыхаться, погибать. Но внешне все с подобающей военным стойкостью ждали неизбежного. Первым вдохнул газ «золотой генерал», и ноздри его жадно расширились. Он стал вбирать его со свистом, напоминающим свист сталебетонных машин — мегатериев, гнавших газ на параде. Но что это был за газ! Он содержал все умопомрачительные запахи, могущие довести даже неголодного человека до исступления. Тут было все, что могло до предела возбудить, раздразнить, наконец, просто взбесить аппетит. Гости яростно засопели, посматривая друг на друга сквозь бойницы и сизо-коричневую пелену. Послышался звук пропеллеров. Под потолком зала оказались два могучих авиационных мотора, которые подняли своими воздушными винтами такую бурю, что вскоре и следа не осталось от страшного облака этой необыкновенной газовой атаки. Гости отчаянно захотели есть. Фредерик Вельт поднялся. Тут каждый из гостей заметил, что во время газовой атаки около него появилась сделанная в форме пушки бутылка с вином. Чтобы откупорить ее, вероятно, надо было выстрелить пробкой. Поистине этот ловкий помощник Вельта неистощим на выдумку! Мистер Вельт подал пример. Его пушечная бутылка выстрелила, и пробка полетела в потолок. — Джентльмены! Я пригласил вас в свои владения для того, чтобы доказать, что техника и наука стоят на службе ваших интересов и могут дать в руки правительств любых государств все необходимые средства для торжества цивилизации во всем мире. Я надеюсь, что помыслы всех представляемых вами стран — моих заказчиков — направлены в едином стремлении к великой цели осуществления высших идеалов человечества, которое сможет жить в нерушимом мире. Артиллерийский залп полетевших в потолок пробок был ему ответом. Одновременно раздался грохот, напомнивший гостям недавний парад. В зал въехала модель сухопутного броненосца, доверху нагруженная испеченными в форме снарядов хлебцами. Когда броненосец объехал вокруг стола и все запаслись необходимым количеством «боеприпасов», мистер Вельт продолжал: — С прискорбием я замечал, что выполнение священных обязанностей цивилизованных стран постоянно задерживалось необоснованным страхом перед будто бы мощными вооружениями идейно противной стороны. Армии мира почему-то стали испытывать страх перед, красными странами, а наши правительства стали чрезмерно считаться с ними, проводить пагубную политику разрядки напряженности, умиротворения и сближения с коммунистическими странами, ставя их на один уровень с подлинно передовыми и цивилизованными государствами. Этим заблуждениям я решил положить конец во имя всеобщего нашего стремления к миру и спокойствию. Снова раздался треск, и в столовую вползли маленькие танки-черепахи. Каждый из них был нагружен блюдом с зайчатиной. Гости снимали эти блюда на ходу, а черепахи, продефилировав по столовой строго заданным маршрутом, удалились. Бенуа от удивления прозевал взять свою порцию и едва догнал танк у самого выхода, откуда вернулся с победоносным видом. Гости, доведенные ранним вставанием, охотой, голодом и газовой атакой до бешенства, с остервенением накинулись на еду. Один лишь Вельт не ел: — Представления ваших правительств ложны! Я продемонстрировал перед вами на плац-параде то, что может сделать ваши армии непобедимыми, вернее, всепобеждающими. Наука, дающая в ваши руки новейшие средства войны, должна отныне направлять политику, она должна вмешиваться в человеческие отношения и установить справедливость на Земле… Свою жизнь я посвятил раскрытию двух тайн науки, не уступающих по значению тайне атомной энергии. И вот одна из этих величайших тайн человечества снова в моих руках, как была когда-то моей много лет назад в Аппалачских горах Америки. Англичанин переглянулся с французом. Японец поправил очки и бросил на Вельта быстрый взгляд. — Вы первые, кому я изложу сущность огненного облака и продемонстрирую ряд невиданных еще на земле опытов. И среди всеобщего молчания Вельт поднялся на возвышение и подошел к столу с расставленными колбами. Тросс поднялся за ним следом, чтобы ассистировать ему. Гости мистера Вельта с содроганием смотрели на проходившую перед их глазами химическую реакцию, и страх, невольный щемящий страх, заползал в сердце каждого. — Джентльмены! — сказал Вельт, опуская засученные рукава. — Вот перед вами подлинное величие науки. Простая химическая реакция с веществом, повсеместно окружающим нас, с веществом, которым мы дышим, которое, как рубашка, предохраняет от межпланетного холода нашу Землю, — простая химическая реакция с этим веществом дает в наши руки могучее средство, какому нет равных даже в атомном арсенале. Мы в силах создавать не только летающие облака огня. Мы в состоянии зажечь целые стены пламени вдоль границ цивилизованного мира и двинуть эти стены на наших заклятых врагов во имя воцарения мира на земле. Для этого потребуется только фиолетовый газ с острова Аренида, неограниченным владельцем которого является мой концерн. Лишь в присутствии этого фиолетового газа возможна упомянутая мной химическая реакция горения. Газ способствует течению реакции, не расходуясь в то же время сам. Он является только катализатором… Некоторые из военных экспертов встали со своих мест и подошли к столу с колбами. К Вельту приблизился седобородый японец. Он долго смотрел на серое вещество, осевшее на дне одной из колб, где только что произошла реакция горения. — Так вот какой этот шестой окисел! — сказал японец. — Да, — ответил Вельт, — чтобы найти его, я потратил десятки лет своей жизни, но получил сегодня возможность указать миру его путь. Японец наклонился к Вельту и тихо сказал: — Я очень рад, мистер Вельт, что хоть через несколько десятков лет, но получил все-таки от вас ответ, в чем состояло открытие ассистента профессора Холмстеда — таинственного Ирландца. Лицо Вельта передернулось: — Кто вы? Что хотите вы сказать? — О-о! Только то, мистер Вельт, что я восхищаюсь вашей энергией, вашим упорством — словом, всеми теми вашими качествами, в которых я имел уже случай убедиться во время наших прежних встреч в 1914 году. Вельт нахмурился, внимательно вглядываясь в черты седобородого. Так и стояли эти два старика… И в далеких уголках памяти всплывала другая сцена, когда эти же два человека готовились к борьбе за право жить. — Возможно ли? Вы и… — начал Вельт. — Да, мистер Фредерик Вельт: я и слуга Кэд — одно и то же лицо. Ваш бывший противник, коллега, а ныне заказчик, покупатель, единомышленник и друг, представитель старой Японии и поклонник сильных средств. Задвигались морщины на дряблом лбу старика Вельта. Он нехорошо усмехнулся и протянул руку. Его левый глаз был прикрыт больше правого, как бы напоминая о старом шраме, нанесенном ему его же собственным стеком в руке японца. Генерал Кадасима пожал протянутую руку. — Каждый крупный заказчик — мой друг, — сказал Вельт. Эту сцену молча наблюдал почтительно застывший Тросс. Гости, перешептываясь, возвращались к своим местам. Фредерик Вельт снова подошел к столу: — Джентльмены, военные эксперты и представители передовых стран! Как я сказал уже в своем вступлении, вооруженная последними достижениями наука должна взять в свои руки мировую политику и направить ее в то русло, которое поведет народы мира к подлинному счастью и благоденствию. На теле нашей планеты существует пятно страшной проказы. Это пятно, угрожающее благополучию всего остального мира, должно быть устранено. Для этой цели я предлагаю вниманию ваших правительств свой «план огненной метлы», о технической осуществимости которого вы и доложите своим правительствам. Джентльмены! Мало победить коммунизм! Мало поставить на колени ненавистные коммунистические страны! Дело не в военной победе, джентльмены, а в полной дезинфекции, то есть в мере чисто санитарного порядка. Я дам вашим правительствам все виденные вами вчера вооружения. Но, кроме этого, для священного похода против мировой заразы взамен стального оружия, которое опасно, так как солдаты могут применять его по своему усмотрению, я дам вам движущиеся стены огня, и они огненной метлой выметут все зараженные пространства. В дальнейшем эти дезинфицированные и освобожденные области будут заселены новыми людьми, необходимыми для обеспечения деятельности предприятий, создание которых возьмет на себя наряду с вашими правительствами мой концерн. Я согласен на равных правах с передовыми странами нести все тяготы и расходы по освоению освобождаемых земель. В ближайшее время мне будут доставлены новые запасы фиолетового газа, достаточные для окружения владений коммунизма сплошной огненно-фиолетовой стеной… Эксперты испуганно смотрели на автора страшного плача «огненной метлы», стремящегося создать сбыт своей продукции. А он продолжал: — Я понимаю, что вы не правительства своих стран. Вы только военные эксперты! Но через вас хочу я передать политическим руководителям ваших стран свой призыв к забвению споров между собой, к отказу от политики умиротворения, к священной войне против коммунистов — губителей частной собственности и цивилизации! В моих руках наука, которая может отныне повелевать миром. Я играю в открытую, джентльмены, я показал вам свои товары, которые правительства могут приобрести, руководствуясь величайшими гуманными целями спасения человечества. Мало этого: я указал вам неисчерпаемую область их применения. Я предлагаю тост, джентльмены, за тот факел, который выжжет язву коммунизма на нашей планете, тост за соединение наших идущих с востока и запада огненных стен на Урале, тост за очищение от продуктов горения органических и неорганических тел вновь освобождаемых земель будущих колоний ваших держав! За мир на земном шаре! Мистер Вельт осушил свой бокал и, словно присматриваясь, уставился своим прищуренным глазом на опустивших головы гостей.ЧАСТЬ ВТОРАЯ. АРЕНИДА
Жаль, что ученые слишком часто играют с огнем, не понимая последствий этой игры для человечества.
Глава 1. РЖАВЫЕ СКАЛЫ
Любимец Вельта и его доверенное лицо мистер Тросс, одетый в белоснежный костюм, стоял на палубе яхты и смотрел в море. Неподалеку от него болтали моряки. — Тысяча три морских черта! — проворчал просоленный и выветренный бризами человек, переложив трубку из одного угла рта в другой. — Когда я вижу твою чугунную сковородку, мне приходит на ум старая история! Негр-кок блеснул белыми зубами. Два матроса подошли поближе. Еще бы! Боцман опять хочет что-то рассказать. Старенькая яхта, недавно вышедшая из капитального ремонта, неслась в свой тихоокеанский рейс, как, бывало, на увеселительную прогулку мистера Вельта-старшего, с прежней легкостью, пиратской скоростью и юным изяществом в дряхлом теле. — Расскажите нам, дядя Эд! — попросил матрос. — Когда же наконец мне надоест услаждать ваши дырявые раковины? — заворчал моряк, выколачивая трубку. — Ну, поверните свои уши на три румба. Матросы и кок уселись на связки каната. Теплый ветер изредка доносил влажные брызги. — Пусть кошка научится плавать, если с того времени прошло мало лет! — начал боцман. Ганс Шютте вышел из своей каюты. Подражая истым морякам, он широко расставил ноги, похожие на бревна, облокотился о борт и с шумом вдохнул в себя свежий воздух. Ветер фамильярно трепал его куртку, а Ганс Шютте смотрел на него, если только на ветер можно смотреть, и усмехался, словно у него было что-то на уме. Да, Ганс Шютте смотрел именно на ветер, на воздух, на морскую смесь кислорода и азота, которую с легким гудением продолжал вдыхать. Вдоль палубы, постукивая косточками пальцев по деревянной обшивке, опустив голову с торчащей шевелюрой, шел невысокий человек. Шютте вытянулся и громоподобно приветствовал его. Тот поднял усталое лицо с остренькой черной бородкой, молча кивнул. Удаляясь, он продолжал постукивать пальцами о стенку. Если переборка в каком-нибудь месте кончалась, он не обращал на это внимания, продолжая выстукивать свою дробь в воздухе. Когда, трираза обойдя палубу, человек этот наконец заметил, что у перил стоит не кто иной, как Тросс, он остановился. — О, мистер Тросс! Не могу отделаться от ощущения нереальности всего, что происходит со мной, с нами… — Тем не менее это вполне реально, — отозвался Тросс. — И вполне реально следом за нами идет караван кораблей во главе с «Голштинией» с людьми и грузами. Через десять дней они будут здесь. — Я часто вспоминаю о нашем разговоре на закате… и стихи вашего поэта. Почему вы сказали тогда: «В сто тысяч солнц закат пылал»? — Потому что, профессор, вижу две стороны применения вашего открытия… Не только вездесущее топливо, но и вездесущий огонь… — Он не может быть вездесущим, мистер Тросс, пока я один владею «воздушной спичкой». Меня не так-то легко заменить. Ведь потому я и здесь, в этой экспедиции, которую хочу контролировать. — Вы не сможете контролировать всех действий Вельта. Если бы вы, проф, доверились мне, я сумел бы укрыть и вас, и ваш секрет от любых глаз. — Вы хотите, чтобы я открыл его вам? — О нет! Я не специалист. — Я бы очень хотел довериться вам, Тросс, но… мне нужно сделать для этого последнее усилие. Ведь вы доверенное лицо мистера Вельта. Не так ли? — Очевидно, мистер Вельт уже сделал то усилие, которое вы лишь хотите сделать. — И он доверился вам? — Потому я и беседую с вами на его яхте, близ его острова, очень далеко от него… — Но можем ли мы с мистером Вельтом доверять одному и тому же лицу? — вкрадчиво спросил Бернштейн. — Вы сможете это сделать, если будете знать больше мистера Вельта. — Я бы этого очень хотел. — Поверьте для начала в то, что у меня найдется средство сделать вас недосягаемым для всех. — Для всех? Но я-то хочу служить всему человечеству!.. — Человечеству вы и будете служить, это я вам гарантирую. — Как имя поэта, который писал о закате? — Маяковский. — Поляк? — Нет, русский. — Вот как? — удивился Бернштейн и проницательно посмотрел на Тросса, потом вежливо раскланялся с ним и снова пошел по палубе. Тросс настороженно смотрел ему вслед. Профессор, заложив одну руку за спину, другой задевая за все попадающиеся предметы, продолжал свой путь, опустив в глубокой задумчивости лохматую голову. Ганс Шютте наблюдал за Бернштейном и Троссом, который остался стоять на своем месте. — Обрабатываешь? — усмехнулся Шютте. — Ну, давай, давай, обрабатывай, обрабатывай. Это по твоей, а не по моей части. До Ганса Шютте донесся раскатистый хохот матросов. — Он резко обернулся и прислушался. — Пусть проглочу я морского ежа и он начнет во мне кувыркаться, если я не второй раз в жизни отправлюсь в такой проклятый рейс! Первый раз моим единственным пассажиром тоже был профессор. Он нанял мой моторный бот в Ливерпуле для увеселительной прогулки. Уплывали мы очень весело, тайком, ночью… и увеселялись до самой Арктики… Ганс приблизился на несколько шагов: — Эй, дядя Эд! Что вы тут врете про Арктику и ливерпульского профессора? — Пусть язык мой заржавеет, как старый якорь, если вру, мистер Шютте! Мне очень не хотелось отправляться в рейс с одним-единственным пассажиром. Я знал, что у моего отца, старого шкипера, именно такой рейс и был последним. Однако мистер Вонельк заплатил мне вперед хорошую сумму, на которую можно было купить не одну бочку рому. А я в конце концов свободный моряк… свободный от лишних денег. — Вонельк? — переспросил Шютте. — Англичанин? — Нет, американец. Но он незадолго перед тем получил английское подданство. Кажется, как он говорил, это было нелегко. Будь я колесом на ухабистой дороге, если тут обошлось без дипломатических нот! Этот профессор Вонельк был ценной штучкой, что-то он знал такое, о чем стоило спорить дипломатам. В конце концов его уступили, как племенную лошадь. — Вонельк? — глубокомысленно повторил Ганс. — Куда же вы его прокатили на боте? — Я же вам говорю, сэр, в Арктику. До первой хорошей льдины… Пришлось ее искать на севере Баренцева моря, чуть ли не у самых берегов Земли Франца-Иосифа. Там были уже советские воды, и мне было не по себе. Но когда мы увидели наконец ледяные поля, тут-то и началось самое необыкновенное. Пусть у меня вырастут вместо рук ласты, если мой пассажир не решил уподобиться тюленю! Он потребовал, чтобы я его высадил на льдину. Я готов был лопнуть от изумления, как глубоководная рыба на воздухе. Он забрал радиостанцию, которую захватил из Ливерпуля, теплую палатку, немного продуктов и все-таки перебрался на наиболее симпатичную льдину, согнав с нее огромного тюленя. На обратном пути я видел на горизонте советский ледокол… — Словом, с вашей помощью он удрал от своих боссов, — усмехнулся Ганс. — У меня тоже был такой случай. Только посмешнее. Все затеял шельма-японец! Чтобы устроить побег одному слабоумному и безобидному человеку, он заставил меня с ним вместе вынести на носилках свинью… — Свинью, мистер Шютте? — заинтересовались матросы. — Ну, это было чуть не сто лет назад. Только тогда этот японец смог сыграть на жалости Ганса. Теперь такой номер ни у кого не вышел бы! — Расскажите, мистер Шютте, про свинью. — Еще чего захотели! Не стану я с вами про свинство рассуждать. Что вы тут расселись, лодыри? Развесили уши? Подошедший профессор обратился к Гансу: — Не скажете ли вы мне, уважаемый герр Шютте, какое название носит эта земля на горизонте? Все стали всматриваться. — Пусть меня похоронят на суше, если это не тот самый проклятый остров, о котором рассказывал, мне еще отец! — сказал Эд. — Аренида, — сказал Ганс. — Аренида! — закричали матросы и кок. — Аренида! — прошептал профессор Бернштейн. Смотрел на остров и мистер Тросс, но не выражал своих чувств. Плеск разбивающихся о борт волн и мерное дыхание судовых машин стали необыкновенно отчетливыми. Люди на яхте молча смотрели на поднимающийся, из моря остров. Матросы смотрели с любопытством, кок — с некоторым страхом, боцман — недоброжелательно, профессор — с нетерпением, а Ганс Шютте — с усмешкой. Он подумал. «Вот она, та печка, откуда начнет танцевать новая война!» О чем думал непроницаемый мистер Тросс, никто не знал. Через некоторое время дымчатые контуры начали превращаться в бесформенную массу, похожую на опухоль. По мере приближения яхты из воды стали медленно вырастать голые скалы желтовато-ржавого цвета. С этих скал поднимался странный фиолетовый дым. Немного поодаль он стелился по морю, сливаясь с его синевой. — Там, должно быть, пожар… — сказал негр. — Да нет, какой это пожар! Там, наверно, вулкан, — прервал его один из матросов. — Этот дым, парни, — единственное, что есть на острове, — сказал Ганс Шютте. Вскоре стало заметно, что шершавые скалы покрыты причудливой сеткой глубоких трещин. Отвесные каменные стены спускались к морю, не обещая ни бухты, ни пологого спуска. Пристать к этим стенам, уходившим на сотни метров вверх, нечего было и думать. Моряки качали головами. — Это словно проржавленные борта корабля, севшего на риф, — говорил дядя Эд, поглядывая на торчащий из воды странный остров. Местами скалистый берег свисал над морем. Похоже было, что настоящий, нормальный остров где-то внизу, под водой, а на нем, словно упав сверху, лежит этот кусок чужой породы — шершавый, потрескавшийся, кое-где как будто оплавленный. Долго шла яхта вдоль неприветливых каменных стен, тщетно пытаясь отыскать место, где можно было бы пристать. Постепенно судно перешло на подветренную сторону, и люди неожиданно почувствовали на себе, что такое фиолетовый газ. — Я задыхаюсь, мистер Шютте! — закричал кок и схватился за горло. Белки глаз его покраснели, он стал хрипеть, на губах выступила пена. — Босс, надо повернуть назад! — испуганно сказал один из матросов. — Молчи, рваная покрышка! Негр катался по палубе, корчась в судорогах. Все вокруг стало фиолетовым. Один матрос нелепо вытаращил глаза, опустился вдруг на колени и тихо лег. Другой прислонился к перилам: его рвало. Вдруг яхта завиляла, словно потеряв управление, и помчалась прямо на скалы. — Не иначе как это чертово дыхание задушило рулевого! — закричал боцман, бросаясь к мостику. В фиолетовой дымке появилась низенькая фигура профессора Бернштейна. Он тоже направлялся к мостику. Не видя его лица, боцман узнал его по растрепанной шевелюре. Но когда фиолетовая толща между ними стала меньше, он отшатнулся. Слезящимися глазами увидел он под шевелюрой профессора страшную звериную морду с чешуйчатым хоботом. Фигура со звериной мордой что-то протягивала боцману. — Никогда не думал я, что при жизни попаду в ад и встречусь с живым чертом! Боцман, пролепетав это, ухватился за поручни трапа, ведущего на мостик, и потихоньку стал сползать по ступенькам. По палубе, свистя и фыркая, ползло нелепое фиолетовое чудовище. Фигура с хоботом продолжала протягивать боцману мягкий предмет, потом вдруг бросилась к ползущему по палубе чудовищу и в течение нескольких секунд возилась с ним. После этого чудовище поднялось на задние лапы, оказавшись гигантского роста, не меньше, чем Ганс Шютте. Боцман, теряя сознание, почувствовал, что ему натягивают что-то мягкое на голову и твердым сапогом наступают на руку. Боцман вздохнул и сразу пришел в себя. Теперь он видел пробегающего наверх Ганса и надвигающиеся на яхту скалы. Ганс Шютте, придерживая хобот противогаза, бежал к штурвалу. Но там, отбросив обмякшее тело рулевого, уже стоял в противогазе мистер Тросс. Если бы берега острова Аренида не уходили отвесно под воду, яхта погибла бы и человечество, может быть, не пережило бы всех тех страшных потрясений, о которых будет идти речь. Но мистер Тросс успел повернуть руль, чем неожиданно для себя повернул историю нашей планеты… Яхта шаркнула бортом о скалы. Тросс не давал команды в машинное отделение, но почувствовал, что корпус яхты перестал вздрагивать и она остановилась. «Молодец машинист!» — подумал подошедший Ганс. Ему страшно захотелось чихнуть. Но он был в противогазе и не знал, как в этом случае надо орудовать платком. Он вынул его из кармана и беспомощно держал в руках. Наверх поднялся пришедший в себя боцман. У самого берега газа почти не было. Фиолетовой, спускавшейся на море стеной он отгораживал остров от горизонта. Люди понемногу стали приходить в себя. Видимо, действие газа сказывалось только во время его вдыхания. На многих профессор Бернштейн успел надеть противогазы. Около штурвала держали совет профессор, Ганс, Тросс и боцман. — Придется нам сознаться: опростоволосились мы с вами, профессор! — Да, я должен с вами полностью согласиться, уважаемый герр Шютте. Я никак не мог ожидать столь сильного действия газа. Дело в том, что газ этот нигде не описан в литературе. Мне же приходилось с ним иметь дело в очень ограниченных дозах. — А вы, дядя Эд? Ведь вы сын человека, побывавшего в этих местах. — Отец мой давно утонул. А про удушье рассказывал — это верно! — «Рассказывал»? — проворчал Ганс. — А мы все проморгали. Однако не говорил ли ваш отец, где тут можно пристать? — Да разве нет указаний, где прежде приставали суда? — спросил профессор. — Капитан плавающего здесь прежде парохода обиделся, что вы не зафрахтовали его корыто, и отказался что-нибудь сообщить. А у моего отца не было карт. — Вы ведь знаете, проф, что мистер Вельт был категорически против посторонних лиц в этой экспедиции, — заметил молчавший до сих пор Тросс. — О да, конечно! Вы предупреждали меня об этом, мистер Тросс! — заверил Бернштейн. Яхта тихо покачивалась у самой стены. Ганс и Тросс спустились вниз и привели в чувство машиниста и его помощников. На яхте не было капитана. Ганс с согласия Тросса высадил его в одном из американских портов и обязанности его возложил на боцмана Эдварда Вильямса, а официальным капитаном объявил самого себя. Для того чтобы решить, как же быть дальше, опять собрались вчетвером в просторной каюте, когда-то отделанной по капризу мистера Вельта-старшего шерстью мамонта. Свисавшие со стен остатки шерсти постарели за десятки лет куда больше, чем за миллионы, пока хранились в вечной мерзлоте. Вильямс высказался за то, чтобы обойти весь остров: — Ведь должно же быть место, где приставали суда и два года, и много лет назад! Тысячи три морских черта, не могли же они переправиться на остров на крыльях! — Если это и возможно было несколько лет назад, то немыслимо было в условиях 1914 года, — серьезно сказал профессор. Решили обойти весь остров, придерживаясь как можно ближе его берегов. Вся команда не снимала противогазов. Каждый тщательно, до боли в глазах, всматривался в отвесный складчатый берег. Яхта шла тихим ходом: шкипер боялся наткнуться на рифы. В этот вечер люди были свидетелями странного, фиолетового заката. Солнце, просвечивая сквозь пелену газа, садилось за горизонт. — В одну стосороковую солнца пылает здесь закат, — загадочно сказал Троссу профессор Бернштейн. Тросс ничего не ответил, только пожал ему руку выше локтя. Люди в безобразных противогазах походили на существ другой планеты, осторожные, подозрительные в чужой, незнакомой им обстановке. Первым глубокую зияющую трещину в острове увидел негр-кок. Он стал кричать и приплясывать. В это время и другие обратили внимание на трещину. Она оказалась достаточно широкой, чтобы яхта могла пройти в нее. В глубине трещина терялась в непроглядной тьме. Вильямс пробормотал что-то насчет преисподней, потом оглянулся на Ганса Шютте. Тот, взглянув на Тросса, махнул рукой. Яхта повернула к расселине и осторожно вошла в нее. Там было мрачно и сыро. Отвесные стены словно смыкались в вышине. Стало темно, как ночью. — Придется зажечь фары, — решил Ганс. Матросы баграми ощупывали стены и промеряли дно. Яхта с зажженными огнями медленно пробиралась вперед. Трещина стала расширяться. Вокруг посветлело. Наконец погасили огни. Трещина оказалась входом в скрытую внутреннюю бухту. Здесь голые дымящиеся берега были не так высоки, как со стороны океана. Скалы с характерными складками походили на искусственно высеченные лестницы. — Недурное место для морской базы! — сказал Ганс Шютте и подмигнул Троссу. Пытались бросить якорь. Дно оказалось скалистым, как и весь остров. Бухта была настолько защищена от волнений, что Вильямс решил остаться в этой каменной чаше. Высокие стены отгораживали ее от океана и от всего мира, надежно скрывая этот очаг будущих мировых потрясений. Когда на яхте зажгли огни, а в небе высыпали поразительно яркие звезды, на палубе встретились Тросс и Бернштейн. Оба были в противогазах, и голоса их звучали приглушенно, словно они старались, чтобы их никто не услышал. — Вы упомянули как-то об Оппи, о профессоре Оппенгеймере… Как вы относитесь к нему, создателю первой атомной бомбы? — спросил Тросс. — Знаете ли вы его судьбу? — Еще бы! — отозвался профессор Бернштейн. — Он всегда был примером для меня. Он создавал средство защиты Америки, но после совершенно неоправданного, ненужного взрыва бомбы в Хиросиме и бессмысленного уничтожения сотен тысяч людей он отказался от участия в создании более мощного атомного оружия — термоядерной бомбы. — И не побоялся комиссии антиамериканской деятельности. — Да, не побоялся ничьих обвинений. — А вы, проф? Вы тоже не побоялись бы? — Я боюсь, Тросс, очень боюсь. С того самого часа, как поджег облако на этом проклятом параде. — Чего же вы боитесь? — Себя, его, вас… я все еще не сделал нужного шага, чтобы довериться вам. Вот и боюсь себя… — Я тоже боюсь, — сказал Тросс. — Боюсь за вас. — Я постараюсь во всем разобраться. Непременно разберусь. Обещаю вам… Звезды светили так ярко, что казалось, погасни на яхте огни, от звезд легли бы тени.Глава II. ГАЗООБРАЗНОЕ ПИВО
Ганс Шютте и профессор Бернштейн медленно поднимались по ржаво-желтой естественной лестнице. Внизу, у подножия скалы, виднелась шлюпка с двумя матросами. Ганс Шютте покачивался из стороны в сторону, тяжело придавливая сапогами выветренную, рассыпающуюся под ногами породу. Сквозь стекла противогаза он посматривал на фиолетовый силуэт ушедшего вперед профессора, который выстукивал рукой в воздухе какую-то затейливую дробь. Они поднялись уже довольно высоко. Позади на спокойной воде замерла яхта. Края вогнутой чаши острова были хорошо видны. Они поднимались все выше по мере приближения к океану, где заканчивались обрывами. Остров повсюду был абсолютно гол. Не только деревца или кустика, но даже признака мха нельзя было найти на этих кочкообразных пузыристых скалах. Фиолетовый газ с шипеньем выделялся из многочисленных расселин, по всем направлениям пересекавшим каменный массив острова. Обходя эти расселины и прислушиваясь к треску и шорохам, сопровождавшим их шаги, Ганс и Бернштейн осторожно продвигались вперед. — О том, чтобы устроиться на острове, и не приходится думать, — донесся до профессора приглушенный противогазом голос Ганса. Бернштейн обернулся и увидел, как Ганс покачнулся, но устоял, широко расставив ноги. — Вы совершенно правы, уважаемый герр Шютте. Нам придется жить на яхте. Становилось совсем темно. Солнце зашло за горизонт, и цвет газа из фиолетового превращался в густо-черный. — Вот уж действительно родина сатаны! — вздохнул Ганс, странно кружась на месте. — Кстати, герр профессор, становится слишком темно. Не пора ли нам вернуться? Или, может быть, лучше вытащить яхту на берег? Профессор удивленно обернулся к своему спутнику: — Ах, темно? Вы совершенно правы, уважаемый герр Шютте. Что ж, отправимся, пожалуй, обратно. — Что за проклятый газ! У меня до сих пор стоит шум в голове. Я, право, чувствую себя как после пяти дюжин пива. Уверяю вас, герр проф, совершенно так же заплетается язык и земля качается под ногами! — Неужели это так, герр Шютте? — забеспокоился профессор. — Вам в таком случае не следовало бы сюда ходить. Ведь я не ощущаю этого, поскольку первым надел противогаз. На меня не подействовала закиси азота, образованию которой способствует фиолетовый газ. А ведь закись азота, как вам, наверное, известно, не что иное, как веселящий газ! — О герр профессор! Право, все это чепуха. Раз мы стоим уже у черта на спине и нюхаем его дыхание, на все можно наплевать! И на всякую там закись азота, и даже на босса вместе с его яхтой! Бернштейн испугался: — Я не вполне понимаю вас, уважаемый герр Шютте. — Пустое все! Немного кругом идет голова. А может, это остров крутится? Может быть, это ему нравится? Впрочем, меня ничем не удивишь. Ничем! Я видел собак, летающих по воздуху. Да-да-да, удивить меня ничем нельзя! Ганс стал сильно качаться. — Не присядете ли вы, уважаемый герр Шютте, вот на это возвышение? Здесь меньше всего газа. — Я с удовольствием сел бы на предложенное вами кресло, если бы не был уверен, что это — забытое здесь чертово копыто. Но если вы меня так просите, то я могу сесть даже на рога. Особенно если меня просит образованный человек. — Присядьте, я очень прошу вас, герр Шютте, а я схожу за матросами, чтобы помочь вам дойти. — О нет! Притормозите, проф! Еще не было случая, чтобы Гансу Шютте кто-нибудь помогал! Мы просто посидим здесь и немного отдохнем. Я могу подвинуться и одолжить вам кусочек этого чертова уха. — Разрешите все же сходить за матросами. — Если вы не знаете, что такое кулак Ганса, то, пожалуйста, идите! Если вдобавок вы можете ходить по этой вертящейся адской чашке… — Н-нет… Тогда уж лучше я посижу. — Приятно, не правда ли, сидеть в самом аду гостем и знать, что ты еще не умер и сюда еще не попал! Скажите, герр проф, откуда взялся этот проклятый остров? — Видите ли, уважаемый герр Шютте, это относится к области гипотез. Есть основания предполагать, что остров космического происхождения. — О, герр проф, у меня сейчас плохо варит голова, я неважно вас понял… Вот у меня есть сын, прекрасный сын! Он почти доктор физических наук. Он бы вас сразу понял! — Я имею честь быть знакомым с доктором Ланге и его ассистентом Карлом Шютте. — Прекрасный сын! Уверяю вас, герр проф, прекрасный сын! Язык Ганса основательно заплетался, и он сам сильно напоминал пьяного. — Наука знает несколько случаев падения на землю крупных космических тел. Например, гигантский метеорит упал где-то в Сибири в 1908 году. Возможно, что остров Аренида представляет собой подобное же космическое тело. — Ах, значит, этим чертовым камешком господь бог загустил в землю из рая!.. Очень приятно. А скажите, что это за газ, который должны мы собирать здесь для нашего босса — обожаемого мистера Вельта, для Фредерика, для Фреда? Я знаком с ним больше полувека… Но что это за дым такой, ничего не знаю. Ничего! Вы тоже возитесь с этим газом с мальчишеских лет. О! Я знаю, проф, — Ганс погрозил пальцем, — вы когда-то мыли колбы у Ирландца! Профессор опустил голову, как бы задумавшись. — Единственно, что я об этом газе узнал, герр проф, в некоторой дозе его вполне можно применять вместо пива. Газообразное пиво! Право, недурно! Я мог бы взять на это патент и начать конкурировать с хозяином по сбыту этого газа. Скажем, открыть газовый кабак. — Газ этот существует в единственном месте на земле, — задумчиво начал профессор Бернштейн. — Он принадлежит к числу веществ самораспадающихся, или, как их в науке принято называть, радиоактивных. Вещества эти на нашей планете встречаются лишь в твердом виде, и то исключительно редко и в малых количествах. Теперь их получают искусственно. — Ну, этого я, герр проф, не понял! У меня сейчас неподходящая для этого голова. Она у меня легка, как пух, и тяжела, как свинец. Уверяю вас, проф, я не знаю, чего в ней сейчас больше — пуха или свинца! — Вам не лучше, герр Шютте? — Нет, мы еще посидим и… поболтаем. Стемнело. Газ стал невидимым. В небе появились звезды. Особенно ярким было созвездие Южного Креста. В темной воде бухты отразились зажженные на яхте огни. Самой яхты не было видно, и два ряда огней казались висящими в воздухе. — Герр Шютте, я хочу воспользоваться вашей откровенностью, — обратился к Гансу профессор. — Что вы думаете о мистере Троссе? — О, мистер Тросс!.. Это хит-трая бес-стия!.. Он обведет вокруг пальца кого угодно — меня, вас, но только не босса, только не его… — Вы думаете, ему нельзя доверяться? — Ему? Да вы что? Можно довериться старому Гансу, хоть он и готов всегда свернуть вам голову, проф. Но старый Ганс говорит свои слова, а не чужие… — Чужие? — Старый Ганс не поет с чужого голоса. — Значит, никому нельзя доверяться? — Вот это вы в-в-верно сказали, проф! Ни-ко-му… Никогда и никому. Старый Ганс тоже доверяет только себе самому. И цену всем знает! В-в-всем!.. — Значит, все решать должен я сам? — Вот уж н-н-не знаю… Н-н-но сам — это лучше, чем другие… Другие — это… черт з-з-знает, что выкинут эти д-д-другие… Издалека донеслись крики. Эхо повторило их, и нельзя было догадаться, откуда кричат. Ганс поднялся и рявкнул: — Эй, не дерите глотки! Мы здесь заняты! Десятки голосов захохотали и заквакали со всех сторон. Странное эхо делало их нечеловеческими. Ганс тяжело опустился на скалу и, запинаясь, путая слова, обратился к профессору: — Скаж…жите, герр проф… ведь вы ученый? Бернштейн удивился. — Я вот этими руками передавил бы всех ученых! Эх-хе! Профессор испуганно отодвинулся: — Почему же, уважаемый герр Шютте? — Потому что все вы… под-ле-цы, герр проф! — Простите, герр Шютте… Почему вы… почему столь необычайная манера разговора? — заволновался профессор. — Подлецы! — упрямо твердил Ганс. — Я бы вас сжег вашим же огненным облаком! Эх, и попахло бы гарью!.. Профессор вскочил, но Ганс схватил его за хобот противогаза и усадил обратно. — Сколько я ни знал ученых, все они… работали над тем, как лучше отправлять нашего брата на тот свет. — Что вы! Что вы, герр Шютте! — Конечно. Вот Кленов был… Подлейший человек! Придумал такую штуку, чтобы целые острова со всем на… на… со всем населением… взрывать… Да такого человека надо… — Ганс сделал выразительный жест. — Жаль, что он тогда вырвался! Пожалел я его, герр проф, все-таки это был слабоумный. Не люблю вспоминать… Я тогда еще не понимал, что это за птица. И еще этот японец… Ох, шельма!.. Я бы с ним посчитался! Я боссу-то не рассказывал… — Простите, герр Шютте. Мы, ученые, работаем над разрешением научных проблем. Мы далеки от мысли причинять вред людям. — Эге, что он поет! А ты… А что ты всю жизнь при-ду-мывал? Что?.. — Я работал над известной вам химической реакцией, полученной впервые в 1914 году. — О-хо-хо-хо!.. — пьяно засмеялся Ганс. — Химическая реакция! Да этой огненной реакцией хотят выжечь все коммунистические страны, герр проф! Топливом будет человечина!.. — Что-о? — попытался вскочить профессор, но Ганс снова потянул его обратно. — Не прикидывайтесь… дур-рачком. Мы приехали сюда, чтобы запасти побольше фиолетового газа. Ведь он нужен для вашей там… реакции. Босс уговаривает все государства пойти войной на коммунистическую заразу, выжечь дотла их земли вашим огненным облаком, проклятый вы проф!.. — Оставьте… Откуда у вас такие чудовищные фантазии? Я работал над проблемой «вездесущего топлива», а вовсе не над идеей сожжения людей или городов! Я достиг цели, теперь меня ждет слава… и независимость, наконец… Мне нет никакого дела до коммунистических стран? — Бросьте, проф? Не мелите ерунды?.. Какая там независимость? Вы на службе у босса. Вы — раб! Вы работаете на бос-са. А он продает ваше открытие. Вы здесь ни при чем. Вашей реакцией будут жечь красные страны, и только. Вы, ученые, все убийцы. А с виду тихонькие, мухи не обидите. А миллионы людей уничтожить — это им тьфу!.. Ганс забыл, что он в противогазе, и сплюнул. Бернштейн, пораженный словами Ганса, испуганно смотрел на него. — Но если так, то что мне помешает прекратить работу? — Дур-рак, а еще профессор! Вы — раб. Я имею инструкцию размозжить вам голову, как только вы заартачитесь! Спросите у Тросса. — Я… я — раб? Если правда то, что вы говорите о цели мистера Вельта, то никто не сможет заставить меня работать! Ни вы, ни мистер Тросс! — Подумаешь! Очень это кому-то надо! Босс уже знает вашу реакцию. И без вас обойдутся, проф. Не надо было выдумывать. Теперь все равно миллионам людей крышка. Я вам скажу откровенно, проф. Я и сам не стал бы участником этого дела. Не люблю я людей убивать. Так ведь вместо меня он пошлет другого. Тот же Тросс здесь! А это — бестия. Ничего я не остановлю. А жена моя будет сидеть голодная. То-то? Вы не думайте, что я пьян, что язык у меня заплетается… Профессор встал. — Какой ужас! — схватился он за голову. — Смерть… Действительно, это ужасное смертоносное средство, а вовсе не вездесущее топливо. — Ха-ха-ха! — пьяно захохотал Ганс. Снова дико захохотали скалы, камни, звезды. С яхты со свистом взвилась ракета и рассыпалась в небе огненным узором. Ганс вскочил и заорал что-то несуразное. Потом уставился на Бернштейна, тыкая перед собой пальцем: — Никто… никто теперь не помешает боссу! Все у него в руках! Вы, я — ничто для него, дешевые слуги… Маленький профессор гордо выпрямился: — Напрасно вы так думаете, герр Шютте. В моих руках больше власти, чем вы полагаете. Ганс покачал головой: — Что это вы придумали? Все напрасно! Надо подчиняться, герр проф. Пойдемте. Вы меня поддерживайте — камни здорово вертятся. Надо идти, а то и вправду я проболтаюсь… Эх-хе! Профессор шел понуро. Необыкновенная обстановка и болтовня опьяневшего Ганса пробудили неожиданные и страшные мысли. Приблизившись к шлюпке, Бернштейн и Ганс услышали шум. Опередив Ганса, профессор поспешил вниз. Там с пьяными криками дрались два матроса. Один из них повалил на землю другого и пытался сорвать с него противогаз. — Проклятый газ! Они невменяемы! — прошептал профессор и бросился разнимать дерущихся. Однако оказавшийся наверху матрос был силен. Одним ударом он повалил щуплого Бернштейна на землю, потом ухватил его за хобот противогаза, силясь стащить маску. Но тут подоспел Ганс. Матрос полетел кубарем. Послышался плеск воды. Профессор бросился вытаскивать матроса, боясь, что он утонет. Ганс в это время дубасил для порядка и второго матроса. В результате скорой расправы оба гребца в бесчувственном состоянии были брошены на дно шлюпки. Один из них, мокрый и жалкий, мелко дрожал. За весла сел Ганс, править стал профессор. — Удивляюсь, — сказал Ганс, — не тому, что они опьянели, я и сам пьян. Но вот люди не умеют владеть собой. Мне это незнакомо… Обязательно они или передерутся, или наговорят лишнего. Уд-дивительно! Профессор правил молча. Тяжелые мысли давили его. Иной раз он вздрагивал, как от озноба. По мере приближения шлюпки к яхте все отчетливее становились какие-то странные звуки. Хмель у Ганса понемногу стал проходить, и он приналег на весла. Они подплыли к борту яхты и стали кричать, но трапа им никто не спускал. Ганс выругался и встал на ноги, теперь уже не шатаясь. Сверху доносились приглушенные крики и возня. — Доннерветтер! Что там случилось? — прошептал Ганс и, сев, несколькими ударами весел подвел шлюпку к носу яхты. Профессор перестал править и сидел, погруженный в свои мысли. Ганс приставил к борту судна весла, с неожиданной быстротой забрался по ним и схватился за якорную цепь раньше, чем шлюпка успела отойти от яхты. Потом подтянулся на руках и точным движением перебросил свое грузное тело на палубу. Весла упали в воду, но профессор Бернштейн не сделал попытки их выловить. Он неподвижно смотрел на двух людей, бесчувственно лежащих на дне шлюпки, но едва ли видел их. Гулко прозвучали тяжелые шаги Ганса. Донесся хрюкающий звук неправильно работающего выхлопного клапана его противогаза. На палубе было очень темно. Верхние огни оказались погашенными. Странные звуки слышались из салона. Гигант обрушился на запертую дверь и вбежал в коридор, словно двери и не было. Люстра в кают-компании ярко сверкала. На столе из редчайшего железного дерева в беспорядке громоздились колбасы, консервы, копченые окорока. В креслах и на полу сидели или валялись пьяные горланящие люди. Они то и дело отдирали резину своих противогазов, чтобы засунуть под нее куски пищи. Все это походило на пьяную оргию, хотя не было видно ни одной бутылки. Только два человека из всей компании не имели противогазов. Один из них был негр-кок. С налитыми кровью белками, едва стоя на ногах, прислуживал он буйным гулякам. Пинки и удары сыпались на него со всех сторон. Другой человек без противогаза был боцман Вильямс. Он связанный лежал у двери, так что Ганс при первом же шаге споткнулся о его тело. Никто из пирующих не заметил Ганса. Несколько секунд в немой ярости он наблюдал их, потом заревел так, что зазвенели хрусталики на люстре: — Эй, вы! Отродье свиней и сусликов! Встать! — Клянусь приливом, это корабельный бунт, мистер Шютте! Эти пираты опьянели и решили обожраться один раз за всю свою морскую жизнь! — отозвался связанный боцман. — Они связали мистера Тросса. Кое-кто поднялся, но большинство остались лежать. Вдруг здоровый рыжий детина прыгнул на Ганса. В тот же момент тело его отлетело в сторону, сбив с ног еще двух матросов, приготовившихся к нападению. После этого нельзя было ничего разобрать. Все двадцать человек, кроме пяти-шести мертвецки пьяных, бросились на Ганса. Послышались хрип, стоны, звон и рычание. Стол перевернулся. Рыжий схватил окорок и начал дубасить им Ганса по голове. После пятого удара Ганс почувствовал, что его бьют. Он вырвал окорок едва не вместе с рукой рыжего и стал действовать окороком, как дубиной. Скоро уже не пять, а десять человек лежали на полу. Оставшиеся нападали с меньшим пылом и вскоре отступили. Ганс, хрипло дыша, стоял посреди салона и продолжал размахивать окороком. Хобот его противогаза был оторван, в резине зияла дыра. — Мистер Шютте, развяжите пару морских узлов, которыми стянуты мои руки! Тогда ноги я распутал бы сам, — попросил боцман. — Хэлло, дядя Эд, мне не до этого! — сказал Ганс и увернулся от полетевшего в него кресла. Одновременно в голову ему попала тарелка, а в нос — консервная банка. С противогаза стекало прованское масло. С яростным ревом Ганс вырвал впившуюся в руку вилку и снова бросился на врагов. Он отломил от стола ножку — получилась дубинка тяжелейшего железного дерева.
Когда еще трое были повергнуты наземь, бунтовщики сдались. Ганс развязал Вильямса и приказал ему сходить за веревками. Вскоре боцман вернулся в сопровождении мистера Тросса в перепачканном белом костюме, и они принялись деловито и с мрачным видом связывать пленников. Ганс наблюдал эту процедуру, опираясь на ножку стола и держа в руке окорок. Потом вместе с боцманом и Троссом они растащили своих пленников по разным каютам. Боцман зажег огни и вышел на палубу. Там стоял обеспокоенный Ганс. Как ни вглядывался он в полумрак бухты, шлюпки с Бернштейном он не увидел. Ганс Шютте испугался не на шутку. К нему подошел Тросс, а вслед за ним дядя Эд, протягивая новый противогаз: — Пусть заставят меня провести на этом острове остаток жизни, если я когда-нибудь слышал о столь странном корабельном бунте! Хорошо еще, что нет на свете такого алкоголя, который бы на меня подействовал! Ганс смущенно посмотрел на Тросса: — Мистер Тросс, я потерял своего ученого. Босс отвинтит мне мою старую голову! Да и вам несдобровать! — Как — потерялся профессор? — Вместе со шлюпкой.
Глава III. ЖЕРТВА ПРОФЕССОРА БЕРНШТЕЙНА
Когда Ганс Шютте взобрался на палубу, профессор Бернштейн, погруженный в свои мысли, не заметил, как шлюпка отплыла от яхты. Неужели рушится все его мировоззрение, все его идеалы? Неужели вся работа, которую он делал ради славы, ради возможности самостоятельно встать на ноги, все его мечты о вездесущем топливе — топливе, которое присутствует повсюду, его многолетний труд, — неужели все это должно послужить только чудовищным планам истребления людей? А сам он только раб! Ученый раб! Слуга, дающий в руки своих хозяев силу, которой они хотят уничтожить коммунизм. Пусть он, профессор Бернштейн, не сочувствует коммунистам, но ведь ими создано много такого, что не может не восхищать всех передовых людей. Неужели же найденная им реакция должна послужить для объединения капиталистических стран против коммунистических, как этого хочет мистер Вельт? Но сам профессор Бернштейн — почему он был до сих пор наивным, как дитя, слепым, глухим? Не на это ли намекал ему умный и ловкий мистер Тросс? «Закат в сто тысяч солнц пылал»? Неужели он только хотел выведать настроение профессора, чтобы доложить об этом Вельту? А втирался в доверие, обещал скрыть его от всех. Зато опьяневший от газа простак Шютте выболтал все. В этом не было бы нужды, если бы профессор сам подумал, куда он идет и кто подталкивает его по пути… пути славы, как считал он. Казалось бы, на этом пути он добился своей цели. Но разве, идя к ней, он не понимал пагубной силы повторяемого открытия? Открытия ирландца Лиама! Он не должен лгать самому себе! Если он и не понимал всего полностью, то подозревал, особенно после разговора с мистером Троссом. Они говорили и о Резерфорде, увидевшем опасность применения открытой им ядерной энергии. Бернштейн тоже видит последствия применения своего открытия. Как ему поступить? Как Резерфорду? Едва ли его личные уверения в бесперспективности собственного открытия убедят кого-либо, в особенности Вельта. Пора осознать ответственность ученого, выпускающего «очередного джинна». И не будет ему оправданием то, что у государств, готовых воевать, уже есть прежние «джинны», уже имеются на вооружении средства страшной разрушительной силы. Конечно, есть эти сильные средства, но все они лишь локального, местного действия. А реакция горения воздуха, огненная стена может, двигаясь в заданном направлении, выжигать целые страны. А его пресловутая «воздушная спичка» так проста, что до нее легко додумается всякий мало-мальски мыслящий инженер, купленный Вельтом. Но открытие его действительно страшно. Оно было рождено ненавистью: его творец, Лиам, мечтал об уничтожении англичан. Но что в силах сделать он, жалкий профессор Бернштейн, которого могут в любую минуту выбросить, как ненужную тряпку! Ведь реакция известна самому Вельту, ее уже не скроешь. Так говорил и мистер Тросс. Секрет же «воздушной спички» не больше, чем секрет полишинеля. Значит, прав Ганс: надо подчиняться приказам хозяина, надо истреблять себе подобных, честнее стать в сторону и предоставить все собственному течению? Нет, это малодушно! Если он был слеп и создал страшную реакцию, то теперь он не имеет права быть в стороне. Но как помешать Вельту пользоваться этим вездесущим огнем? Огонь повсюду — огонь, которым будут дышать, в котором будут сгорать заживо! Профессор закрыл глаза руками. Перед ним встали картины реакции, распространяющейся по земле. Нет! Он человек. И если он виноват перед человечеством в своей безумной слепоте, то он обязан исключить возможность применения опасного открытия. Профессор закинул голову. Какой мертво-яркий Южный Крест! На миг, только на один миг ему стало страшно. Но Бернштейн, никогда не совершавший никаких подвигов и не считавший себя на это способным, нашел в себе силы побороть страх. Реакция может происходить только в присутствии фиолетового газа. Газ выделяется лишь в одном месте на земле. Вывод ясен. (Профессор Бернштейн не считал себя вправе довериться Троссу, но он уже знал, что должен сделать человек.) В тот момент, когда Бернштейн пришел к этой мысли, он почувствовал удар по голове. Профессор совсем близко увидел дно шлюпки и в следующее мгновение был выброшен за борт. Когда его лохматая голова всплыла на некотором расстоянии от лодки, пьяный матрос стал искать весло, чтобы ударить никак не тонущего профессора. Но весел не оказалось. Они упали в воду, после того как Ганс Шютте влез по ним на яхту. Матрос выругался и стал подгребать руками к профессору. Бернштейн, увидев это, сделал отчаянную попытку отплыть. Началось невероятное состязание в скорости между плохо плавающим, едва державшимся на воде человеком и матросом в шлюпке. Руки матроса хлестали по воде, как пароходные колеса. Шлюпка приближалась. Брызги уже долетали до профессора. Слышалось сипение противогазов. Профессор собрал все силы и оглянулся. Шлюпка перевернулась, а около нее барахтались борющиеся люди. Что-то булькало, слышались крики… — Ах ты рваная покрышка! Профессор Бернштейн понял, что теряет силы, и закрыл глаза. Какая поразительная соленая вода! И неприятно, что она наливается в уши… А как же с истреблением людей? Он едва почувствовал, что его кто-то тянет за волосы из воды. Сидевший на перевернутой шлюпке Ганс Шютте вытащил профессора и перекинул через киль его бесчувственное тело. — Придется вам встать на текущий ремонт, — сказал он и шумно вобрал в себя воздух. От яхты плыла другая шлюпка, в ней сидели мистер Тросс и дядя Эд. — Кто пошел ко дну? — озабоченно спросил боцман. — Во всяком случае, профессора я вытащил. Эти проклятые пивные пары, которые лезут здесь из каждой щели, еще наделают нам хлопот и неприятностей! Шлюпка дяди Эда причалила к перевернутой лодке. Когда Ганс Шютте, мистер Тросс, боцман и Бернштейн поднялись на палубу яхты, спасенный профессор торжественно обратился к Гансу: — Вы спасли мою жизнь, уважаемый герр Шютте! — Пустое, герр проф! Я просто вовремя вытащил вас из воды. — Спасая меня, вы бросились с яхты в воду и рисковали своей жизнью, уважаемый герр Шютте! — Ну, моя жизнь очень неохотно расстанется со мной! Где она найдет еще такое тельце? А? Как вы думаете, дядя Эд? — Пожалуй, она согласится променять вас только на кита! — Вы оскорбите мою гордость, если подумаете, будто я хочу сделать лично для вас исключение из общего числа людей, находящихся на яхте. Вы, герр Шютте, и вы, мистер Тросс, имеете безусловное право на сохранение жизни, впрочем, как и остальные члены команды. Я готов исключить из этого числа лишь себя. — Боюсь, проф, что вы немного того… после купания. Чего доброго, вы пожалеете, что я вас вытащил? — Нет, герр Шютте. Я признателен вам. — Вас трудно понять, сэр, — вступил в разговор Тросс. — О, мистер Тросс, с вами я поговорю особо, мы продолжим беседу, начатую в Аппалачских горах. И о проблеме доверия. И маленький профессор, рассеянно задевая рукой за все попадающиеся предметы, откинув в сторону оторванный хобот противогаза, важно отправился в свою каюту. — Похоже, что от этого газа мы все перепились, а герр профессор свихнулся, — пробурчал Ганс. — Пусть проглочу я пароходный винт, если завтра не будет чего-нибудь почище! Кстати, мистер Шютте, помогите мне поднять на палубу этих шлюпочных буянов, которые так нализались, вернее, надышались, что и потонуть-то даже не сумели! — Вы обвяжите их внизу веревкой, а я вытащу сразу обоих. Ночь на яхте прошла сравнительно спокойно. К утру газовый хмель вышел, и бунтари покорно явились к Гансу с повинной и больной головой. Ганс великодушно всех простил и расставил по обычным местам. Противогазов не снимали. Матросы постепенно начали к ним привыкать. Профессор долго не выходил из своей каюты. Обеспокоенный Ганс два раза стучал к нему, но не получил ответа. Только к полудню профессор Бернштейн появился на палубе. Лицо его было скрыто противогазом, но вылезающие из-под маски волосы казались растрепанными более обычного. И тотчас по требованию Бернштейна на яхте был объявлен аврал. Матросы и боцман носились по палубе как сумасшедшие.Профессор подгонял их, удивляя своей придирчивой энергией и Ганса Шютте, и Тросса. Дядя Эд, выполняя указание руководителей экспедиции, безжалостно загружал работой моряков. На берег доставили какие-то приборы, соединили их проводами. С яхты виднелась маленькая фигурка лохматого человека в противогазе, бегающего по скалистому берегу. — Сколько я ни верчусь около господ ученых, никак не могу понять, — ворчал Ганс Шютте. — Только подумаешь, что добрался смекалкой до их рычагов управления, ан нет! Выкинут тут такое, что и во сне не увидишь. — Думаю, что видеть сны сейчас нам с вами, Ганс, неуместно, — заметил Тросс. — Я и то так думаю, но спать смерть как хочется. — Давайте установим дежурства. Сменяемся через каждые два часа, — предложил Тросс. Ганс Шютте охотно согласился. Матросы волокли по палубе какой-то тяжелый прибор. Подъемная стрела должна была подхватить его и перенести в ожидавший внизу катер. Если Шютте и Тросс выходили на палубу по очереди, то профессор отдыха не знал и не давал его никому из своих помощников. Дядя Эд поминал всех морских чертей. Матросы изнемогали. Профессор чуть успокоился только да следующий день к вечеру. Моряки полегли замертво, засыпали где попало, не только в кубрике, но и в шлюпках у бортов, на связках канатов, у лебедок. Но Бернштейн не уснул. Он медленно бродил по палубе и выстукивал костяшками пальцев дробь о невидимые преграды. Перед утром он постучал в иллюминатор каюты Тросса. Тот словно и не спал и вышел к нему свежий, бодрый, в вычищенном и отглаженном белоснежном костюме. — Прошу извинить меня, мистер Тросс, если я недостаточно учтив, вызывая вас на палубу в столь ранний час. — Я рад побыть с вами наедине, профессор, — ответил Тросс. — Вот именно наедине. Я слышал храп герра Шютте и потому постучал в вашу каюту. Экипаж весь спит. Даже боцмана нет на мостике. Нам не помешают. — Я не знаю, кто мог бы нам помешать. — Я хочу проститься с вами, мистер Тросс. Вы были крайне симпатичны мне, какое бы место около Вельта вы ни занимали. — Все мы занимаем около него какие-то места, — неопределенно отозвался Тросс. — Но почему проститься, проф? Я не вполне вас понимаю. — И не надо, не надо понимать. Я хотел, но не смог вам довериться. А теперь хочу взять с вас слово. Вы отвечаете передо мной за жизнь всех, кто останется на яхте. — Останется? Разве кто-то должен сойти, на, берег? — Да, кто-то… сейчас неважно кто. Я хочу взять с вас слово. — Я охотно вам его дам. Но может быть, вы объяснитесь? — Отчасти. Только отчасти, мистер Тросс. Дело в том, что ваш поэт, о котором вы вспоминали на Аппалачах, кажется, был прав. Хотя одновременно и не прав! Не закат, а рассвет!.. — То есть? — В сто тысяч солнц рассвет пылал! То есть запылает! И вот тогда… тогда, чего бы вам это ни стоило, выводите яхту в океан, спасите людей, всех до единого. — Профессор, вы внушаете мне тревогу, я вынужден буду установить за вами особое наблюдение. — Вы хотите сказать, что не пустите меня в шлюпку? — Я постараюсь вас отговорить. — Отговорить от чего? От выполнения данных мне Вельтом поручений? — повысил голос профессор. — Нет. От этого я не имею права вас отговаривать. — Тогда не препятствуйте мне. Запомните все, что я вам сказал. — Верьте, уж я-то не забуду. — И скоро рассвет? — Должно быть, через час. — Тогда мне пора. Я проведу решающий опыт один. Я посвящаю этот опыт мистеру Вельту, так и передайте ему вместе с моим письмом. Оно у герра Шютте. Теперь идите к себе, оставьте меня одного. Все, сэр. Тросс сразу же пошел будить Ганса Шютте, чтобы скорее узнать содержание письма Бернштейна. Но Шютте на стук не отзывался. И когда Тросс наконец попросту взломал дверь к нему в каюту, тот долго сидел на койке, не в состоянии что-либо понять. Это промедление стоило миру неисчислимых бед… Тросс буквально силой вырвал у Шютте злополучное письмо, которому тот не придал никакого значения. Бернштейн встречал зловещий фиолетовый восход солнца, стоя на капитанском мостике яхты. Измученная команда спала. Профессор медленно прохаживался взад и вперед. Одну руку он заложил за спину, другой нервно постукивал по перилам. Он ждал, когда покажется солнце: ему нужен был дневной свет. Угрюмые скалы рыжевато-фиолетовым кольцом зажали бухту, вода которой казалась тяжелой и маслянистой. Колючий ветер разогнал вчерашнюю вату и очистил небо. Профессор, который от природы был дальтоником, не мог бы точно сказать, где синь неба переходит в фиолетовый оттенок воздуха над Аренидой. Кстати, он и не смотрел на небо. Профессор интересовался только тем, когда станет светло. В каменной чаше было еще темно, как за ставнями, но высоко в облаках уже розовел день. Профессор крадучись прошел по палубе и спустился по трапу в шлюпку, долго отыскивая ногой, куда можно ступить. В шлюпке оказалось только одно весло, но профессор не стал искать другого и поплыл с одним. Он неумело хлопал веслом по воде, перекладывая его из одной уключины в другую; шлюпка его долго и бессмысленно вертелась на одном месте. Он достиг наконец берега, но совсем не там, где хотел. Вышедший из камбуза кок видел силуэт человека с растрепанной шевелюрой, идущего по берегу и размахивающего рукой. Позевывая и потягиваясь, негр наблюдал, как профессор Бернштейн подошел к аппарату. К этому месту сходились электрические провода со всего острова. Неожиданно Бернштейн сбросил противогаз и несколько секунд смотрел на взошедшее солнце. А потом негр-кок стремглав бросился к колоколу, висевшему у каюты шкипера. Он стал исступленно звонить, истошно крича: — Пожар! Пожар! Белки его округлившихся глаз сверкали. Выскочивший первым на палубу Тросс при взгляде на берег бухты проклял себя. Весь берег со всех сторон бухты пылал. Тросс обязан был это предвидеть, обязан!..Глава IV. ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ
Остров пылал. Все берега бухты превратились в огненное кольцо. Фиолетового дыма теперь не было видно, на его месте бушевало пламя. Тросс стоял на капитанском мостике яхты. Он был без противогаза. Фиолетовый газ, а с ним и закись азота не проникали теперь в район, окруженный пламенем. Растерянный Ганс Шютте и дядя Эд поднимались на мостик по трапу, еще не сняв противогазы. Глядя на Тросса, они освободились от масок. — Тысяча три морских черта! Я подозревал, что утону, но адской сковородки при жизни не рассчитывал увидеть, — проворчал боцман. — Что будем делать, шеф? — растерянно спросил Ганс. — Свистать всех наверх. Надеть пожарные робы, пустить все помпы. Брандспойтами окатывать палубные надстройки и борта яхты. Мистер Вильямс — к штурвалу. Вперед до полного — на выход из бухты! Дядя Эд повиновался и взялся за ручки штурвала, повторив команду Тросса в машинное отделение. — Вот прочтите, — протянул Тросс Шютте распечатанный конверт. — Тут адрес бит-босса. Кто осмелился вскрыть? — Я. Содержание письма придется передать по радио. — А что случилось? Катастрофа? Где наш лохматый? Жив ли он? — Профессор Бернштейн привес себя в жертву человечеству и погиб вместе со всеми запасами фиолетового газа, теперь не доступными никому. Я проклинаю себя за то, что не предотвратил этого. На палубе толпились испуганные матросы. Повинуясь полученному приказу, они впопыхах напяливали на себя брезентовые и асбестовые костюмы, поливали друг друга водой из брандспойтов. Была включена вся противопожарная система. Искусственный дождь обрушился на палубу. С мостика слышался хриплый голос дяди Эда: — Якорь мне в глотку! Вперед до полного! Право на борт! Из геенны огненной — в океан на всех парусах! Эх-ха! Эгей! Пираты — к брандспойтам! Маски снова надеть, когда будем проходить через щель. Все больше шансов, что в аду вас примут за своих! В топоры! Якорь всем в глотку, если не хотите живыми жариться в аду! Яхта приближалась к узкому ущелью. Оно, подобно пропилу, разделяло каменное кольцо острова. Ошеломленные люди смотрели, как судно подходит к жуткой щели. Стены ущелья были в огне. Казалось, яхта должна «прыгнуть» сквозь огненный обруч. Негр-кок, закрыв лицо руками, дико завыл. Ему стали вторить и другие моряки. — Эгей! — гаркнул с мостика дядя Эд. — Пусть проглочу я гребной винт, если есть на свете большие трусы! — Эй, отродье свиней и сусликов! Кому не нравится огонь, может прыгать в воду! — заревел Ганс Шютте. — Заворачивайтесь в мокрые плащи, прикрывайтесь брезентами, поливайте друг друга струями водя! — командовал Тросс. Яхта нырнула в огонь. И задымилась. От каждой фигуры, завернутой в плащ, в мокрые брезенты, шел не то дым, не то пар. Вновь надетые противогазы помогали людям не задохнуться. Языки пламени отделялись от стен и тянулись к дымящейся яхте, словно кто-то протягивал горящие факелы, чтобы поджечь ее. Несколько минут, пока яхта ныряла сквозь огонь, оказалось достаточно, чтобы на судне вспыхнул пожар. Не помогли все заранее принятые меры. Горели мачты, сделанные в доброе старое время из лучшей древесины, доставленной еще Вельту-старшему, горели палубные надстройки. Лопалась белая краска, покрывалась темными разводами. Черный дым валил из иллюминаторов. Только мокрая дымящаяся одежда и маски противогазов спасали людей, позволяя им бороться с огнем. И все-таки яхта вырвалась из объятий пылающего острова. Океанская волна высоко подбрасывала ее, разбивалась о борт, шипящим потоком прокатывалась по палубе, туша там и тут очаги пожара. Море помогло людям. Дядя Эд намеренно ставил яхту боком к волне, чтобы гребни окатывали бы судно через верх. Даже до мостика долетали брызги. Конверт, который держал Ганс Шютте в руках, промок. — Р-рваные покрышки! — ругался он. — Я так и не успел прочесть, что написал этот «полоумный ученый. Ну-ка, мистер Тросс. У вас глаза помоложе. Что там нацарапано? Тросс взял из рук Шютте письмо и прочитал: — «Будь проклят капитализм!» — Но-но! — повысил голос Ганс. — Без коммунистической пропаганды! — Здесь так написано, — невозмутимо продолжал Тросс и прочитал все письмо. — Ну и дурак! — решил Шютте. — Кому от этого плохо? Ему. Изжарил сам себя на вертеле. — Не скажите, мистер Шютте. Плохо будет не только ему одному. — Думаете, нам с вами? — Не только. Всем людям. Даже мистеру Вельту. — Это почему еще? — Придется задохнуться. — А противогазы на что? — Они не помогут. Люди задохнутся без воздуха, который сгорит весь, сколько его есть на земле, вот на этом самом костре над пылающим островом Аренида. Я должен был это учесть… должен! Ганс Шютте замер с открытым ртом. Дядя Эд нахмурился и прошептал одно из своих проклятий. — Так что ж, он и впрямь дурак, что ли? Не сообразил? — возмутился наконец Ганс. — Увы, но даже очень дальновидные ученые порой оказываются непостижимо близорукими. Но я, я-то чем лучше их?.. — Тогда скажите, парень, как долго будет гореть этот небесный костер? Может, на наш век хватит воздуха-то, а? — Пока ничего не могу сказать. Специалисты подсчитают, какова эта опасность. Жаль, что ученые слишком часто играют с огнем, не понимая последствий этой игры для человечества. Яхта все еще дымилась, хотя пожар салона и наиболее богатых кают (хозяйских кают) удалось потушить. Теперь люди сняли противогазы и сбросили местами обгоревшие робы. — Но как они чуют, как чуют! — воскликнул негр-кок, заглядывая через реллинги. — Будто знали, что от огня люди в воду будут прыгать. Матросы тоже посмотрели за борт. Там и тут ее бороздили острые плавники. — Акулы! — воскликнул кто-то. — Пусть кошка научится плавать, если это не самые подлые морские твари, — подтвердил дядя Эд. Действительно, целая стая акул крутилась вокруг, казалось бы, обреченною судна. Не распорядись мистер Тросс вовремя включить всю противопожарную систему, этим хищницам было бы чем поживиться. Мистер Тросс и дядя Эд спустились на палубу. К ним подошел радист и доложил, что пожар вывел из строя всю радиосистему корабля. — Как так? — затопал ногами Ганс. — Мне срочно нужно передать содержание письма этого зажаренного идиота мистеру Вельту. — Никак невозможно, сэр, — пояснил радист. — Радиорубка вспыхнула первой. Старая постройка. Теперь строят по-иному. — Черт бы подрал эту старую галошу! — рычал Ганс. — Нет ли поблизости какого-нибудь корабля, с которого можно было бы послать радиограмму? — И он стал обводить морским биноклем горизонт. Дядя Эд тоже вооружился биноклем. Его морской глаз позволил ему заметить корабль первым. — Вот и прекрасно, — выдохнул воздух Ганс. — Чей это корабль? Сейчас снарядим на него наш катер с подводными крыльями. Мистер Тросс взял у дяди Эда бинокль и стал смотреть на горизонт. — Боюсь, что это не тот корабль, на который вам хотелось бы попасть, Ганс. — Ну, что там еще? — Я прочитал название судна — «Академик Королев». — Что! Русский корабль? Только его здесь и не хватало. Все увидят! — Тысяча три морских черта! Его вполне можно было здесь ожидать. Это корабль космической службы, — заметил дядя Эд. — Академик Королев — это и есть тот самый конструктор, который позволил людям шагнуть в космос. Сперва своим парням, Гагарину и другим, и уж только потом нашим ребятам, американцам. — К черту космос! К черту советский корабль! Мы горим, горим! — вдруг закричал мистер Тросс. — Полно, парень. Уже не горим, — попытался урезонить его Ганс — Как не горим! Вот он, пожар, воздушный пожар! Все мы задохнемся, все, кроме акул. — Уж не хотите ли вы, сэр, стать акулой? — Акулы не задохнутся! — срываясь на фальцет, закричал еще громче Тросс. — И под водой… и под землей, куда они спрячутся вместе с Вельтом! — Потише, парень, не то испугаешь акул. — Я не хочу задыхаться из-за пылающего острова, не хочу! Я уйду под воду, к акулам, пустите меня! И Тросс попытался броситься к реллингам. Но на пути его оказался Ганс Шютте. — Брось дурить, парень. Прозевал научника и готов топиться? Не выйдет. Не хочу, чтобы мне одному отвертывали мою седую голову. Держите его, парий. — Прочь с дороги! Перекушу! — закричал Тросс, отталкивая одного из усердных матросов. — Пусть меня похоронят на суше, если у него не припадок. А ведь такой деловой был парень. Ганс не причитал. Одним ударом он свалил мистера Тросса на палубу и стоял, над ним, широко расставив ноги и уперев в бока руки. — Что? Пока еще есть чем дышать? — насмешливо спросил он. Тросс неожиданно вскочил и, подпрыгнув, ударил обеими ногами Ганса в грудь и живот (прием каратэ). Это был удар такой силы, что даже гигант Ганс повалился на кричащую от возбуждения толпу моряков. Его подхватили и поставили на ноги. Великан хрипел, собираясь с духом, чтобы снова, броситься на Тросса. Но тот, свалив двух подскочивших быдо, к нему матросов, оказался уже на реллингах.
Секунду на фоне синего неба, подсвеченного в одном месте пожаром острова, выделялась его фигура в белоснежном костюме. В следующее мгновение он отменным чемпионским прыжком полетел в волны. Ганс перегнулся через реллинги, смотря в зеленоватую воду, то приближающуюся, то удаляющуюся от него. Пенные струйки делали ее похожей на мрамор. Весь экипаж судна тоже смотрел вниз с замиранием сердца. Вот промелькнул острый плавник, разрезая мраморную волну как бритвой. Тросс не всплыл. Только вода в одном месте окрасилась в такой же алый цвет, как и над пылающим островом. Люди попеременно переводили глаза с одного алого пятна в сини океана на другое — в небесной синеве. Ганс Шютте плюнул через борт. — Слабак! Слюнтяй! Нервы не выдержали! Баба! Да разве нам эдакое приходилось видеть? Подумаешь, дым над островом, какой-то пожар в океане. И туда же — к акулам. Кушайте на здоровье! — И он еще раз плюнул. Потом обернулся, словно вспомнив о чем-то, и скомандовал: — Яхте лечь в дрейф. Дядя Эд, спустить катер на подводных крыльях. Пойдем навстречу «Голштинии». Теперь главное — доложить обо всем боссу На фоне воздушного пожара в нескольких милях от обгоревшей яхты величественно покачивался на волнах красавец корабль «Академик Королев». Это было научное, исследовательское судно, несшее постоянную службу связи с запущенными из Советского Союза космическими объектами. Над его палубными надстройками бросались в глаза два огромных белых шара — это были защищенные сферическими колпаками антенны широкого обзора, следившие за космосом. — Человек за бортом! — послышался крик вахтенного Раздался топот ног. Несколько человек оказались у реллингов К ним широким шагом шел офицер: — Принять на борт! Кто-то усердный бросил за борт спасательный круг. Но человек, плывший к кораблю, не воспользовался им, он уверенно направлялся к уже свисавшему и нижними ступеньками задевавшему волны штормтрапу. По этому штормтрапу ловко забрался неизвестный в мокром, местами обгоревшем белом костюме. На нем не оказалось ласт аквалангиста, однако маску для подводного плавания он сдвинул на лоб. От нее тянулся резиновый шланг к жилету, наполненному кислородом Он неторопливо освобождался от этого снаряжения, передавая его матросам. Те смотрели на него с нескрываемым любопытством Вслед за вахтенным офицером, сходившим за командиром корабля, к группе моряков вокруг подводного пловца подошел и сам капитан, тщательно одетый пожилой моряк с прищуренными глазами. — С кем имею честь? — спросил он по-английски. — Дмитрий Матросов, — на чистом русском языке ответил пловец. — Матросов? Русский? — По-английски — мистер Тросс. Так у них принято усекать фамилии. Прыгнул с яхты Вельта не ради купания. — Понятно. Хотите отдохнуть? — Времени нет, товарищ капитан. Зафиксируйте, пожалуйста, что над видимым на горизонте островом Аренида возник воздушный пожар. Подробные сведения о нем я должен доставить в Москву немедленно. — Мы вызовем вертолет. Перебросит до аэродрома. — Вот переодеться не прочь. — Офицеры помогут. Товарищи, подыщите что-нибудь товарищу Матросову. — Вот спасибо. И вдруг совершенно неожиданно недавний «мистер Тросс» обнял строгого капитана советского корабля и расцеловал. — Простите, товарищ капитан. Кажется, вымочил вас, — смущенно сказал он. — Дело морское! — засмеялся моряк. В воздухе летел вертолет. Сверху океан из-за бегущих по нему волн казался заштрихованным. В одном месте штриховка застилалась дымкой, сквозь которую просвечивали языки пламени. Неподалеку от полосатой океанской глади беленьким пятнышком застыл корабль «Академик Королев». Моряки наблюдали, как повис над палубой вертолет. С него сбросили веревочную лестницу, и по ней с завидной ловкостью стал взбираться появившийся на корабле Матросов. Чья-то куртка на могучих плечах была ему маловата. Когда он уже забирался в кабину вертолета, она лопнула по шву, вызвав улыбку и шутливые замечания моряков Зашить куртку удалось только на сверхскоростном лайнере, гордости советского воздушного флота, паровом самолете, или паролете, как его называли. Развитие авиации пошло по линии использования двигателей внутреннего сгорания, а потом реактивных двигателей. Казалось, паровой двигатель навсегда ушел из авиации. Однако именно к паровому двигателю для самолетов вернулась техника на новом уровне своего развития. Паровой двигатель открыл дорогу в авиацию атомной энергии. В задней кабине самолета помещался удаленный от пассажиров атомный реактор. Применение быстролетящих нейтронов позволило сделать его очень легким. Реактор охлаждался кипящей при колоссальном давлении водой. Образующийся при этом пар направлялся в компактную паровую турбину сверхвысокого давления, на валу которой со скоростью в тридцать тысяч оборотов в минуту вращался постоянный магнит электрического генератора высокой частоты. Электрический ток направлялся по проводам к высокочастотным электромоторам у винтов. Как это ни парадоксально, но во время полета количество расщепляющегося вещества не уменьшалось, а увеличивалось в реакторе. Распад первичного вещества — урана-235 — вызывал не только освобождение энергии, но и превращение обычного урана-238 в более тяжелый плутоний, который прежде не встречался в природе и был лишь угадан русским ученым Баковым, когда-то опубликовавшим статью о гипотетических трансурановых элементах. Получалось как будто так, что паролет в полете практически не расходовал топлива и мог летать без посадки очень долгое время… Паровая установка позволила использовать на нем ядерную энергию. Пар с триумфом возвращался в авиацию. Командиром паролета был прославленный советский летчик Валентин Иванович Баранов, хранитель традиций Чкалова и Громова, как он о себе говорил. За свою летную жизнь он установил множество авиационных рекордов, но все они были им же побиты на паровом атомном самолете, который летал выше, дальше и быстрее остальных. Валентин Иванович гордился теперь, что его экипажу выпала честь доставить со сверхзвуковой скоростью Матросова в Москву. Был Баранов высокого роста, носил рыжие бакенбарды и обладал гремучим басом. — Черт тебе в крыло! — кричал он Матросову, отняв у него лопнувший пиджак и заставив двух миловидных бортпроводниц привести в порядок костюм единственного пассажира. Паролету не требовалась посадка, он доставил Матросова прямо на подмосковный аэродром. В пути Матросов имел телефонный разговор с Москвой. Ему предложили сразу прибыть на экстренное заседание ученых в Академии наук. Когда гигантский паролет с задранным носом, напоминая собой неведомое чудовище с другой планеты, коснулся колесами бетонной полосы, с ним почти поравнялась вызванная Барановым пожарная машина. — Черт тебе в крыло! — кричал по радио командир. — Выдвигай лестницу, лестницу выдвигай, тебе говорю. Не пожар тушить тебя вызвали, а пассажира принять. Вместо трапа! Начальник пожарной охраны аэродрома, стоя на подножке машины, сам руководил таким неожиданным маневром. Лестница начала выдвигаться, но… черная «Чайка» обогнала пожарный автомобиль и поравнялась с открывшейся дверцей паролета, в которой показался Матросов. Он не стал ждать, пока пожарники приставят лестницу и самолет остановится. Еще на ходу он спрыгнул с высоты второго этажа и тотчас вскочил в открывшуюся дверцу «Чайки». — Вот черт ему в крыло! — восхищенно крикнул Баранов. — Нам бы в авиацию таких парней! «Чайка», скрипя шинами на виражах, мчалась к выезду с аэродрома, где ее ждали две желтые орудовские машины с синими полосами вдоль корпуса. Стоя перед собравшимися учеными, ошеломленными известием, что воздух горит, Матросов объяснял: — Шестой окисел образуется при горении воздуха в присутствии редчайшего катализатора — фиолетово газа с острова Аренида. Я сам это видел. Мне удалось собрать шестой окисел, который в виде порошка оседал на землю во время демонстрации нового оружия в Западной Европе. И он показал ученым пробирку, с которой не расставался со времени парада, устроенного Вельтом для экспертов в Ютлаидии.
Глава V. ВОЗДУШНЫЙ КОСТЕР
— Лодка на горизонте! Капитан невольно обернулся к репродуктору. — Моторная лодка на горизонте! — повторил голос. Капитан «Голштинии» тяжело засопел и с трудом поднял из-за стола свое грузное тело. Его помощник, мятый и желтый, как прошлогодняя газета, тоже встал, и они вместе вышли на палубу. Капитан взбирался на мостик впереди своего спутника, но все-таки его круглая голова не могла подняться выше тощей, жилистой шеи помощника. Горизонт был чист. Выпуклый край моря казался вырезанным резцом. Четкая линия его особенно подчеркивала спокойствие холодного неподвижного дня. Стоявший на мостике второй помощник подошел к капитану: — Лодка на горизонте, сэр! Капитан втянул в себя воздух и протянул руку по направлению к висевшему на груди второго помощника электронному биноклю. Тот быстро снял через голову ремень и протянул бинокль капитану. Оба помощника почтительно смотрели на своего начальника. Толстяк молча кивнул. — Не правда ли, лодка на подводных крыльях, сэр? Бинокль перешел к первому помощнику. Голова его вместе с биноклем некоторое время поворачивалась на тонкой шее, как на вертикальной оси. — Это не кто иной, как мистер Шютте! Это же катер на подводных крыльях с яхты! — предположил младший помощник. Высокий и толстый согласились: — Прикажете лечь на курс зюйд-вест? Капитан кивнул. «Голштиния» медленно изменила курс. Три офицера неподвижно стояли на мостике. На палубу высыпала команда и пассажиры. Это были по преимуществу негры и малайцы, нанятые для работы на острове Аренида. В салоне нервно расхаживал вновь назначенный ассистент профессора Бернштейна доктор Шерц. Его немолодое усталое лицо было озабочено. Он то и дело хрустел пальцами, каждый раз вздрагивая и испуганно на них посматривая. На всем пароходе: в каютах, на палубе, в машинном отделении, в буфете, в радиорубке — везде перешептывались встревоженные люди. Молчали только на капитанском мостике. Катер уже можно было разглядеть простым глазом. Отчетливо видны были два седых буруна и почти до половины выскакивающий из воды корпус. Ганс и Эдвард хмуро смотрели на столпившихся на борту парохода людей. Никакой радости не было на их осунувшихся, покрытых щетиной лицах. Словно сговорившись, они разом оглянулись назад. Потом Ганс стал пристально рассматривать мотор, а дядя Эд сплюнул за борт. С парохода махали руками и что-то кричали. Когда Ганс Шютте поднялся по трапу на палубу парохода, его встретили капитан со старшим помощником и доктор Шерц. К их удивлению, всегда такой обходительный и простой, начальник экспедиции посмотрел на них исподлобья, качнул головой и заложил руки в карманы. Все трое непонимающе переглянулись и направились следом за Гансом Шютте. Он зашагал прямо к салону, на ходу пробурчав: — Радиорубку… живо… Прямой разговор с биг-боссом! Первый помощник отстал. Ганс обернулся к капитану и сказал: — Пива! Тот кивнул, поманил кого-то пальцем и выразительно дотронулся до шеи. Стюард все понял и скрылся. В салоне сели за столик втроем. Вскоре пришел и первый помощник, а за ним и стюард с шестью кружками пива в каждой руке. Он поставил их перед Гансом и вышел. На пароходе делали тысячи догадок и предположений. Что могло заставить начальника экспедиции на остров Аренида появиться среди океана на моторной лодке вдвоем с англичанином, который, поминая всех морских чертей, немедленно завалился спать? Что могло случиться? Где яхта? Что ожидает пароход? — Прежде всего, любезный капитан, — сказал Ганс, осушив пятую кружку, — поворачивайте назад. Капитан вытаращил рачьи глаза. Ганс назидательно покачал головой: — Задний ход! Задний ход, капитан! Ассистент профессора Бернштейна доктор Шерц вскочил: — Ради всевышнего, мистер Шютте, что произошло? Где профессор? Почему обратно?.. Да говорите же, мистер Шютте, я умоляю вас! Ганс презрительно посмотрел на него, выпил подряд две кружки пива и сказал: — Придется вам притормозить! Тот сел, беспомощно уставившись на Ганса. Тем временем уходивший отдать распоряжение об изменении курса помощник капитана вернулся. — Яхты больше нет, — сказал Ганс, отодвигая от себя одиннадцать пустых кружек. — Плавает головешка. Под столом хрустнули пальцы доктора Шерца. Ганс вытащил из кармана письмо и потряс им в воздухе: — Вот все, что осталось от острова Аренида и от профессора! Ассистент Бернштейна ахнул. Моряки переглянулись. Ганс посолил пиво и выпил последнюю кружку. — Готов разговор с биг-боссом? Старший помощник кивнул и поднялся. Гане тяжело вышел следом за ним. Капитан и доктор Шерц остались сидеть в салоне. В радиорубке, вытянувшись, стоял радист. — Ну что? — спросил Ганс. — Ютландский замок отвечает. — А мистер Вельт? — У телефона. — Всем выйти! — скомандовал Шютте. — Да… но аппаратура… — начал было радист. — Но-но!.. Дать задний ход! Радист и старший помощник, вышли. Ганс включил микрофон. — Хэлло, Ганс! Проклятье! Что за шутки? Почему вы на «Голштинии»? — послышалось из репродуктора. — Вы лучше спросите, биг-босс, почему я не в аду. — Но-но! Что за тон! У меня не слишком много времени для вас! — В голосе Вельта слышалось раздражение. Ганс съежился, заговорил вполголоса: — Мистер Вельт, я имею вам сообщить о страшном несчастье… — Дальше! — Погиб профессор… — Ну, это еще не столь страшно? — И уничтожил остров! — Эй, Ганс! Вы напились? Хэлло? Что вы там городите? — Ничего не горожу, биг-босс? Я выпил всего дюжину пива. А до того ехал двое суток на катере. — К делу! — Биг-босс, рассказывать я не мастак. Вот профессор тут все сам написал. — Хэлло, Ганс! Вызовите своего радиста и скажите, чтобы он перешел на направленную волну. Я предпочитаю разговор без свидетелей. — Будет исполнено, мистер Вельт! Через десять минут вызываю вас вновь. — Поторопитесь! У меня не слишком много времени для вас! Сказав это, Вельт раздраженно стукнул портсигаром по столу и выключил микрофон. Потом, отбросив плед, которым был закутан, вскочил и быстро заходил по комнате. — Идиот! Кричит на весь эфир о гибели острова. Где у него мозги? Нет, шофер всегда останется шофером. Вельт со злостью вытащил из кармана носовой платок и остановился около стрельчатого окна. Раздался мелодичный звон. Вельт оглядел заставленные книжными шкафами стены своего кабинета; нажав кнопку, спустил на окнах стальные жалюзи и включил микрофон. — Ну? — сказал он. — Я читаю вам, мистер Вельт! — донесся издалека голос Ганса. — Только живее. Я не позволил бы вам говорить даже на направленной волне, если бы можно было терять время и ждать вашего возвращения. — «Будь проклят мир капитализма!» — Но-но! — Тут так написано. — К черту! Дальше! — «Будьте прокляты поработители человечества! Я, безумный слепец, профессор Бернштейн, фактически посвятивший свою научную деятельность служению гибели цивилизации, в последний день своей жизни понял это…» — Поздновато! — сказал Вельт, вертя в руках золотой портсигар. — «Я создал страшное средство, которое волею судьбы неизменно окажется в руках врагов человечества — поджигателей планеты. Я понял это и уничтожаю то, что создано моими руками. Я не дам никому воспользоваться открытой мною реакцией. Спасая человечество, я приношу в жертву себя. Я уничтожу остров Аренида — источник проклятого газа, зажигая над ним атмосферу…» — Что?! — заревел Вельт, вскакивая и запуская портсигаром в настольные часы. — Тут написано: «Зажигая над ним атмосферу». — Мало ли что там написано! — Мистер Вельт… к сожалению, осмелюсь доложить, этот воздушный костер я сам видел. — Что вы такое видели? — свирепо закричал Вельт, совсем теряя самообладание. — Горящую атмосферу, мистер Вельт. — Он зажег ее над островом? — Так точно, мистер Вельт. — Проклятый ученый! Он даже сам не понимал, что наделает. Передайте приказ мистеру Троссу тотчас же сообщить мне все во всех подробностях, по-журналистски. — Мистера Тросса съели акулы. — Что вы городите, старый пьяница?! — Так точно, сэр. Слабак спятил с перепугу и спрыгнул за борт к акулам. Мы все видели пятно крови. — Проклятье! Он выбывает из строя, когда особенно нужен мне для дела. — Для дела, сэр? — Которое вам не по плечу. — Ганс еще может… — Ничего вы не можете. — Какие будут приказания? — Возвращаться немедленно. — Слушаюсь! — Все!.. Проклятье! — Мистер Вельт, не можете ли вы передать моему сыну… — Мне не до родительских нежностей! Вельт выключил микрофон. Некоторое время он сидел, откинувшись в кресле и кутаясь в плед. Потом с силой стал тереть ладонями сморщенный лоб. — Это же гибель, гибель! — шептал он. Накинув на себя плед, он зашагал из угла в угол. Дверь открылась, и на пороге показалась Иоланда Вельт. — Я не помешаю вам, Фредерик? — спросила она. — Вы? — Вельт приостановился. — Нисколько, моя дорогая. Напротив! — Чем вы заняты, мой друг? — Иоланда нежно поправила на Вельте плед. Вельт усмехнулся: — Я обдумываю организацию нового концерна… Но ближе к делу, моя дорогая. Судя по тону, вам нужны деньги? — Как вы проницательны! Это действительно так. — Догадаться нетрудно. Сколько? — О, пустяки! На эти дни мне хватит трехсот тысяч. — Что это: наряды, увеселения, пожертвования, благотворительность, карты? — Да, вы действительно проницательны! — Иоланда криво усмехнулась. — Я люблю чувствовать жизнь, меня надо возбуждать. Это дает мне игра. Я люблю азарт! — Я признаю игру другого рода. Я начинаю ее с сегодняшнего дня, миледи. Однако я не располагаю временем. Чек для вас написан, возьмите на столе. Иоланда повернулась к мужу спиной, взяла со стола чек и, не сказав ни слова, вышла из кабинета. Вельт остался стоять посередине комнаты, уронив плед на пол. Он ожесточенно тер ладонями виски. Потом он подошел к телевизефону и заказал прямые разговоры с директорами отделений своего концерна в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Риме. Мистер Вельт решил действовать быстро, ибо сразу понял значение происшедшего.Глава VI. ЧЕЛОВЕК, УЗНАВШИЙ БУДУЩЕЕ
Морис Бенуа наконец вышел на свежий воздух. Но и на улице было так же жарко, как в кабинете военного министра, где почему-то отказал аэрокондишен. Воздух казался раскаленным, словно он горел. Нет, довольно! Довольно! Надо отдохнуть от всех этих переживаний. Кроме того, у каждого француза могут быть свои убеждения. Даже и у военного. Франция может гордиться, что ее французы и француженки всегда были в числе первых, кто боролся за мир. У нее есть патриоты, имена которых знает весь мир. И ничего нет странного, что и генерал военного времени, участник Сопротивления Морис Бенуа, а не какой-нибудь выскочка-политикан, всегда сочувствовал им. Да, сочувствовал, и не вопреки своему военному положению, а именно как признанный военный специалист, желающий уберечь мир от всего, что он знает. И нечего господину министру тыкать сейчас этим генералу Бенуа в глаза. Если он нашел нужным послать генерала Бенуа в качестве эксперта к Вельту, так пусть и выслушивает его, Бенуа, мнение об адском предложении магната. Министр выслушал Бенуа, и старый солдат умывает руки. Довольно! Бенуа больше ничего не желает знать об огненной реакции господина Вельта. В конце концов, сегодня он только парижанин, который снова празднует вместе со всем французским народом годовщину французской революции. Выкинуть из головы все и веселиться, веселиться! Сегодня он сбрасывает с себя груз забот и лет. Морис Бенуа действительно помолодел, едва пришел к этому решению. Он сразу же улыбнулся двум встречным девушкам с платиновыми волосами и был доволен, когда получил в ответ задорные взгляды. Тогда он выпрямился и, восхищая женщин своей военной выправкой, двинулся вперед в людском потоке, гордо закинув голову. Сегодня ночь на 14 июля. Великий народный праздник. Бенуа огляделся. Он был на площади Гранд-Опера. Нижняя часть фасада под крылатыми статуями, покрытого серовато-черным, «аристократическим» налетом старины, была прикрыта высокими подмостками. Бенуа протиснулся через толпу поближе к временной эстраде. Сегодня любимые артисты выступают для народа под открытым небом. На подмостках сама Жанна Дюкло! Она поет карманьолу! Она машет рукой! Она дирижирует! Бенуа запел во весь голос. Окружающие подхватили. Вместе с артисткой пел весь народ на площади Гранд-Опера. Бенуа весело оглядывался вокруг. Ему было радостно оттого, что он поет вместе с Жанной Дюкло, а рядом с ним поет восхитительная миниатюрная парижанка, она годится ему чуть ли не во внучки, но сегодня Бенуа согласился бы считать ее своей подругой! На эстраде появилась знаменитая актриса Клод Люсьон. Затянутая в черное облегающее платье, она стала петь песенки с нервным ритмом. Толпа встретила ее свистками. Бенуа увидел, что хорошенькая девушка, скользнув по нему взглядом, стала выбираться из толпы. Ни на минуту не задумавшись, он тронулся за ней. Вскоре они оказались на бульваре Капуцинов. Улица закрывалась ослепительной колоннадой Мадлен. Бенуа словно в первый раз увидел ее. «Как дивно хорош Париж!» — подумал он. Маленькая парижанка потерялась в толпе. Но Бенуа все равно было хорошо: он чувствовал себя превосходно. Он обменивался взглядами и шутками со встречными мужчинами и женщинами. Поток пешеходов прижал его к внутренней стороне тротуара, и он неожиданно оказался в кафе. Столики были расставлены на тротуаре так тесно, что пробираться среди них было трудно, но зато смешно. Изящная парижанка, сидевшая со стариком отцом, а может быть, мужем, подставила Бенуа ножку; когда же он, споткнувшись, извинился, она весело захохотала. Морис Бенуа вынул из петлицы розу и бросил ей на стол. Жара давала себя чувствовать, несмотря на вечер. Давно уже хотелось промочить горло. Бокалы на тоненьких и высоких ножках с разноцветной жидкостью и неизменным кусочком тающего льда на донышке давно привлекали взор Бенуа, но тем не менее он полностью уподоблялся путнику в Сахаре, преследуемому миражами. Он видел желанную, манящую воду, он изнемогал от жажды, но… но не мог достать ни капли. Все столики и на тротуаре, и в глубине кафе были заняты. Люди сидели за ними, терпеливо потягивая через соломинки столь желанную Бенуа влагу, и смотрели на текущую толпу. Бенуа знал: ждать бесполезно. Они будут сидеть так весь вечер и часть ночи, беседуя о пустяках, важных вещах или просто молча. Наконец Бенуа добрался до площади Мадлен. Грандиозная церковь, похожая на древнегреческий храм, занимала своим четырехугольником колонн почти всю площадь. Слева до Бенуа донеслась музыка. Перед выползшим на мостовую кафе танцевали. Бенуа захотелось остаться здесь, посмотреть, как танцует молодежь. Все столики на мостовой были заняты. Бенуа неохотно заглянул в кафе. Оно представлялось большим, но это был обман. Бенуа увидел свое изображение в сплошной зеркальной стене. Помещение оказалось тесным, забитым людьми. Однако Бенуа повезло, он даже не поверил своим глазам: прямо перед ним за столиком освободалось место. Он устремился к нему и с наслаждением опустился на стул. Подскочил гарсон. Это был здоровый парень с наглым взглядом. Наверно, он входит в объединение апашей и в свободное время выполняет разные задания, вроде взимания неоплаченных долгов с лиц, никогда в жизни не бравших взаймы. Гарсон-апаш поставил перед Бенуа пенящийся бокал с двумя соломинками. Бокал стоял на тарелочке, на которой было написано, сколько франков причитается с Бенуа за один бокал. Если принесут еще бокал, на столе появятся уже две тарелочки. Это облегчает счет гарсону, могущему забыть, что он подавал за несколько часов сидения посетителя в кафе. Бенуа была видна часть площади и танцующие пары. Какой-то старый и хорошо одетый парижанин, сдвинув котелок на затылок, танцевал один, держа в руках смешную деревянную собачку, которая то вскакивала на своей дощечке, то ложилась на нее. Девушки окружили старика и тщетно просили продать или подарить им игрушку. «Только французы умеют так веселиться», — подумал Бенуа. Среди танцующих замелькали газетные листы. В кафе влетел газетчик: — Необыкновенные известия! Пожар в океане! Тайна профессора Бернштейна! Воздушный костер! Гибель острова! Бенуа улыбнулся. Даже газеты настроились на общий лад и хотят всемерно веселить парижан. Он бросил мальчику монету, которую тот поймал на лету. На столике оказался вечерний листок. Бенуа посмотрел сначала программу завтрашнего парада: с горечью вспомнил, что военный министр не предложил ему билета на трибуну, что надо сегодня же вечером купить на бульваре бумажный перископ, чтобы увидеть завтра парад, хотя бы стоя в задних рядах публики. Потом он взглянул на первую страницу. Соломинка, которую Бенуа держал в руке, неожиданно сломалась, но он даже не заметил этого. Побледнев, он залпом выпил бокал и старательно разжевал попавшую в рот соломинку. — Что с вами? — спросила маленькая девушка с соседнего столика. Бенуа посмотрел на нее пустыми глазами. Он не узнал ее, хотя это была та самая парижанка, с которой они вместе пели на площади Гранд-Опера. Не веря глазам, Бенуа перечитывал полосу, где перепечатаны были выдержки из дневных газет всего мира.«Вчера репортерами американских газет подслушан радиотелефонный разговор между знаменитым миллионером Вельтом и начальником организованной им экспедиции в Тихий океан. Оказалось, что безумный профессор Бернштейн, оставшись один на острове Аренида, поджег над ним воздух. Открыв горение воздуха в присутствии выделявшегося на острове газа, профессор хотел сделать остров и свою огненную реакцию недоступными для человечества…»Бенуа закрыл глаза рукой. Нет, это не может быть, выдумкой. Ведь он-то знает, что Вельт действительно послал экспедицию на остров Аренида. Он упоминал даже фамилию профессора Бернштейна. Горящий воздух! Ведь это и есть проклятая реакция Вельта. Стеной горящего воздуха предлагал он уничтожить коммунистические страны. А теперь… Холодный пот выступил у Бенуа на лбу Маленькая парижанка захохотала. Рядом с Бенуа освободилось место, и девушка быстро пересела к нему, забрав свою порцию мороженого. — Будем знакомы, мосье. Вы можете звать меня Аренидой. Вамнравится? Старый солдат вздрогнул. Он испуганно посмотрел на маленькую женщину. А она щебетала: — Хотите танцевать со мной? Ведь мы уже пели вместе. Мы придумаем танец горящего воздуха. В голову Бенуа пришла страшная мысль. Он был единственным во всем Париже человеком, который понял истинное значение событий в Тихом океане… Значит, подслушанный газетами радиоразговор действительно происходил! Экспедицию постигла катастрофа. Горит воздух над островом! Что же сможет остановить страшную реакцию? — Вы неразговорчивы! — сказала девушка, надув крашеные губки. — Разве вам сегодня не весело? Вам не нравится имя Аренида? — Аренида… — тихо прошептал Бенуа. — Что? — так же тихо ответила девушка, взглянув из-под удлиненных ресниц. Бенуа встал. Ему было нехорошо. Не хватало воздуха. Он задыхался. Сумасшедшие люди, они танцуют! Они ничего не понимают! Они не знают, что будет представлять их Париж через несколько месяцев! Бенуа зажмурился и почти выбежал из кафе. Девушка обиженно смотрела ему вслед. Она поднялась. К ней подскочил гарсон и стал подсчитывать тарелочки на столике, где сидела она с Бенуа. — Я не буду платить за него! — возмутилась девушка. Но гарсон преградил дорогу, нагло оглядывая ее с ног до головы. По-видимому, он действительно был специалистом по взиманию долгов с людей, никогда не должавших. Девушка со слезами на глазах отдала несколько франков. — А еще военный! — прошептала она. Бенуа медленно поднимался вверх по бульвару Монмартр. Через каждые несколько шагов встречались кафе с расположившимися на улице оркестрами. Оркестры соперничали друг с другом, стараясь заглушить своих соседей. Люди танцевали на мостовой, почти остановив движение. Они танцевали под все, что им играли. Ближе к центру преобладали негритянские фокстроты, стонущие, безмотивные, звукоподражающне; немного дальше звучали французские фокстроты или переделанные под них классические вещи. В одном месте лихо фокстротировали под третий этюд Шопена. В переулках, где танцующие совсем остановили уличное движение, где над их головами развевались веревки с нанизанными на них бумажными флажками, люди танцевали по преимуществу вальсы или старинные народные танцы. Бенуа со щемящим сердцем смотрел на этих людей. Он был по-настоящему одинок, так, как мог быть одинок в мире только человек, знающий тайну добра и зла. Бенуа знал тайну будущего. Он один знал, что станется с этими беспечными людьми. Сколько страха, горя, страданий и ужаса ждет их!.. Может быть, оттого, что Бенуа все время думал о безвозвратно сгорающем воздухе, ему было действительно трудно дышать. Вернулась старая одышка. Люди часто останавливали его, заговаривали с ним, тащили танцевать, шутили. Всюду звучало модное словечко, пущенное вечерними газетами: «Аренида». Бенуа каждый раз вздрагивал. Проходя мимо одного пустующего кафе, Бенуа заметил, как два гарсона, забравшись на лестницу, натягивали полотняную вывеску, наскоро сделанную, вероятно, из скатерти. На ней огненно-оранжевыми буквами было написано:
«КАФЕ „АРЕНИДА“.Бенуа, словно прикованный, остановился. Невольно опустился на стул. Перед ним появилась тарелочка с бокалом и соломинкой. Бенуа грустно посмотрел на окружающих. Ведь он знал, что ожидает их всех… Вывеска сделала свое дело. Прохожие, увидев ее, смеялись и оставались здесь. Скоро откуда-то явился оркестр. Начались танцы. Кто-то распевал странную песенку, где очень часто упоминались слова «Аренида» и «пожар». «Какой ужас, — подумал Бенуа, — быть в положении человека, который знает будущее! Отравлены все секунды…» Бенуа проклинал мир. Он жалел людей и в то же время ненавидел их… и завидовал им. Наверно, точно так же должен был чувствовать себя Мефистофель. Боже! Неужели он, Бенуа, храбрый солдат и неплохой малый, который только в детстве читал Гете, должен оказаться в мире хоть на несколько часов Мефистофелем! Бенуа обхватил голову руками. Нет, он не демон! Бес бессмертен, а Бенуа ждет то же, что и всех людей, всех этих веселых плясунов и певцов. Он так же, как и они, будет хватать воздух руками, корчиться и в жутких судорогах задыхаться. Бенуа никогда не боялся смерти. Но думать обо всем этом было страшно. С отвращением представлял он себе этих людей задыхающимися, ползающими по мостовой… На столик Бенуа вскочила очаровательная женщина. Он видел ее точеные ноги в прозрачных чулках и крошечных туфельках. Он поднял усталые глаза и узнал Жанну Дюкло. Оркестр смолк. Жанна Дюкло, любимая артистка народа, запела «Марсельезу». Толпа, запрудившая улицу, запела вместе с ней. И вместе с людьми, отражая звуки, запели стены старых домов, не раз певшие с баррикадами песню великой разрушающей и созидающей толпы. У ног артистки сидел старый француз с седыми усами. Он сжал голову руками и единственный во всем Париже думал о том, что эта песня никогда уже больше не прозвучит на земле.
Глава VII. КРЕПОСТЬ ДУХА
Марина стояла в узком коридоре вагона и смотрела в окно. Назад убегали поля, ручьи, дороги, перелески… Мелькали домики, иногда группами, напоминая маленькие города. Порой перед шлагбаумами стояли вереницы машин. Огромная птица летела вровень с поездом. Она размеренно и экономно взмахивала сильными крыльями. Ноги ее были вытянуты в одну линию с шеей. Поезд перегнал птицу, когда она уже, хлопая крыльями, повисла над столбом со старинным колесом от телеги наверху. — Аист, — сказал Марине седенький сосед, куривший в коридоре. — Аист? — почему-то удивилась Марина. — Они здесь тоже встречаются? — Как же! Не только у вас на Украине. — А я не с Украины… Аист, севший в свое гнездо, остался далеко позади. Прошел проводник: — Станцию Жабинку проезжаем. Теперь — Брест. Кто за границу, пройдите в помещение вокзала. У вагона будут менять тележки. — Зачем? — поинтересовалась Марина. — Анахронизм, — отозвался все тот же сосед. — Колею все еще не перешили. А пора бы, если всерьез помышлять о стирании былых граней. — Да, да! — вспомнила Марина и смутилась. — Колею все еще не перешили… В западноевропейских странах она чуть уже, чем наша. Мелькали последние километры советской земли. Марина пыталась представить себе, что происходило здесь в начале гитлеровского вторжения. Горели вот такие же аккуратные домики и вместе с ними гнезда аистов на высоких столбах или старых деревьях. Прилетали аисты, не находя своих гнезд. Покидали свои гнезда люди, не зная, когда вернутся… Марине, основательно изучавшей историю, все же было трудно представить себе эти картины. Слишком далеки были от того трагического времени все ее представления, все ее интересы. Одно дело — прочитать о тогдашних ужасах в книжках или даже увидеть их на киноэкранах, совсем другое — представить себе горящей землю, на которую она сейчас ступит. Марине не надо было пересекать советскую границу. В Бресте она сходила, чтобы добираться дальше до бабушки на автобусе. Попрощавшись с седеньким соседом, ехавшим в Париж, она бодро зашагала к невысокому зданию вокзала, прошла через его шумные залы и оказалась на тихой привокзальной площади. У Марины не было вещей — одна только сумка. Что, если дойти до крепости пешком? Автобуса ждать несколько часов. Она спросила какую-то девочку с косичками: далеко ли до Брестской крепости? Девочка, стоя на одной ноге (она играла в «классики», начерченные мелом на асфальте), сказала, что надо выйти на Каштановую улицу и идти по ней все время прямо. Дорога будет обсажена деревьями. Упрется в бетонную стену. А в ней дыра как пятиконечная звезда, только неровная. За ней крепость. И там штык до неба. — Только до нее далеко, — предупредила она и прыгнула в начерченный квадратик. Марина все-таки пошла пешком. Правда, пройти много ей не удалось. Нагнал мотоциклист. Коляска у него была свободной. — Вам в крепость? Дорога здесь без поворотов. Так и я туда же, — сказал он, откидывая полог коляски. Марина украдкой взглянула на мотоциклиста. В шлеме он показался ей военным, хотя формы на нем не было. И она согласилась. — Хотите познакомиться с достопримечательностями? — спросил мотоциклист, набирая скорость. — Нигде так не ощущаешь движение, как на мотоцикле, — сказала Марина, прикрываясь от бьющего в лицо ветра косынкой. — «В движеньи счастие мое, в движеньи…» — пропел строчку из песни Шуберта мотоциклист. Марина с интересом посмотрела на него. Из-под шлема выглядывало немного скуластое волевое лицо с тяжеловатым подбородкам. — Вы могли бы быть космонавтом, — сказала она. — Мечтал, но пока не привелось, — отозвался ее спутник. — Может быть, вес велик. Марина мысленно согласилась. Он действительно был крупноват: широк в плечах и роста завидного. — Разве что в будущем. Мечтаю о Марсе. Крепость действительно показалась за бетонной стеной с проемом в виде неровной звезды. В нем виднелся бетонированный двор с обелиском, похожим на штык. И никаких стен и башен, как у Московского или Ростовского кремля. Марина сказала об этом: — Так это же старинная, но не древняя крепость, — отозвался мотоциклист. — Ее построили в девятнадцатом веке для тогдашних пушек с ядрами. В те времена она представляла собой силу. В ней могло отсидеться несколько тысяч человек. Даже большая армия не рискнула бы пройти, не взяв крепость, не разоружив ее гарнизон. Но не в двадцатом веке. Гитлеровские полчища прошли мимо. — Почему же во время войны с Гитлером она все же была крепостью? — Крепостью была, только особой. Вам экскурсоводы все расскажут. Вот мы и приехали. Видите: с одной стороны Буг, с другой — его приток Мухавец, разделенный на два рукава. Система обводных каналов делала крепость на островах труднодоступной. Ну и еще эти внешние обводы — земляные валы. — Как они заросли кустарником! — Вы не киноактриса? — спросил мотоциклист, притормаживая на довольно узком мосту. — Нет, — удивилась Марина. — Разве похожа? Ее спутник немного смутился: — В принципе киноактриса может на всех походить. И на вас тоже, если в фильме ей выпала ваша роль. — Ну, синих чулков вроде меня в кино играть не будут! — рассмеялась Марина. — Приехали. Вон Тираспольские ворота. О них можно рассказать много легенд. Правдивых легенд. Ищите экскурсовода. Марина прошла под аркой изрядно побитых кирпичных ворот с башенкой вверху и оказалась на вымощенном камнями дворе. Ее окружали приземистые, полуразрушенные и местами заново восстановленные здания. В центре площади высились руины, старой церкви, заросшие не только травой, но даже кустиками. Рядом обелиск казался огромным. Экскурсии не было видно. Из ворот вышел спутник Марины, на этот раз без шлема. Бросались в глаза седые виски, не вязавшиеся с молодым еще лицом. — Вот беда, — сказал он, — вы опоздали. Я узнавал. Группа уже ушла в подвалы. Догонять ее не стоит — много пропустили, а ждать… Ведь нет ничего хуже, чем ждать или догонять. — Но если я специально приехала в Брест, чтобы побывать здесь, то можно и ждать и догонять. — Специально? — удивился спутник. — А зачем? — Поклониться праху героев. — Тогда давайте сделаем это вместе. — Я не против. Спутник чем-то располагал ее к себе. — Решено, — неожиданно заявил он. — Я заменю вам экскурсовода. Я ведь тоже «специально» прилетел сюда. На аэродроме ребята дали мне мотоцикл, вот я вас и догнал. — Прилетели? И тоже специально? Узнать о Бресте? — Нет. Узнать о нем еще что-нибудь мне трудно. — Так зачем же вы здесь? — Будем считать, для того, чтобы быть вашим гидом, чичероне… — Ну что вы! Слово какое-то неподходящее. — Вы правы. Лезут чужие слова. Но я исправлюсь. Они шли по крепостному двору, изрытому давними, сглаженными и заросшими травой воронками. — Когда на рассвете тихого июньского дня гитлеровцы без объявления войны коварно напали на крепость, она была почти пуста. — Вы же говорили, что она могла быть убежищем для тысяч солдат. — Могла. Но все полки были выведены в лагеря. Здесь оставались случайные командиры, разрозненные группы солдат разных подразделений. Гитлеровские автоматчики захватили церковь, — он указал на центральные руины, — и держали весь двор под огнем своих пулеметов. Люди бежали из казарм к штабу полуодетые, безоружные, И погибали, не добежав до Белого дворца. — Это его развалины? — спросила Марина, силясь представить себе дворец. — Да. Так называли инженерное управление. Там у нас помещался штаб полка. — У вас? — подняла брови Марина. — Ну, не у меня, конечно. У нас вообще. Защитников крепости было едва ли несколько сот человек. Многие погибли в первые минуты. Нужно было выбить автоматчиков из клуба, который помещался в церкви. Еще вечером все смотрели там кино. И солдаты разных полков, 333-го, 84-го, пограничники, не все с оружием, но вооруженные злостью, ринулись через окна клуба, закрывая своими телами дула пулеметов. Голыми руками брали церковь. Автоматы вырывали у гитлеровцев. Били их, душили, уничтожали. Это было против всяких правил. И враги не выдержали, но убежать едва ли кому из них удалось. Их расстреливали из их же пулеметов на этом дворе, как наших в первые минуты войны. — Я думала, крепость — это оружие, боеприпасы, продовольствие, а никак не рукопашная с голыми руками. — Все здесь было не по правилам. Гитлеровские автоматчики успели сообщить по радио о своей беде. Тогда на крепость обрушился ад. Это надо было видеть. Никогда в жизни не забудешь. Тяжелые снаряды перепахали всю эту площадь. Разрушили вот эти здания, рассчитанные на тяжелые ядра, но не на фугасы. А фугасы посыпались с неба. Гитлеровские стервятники пикировали вот сюда, и сюда, и сюда… Огненные фонтаны земли, камня, дыма, казалось, могли достать самолеты, но те успевали отлетать. А здесь был шквал, смерч, самум, буран, торнадо из огня, дыма, осколков и рушащихся сводов. Мы потом с вами спустимся вниз. Я тут все проходы знаю… — Но ведь вы же не могли тогда воевать! — протестующе воскликнула Марина. — Конечно, не мог, — с улыбкой согласился ее спутник и продолжал: — Когда в крепости все полегло, что могло упасть, гитлеровцы пошли на штурм разбитых камней, но… развалины ожили. Наши успели организоваться. Нашлись смельчаки командиры, которые не растерялись, собрали около себя всех, кто мог держать оружие, и дали врагу отпор. Ворвавшиеся во двор враги были перебиты. А какие это были отменные солдаты! Рослые, кровь с молоком! Отважные, наглые, самоуверенные, прошедшие коваными сапогами по всей покоренной Европе. — Значит, все-таки крепостные склады помогли? — Увы, мало. Большая их часть была уничтожена немецкой артиллерией и самолетами, к другим нельзя было пробраться. Основными поставщиками оружия защитникам крепости стали сами гитлеровцы. — Вот как? — Да. Я вам говорил, что весь двор был завален их телами. Земляные валы тоже. Наши проползали между трупами и забирали оружие и боеприпасы. И фляжки с водой или водкой. Так началось сопротивление, сопротивление, которое поставило немецкое командование в тупик. Их расчеты на молниеносную войну, преимущество в силе, вооружении, технике, их расчеты на внезапность дали первую трещину именно здесь. Гитлеровские войска прорвались к Минску, взяли его, захватили Смоленск, даже Можайск и кричали уже о взятии Москвы, а Брестская крепость, которая даже и не крепость-то с военной точки зрения, все еще не была полностью взята. Гитлеровцы бесновались. Сначала они строго приказывали защитникам крепости капитулировать, обещая им жизнь (только жизнь!). Потом громкоговорители начинали свой крик со слов: «Доблестные защитники крепости!» Им предлагали сдаться под всевозможные гарантии, уверяя в бесполезности дальнейшего сопротивления, поскольку германские войска «вступают в Москву». — Они лгали! — Лгали и даже самим себе, старались уверить, что конец войны близок. А засевшие в развалинах защитники крепости не верили гитлеровцам, зато верили в то, что победа будет за нами, советские войска вернутся и изгонят захватчиков. — Наших поддерживали здесь с фронта? Бросали с самолетов оружие, снаряжение, продовольствие? Как партизанам? — В том-то и беда, что нет. Никто из военачальников Красной Армии не подозревал, что гарнизон Брестской крепости, впрочем, как я говорил, гарнизона в ней как такового не было, сопротивляется. Всякая радиосвязь была нарушена. Передатчик был уничтожен бомбежкой, в приемниках сели батареи. И они пошли в подвалы, в мрачные полутемные помещения. Сводчатые потолки и толстенные стены с нишами были испещрены выбоинами от пуль и осколков. — В этих казематах шла затянувшаяся оборона. Гитлеровцы не смели сюда и носа сунуть. И они выжигали храбрецов огнеметами. Посмотрите — кирпичи оплавлены. Со сводов капал шлак. Ожоги не заживали. У меня до сих пор сохранился шрам. — И он засучил рукав. — Зачем вы меня разыгрывайте? — почти со слезами в голосе воскликнула Марина. — Опять зачем? Если хотите знать, то мне тогда было пять лет. Но я ничего не забыл. Ничего! Не забыл, как нам, малышам, давали пить. Только нам. Воды не было. Чтобы зачерпнуть из речки фляжку, смельчаки платили жизнью. Вот здесь в полу копали колодец. На дне его, помню, скоплялась лужица. Стакан в час. Эту воду давали только нам, малышам, и пулеметам. И — вы знаете? — люди выдерживали ад бомбежек, а от жажды сходили с ума, но на воду, предназначенную детям и пулеметам, не покушались. А вот в этом каземате лежали раненые. Их нечем было перевязывать, нечем было лечить. Кто мог, «лечил» себя гранатами. — Как так? — Обвязывался гранатами и пола к гитлеровцам, чтобы взорваться вместе с ними. — Но как, как вы-то выжили? — Наши матери и старшие сестры сражались рядом с мужчинами; гитлеровцы уверяли, будто крепость обороняет «женский батальон». И даже дети, конечно, кто постарше меня был, тоже сражались, стреляли, подавали патроны, кидались в ноги во время рукопашных. И все-таки есть и пить всем было нечего. И нас отослали в плен. Я покажу вам наверху, куда и как мы шли. Матери вели за руки или несли истощенных малышей. Я шел один… — Почему один? — Марина взволнованно смотрела на еще совсем недавно чужого, постороннего человека, а теперь вдруг ставшего ей словно давно знакомым. Ей хотелось узнать о нем все, взять за руку, мягко расспросить. — Отец и мать мои остались здесь. Отец был командиром, мать — санинструктором, ухаживала за ранеными. Вот идите сюда. Здесь есть надписи. Одну я отыскал, которую считаю своей, хотя она без подписи. Марина разглядывала нацарапанные на штукатурке корявые буквы: «Нас было трое… и мы дали клятву — не уйдем отсюда…», «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» Надписи эти были в разных местах, но спутник Марины точно знал где. Но самую заветную «его надпись» он показал Марине в темном подвале, куда нужно было пробираться на коленях. Очевидно, туристы сюда не заглядывали. Прочесть написанное можно было, лишь осветив часть стены электрическим фонариком, который, видимо, для этой цели был припасен. Марина прочитала: «Дима, будь достойным…» — и больше ничего. — Почему это вам? Вы — Вадим? — Нет, Дмитрий. Но не обо мне речь. — А о ком? — О тех, кто продержался здесь без еды, питья, без боеприпасов, кто давал бой, последний свой бой гитлеровцам и через месяц после начала осады, и даже спустя десять месяцев, в течение которых гитлеровцы воображали себя хозяевами крепости, устроив в ней встречу Гитлера с Муссолини. Но солдаты, наученные горьким опытом, боялись привидений с автоматами, живших в мертвых камнях. Солдатам казалось, что с ними воюют духи, то есть мертвые, И это была правда. Последний «мертвый», как рассказывают, оставшись без патронов, похожий на бородатый скелет с отпущенными седыми волосами вышел на солнце, от которого отвык, и упал перед ошеломленными автоматчиками мертвым. В суеверном ужасе они утверждали, что, стреляя только что по ним, он уже был мертвецом. И они назвали Брестскую крепость «крепостью духа». И правильно назвали. Крепость духа! Ее защитники не сдавались в плен, в плен их не брали, в плен уносили беспамятных, почти мертвых… — Но вы уже не могли этого видеть! — Нет. Я узнал об этом позже, когда уже взрослым приезжал сюда издалека. Узнал, чтобы найти свой путь. — Приезжали издалека? — Да. Очень издалека. Однако пойдемте на воздух.Глава VIII. НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ
Как-то так получилось, что Марина с Дмитрием договорились встретиться завтра, здесь же, в крепости. И поездка к бабушке в совхоз была отложена на день. Марина позвонила ей с вокзала по телефону. Она плохо спала ночь, а утром ощутила непонятное волнение. Из окна гостиницы для туристов, где вечером она сняла номер, виднелась крепость. Говорят, гитлеровские офицеры забирались на крыши домов, чтобы увидеть над нею желанный белый флаг. Но так и не дождались. Марина долго задумчиво смотрела в окно. Вон поблескивает вода Буга, а может быть, и Мухавца. Вон два ряда высоких деревьев. Они растут вдоль дороги, на которой он посадил ее в коляску мотоцикла. Он!.. Почему, смотря на историческую крепость, она думает не о ком-нибудь, а о нем, о Дмитрии? Чем он привлек ее? Необычной биографией? Но она знает только трагический эпизод его детства, об ужасах осады, и не больше. Но он должен, непременно должен рассказать ей о своей жизни, иначе они не договорились бы о встрече. Вообще им, наверное, очень много нужно рассказать друг другу. А почему? До сих пор этого с ней не случалось. Непривычно долго занималась Марина своим туалетом. И пожалела, что не взяла с собой чемодана. Не во что переодеться! Он увидит ее такой же, как вчера. А она еще глупо болтала о синем чулке. Неужели он подумал о ней так? Но в чем дело? Почему этот человек так занимает ее? Да потому, что в нем она видит олицетворение героев крепости. Он был среди них, пусть ребенком, но был, все видел, все пережил… Был среди удивительных людей! Ведь в других местах фронта люди тоже мужественно сражались и порой терпели поражения, даже сдавались в безнадежном положении. А здесь? Застигнутых врасплох, не организованных в военные подразделения, безоружных, лишенных патронов, воды, пищи, их нельзя было сломить. Они не сдавались! Как хорошо, что министр посоветовал ей поклониться праху героев Бреста! Марина не могла усидеть в номере и отправилась раньше назначенного срока. Добралась до вчерашней прямой улицы с деревьями по обе стороны так рано, что решила идти до крепости пешком. Над огромными каштанами высоко в небе плыли прозрачные облака. Утренний ветерок освежал, дышалось легко, хотелось петь. Вот если бы он снова догнал ее на мотоцикле… Полно! Что об этом думать? Он, наверное, лучше распределяет время. Ей стало смешно. Что это за детское желание вдруг охватило ее! Впрочем, права ли она была? Детское ли это желание? А он действительно догнал ее на той же дороге и почти в том же самом месте, как и вчера. — «В движеньи счастие мое, в движеньи…» — опять пропел он Шуберта и остановился. Марина не могла сдержать своей радости и прыгнула в коляску. — Как здесь удобно, — сказала она, улыбаясь. Ее сразу вдавило в сиденье, ветер ударил в лицо, но ей не хотелось закрываться косынкой. Какие у него сосредоточенные глаза, какой он весь собранный, внутренне напряженный. Ей хотелось, чтобы он рядом с ней почувствовал себя свободно, не скованно. — Сегодня продолжим осмотр крепости, — заговорил он. — Я расскажу вам о судьбе ее героев, найденных уже после войны усилиями пытливого писателя, которого по праву можно было назвать «героеискателем». Он добился, чтобы страна узнала своих героев. — Я тоже хочу стать «героеискательницей» и добиться признания заслуг одного из защитников крепости. — Кого же? — Самого маленького. Ему было всего пять лет. — Боюсь, что это неблагодарный труд, — рассмеялся Дмитрий. — Он ведь ничего не совершил ни в крепости, ни где-либо еще. — Ну, об этом вы еще не рассказали. А ведь мы с вами договорились об откровенности. — Приехали. Куда пойдем? К монументу защитникам крепости? — Давайте сначала к воде. Я почему-то очень устала. Посидим там. — И она указала на старые, склонившиеся к реке ивы. — Старые, старые ивы, — сказал Дмитрий. — Ладно. Пусть они и на нас посмотрят. Они сидели над тихой заводью. Марина старалась представить себе, как пробирались сюда смельчаки, чтобы зачерпнуть в котелок или фляжку воды. — Что это были за люди! Необыкновенные, — сказала она, считая, что и он должен думать о том же. — Напротив. Самые обыкновенные, — прекрасно понял он ее. — Обстановка заставляла проявляться лучшим чертам характера, заложенным в каждом настоящем человеке. — Настоящем человеке? А что такое настоящий человек? Вот вы, наверное, настоящий. А вот я… — Расскажите о себе, — попросил он. — Начнем с того, зачем вы приехали сюда. — Я еду к бабушке. Мне посоветовал министр Сергеев. Знаете его? — Еще бы! Совсем недавно видел. — Вот как? Значит, вы тоже имеете к нему отношение? — Ну как вам сказать! Очень косвенное. Видел его на совещании вместе со многими другими. — А я видела его, когда провалилась на защите своей диссертации по физике. — Кандидатской? — Докторской. — Ну вот! — рассмеялся Дмитрий. — А я вообразил, что вы киноактриса. — Я же вам сразу сказала, что я — синий чулок. — Я не поверил. Непохожи. Разве синий чулок специально поедет поклониться праху героев? — Так я же к бабушке еду. — И не случайно вы пешком к крепости шли. Я так понял. — Ну что вы! — Знаете что, расскажите мне о своей теме. — А вы поймете? — Постараюсь. И Марина заговорила. И по мере того, как развивала, как и недавно на защите, свои взгляды, она преображалась. Дмитрий поглядывал на нее с нескрываемым восхищением. Как горят у нее глаза! Каким воодушевленным стало ее лицо! И как прекрасно она говорит! За такой можно пойти очертя голову. Не было более благодарного слушателя, чем Дмитрий, увлекаемый рассказчицей с берегов тихой реки в водовороты физических проблем. — Сверхаккумуляторы в огромном числе будут заряжаться на гигантских атомных энергоцентралях, а потом доставляться потребителям. Дмитрий не сводил с Марины глаз. Вот где подлинная глубина мысли, полет фантазии, убежденность философа, заражающий энтузиазм вожака. Она как бы снова защищает на берегу Буга свою диссертацию, приобщившись здесь к сказочной силе духа. А она продолжала говорить, как перед притихшей аудиторией. — Сверхаккумулятор сделает человека хозяином энергии, которая поможет ему заключить подлинный союз с природой и распоряжаться силами стихии. Поможет ему добиться полного изобилия, поднять культуру и достигнуть на дороге прогресса самого светлого счастья. Она закончила и смутилась. Он сосредоточенно смотрел в воду и молчал. — Не поняли? — робко спросила она. — Нет, понял. Спасибо. Но вот боюсь, что вы не все поняли. — То есть как это так — не все поняла? — почти обиделась Марина. — Я отплачу вам откровенностью за откровенность. По некоторому стечению обстоятельств я знаю то, что вы не учли в своем прогнозе использования сверхпроводимости для аккумулирования энергии. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, — раздельно заговорил он, — что вы создаете, помимо всего вами рассказанного, абсолютную сверхбомбу, о которой так мечтают на Западе. — Абсолютную сверхбомбу? — удивилась Марина. — Ну да! Мощь ее может во много раз превосходить водородную. Но после взрыва она не оставит смертельной для всего живого радиации. Те, кто ее взорвут, не погибнут от нее же, как это страшило поборников атомного шантажа. Мне известно, кто и зачем тщетно пытается создать то, над чем работаете вы. И я говорю вам это потому, что считаю необходимым открыть вам глаза, внушить вам ответственность, доказать вам, как нужно то, что вы стремитесь создать. — Вы говорите так, словно все-все поняли! Что вы кончили? — Иельский университет. Марина вспыхнула: — Хотите посмеяться надо мной? Или напугать тем, что я проболталась… иностранцу? — Нет, нет и нет! Знайте, мне можно доверять, но я действительно закончил университет в Америке, куда попал из концлагеря. Его освободили американские войска в Западной Германии. Я считался сиротой, и американский судья Смит вынес решение отослать меня для воспитания в Соединенные Штаты, произведя попутно усечение моей фамилии — не Матросов, а просто Тросс. Отправили меня не одного, а многих детей, оставшихся в лагере без родителей. В свое время это вызвало бурю протестов. Так мне привелось переплыть океан десяти лет от роду. Очевидно, кое-кому казалось, что мой природный русский язык еще может пригодиться новым моим воспитателям… или хозяевам… — Вот как? И вы росли вдали от России? — Я рос там, но помнил все, что было здесь. — Как же это могло случиться? Пятилетние малыши накрепко все забывают. — Пятилетний малыш был свидетелем Брестской обороны. А шести-, семи-, восьми— и девятилетний малыш — ужасов лагерной жизни. Верьте, это не забывается. Кроме того… — Что «кроме того»? — Видите ли… хотя, пожалуй, теперь я могу рассказать вам о себе. — Почему теперь? — Потому что на этот раз я уже не вернусь туда. — Значит, вы бывали здесь и возвращались? — Бывало и так. — Так расскажите. Мне очень нужно все знать о вас! — Почему же? — Вы же узнали меня. Даже больше. Мою работу… Мою мечту! А какой вы? — Хорошо, расскажу. Я еще не знал, какой я, когда в первый раз приехал американским туристом на Родину. Но это знал другой человек. Он более чем знал меня. Он старался сделать меня таким, каким он мечтал, вопреки всему, что меня окружало, чему меня учили, к чему стремились приобщить за океаном. Это был изумительный человек. Я звал его дядя Коля. Еще в лагере, где он заменил мне отца, учил любить Родину и ее идеалы. А когда нас, ребят, повезли за океан, он, якобы не пожелав вернуться домой, поехал вслед за нами, чтобы найти нас на чужбине и помочь нам вырасти настоящими людьми. Это он помог мне сохранить в памяти то, что стерлось бы у ребенка в обычных условиях. И я ничего не забыл. — Кто же этот дядя Коля? — Много лет я и не подозревал, кто он. Для меня он был очень простым, добрым, очень хорошим и очень убежденным человеком. Смертельно раненным его захватили в Бресте, где его сразила пуля в бою рядом с моим отцом. Оказывается, и в Бресте я звал его дядей Колей. В лагере он чудом выжил и посвятил себя нам, ребятам. Но кем он был, я понял, лишь вернувшись в Штаты и не застав его… — Его схватили? — Хуже. Тогда можно было бы его обменять… Нет, там умеют подстраивать автомобильные катастрофы. Мне некому было рассказать о своей «туристической поездке» в Советский Союз. — Вы выполнили там его заветы? — Да. На первой же остановке поезда, здесь, в Бресте, я отделился от своей группы и зашагал, как и вы вчера, в крепость. Я не видел ее двадцать лет. Как вам передать, что я почувствовал? Все снова встало перед моими глазами. Мертвые ожили. Крепость была населена не духами, а наполнена живым духом героизма. Я стоял и плакал, глядя на «говорящие камни». Я спустился в подвал, побывал там, где мама ухаживала за ранеными. Я знал тайник, куда она прятала меня. И я прополз в него. Помните, я вас вчера туда затащил. — Там «ваша надпись»! — воскликнула Марина. — Теперь вы понимаете, почему я считаю ее своей, хотя ни папа, ни мама не успели поставить под нею имени Матросовых. — Я помню, что там написано: «Дима, будь достойным…» — И это помогло мне найти свой путь. В Иельском университете, кстати говоря, я смог учиться, только пройдя курс разведывательной школы, где из меня готовили… вы сами понимаете кого. — Кажется, понимаю. — Здесь, в Бресте, я окончательно нашел свой путь, к которому готовил меня дядя Коля. Я уже знал, что мне дальше делать. Тотчас догнал свою группу в Москве и с нею вместе вернулся в Америку. Я остался «американцем», но я не перестал быть сыном защитников Брестской крепости. Я продолжал защищать ее и там, за океаном… Мне не шли чины и звания, но здесь уже знали обо мне. — Слушайте, сын героев Матросовых! Как же вы могли все это рассказать мне, первой встречной? — Это вчера вы были первой встречной, а сегодня… передо мной человек, ведущий огромного значения научную тему. Но вы нравы в одном. — В чем? — Рассказать все это можно было только очень близкому человеку… Смущенная, ошеломленная всем услышанным, она сидела на крутом берегу под стенами полуразвалившихся казематов крепости и чувствовала, как ее рука, нервно перебирающая травинки, попала в большую теплую руку Дмитрия. — Я боюсь разочаровать вас. Не воображайте меня героем. Я никогда не передавал из Америки никакой секретной информации, чему меня так усердно обучали в американской шпионской школе. — Вы не были разведчиком? — В обычном понимании не был. — Так кем же вы были? — Я занял видное место и не имел права чем-нибудь себя скомпрометировать. Но на своем месте мне кое-что удалось сделать. — Можно привести хоть один пример? — Один можно. Тем более, что он общеизвестен. Запрещение воздействия на среду обитания в военных целях. — Это вы? — Мне удалось побудить и американскую сторону выступить за этот запрет. Я участвовал в осуществлении военным концерном Вельта проекта космической антизащиты. Так называлось пробивание бреши в атмосфере. И вместо того чтобы прикрыть эту разработку видимостью выступления против уродования среды обитания, мне удалось поднять в прессе кампанию, которая вылилась в требование запрета. — Но это же огромная заслуга, Дмитрий! — Я боюсь разочаровать вас. В другом, более значительном случае, подробности которого станут вам да и всему миру известны завтра, я провалился. — Провалился? — Я не смог предотвратить страшную диверсию против земной атмосферы. Я добрался до Москвы только для того, чтобы сообщить о ней, о том, что в Тихом океане загорелся воздух. Вот видите, каков я. Вероятно, я не имею права на счастье, — добавил он, смотря в широко открытые зеленоватые глаза Марины. — Нет! Имеете, имеете! А воздушный пожара каков бы он ни был, можно потушить, можно! — Как? — Вы знаете, как тушат нефтяные пожары? — Взрывом. — Я ведь рассказала вам, над чем работаю. Теперь вы подсказали мне, над чем я должна работать. Она сказала, что он имеет право на счастье. Дмитрий любовался Мариной и думал, что он всей душой хочет этого счастья всем людям, ей, себе…ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПУТИ СПАСЕНИЯ
Скоро жизнь на Земле закончится. Владельцы акций спасения уйдут под землю, чтобы никогда больше не видеть неба…
Глава 1. БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
Скорый поезд подходил к Москве. В окне поезда Брест — Москва мелькали пригородные платформы. Они проносились, как гоночные автомобили на корте. Нельзя было разглядеть, кто там стоит. Но Марина, прильнув к окну, и не старалась кого-нибудь рассмотреть. Ей хотелось разогнать поезд еще скорее. Она дала телеграмму из Бреста Дмитрию. Если он встретит ее, то это скажется на всей их дальнейшей жизни. А если нет… значит, их встреча промелькнет так же бесследно, как и эти дачные платформы. И вдруг, будто вынырнув из подмосковных перелесков, поплыли мимо огромные дома. Город, город! Сердце забилось еще чаще. В коридоре послышался голос из репродуктора: «Поезд прибывает в столицу нашей Родины Москву», — и заиграла знакомая родная музыка. Марина не могла понять своей взволнованности, более того, она не могла простить ее себе. В такое время, когда весь мир встревожен воздушным пожаром в Тихом океане, она… она думает лишь о том, «встретит или не встретит». Впрочем, может быть, это закон природы? Интересно, что чувствует он? И, словно в ответ на эту мысль, музыка в репродукторе оборвалась и снова зазвучал голос поездного диктора: «Пассажирку скорого поезда Брест — Москва, едущую из города Бреста, товарища Садовскую Марину Сергеевну, кандидата физико-математических наук, просят по прибытии поезда пройти в кабинет начальника вокзала, где ее ждут». Сердце у Марины едва не остановилось. «Ну вот! Это он, он! Подумал о ней, дал знать о себе еще до ее приезда! Правда, немного странно… Или у них в Америке так принято? Ведь она сообщила номер своего вагона, десятый… И зачем добавлять „кандидата физико-математических наук“? Если уж на то пошло, то надо было сказать „физических наук“. Обо всем этом она размышляла, уже захватив из купе свою сумку и пробираясь по узким, переполненным пассажирами коридорам. Она торопилась, решив сойти на перрон Белорусского вокзала из самого первого вагона, чтобы скорей, скорей увидеть Дмитрия. Она переходила из вагона в вагон, принося тысячу извинений. Пассажиры теснились, удивленно пропуская ее. Она краснела и пробиралась вперед. За окнами первого вагона замелькали встречающие поезд люди. Марина не смотрела на них, пробираясь в коридоре к последней двери. И она добилась своего, выскочила на перрон первая и бегом направилась в вокзал. Ей показали, где найти начальника вокзала. Открыв дверь, она замерла на пороге, словно налетела на невидимую стену. Посередине кабинета вместо Дмитрия она увидела старого профессора Кленова, недавно уничтожившего ее на защите диссертации. Он стоял немного ссутулившись и растопырив локти, борода его сбилась набок. Начальник вокзала, переключив телефон на автоматическую запись, вежливо поклонился Марине и вышел. Марина поздоровалась со старым ученым, он кивнул в ответ: — М-да!.. Я осмеливаюсь надеяться, что вы окажетесь достаточно снисходительной и простите меня за столь срочный вызов. Я получил извещение, что вы находитесь здесь… то есть я имел в виду — приезжаете… Марина уже оправилась и заговорила несколько резким голосом: — Здравствуйте, профессор! Конечно, это неожиданно, но я к вашим услугам, — и подумала: «Как же там Дима?» — М-да!.. Видите ли… Как это вам сказать… Я должен ознакомить вас с одним полученным мною письмом. Профессор достал из заднего кармана письмо и протянул его Марине. Девушка взяла конверт.«Заслуженному деятелю науки профессору Ивану Алексеевичу Кленову».— Мне. Читайте, читайте! — сказал Кленов.
«Научный совет института, обсуждая по поручению министерства план исследования проблемы концентрации энергии в магнитном поле сверхпроводников, на основании настоятельной рекомендации министра и общей уверенности в огромной вашей эрудиции в затрагиваемой научной области, а также высокой вашей научной принципиальности решил обратиться к вам, уважаемый Иван Алексеевич, с просьбой принять на себя лично руководство работами кандидата физических наук М. С. Садовской, дабы достигнуть положительного результата, который вы подвергли сомнению, или же доказать практически свою правоту».— М-да!.. Итак, вы ознакомились с содержанием этого ко мне обращения. Несомненно, вас не может не интересовать мое мнение по этому вопросу. М-да!.. — Профессор заложил руки за спину и стал расхаживать по комнате. — Я должен сообщить вам, дорогая моя барышня, что хотя я и признаю себя неправым в отношении формы давешнего выступления и осмеливаюсь со всей стариковской искренностью просить у вас прощения, однако в отношении существа моих научных взглядов никаких изменений у меня не произошло. М-да!.. Не произошло… — Профессор осмотрел тоненькую напряженную фигуру Марины. — Но я осмеливаюсь сообщить вам, уважаемая Марина Сергеевна, что форма адресованного мне обращения такова, что ставит меня в совершенно безвыходное положение. Какой ученый вправе отказаться от возможности доказать свою правоту! М-да!.. И вот после зрелого размышления, взвесив все «за» и «против», я пришел к убеждению, что доказать бессмысленность и вредность проводимых вами работ, установить, наконец, непогрешимую и святую научную истину можно успешнее и беспристрастнее всего, руководя упомянутыми работами самому. Вот почему, дорогая моя барышня, я счел возможным уступить настойчивой просьбе министра… — Василия Климентьевича? — М-да!.. Василия Климентьевича. Дверь кабинета открылась. Начальник вокзала, седой плечистый железнодорожник, вернулся за какими-то бумагами, и Марина услышала радио с перрона: «Приехавшую из Бреста пассажирку Марину Сергеевну Садовскую просят пройти к справочному бюро». И снова: «Приехавшую из Бреста пассажирку Марину Сергеевну Садовскую…» Дверь за начальником вокзала закрылась. Марина невольно прижала руки к груди: Дима! Дима! Это он! Он не нашел ее в десятом вагоне и разыскивает теперь!.. Но профессор Кленов, видимо, ничего не слышал и продолжал: — Я счел необходимым немедленно повидаться с вами, ибо не мыслю себе возможности дать положительный ответ, не познакомившись предварительно с вами. М-да!.. Мне сообщили, что вы будете здесь, и я счел за деловую необходимость приехать сюда. — Вам — руководить? — в упор спросила Марина. — Но для этого надо верить! Профессор сразу рассердился и зажевал челюстями: — М-да!.. Я позволю себе выразить мнение, что в научные истины нельзя верить или не верить. Можно быть в них более или менее убежденным. Снова открылась дверь, спрашивали начальника вокзала, и снова донеслось радио, призывающее пассажирку Садовскую пройти к справочному бюро. — Ой, как же он там! — невольно вырвалось у Марины. — Что за шум? — поморщился профессор. — Простите, вы что-то сказали? Не расслышал или не понял? — Ах, нет, профессор, это я так… — М-да!.. Ну, я продолжаю. Мне необходимо было увидеть вас. Прежде всего, повторяю, я осмелился бы просить вас извинитьменя… ну, я бы сказал, за излишнюю резкость во время выступления… Дверь открылась. Показалась голова доктора: — Послушайте, почтенный профессор! Я решил сбегать за вами. Там кое-кого разыскивают, а вы… — Милейший, я бы вас просил не нарушать нашей беседы. — Послушайте, профессор, тогда я перевоплощусь в некую пассажирку сам. Я уже бегу! — Прекраснейший, но удивительно назойливый человек этот доктор! Итак, я продолжаю. Извините старика. Это необходимо для дальнейшего… — Иван Алексеевич, что вы? Я же… Марина готова была заплакать — так ей вдруг стало жалко извиняющегося профессора, имя которого было ей знакомо с первого курса университета. — Ну вот… вот и увиделись… — Профессор сразу как-то размяк. — М-да!.. Встретились. Станем работать, чтобы показать человечеству… Что ж делать! Надо испить чашу до дна… На столе звонил телефон, мигала лампочка. — Профессор, я ценю ваш авторитет, но я… все же не могу согласиться с вашим мнением. Я решила добиться успеха, и я его добьюсь! — М-да!.. Похвально, похвально! Упорство — двигатель науки. Я рассматриваю нашу с вами задачу как задачу доказать человечеству… Я не говорю пока, что доказать. Мне это уже известно, вы еще заблуждаетесь, но ответ мы получим в научных отчетах. М-да! Ну вот и увиделись… Вот… Что же я еще хотел сказать?.. Что-то, несомненно, важное. Вы уж простите, припомнить не могу! — Иван Алексеевич, я рада, что мы будем вместе работать, честное слово! — Голос Марины перестал быть резким, в нем звучали совсем новые нотки. Вернулся начальник вокзала, и в приоткрытой двери стояли доктор Шварцман и… Дмитрий Матросов.
Глава II. РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
Со времени экстренного заседания в Академии наук прошло совсем немного времени. Министр Сергеев доложил мнение ученых правительству, которое назначило его особоуполномоченным по борьбе с катастрофой. Чтобы решить вопрос о том, насколько реальна опасность уничтожения атмосферы из-за пожара на Арениде, туда была направлена целая эскадра исследовательских судов с учеными. Но на Западе некоторые журналисты уже сеяли панику, сделав выводы о близкой гибели человечества раньше, чем ученые сказали свое слово. Жизнь же в Советском Союзе шла своим чередом. По-прежнему работали заводы, состязались спортсмены, проводили каникулы школьники. Как и раньше, запускались в космос исследовательские спутники, подготавливались планируемые полеты в космос. Еще в Америке, в бытность свою «мистером Троссом», Дмитрий Матросов принимал участие в программе «Марсиада», финансируемой Вельтом. Вельт рассчитывал, что осуществление этой программы в виде побочных разработок даст решение многих военных тем, и он поручил своему помощнику лично участвовать в качестве его представителя в осуществлении такой программы. Но Тросс поставил тогда условие, на которое Вельт неохотно согласился, — самому участвовать в планируемом полете на Марс. И теперь, порвав с Вельтом, Матросов хотел быть наиболее полезным своей Родине. И он предложил свои услуги в «звездном городке». Там знали о мистере Троссе, намечавшемся в состав первого марсианского экипажа, и по рекомендации министра Сергеева охотно приняли Матросова в семью советских космонавтов. Подготовка «марсианского рейса» только еще начиналась. Еще не было окончательно решено, полетят на Марс люди или только автоматы. Предстояло решить множество вопросов. Свою новую деятельность Матросов несколько неожиданно начал с возвращения к давно «осужденной» фантастической гипотезе о взрыве в тунгусской тайге в 1908 году «марсианского корабля». Однако среди космонавтов у этой гипотезы нашлось и ныне немало сторонников, и Матросов получил свободу действий. И он появился в институте, где руководил работой Марины Садовской профессор Кленов. Когда министр Сергеев попросил профессора Кленова принять Дмитрия Матросова, профессор тотчас согласился. — Рад, голубчик, искренне рад вас видеть, — говорил Кленов, вводя Матросова в свой кабинет. — Просьба министра Сергеева Василия Климентьевича весьма авторитетна для меня. Присаживайтесь в кресло, рассказывайте… м-да… что привело вас ко мне? — Я хочу просить вашей помощи в разгадке тайны Тунгусского метеорита. — Простите. Не расслышал или не понял? — Сейчас очень важно выяснить характер тунгусского взрыва, чтобы сделать предполагаемый полет на Марс целенаправленным. — Не знаю, не знаю! — раздраженно ответил Кленов. — Насколько мне известно, этой проблемы в науке давно нет. После пустяковых споров пришли к заключению о тепловом взрыве над тунгусской тайгой ледяного ядра кометы или чего-то в этом роде. — Вот именно. Чего-то в этом роде. Согласитесь, что это не однозначный научный вывод. — М-да… Простите. Ничего не могу добавить, ибо работаю совсем в иной области. Вот ежели для вашего полета понадобится радирование обратной волной… — Я не слышал об этом, профессор. Это, несомненно, может заинтересовать нас. — Извольте, извольте. Последние десятилетия я посвятил себя радиофизике. Мне давно хотелось снабдить летчиков (или космолетчиков) таким радиоаппаратом, который не требовал бы никаких батарей питания. — Вот теперь я не понял, прошу простить, Иван Алексеевич. — А вы слушайте, тогда поймете. М-да… Так вот, пока мои коллеги занимались атомными бомбами, мне удалось создать аппарат для радирования отраженной волной. Радиоволна, направленная радиоволна излучается из пункта управления полетом, а удаляющийся объект лишь отражает ее с перерывами, кодируя сообщение, скажем, по азбуке Морзе. — Это очень интересно, Иван Алексеевич. Позже мы, несомненно, привлечем вас к оборудованию нашего корабля таким устройством. — М-да!.. Всегда, всегда готов… Позже так позже… Рад служить вашему делу… — Вы поможете этим установить, есть ли разумная жизнь на Марсе. — Ну, знаете ли, батенька!.. Оставьте это фантастам… Я предпочитаю более реалистические идея, потому и предложил вам радирование на обратной волне. — Почему же оставить это фантастам? По Энгельсу, жизнь появится всюду, где условия будут благоприятствовать этому, а раз появившись, будет развиваться, пока природа не познает самое себя через развившийся разум. — О каких же благоприятных условиях можно говорить применительно к Марсу? Признаться, я не осмеливаюсь отнимать больше у вас время, поскольку я человек науки, а не издатель фантастических опусов. — Нет, почему же фантастических? На Марсе когда-то, в прошлом, несомненно, существовали подходящие для развития жизни условия. Но в силу какого-то катаклизма Марс перешел на другую орбиту и потерял более легкую часть атмосферы: кислород, азот и пары воды, — которая существовала на нем прежде, оставив на его поверхности следы эрозии. Все это надо изучить. Может быть, развившийся на Марсе разум укрылся в его глубинах, покинув обезвоженную и лишенную нужной атмосферы поверхность. — М-да! Простите. Ничего не могу сказать вам о марсианах, ибо не изучал этого предмета, не имеющего никакого отношения ни к физике, ни к радиофизике… М-да… Я не утомил вас, осмелюсь спросить? — Нет, нисколько, уважаемый Иван Алексеевич. Но мне кажется, что именно вы могли бы пролить свет на существование марсианского разума. — Не представляю, не представляю… М-да!.. — В пользу гипотезы о взрыве межпланетного корабля в тунгусской тайге есть много аргументов. Решающий из них, быть может, могли бы дать вы. — Я? Нет уж… м-да… увольте… Умоляю, увольте! — В одном японском журнале мне недавно попалась заметка профессора Кадасимы… Кленов насторожился: — М-да… Недослышал или не понял? — Профессор Кадасима ссылается без указания источника на любопытный факт посещения еще до первой мировой войны двумя русскими учеными неведомой чернокожей женщины, якобы найденной в тайге вскоре после тунгусской катастрофы. Кленов болезненно поморщился, встал и, держась за сердце, прошелся по кабинету: — Неужели сейчас кто-то может всерьез рассуждать о старом таежном ветровале и связанных с ним легендах? — Кадасима упоминает, — с прежним спокойствием продолжал Матросов, — что одним из ученых, видевших чернокожую шаманшу, был ныне здравствующий, высокопочтенный, как он выразился, профессор Кленов. Кленов вздрогнул, посмотрел на Матросова мутным взглядом, снова схватился за сердце. Матросов упорно ждал. — Пощадите! — застонал Кленов. — Пощадите, милейший! Не могу расходовать остатки сил на опровержение нелепых и спекулятивных вымыслов. — Вы никогда не видели чернокожую шаманшу в тайге? — Боже мой! Ну конечно же, никогда не видел ни чернокожих шаманок, ни русалок, ни рогатых чертей. Осмелюсь напомнить вам, молодой человек, что вы явились к ученому, а не… — Кленов не договорил. Его внимание было отвлечено письменным столом, на котором творились чудеса. Старомодные ручки с перьями ожили и покатились по столу. Тяжелое пресс-папье нетерпеливо притопывало на месте. Чугунная лошадь вздрогнула всем телом… Профессор вскочил. И, словно по команде, сорвались с места все железные предметы. Перочинный ножик впился в шкаф. Чернильный прибор грохнулся на пол, лошадь тихо двинулась по столу… Матросов вскочил на ноги, встревоженный не столько всем происходящим, сколько видом старого профессора. Широко открыв выцветшие глаза, прямой, несгибающийся, шел профессор Кленов к двери. Толкнув плечом книжный шкаф, он глухим голосом извинился и выбежал в коридор. Матросову не осталось ничего другого, как уйти. Словно притягиваемый магнитным ураганом, влетел профессор Кленов в лабораторию Марины Садовской. Борода его развевалась, волосы торчали дыбом. Удивленная Марина обернулась. — Я позволю себе… я осмелюсь, — кричал профессор, — потребовать объяснений! Как могли вы решиться на проведение этого опыта, не имея моего разрешения? Как удалось вам достигнуть такой величины магнитного поля? Марина смотрела на профессора, слегка нагнув голову. Ее фигура стала угловатой, поза настороженной. Голос прозвучал жестко: — Я покрыла сверхпроводник, Иван Алексеевич, защитным слоем из трансурановых, предохраняющим его от действия магнитного поля. — Какой такой защитный слой! — затопал ногами Кленов. — Да как вы смели нарушить мои предписания? Разве этим путем я предлагал вам идти, осмелюсь вас спросить? Марина на секунду остановила на профессоре удивленный взгляд, потом ее зеленоватые глаза, сделались почти злыми. Профессор попытался взять себя в руки. — Я вынужден со всей прямотой и решительностью поставить перед вами вопрос: отказываетесь ли вы выполнять требования вашего руководителя, существует ли для вас его научный авторитет? — О да, профессор! Я признаю ваш авторитет, но на этот раз я избираю свой собственный путь. — Великолепно!.. М-да! Великолепно! Какая самостоятельность научного мышления! Какое удивительное ученое предвидение! Да знаете ли вы, моя дорогая барышня, что ваши опыты — игра ребенка с порохом, путь лунатика по карнизу, возмутительнейшее легкомыслие! — Профессор быстро зажевал челюстями. — Знайте, что избранный вами без моего согласия путь неверен! Если уж вы намерены искать истину, так извольте искать ее в указанном мною направлении! — Это ложное направление! Это тормозящий путь! Это вредный увод в сторону! — Как-с? Позвольте, недослышал или не понял? — Кленов приложил ладонь к уху и склонил набок голову. Марина повторила, отчеканивая слова: — Я уважаю ваш научный авторитет, Иван Алексеевич, но то, что вы предлагаете, неправильно, вредно и бессмысленно. — Ах так! М-да… М-да… Ах так! — закричал профессор. — Тогда — совет! Я требую немедленного созыва чрезвычайного заседания Ученого совета… Профессор трясся от негодования. Угловато размахивая правой рукой, он направился к выходу. В дверях к замку прилипли его старые карманные часы да так и остались висеть. По настоянию Кленова Ученый совет был немедленно созван в кабинете директора института. Кленов сидел а глубоком кожаном кресле, откуда торчали только его длинные ноги с острыми коленями. Марина не садилась и нервно прохаживалась по комнате. — Ученый совет собрался по вашей просьбе, Иван Алексеевич. Мы открываем заседание, — сказал молодой академик. — Премного обязан вам, Николай Лаврентьевич? — Тогда мы попросим вас, Иван Алексеевич, высказаться. — Что же, извольте. Сочту за честь. Профессор хотел подняться, но академик жестом удержал его. Тогда Кленов совсем скрылся за высокими кожаными стенками. Оттуда стал гулко доноситься его спокойный и жестковатый голос: — Да позволено мне будет остановить внимание совета на следующем обстоятельстве. До сих пор я имел, по-видимому, неверное представление о том, что вправе рассчитывать на безусловное выполнение научными сотрудниками, работами коих мне поручено руководить, моих указаний, касающихся не мелочей, конечно, а основных линий, предопределяющих пути и перспективы их работ. М-да… Преисполненный сожаления, я вынужден сегодня констатировать полное пренебрежение со стороны многоуважаемой Марины Сергеевны не только к моим советам, но и к прямым и безоговорочным предписаниям… Профессор замолчал, словно собираясь с мыслями. — Не может ли профессор указать на конкретное нарушение его указаний? — спросил один из членов совета — Я могу! — неожиданно заявила Марина. Почувствовалось некоторое замешательство. Председатель вышел из положения, предоставив слово Марине Кленов обиделся, что ему не дали договорить, и, выпрямившись в кресле, всей своей фигурой демонстрировал возмущение. — Я должна признаться перед дирекцией института, что нашла нужным уклониться от выполнения распоряжений профессора Кленова Почему-то головы членов совета одна за другой склонились над записями. — Я искала защитный слой, могущий предохранить проводник от действия на его структуру магнитного поля, чтобы избежать мгновенного исчезновения свойства сверхпроводимости при больших магнитных полях. Профессор же хотел заставить меня искать сплав, обладающий такой фантастической структурой, которая не изменяется при больших магнитных полях. Это противоречит сути моей диссертации, поэтому я считаю путь этот неправильным! — Марина тряхнула головой. Профессор величественно поднялся с кресла. Казалось, что он разразится сейчас невиданной громовой речью, но он сказал совсем тихо: — Я позволю себе высказать мысль, что даже в поисках невозможного надо искать только реальные пути. При всем своем желании я не могу согласиться, что путь, избранный Мариной Сергеевной Садовской, отвечает этому условию. В своих поисках радиоактивных компонентов она неизменно должна будет остановиться и на тех, каковые отсутствуют в нашей стране. — Извините, профессор, если я путаю факты, — сказал все тот же член совета, — но ведь именно для вас наше правительство пыталось получить у одной заграничной фирмы редчайший радиоактивный элемент? Профессор Кленов вздрогнул и выпрямился, так что сутулость его мгновенно исчезла. Потемневшими глазами обвел он присутствующих, сказал: — М-да!.. — и замолчал. Потом продолжал тем же ровным голосом как ни в чем не бывало: — Да, вы совершенно правильно изволили это заметить. Правительство по моей просьбе обратилось к концерну Вельта с предложением уступить запасы радия-дельта… И получило отказ. Марина вскочила. Все обернулись к ней. — Позвольте, как же так? Но ведь именно радий-дельта я хотела испробовать для защитного слоя! На это меня натолкнула одна неопубликованная статья русского физика Бакова, с которой я недавно получила возможность ознакомиться. Кленов окаменел. Марина казалась очень взволнованной. Рукой она смяла запись одного из членов совета, который, откинувшись в кресле, сердито смотрел на нее поверх очков. Кленов опустил голову и сказал тихо: — Все запасы радия-дельта находятся в руках злейшего врага человечества, главы мирового военного концерна Фредерика Вельта. Слова профессора Кленова едва ли расслышал кто-нибудь из присутствующих: он произнес их как будто только для себя. Несколько минут члены совета совещались. — Итак, Иван Алексеевич, — сказал наконец молодой академик, — нам не вполне понятны причины порочности пути, избранного Мариной Сергеевной Садовской. — Непонятны? Но ведь я уже имел честь докладывать вам. Помимо всего того, о чем говорилось, я осмелюсь обратить ваше внимание на сомнительность возможности существования слоя, способного защитить от больших магнитных полей. Ведь, как известно еще из работ большой давности, при больших магнитных полях даже ферромагнитные тела практически теряют свои привычные преимущества в отношении проникновения в них магнитных силовых линий. Магнитное поле такой значительной величины проникнет во все части пространства с одинаковой интенсивностью. И естественно, что попытки защититься от магнитного поля бессмысленны. А ведь это, чего доброго, в печать могло попасть, не приведи бог! Быть может, и похвально искать свои собственные пути, как это делает Марина Сергеевна, но я осмелюсь все же привести здесь одну английскую поговорку: «Олмоуст нэвер килд»… Да-да. «Никогда не вредно сказать „почти“…» Я позволю себе надеяться, что внес некоторую ясность в дебатируемый вопрос. Профессор Кленов сел. Пружины в его любимом старинном кресле желчно зазвенели. После него выступила Марина. Затем оба вышли в коридор, желая дать совету возможность обсудить вопрос. — М-да!.. Ну вот и поспорили… — примиряюще сказал профессор, собирая у глаз сотни маленьких морщинок. — Я полагаю, что научный спор, даже с некоторыми присущими ему резкостями, способствует интенсивной работе мозга. — Это верно, Иван Алексеевич, но я как-то не могу привыкнуть к форме некоторых научных дискуссий. Профессор добродушно рассмеялся: — Ну, это ничего, Марина Сергеевна! По крайней мере, я теперь смею надеяться, что мои вам советы, подкрепленные решением столь авторитетной коллегии, приобретут для вас несколько больший вес. — Да, но… решение Ученого совета еще ведь не вынесено. Кленов посмотрел на Марину голубыми прозрачными глазами, как смотрят только старики на маленьких детей: с сожалением и в то же время с ободрением. — Ах, юность, юность! — вздохнул он. — Я не так юна, — обиделась Марина. — Чудесная вы девушка, Марина Сергеевна! Право, чудесная. Не хочется мне с вами ссориться, но как не будешь ссориться с маленькими детишками, когда они тебя не слушаются? Некоторое время они ходили по коридору молча. — Ну вот, теперь я смею предположить, что мы дали совету достаточно времени для занесения в протокол столь необходимого для вас решения, — сказал Кленов. Марина стала заметно волноваться. Профессор демонстративно открыл дверь, утрированно согнулся и протянул руку, приглашая Марину войти. — Куда же вы удалились? — встретил их молодой академик. — Мы предполагали решить вопрос при вас, тем более что он для всех членов совета кажется совершенно ясным. Кленов выразительно взглянул на Марину и погладил бороду, как бы говоря: «Ну вот видите?» Марина остановилась у двери и, чуть нагнув голову, оглядела присутствующих. — «Ученый совет вынес следующее решение, — стал читать директор протокол. — В связи с несомненным интересом обоих предполагаемых направлений в обсуждаемых исследованиях выделить профессору Ивану Алексеевичу Кленову специальную лабораторию, обеспеченную штатом научных сотрудников, в которой и просить профессора провести работы по его плану. Кандидату физических наук Садовской предоставить возможность дальнейшего проведения ее работ по уже намеченному ею пути». — Директор кончил читать и добавил от себя: — Мы думаем, что такое решение вопроса с разделением работ на две ветви лишь увеличит нам шансы на скорейшее достижение успешных результатов. — Как-с? Позвольте… М-да!.. Простите… Не расслышал или не понял? Профессор Кленов изменился в лице и стал судорожно теребить свою бороду. Директор удивленно взглянул на него. — Мы рассчитывали, Иван Алексеевич… — М-да!.. На что вы рассчитывали, осмелюсь вас спросить? На что? Перед вами не юноша. Я в состоянии рассматривать этот акт только как выражение недоверия к себе. М-да… Именно недоверия. — Позвольте, профессор, мы не хотим пренебрегать ни одним шансом для победы. — Имею честь довести до вашего сведения, что это не касается меня ни в коей степени! М-да!.. Кроме того, имею честь довести также до вашего достопочтенного сведения, что я не предполагаю проводить какие бы то ни было самостоятельные работы, не соответствующие тематике моих личных исследований. Я занимаюсь, с вашего позволения, радиофизикой. М-да!.. В заключение я должен признаться вам, что поражен, удивлен, нахожусь в замешательстве и не в состоянии подобрать объяснения вашему… м-да!.. вашему решению. Засим имею честь принести вам свои уверения в величайшем к вам уважении. В связи с обострением болезни и запрещением врача я принимать участие в работах института в ближайшие месяцы не смогу! Кленов круто повернулся и, вздернув одно плечо выше другого, направился к выходу. Марина, провожая его испуганным взглядом, посторонилась. Члены совета и директор молчали. Кленов зигзагами прошел коридор, забыл взять у швейцара пальто и вышел на улицу. Ветер раздувал его растрепанные волосы. Когда вместо переходного мостика Кленов оказался на мостовой, движение остановилось. На углу его догнал швейцар, передал ему пальто и шляпу. Кленов поблагодарил и набросил на себя пальто так, что одна пола его тащилась по земле. Медленно он поплелся вдоль улицы. Кленов со страхом думал, что сообщение о работах Марины проникнет в печать. В одном из научных обзоров Вельт прочтет о них, и тогда… тогда приведет в исполнение свою угрозу, которой навеки связал руки профессору Вонельку… Это была последняя их встреча на «Куин Мэри». Вонельк принял британское подданство и навсегда покидал Америку. Вельт все-таки настиг его уже на борту корабля, а потом прислал ему радиограмму, поставив в ней свое условие. Теперь он прочтет неизбежное сообщение о создании сверхаккумулятороа в России, и тогда несчастному Кленову уже не предотвратить страшной угрозы, которая нависнет над человечеством. Только когда профессор скрылся в своем подъезде, следовавшая за ним Марина повернула обратно и в глубоком раздумье пошла по галерейному тротуару.Глава III. ЗАГАДКА ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА
Сидя за рулем автомашины рядом с Дмитрием, Марина сбивчиво объясняла, почему ей так необходимо было с ним увидеться. Матросов сначала слушал с улыбкой, но вдруг насторожился. — Самородок необыкновенного металла был найден в районе падения Тунгусского метеорита? — спросил он. — Да. Так писал в неопубликованной статье профессор Баков. Он был в ссылке в тунгусской тайге. Автомашина Марины мчалась по шоссе. Верхняя часть лимузина была сделана из прозрачной пластмассы, и автомобиль казался открытым. — Кто этот доктор Шварцман, который принес рукопись? — Я не знала его до Белорусского вокзала. Помнишь? Он очень милый, но не мог сказать, откуда у него рукопись, и, после того, как я прочитала, забрал ее обратно. — Значит, элемент, найденный в тунгусской тайге в виде самородка… — …правильного, как кристалл… — вставила Марина. — …был тяжелее урана? — Да. Профессор Баков пишет, что определил его атомный вес в 257. Уран имеет только 238. Радий-дельта, как назвал Баков новый элемент за его радиоактивность, потребовал особого места в таблице Менделеева. — Где же элемент? Где профессор Баков? — Баков умер в Америке в 1913 году, эмигрировав из царской России. О новом элементе никто ничего не слышал. Вот почему ты должен мне все рассказать о тунгусской катастрофе. Ведь ты недавно приходил по этому вопросу к Ивану Алексеевичу, якобы изучал проблему еще в Америке. Так что ты можешь рассказать об этом? Но прошу учесть: в науке мы считаемся только с фактами. Вот что рассказал Марине Матросов. 30 июня 1908 года в районе Подкаменной Тунгуски, как сначала предположили, упал гигантский метеорит, вызвав в тайге небывалые разрушения, сотрясение земной коры, светлые ночи после взрыва и странные лучи, засвидетельствованные академиком Полкановым. Царское правительство не заинтересовалось «тунгусским феноменом» и экспедиции в тайгу не послало. Лишь в 1927 году советский ученый Кулик решил разыскать «тунгусское диво». В те годы в Северной Америке была создана компания Аризонского метеорита, ставившая целью достать якобы «платиновый» метеорит, тысячелетия назад упавший в каменистой пустыне Аризона. Там сохранился образовавшийся при его падении кратер диаметром в тысячу двести метров и глубиной в сто восемьдесят метров, именуемый каньоном Дьявола. Метеорит нащупали буром на глубине четырехсот метров. Бур сломался, а компания Аризонского метеорита лопнула. Метеорит оказался обыкновенным железоникелевым, как и многочисленные его осколки, рассыпанные поблизости. Их до сих пор продают туристам индейцы. Работы были прекращены. Капиталисты, гнавшиеся за прибылью, не интересовались наукой. Ученый секретарь Комитета по метеоритам Академии наук СССР Л. А. Кулик, направляясь в тайгу, мечтал обогатить науку находкой метеорита, превышающего размерами Аризонский. Тайга — это нескончаемый лес, прерываемый только рекой или болотом. С волнением углублялся Кулик в чащу, сопровождаемый эвенками-проводниками, которых он нанял в Ванаваре. Вскоре он увидел поваленные деревья. Все говорило о необычайных размерах катастрофы. Кулик стремился вперед, но эвенки отказались идти. Они твердили: «Бог Огды спускался там на землю. Сжигал наших людей невидимым огнем». Эвенки не пошли дальше с Куликом. Но не такой был человек Кулик, чтобы вернуться с полпути. Он нашел двух сорвиголов — ангарских охотников и вместе с ними стал «сплавляться» на шитике по бурным таежным речкам. И чем ближе приближался он к центру катастрофы, тем удивительнее раскрывалась перед ним картина. Весь лес в тайге, как впоследствии выяснилось, на площади с радиусом до шестидесяти километров был повален на всех возвышениях. На площади с радиусом в тридцать километров не осталось ни одного дерева. Все они были вырваны, показывая вывороченными корнями в центр катастрофы. Кулик не смог добраться до самого центра, но поднявшись на возвышенность, увидел долину, где должен был упасть исполинский метеорит. Именно там Кулик ожидал найти следы наибольших разрушений. Ведь колоссальная масса, весом, как предполагали астрономы, в миллион тонн, обладая космической скоростью триста шестьдесят километров в секунду, врезалась в землю. При этом вся энергия движения, кинетическая энергия, которой обладал в полете метеорит, должна была перейти в тепловую, вызвав эффект взрыва. Сила его, как вычислили много позже, равнялась взрыву десяти миллионов тонн тротила или пятисот атомных бомб. Это больше, чем собранная воедино сила взрыва всех снарядов и бомб, взорванных за историю человечества. Здесь, в центре катастрофы, Кулик рассчитывал найти кратер, подобный аризонскому. Велико же было его удивление, когда ничего похожего он не увидел. В центре катастрофы лес стоял на корню. Это был странный, мертвый лес. Деревья, потерявшие кору, без сучьев… Они походили на телеграфные столбы, окружившие не то озеро, не то болото. На следующий год Кулик вернулся в сопровождении оснащенной экспедиции Академии наук. Несколько лет Кулик и его помощники искали Тунгусский метеорит, но ничего не нашли, ни одного осколка. Магнитные приборы не обнаружили массы метеорита и в глубине. Не было ни кратера, ни более мелких воронок. Заподозрив, что их залило водой, Кулик осушил часть окруженного мертвым лесом болота и обнаружил там слой торфа толщиной в два метра, а под ним, что особенно важно, слой вечной мерзлоты толщиной в двадцать пять метров. Когда бур прошел его, через скважину к самой поверхности поднялась вода. Однако скважина вскоре замерзла, и грунтовым водам, находившимся под давлением, выход был закрыт. Существование слоя вечной мерзлоты опровергает все последующие предположения, что метеорит утонул в болоте, а кратер затянуло болотистой почвой. В этом случае слой мерзлоты не сохранился бы. Кулик не закончил своих исследований. Началась Великая Отечественная война. Ученый, несмотря на преклонный возраст и протесты Академии наук, пошел добровольцем на фронт и погиб смертью храбрых. Кончилась война. Никто не побывал на месте падения Тунгусского метеорита, но внезапно интерес к этому явлению возрос. В газетах и журналах появились сенсационные описания необычайного взрыва: яркий шар, ослепительнее солнца; огненный столб, пронзивший облака; звук, слышный за сотни километров; сейсмологические станции, отметившие сотрясение земной коры… Однако это не было воспоминанием о тунгусской катастрофе. Американцы сбросили в Японии атомную бомбу. Когда сравнили сейсмограммы тунгусской катастрофы и атомного взрыва в Хиросиме, оказалось, что они похожи, как близнецы… Предположение, что Тунгусский метеорит упал на землю, не объясняло так называемых аномалий тунгусской катастрофы. Почему нет кратера, который, судя по разрушениям в тайге, должен быть не меньше, чем в Аризонской пустыне? Почему вместо кратера стоит лес на корню? Почему были светлыми ночи после взрыва? И наконец, чем вызвана легенда о боге Огды? Гипотеза о метеорите ничего не объясняла. Но все объяснялось, если предположить, что взрыв произошел не на поверхности земли, вызванный ударом о нее небесного тела, а в воздухе, на высоте около пяти километров. В этом случае в тепло превращалась бы не кинетическая, а внутренняя, скорее всего ядерная энергия, освобожденная во время атомного взрыва. Взрывная волна ринулась во все стороны; ударила она и по вертикали вниз. В том месте взрыва, где деревья были перпендикулярны фронту волны, они устояли, потеряв лишь сучья. В других же местах, где удар пришелся под углом, все деревья были повалены. От удара взрывной волны слой вечной мерзлоты треснул, грунтовые воды вырвались фонтаном, который иссяк, когда под влиянием вечной мерзлоты трещина замерзла. Если взрыв произошел в воздухе, кратер образоваться не мог. Люди ощущали лучевой ожог за шестьдесят километров, ибо в момент атомного взрыва температура поднимается до двадцати миллионов градусов. Основная часть вещества, непосредственно не участвовавшая во взрыве, испарилась и умчалась в верхние слои атмосферы. Они не только отражали солнечные лучи, но, став радиоактивными, возможно, заставляли светиться воздух. Это и видел в ночь после взрыва академик Полканов. Часть вещества силой взрыва была брошена на землю и там продолжала свой радиоактивный распад, вызывая смертоносную радиацию, знакомую нам по атомным взрывам. Не потому ли возникла легенда о невидимом огне бога Огды? Не этим ли там вызваны мутации деревьев? Что же за атомный взрыв произошел в начале века в сибирской тайге? Если бы самородок радиоактивного вещества, способного взрываться, существовал, то он должен был бы взорваться через долю секунды после своего возникновения, а никак не блуждать миллионы лет в космосе, чтобы когда-нибудь встретиться с Землей. Взорваться над тунгусской тайгой могло лишь вещество, полученное искусственно. Но разве могли люди в ту пору создавать такое вещество? Конечно, нет! Для решения подобной задачи потребовалось бы современное оборудование и армия ученых и специалистов. Так возникло смелое предположение: да, вещество, взорвавшееся в тунгусской тайге в 1908 году, было получено искусственно, но не на Земле, а на другой планете. Оно служило радиоактивным топливом для межпланетного корабля, прилетевшего на Землю из глубин космоса и погибшего в силу каких-то причин. Очевидно, уже неуправляемый, он ворвался в земную атмосферу, во всем уподобляясь метеориту. От трения о воздух оболочка его расплавилась, и радиоактивное топливо взорвалось.
Эта гипотеза была прямым признанием существования разумных существ на других планетах. Более того: признанием их попытки прилететь к нам. Астрономическое общество обсудило новую гипотезу. 20 февраля 1948 года в Малом зале Московского планетария состоялась дискуссия о тунгусской катастрофе, которую докладчик объяснил взрывом межпланетного корабля с Марса. Очевидцы утверждают, что в тот день Малый зал Московского планетария больше походил на ринг для состязаний по боксу, чем на аудиторию для лекций и научных споров. Сторонники гипотезы (докладчик был не одинок) одержали победу. Председатель Московского отделения Всесоюзного астрономического общества профессор П. П. Паренаго, руководивший дискуссией, так подвел ее итоги. «Я думаю, — заявил он, — что выражу общее мнение, если скажу, что все спорившие сошлись на том, что мы имеем дело с „гостем из космоса“. Что касается меня, то я на семьдесят процентов верю в то, что это был метеорит, но на тридцать процентов готов допустить, что это были марсиане». Прошло несколько лет. Опять никто не побывал на месте предполагаемого падения метеорита, однако интерес к тунгусскому феномену вновь возрос. На этот раз в связи с изучением Марса. В ту пору Марс изучали лишь астрономы. Они давно заметили странные образования, которые называли еще в прошлом веке «каналами». Временами существование их оспаривалось, потом вновь признавалось, когда они были зафиксированы фотоаппаратами. Однако вскоре астрономам пришлось отказаться от вульгарного представления о каналах как выемках, заполненных водой. Скорее всего сезонные изменения окраски загадочных полос, соединяющие любые две точки на них по кратчайшему пути (по дугам больших кругов), могли оказаться растительностью, причем не сплошной, а расположенной оазисами. И эти оазисы расположены строго на этих проложенных по поверхности Марса идеальных прямых. Особенно интересным оказалось то, что эти полосы растительности появляются тогда, когда поочередно начинает таять одна из полярных шапок Марса, окаймляясь темной полосой влажной почвы. Полоса растительности, начинаясь от этой влажной полосы, удлиняется со скоростью четырех с половиной километров в час, то есть со скоростью течения воды в гигантских трубопроводах, быть может заложенных в почве Марса для подачи талой воды полярных льдов на орошаемые земли. Трубопроводы эти в условиях равнинной местности Марса располагались бы по идеальным прямым. Отмечено было и то, что трубы эти шли к экватору не прямо по меридиану, а под некоторым углом, как будто специально, чтобы использовать для течения воды центробежные силы, вызываемые вращением планеты, которые у нас на Земле поднимают западный берег меридионально текущим рекам. Этот разумный наклон «каналов» еще больше убеждал, что наблюдатели, очевидно, имеют дело со следами жизнедеятельности разумных существ. Марс, ровесник Земли, старился быстрее. Обладая меньшей массой, меньшей силой притяжения, он не мог удержать около себя мощную атмосферу, подобную земной. Этот процесс мог чрезвычайно убыстриться, если Марс в силу космической катастрофы изменил свою орбиту на более близкую к Солнцу; когда атмосфера его нагрелась больше прежнего, частички ее, находясь в непрестанном движении, могли отрываться от планеты и улетать в межпланетное пространство, пока атмосфера Марса не потеряла почти все молекулы водорода, кислорода, азота. Вместе с ними улетали и молекулы водяного пара. Марс стал высыхать. Жизнь на нем должна была быстрее проходить все те фазы, которые проходила на Земле. Разумные существа, которые, по Энгельсу, должны были увенчать собой развитие всякой жизни, если они появились уже на Марсе, когда он еще имел плотную атмосферу и воду, должны были бы заботиться о своих грядущих поколениях, которые через какое-то время останутся без воды. Создать воду на Марсе искусственно невозможно, ибо водород, входящий в ее состав, самый легкий газ и улетучился с Марса первым. Получить воду для Марса можно лишь путем «космического переливания крови», то есть перебросив ее с другой планеты. Если возможен один космический рейс, осуществим и миллион таких рейсов. За сотни лет постепенно можно было бы перебросить на Марс, например, весь лед, покрывающий сейчас Гренландию. Марсиане получили бы воду на миллиарды лет, а на Земле близ Москвы стали бы расти апельсины, так как уничтожена была бы «кухня непогоды» в Гренландии. Предположения о возможном изменении орбиты Марса в результате какого-то катаклизма были сделаны уже после исследования планеты автоматическими межпланетными станциями, посланными из СССР и Америки. Они установили преимущественно углеродистый состав чрезвычайно разреженной атмосферы, как будто углекислота, как более тяжелая, осталась в прежнем количестве, а более легкие газы были Марсом утрачены. Вместе с тем изучение рельефа указывало на существование высохших русел бывших рек и несомненное влияние вод на некоторые части поверхности планеты. С высоты полета искусственных спутников Марса, посланных с Земли, «каналы» уже не различались, и загадка их обнаружения с более далеких расстояний так и осталась нерешенной. Вместе с тем предположение о разумной расе марсиан требовало допущения, что с течением столетий или тысячелетий, пока Марс терял атмосферу, они должны были уйти в глубинные убежища с искусственной атмосферой. Энтузиасты этой гипотезы не хотели сдаваться. Решить этот вопрос можно было или непосредственным исследованием поверхности Марса, когда туда сможет прилететь космический корабль Земли с экипажем, или получив неоспоримые доказательства, что марсиане прилетали на Землю, скажем, в том же 1908 году. И гипотеза о тунгусском взрыве, допускавшая гибель марсианского корабля, побудила ученых снова взяться за исследования тунгусской катастрофы. Однако сторонники метеоритной гипотезы не могли допустить столь фантастического объяснения необыкновенного феномена, как инопланетный разум. В 1958 году в тунгусскую тайгу отправилась экспедиция под руководством К. П. Флоренского. Выводы ее были многозначительными: взрыв, по мнению экспедиции, произошел в воздухе. Теперь требовалось объяснить: что же могло взорваться в воздухе без удара о Землю? Председатель Комитета по метеоритам академик В. Г. Фесенков объяснил этот взрыв встречей Земли в 1908 году с ледяным ядром кометы. Это требовало математического обоснования. Было подсчитано, что ледяное тело может исчезнуть в тепловом взрыве в воздухе, если скорость его превосходит тридцать километров в секунду. Однако скорость эта объективными методами не была установлена. Научная проблема привлекла всеобщее внимание. Особенно заинтересовались ею молодые ученые Москвы, Томска, Башкирии. Возникло стихийное движение научного туризма. В тайгу одна за другой направлялись самодеятельные научные экспедиции, которые ставили перед собой задачу проверить: не ядерный ли взрыв произошел в тайге в 1908 году? Первые же результаты этих экспедиций привлекли к себе серьезное внимание. В последующие годы экспедиции под руководством томича Г. Плеханова и А. Золотова из Башкирии, поддержанные Сибирским филиалом Академии наук СССР, и по инициативе ЦК ВЛКСМ — Президиумом Академии наук СССР, выявляли все больше интересных научных фактов. Заметного повышения радиоактивности почвы или погибших при взрыве деревьев не наблюдалось, но… обнаружен был характерный для ядерного взрыва лучистый (световой) ожог. И еще экспедицией Флоренского был обнаружен любопытный феномен. Деревья, уцелевшие при взрыве и продолжавшие или начавшие расти после катастрофы, развивались в десять раз быстрее, чем обычно. Некоторые лесоведы, исследовавшие это уникальное явление, готовы были допустить существование какого-то (может быть, и радиоактивного) стимулятора роста. По этому поводу и по другим аспектам тунгусского явления 1908 года стали появляться статьи в научных журналах, в том числе и в таком журнале, как «Доклады Академии наук СССР». Многие из них защищали гипотезу о ядерном взрыве в тунгусской тайге. Весной 1964 года на очередной метеоритной конференции А. В. Золотов сообщил, что по распределению азимутов 50 тысяч поваленных деревьев ему удалось обнаружить следы действия баллистической волны от летевшего тунгусского тела. Оценив энергию этой волны, Золотов вычислил, что конечная скорость тунгусского тела была всего лишь 1,2 километра в секунду, а не тридцать, как предполагали сторонники версии взрыва ледяной кометы. Тем самым становилось очевидным, что взрыв тунгусского тела произошел за счет его внутренней, судя по всему, ядерной энергии. С другой стороны, анализ микробарограмм тунгусского взрыва, до тех пор никем не проводившийся, показал, что они типичны для ядерных взрывов и совсем непохожи на микробарограммы взрывов химических или тепловых (скажем, вулканов). За эту работу А. В. Золотову, выпустившему монографию «Проблема тунгусской катастрофы» (с предисловием вице-президента Академии наук СССР академика Б. П. Константинова), была присвоена ученая степень кандидата физико-математических наук. Наконец, сибирские исследователи А. Ф. Ковалевский, В. К. Журавлев, К. Г. Иванов и другие показали, что геомагнитный эффект тунгусского взрыва в части искажения земного магнитного поля почти неотличим от таких же эффектов, вызванных искусственными ядерными взрывами на высоте 5-10 километров. Так было установлено, что тунгусский взрыв обладал всеми параметрами высотных ядерных взрывов (надземных, а не космических). Это обстоятельство никак не объяснялось с позиций метеоритной или кометной гипотезы. Проблемой заинтересовались физики, и в Дубне состоялось широкое научное обсуждение тунгусской проблемы. Доклады сторонников ядерной гипотезы вызвали оживленный обмен мнениями. Все выступавшие ученые отмечали правомерность ядерной гипотезыи предлагали пути для ее дальнейшей проверки и развития. Еще перед дискуссией в Дубне известные американские физики, лауреаты Нобелевской премии У. Либби и К. Коуэн, а также К. Этлури, объявив себя сторонниками ядерной гипотезы, опубликовали работу, где сообщалось, что в деревьях Американского континента, в годичных слоях после 1908 года, содержится повышенное количество радиоактивного изотопа углерода. Они объяснили это глобальным действием тунгусского взрыва и считали, как перед тем и некоторые другие ученые в различных странах, что тунгусское тело состояло из антивещества, взорвавшегося при аннигиляции в атмосфере. Антивещество — это вещество, где ядра атомов имеют отрицательный заряд, а электронная оболочка — положительный. Наука уже знает полученный в лабораториях антиэлектрон — позитрон, антипротон, антинейтрон… Из этих античастиц можно представить себе любое вещество, во всем подобное обычному, но с обратными электрическими зарядами ядра и оболочки. При встрече атома вещества и антивещества они взаимно уничтожаются, аннигилируют, превращаясь в фотоны, с выделением колоссальной энергии. Предположение о вторжении антивещества не противоречит и гипотезе о космическом корабле. Антивещество — лучшее топливо для дальних космических полетов, единственное топливо, скажем, для фотонных ракет. Конечно, хранить его нельзя в обычных резервуарах; сохранять его от соприкосновения с обычным веществом можно лишь в сильном магнитном поле, в магнитном мешке… Вот и возможная причина гибели космолета. Нарушение магнитного поля, которое удерживало опасное топливо (антивещество) от соприкосновения с веществом, должно было привести к катастрофе. В этом свете знаменателен вывод, к которому пришел физик В. Н. Мехедов в своей работе «О радиоактивности золы деревьев в районе тунгусской катастрофы», выполненной в лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований в Дубне в 1967 году. Исследуя годичные слои деревьев, относящиеся к 1909 году (после взрыва), он нашел основание заявить, что «…мы снова (как бы фантастично это ни выглядело) возвращаемся к предположению о том, что тунгусская катастрофа вызвана аварией космического корабля, топливом для двигателя которого служило антивещество». Но многие ученые продолжали сомневаться. А загадка тунгусской катастрофы давала пищу уму. И в СССР и в Америке начали выдвигаться все новые и новые гипотезы о причине взрыва в тунгусской тайге. Однако ни одна из них не могла объяснить всех аномалий тунгусской катастрофы, объясняемых ядерной гипотезой. Ядерная гипотеза влекла за собой космическую гипотезу о прилете инопланетян. Если взорвался корабль, то откуда он мог лететь к Земле? Неужели в самом деле с Марса? Или это был чужезвездный звездолет, начавший исследование Солнечной системы с наиболее отдаленных от светила планет, летя к Земле уже с Марса? Могла ли наука решить и этот вопрос? Наиболее убедительной должна была стать проверка астронавигационная. Перелететь с планеты на планету нельзя когда угодно; надо сообразовываться с взаимным расположением планет. Земля и Марс раз в пятнадцать-семнадцать лет сближаются с расстояния в четыреста миллионов километров до пятидесяти миллионов. Вылетать с планет можно с определенными скоростями, находиться в пути — строго рассчитанное время. Расчет показывает, что марсиане могли прилететь на Землю в 1907 году во время малого противостояния, могли прилететь в 1909 году во время великого противостояния, но никак не могли прилететь в 1908 году. Сторонники гипотезы о взрыве корабля огорчились, но не сдались. Они стали высчитывать, сколько времени нужно марсианам, чтобы слетать на Землю и вернуться на Марс. Оказалось, два года. Это очень длительный срок. Трудно прожить его в искусственных условиях! Но можно ли представить в космосе такие благоприятные условия, которые позволят уложиться подобной экспедиции в более короткий срок? Оказалось, что можно. Если сначала воспользоваться противостоянием Марса и Венеры и перелететь на Венеру, а потом, дождавшись противостояния Венеры и Земли, выгодно перелететь с нее на Землю, и, наконец, если вслед за этим случится великое противостояние Земли и Марса, Земля «подвезет» марсиан к родной планете, и они вернутся домой. При таких условиях для экспедиции действительно потребуется много меньше времени, чем два года. Но подобные тройные совпадения бывают редко, очень редко. Однако были… в 1908 году! Независимо от сторонников гипотезы, ее противник А. А. Штернфельд, делавший астронавигационные подсчеты, пришел к убеждению, что в 1908 году особенно выгодно было перелететь с Венеры на Землю. Указанное им время прилета корабля точно совпало с днем тунгусской катастрофы — 30 июня 1908 года, в 7 часов утра. Что это? Совпадение? Случайность? — Мы, материалисты, не верим в случайность, — так закончил свой рассказ Матросов. — Для нас, готовящих полет на Марс, очень важно знать, встретимся ли мы там с подобными нам существами. Все время, пока Матросов говорил о своей любимой гипотезе, Марина с тем же восхищением смотрела на него, как смотрел на нее он в Брестской крепости при ее рассказе об аккумулировании энергии в магнитном поле сверхпроводников. Когда Матросов закончил, она вздохнула и сказала: — Все это так, но… большинство ученых на основании исследования Марса автоматическими межпланетными станциями, садившимися на него, считают, что жизни на нем нет. Как бы я хотела, чтобы они ошиблись. — У нас есть возможность достать решающий аргумент. — Какая? Что за аргумент? — Радий-дельта, о котором писал покойный профессор Баков, радий-дельта, о котором знает твой профессор Кленов, радий-дельта, который так необходим тебе для твоего сверхаккумулятора. Автомашина давно стояла на обочине шоссе, пластмассовый верх был откинут. В кювете трещали кузнечики, на лугу мычали коровы. Две маленькие девочки переходили шоссе с полной корзиной грибов. Марина восторженно смотрела на Дмитрия. — Очень может быть, — повторил он, — что неведомый тяжелый элемент, найденный профессором Баковым в тунгусской тайге, — это чудом уцелевший кусок невзорвавшегося радиоактивного топлива марсианского межпланетного корабля, единственный осколок никогда не падавшего на землю Тунгусского метеорита.
Глава IV. ГИЛЬОТИНА
Уже в вечер провала диссертации Марина очень изменилась. Она похудела, осунулась, старалась ни с кем не встречаться. Ее понимали и жалели. Но после возвращения из Бреста она преобразилась: расцвела, похорошела, ходила по институту с сияющими глазами, беспричинно улыбаясь. После работы сломя голову летела из института. Всем, конечно, казалось естественным, что Марина скоро утешилась после провала диссертации. Ее товарищи понимали, что это было лишь формальным поражением. Ее диссертация заинтересовала ученых; десятки лабораторий по чьему-то расчетливому указанию занялись сверхпроводимостью. Все считали, что Марина радуется своим успехам в работе. Но никто не догадывался об истинной причине ее счастья. Никто, кроме Дмитрия. Марина улыбнулась. Она вспомнила, что именно ради этих бетонных стен и экранов из свинца она перевела лабораторию в полуподвал. Директор долго сопротивлялся, уверяя, что ему некуда деть механическую мастерскую. Тогда Марина согласилась, чтобы наиболее громоздкое оборудование мастерской — старый гидравлический пресс и большие ножницы для резки железа — осталось в лаборатории, лишь бы остальные станки перетащили в ее прежнее помещение. И она настояла на своем. «Лаборатория М. С. Садовской» переехала в свою «Брестскую крепость» со сводчатым потолком. Правда, зеркально-черные стены, золотистые полоски шин на белом мраморном щите, стекло и медь приборов мало вязались с неуклюжей «гильотиной», как прозвали лаборанты ножницы, но важнейшая для Марины работа началась. Марина полюбила новую лабораторию. Вдоль стен под высоко расположенными окнами тянулись массивные столы с резиновыми змеями проводов. Подвижный свинцовый экран прикрывал проем в соседнее помещение с толстыми бетонными стенами. Как известно, сверхпроводимость, которой занималась Марина, в сильном магнитном поле исчезала. Чтобы решить проблему сверхаккумулятора, надо было найти защитный слой, который предохранял бы материал проводника от действия сильного магнитного поля, сохранял бы сверхпроводимость. Эдисон в поисках подходящего материала для задуманного им щелочного аккумулятора испробовал пятьдесят тысяч различных образцов. Марина, с ее упорством и целеустремленностью, готова была испробовать не меньше. К счастью, попалась незаконченная статья профессора Бакова. Описывая свойства радия-дельта, он, между прочим, сообщал, что, наряду с другими примечательными особенностями, новый элемент влиял на сохранение сверхпроводимости в сильном магнитном поле. В этом Марина увидела для себя главное. И тут случилось нечто неожиданное: профессор Кленов пожелал посетить новую лабораторию Садовской. Марина после некоторого колебания не смогла отказать ему и осталась после работы ждать профессора. Он явился точно, как обещал. Он всегда говорил, что «чужое время — чужие деньги». Марина заметила, что он выглядит плохо. Под глазами — темные мешки. Дышит тяжело и держит руку у сердца. — Вот моя крепость. Проходите, профессор. — Здравствуйте, здравствуйте! — кивал старый профессор, оглядывая помещение. — С новосельем вас, голубушка! Как устроились, осмелюсь осведомиться?.. Что же это они не убрали своих мастодонтов? — указал он на оставленное механическое оборудование. — Это я виновата. Слишком торопилась, — улыбнулась Марина. — Ну, так рассказывайте, — говорил Кленов, проходя мимо лабораторных столов и разглядывая электрические схемы. — Садитесь, Иван Алексеевич. Вам не душно? Открыть форточку? — Увы, дорогая моя барышня. Открытые форточки мне уже не помогут. — Иван Алексеевич, вы знаете, что Тунгусского метеорита никогда не было! В тайге взорвался в 1908 году марсианский корабль. — Что это? И вы тоже? — поморщился Кленов. — Нет, я серьезно. — Чепуха собачья! Да я и слушать не хочу! Ненаучные разговоры какие-то… В науке, почтеннейшая, больше всего надобно бояться вульгаризации. Какое отношение подобные сказки могут иметь к вашей работе? — Некоторое, — загадочно сказала Марина. — Я прочитала статью русского физика Бакова. Ведь он ваш современник, Иван Алексеевич. Вы не знали его? Кленов печально покачал головой: — Баков! Еще бы я не знал этого удивительного человека!.. Он мой учитель. Выдающийся, я вам скажу, был ученый. Богатырь русской науки… — Вот как? А ведь вы же слышали о необычайном элементе радий-дельта, который он нашел в тунгусской тайге и исследовал? Кленов вздрогнул. Концы его длинных пальцев задрожали. — М-да… м-да… — пробормотал он. — Представьте, по работе мне понадобилось убедиться в истинной причине тунгусской катастрофы. И знаете, я уверилась, что марсиане летели к Земле. Кленов болезненно поморщился. — И я убеждена, что в руки Бакова попал кусочек радиоактивного топлива марсиан. — Впервые участвую в таком разговоре! — возмущенно вздохнул Кленов. — На Земле в естественном виде нет вещества тяжелее урана. Не может быть его и на Марсе, ровеснике Земли. Такие сложные, неустойчивые вещества распались всюду. — Ну и что же из этого следует? — То, что радий-дельта был получен на Марсе искусственно. — М-да!.. — Говорят, что современные физики стали алхимиками. Помните историю американского профессора Вонелька, не захотевшего делать искусственное золото для королевского браслета? Кленов спрятал глаза под седыми бровями. — Теперь уже не уран самый тяжелый элемент на Земле. Искусственно получены более тяжелые элементы: нептуний, плутоний, америций, кюрий, берклий, калифорний, эйнштейний, фермий и, наконец, менделевий, атомное число которого уже достигает 101. Но и после этого создавались новые, еще более тяжелые элементы. Например, курчатий. И я решила, Иван Алексеевич, получить радий-дельта искусственно. Ведь я знаю его атомный вес — 257! — Простите, не расслышал или не понял? Собственно, зачем вам надобен этот радий-дельта? — Еще как нужен, Иван Алексеевич! Профессор Баков писал в своей статье, что радий-дельта помогает сохранить сверхпроводимость… — Где вы прочитали это, безумная! — вскричал Кленов, смотря на Марину помутневшими от внезапного гнева глазами. Марина невольно отодвинулась. — Я знаю, чьи это проделки, почтеннейший мой доктор! — Профессор погрозил кому-то кулаком. — Безумная женщина! Вы подобны прародительнице Еве, срывающей запретный плод… но не добра и зла, а только зла, осмелюсь вам заявить! Марина испугалась, но не за себя, а за старика. Он возмущенно размахивал руками, неуклюже сгибая их в локтях. — Иван Алексеевич, дорогой! Сядьте, умоляю вас! — Нет, я умоляю вас! Сидите! Однажды человек, пытавшийся меня убить, заявил, что я объективно вреден для человечества. М-да! Смею надеяться, вам понятна эта формулировка? Не перебивайте! М-да! Вот. Выше всего я ставлю служение принципу. Принципу я подчинил свою жизнь. Во имя счастья человечества я жил в чужой стране под чужим именем. Во имя этого я боролся с вами, сударыня моя! М-да! Я боролся с вами и сегодня убедился, что вы, сорвавшая яблоко зла, объективно вредны для человечества! — Ева сорвала яблоко добра и зла! — попробовала пошутить Марина. — Можно подумать, что вы чувствуете себя здесь в раю, Иван Алексеевич! — В раю? — закричал Кленов. — Нет, в аду! Теперь я понимаю, что хотели вы делать в этой адской кухне! — И Кленов застучал кулаком по свинцовому экрану, защищавшему проем в соседнее помещение. — Осторожно, Иван Алексеевич. Лучше быть подальше. Там смертоносная радиация. — Ах, так? М-да… — Кленов остановился в нерешительности. — Простите, обеспокою. Растолкуйте, как управляете вы этой заслонкой? — Механизм подъема с кнопкой около вас, Иван Алексеевич. — А молоток, кувалда, лом найдутся здесь, осмелюсь спросить? — Вот лом. Механики оставили, — указала Марина. — Премного благодарен вам, — сказал Кленов и решительным шагом прошел к входной двери, два раза повернул в ней ключ и положил его в карман. Марина хмуро свела брови. Возмущение боролось в ней с уважением и жалостью к старику. Кленов подошел к защитному экрану и нажал кнопку. Экран стал подниматься. — Что вы делаете! — не своим голосом закричала Марина. — Мы ведь не в освинцованных костюмах. Это же гибель! — Она бросилась к профессору, но он с неожиданной силой оттолкнул ее. — Гибель? — повторил он, почти безумно глядя на нее совсем мутными глазами. — Мы оба заслужили… нет, обречены на гибель! Профессор поднял тяжелый лом, размахнулся им и ударил по аппарату управления подъемом щита. Свинцовый экран остановился, немного не дойдя до верха. Под ним чернел проем в запретное помещение. Марина схватилась за голову, с ужасом смотря в черную пасть. Там было начато искусственное изготовление радия-дельта. Оттуда сейчас вырывались смертоносные гамма-лучи… Бежать было некуда. Марина знала, что лучи пронизывают все пространство, они уничтожают сейчас клетки ее тела… Она не чувствует этого, но знает, что не будет жить, не будет счастлива… и никогда не встретится с Дмитрием… А безумный старик говорил, размахивая руками: — Вы, как когда-то я, напали на след, ведущий к смерти миллионов и миллионов людей! Поймите, несчастная! Едва он узнает о ваших опытах, он поймет, что я открыл свою тайну. И тогда… тогда он подожжет атмосферу, погубит все живое на Земле… «Судьба человечества в ваших руках, мистер Вонельк», — телеграфировал он мне, когда я вырвался из Америки, но не вырвался из его рук. Он все время держал меня в руках! Он напоминал мне о себе! Он, как дьявол, владел моей душой! Огненная реакция и сверхаккуыулятор! Два проклятых открытия, каждое из которых страшнее всех водородных и атомных бомб, вместе взятых! Пока я хранил тайну сверхаккумулятора, Вельт держал свое мефистофельское слово — огненная реакция не появлялась. Видно, слишком он был заинтересован в сохранении тайны сверхаккумулятора. А я не хотел, не хотел ее хранить… Я даже пытался добыть у него радий-дельта. Но он не продал его… Или не знает, где он!.. — Вы безумны, профессор! О каком сохранении тайны огненной реакции может идти речь, когда в Тихом океане над островом Аренида уже горит воздух. — Что? Что вы сказали? Горит воздух? Так тихоокеанский феномен, который я посчитал газетной уткой, и есть горение воздуха? Значит, я обманут! Он не сдержал слова!.. — Кто он? Какая газетная утка? Разве вы, не читаете наших газет? — Простите, но я был слишком занят, чтобы спасти мир от вас! Я поверил дьяволу! И вот… я — человек, который в жизни своей не обидел и мухи, — роком создан для преступления. Оно совершается вопреки мне в Тихом океане. Скажите, а сгорание воздуха признано опасным для человечества? — Однозначного ответа пока нет. Но потушить пожар атмосферы все равно необходимо. — Да, да, необходимо! Необходимо пресечь это преступление точно так же, как необходимо предотвратить преступление еще большее, направленное против всех людей земного шара. И ради этого я совершаю свое преступление здесь… здесь, в этой лаборатории. Я становлюсь преступником. Прощайте, дорогая девушка. Все погибло, все! Напрасно я держал обет молчания. Судьба наказала меня… и весь мир, который я хотел спасти! Я мог бы вас любить, как отец, как дед… Старик плакал. И Марине все это казалось чудовищным. Телефона в лаборатории не было, его не успели поставить в новом помещении. Как дико понимать, что погибаешь, и не ощущать даже боли! — Тихая, незримая смерть! — словно угадывая мысли Марины, кричал, профессор. — Примите ее стойко… и простите, если можете… — Простить вас! — в свою очередь, закричала Марина. — Я себе простить не могу, что не засадила вас в сумасшедший дом! Да разве вам остановить историю? Справиться с тысячами ученых с сотнями лабораторий? Глупо так погибать! Все равно что встретиться с бешеной собакой и не иметь возможности сделать уколы… Раздался звон разбитого стекла и вслед за тем чей-то голос: — Кто здесь говорил про уколы? Помогите слезть. Я не знал, что окна так высоко… Потом послышалось грузное падение. — Вы, может быть, думаете, что я не все понял? — Здесь радиация! Смертельно! — крикнула Марина. — Бегите в окно! — скомандовал Шварцман, но тотчас понял, что окно недосягаемо высоко. — Милейший, зачем вы здесь? Вы же погибнете? — закричал Кленов. — А вы хотели погибать без меня? Закройте щит! — Механизм опускания щита испорчен! Защелка изнутри! — крикнула Марина, бросаясь к проему. — Нет, извините, — преградил ей дорогу доктор Шварцман. Он первый подскочил к проему и, засунув в него руку, стал шарить там. Марина закрыла лицо руками. Раздался глухой стук. Расширенными глазами видела Марина, как тяжелая свинцовая дверца упала и придавила руку доктора у самого плеча. Он громко вскрикнул и застонал. — Он погибнет… — шептал потерявший голос профессор. — Где лом? Да помогайте же! — хрипел он. Тело доктора слабо дергалось. Марина видела его склоненную голову, его лысину, покрытую мелкими капельками пота. Профессор подтащил лом и пытался приподнять тяжелый щит. Марина помогала ему. — Вы, может быть, думаете, что я не понимаю… — слабым голосом проговорил доктор. — Рука… она теперь сама стала радиоактивной. Находиться с нею рядом не только для меня противопоказано… Доктор был прав. Рука его, попав в зону сильнейшего излучения, сама стала источником радиации, которая в короткий срок убьет и самого доктора, и всякого, кто окажется рядом с ним. Кленов и Марина знали это, но исступленно старались приподнять щит и высвободить изуродованную руку. Наконец им это удалось. Шварцман отвалился от проема, упал навзничь, откинув свою смертоносную руку. Лом со звоном покатился по полу. Свинцовый щит плотно сел на место, закрыв проем. Шварцман с трудом встал на четвереньки. Марина и Кленов наклонились к нему. — Прочь! — крикнул доктор, скрежеща зубами. Пенсне упало и разбилось. Он близорукими глазами осматривал лабораторию. Затем он поднялся на колени, прислонился плечом к чугунной станине механических ножниц. — О гильотина! — прошептал он. — Изобретение французского доктора… Он со стоном поднялся на ноги и включил электромотор. Горизонтальный нож, предназначенный для резки толстых железных листов, стал медленно подниматься. Кленов и Марина стояли рядом. У Кленова стучали зубы. Марина беззвучно рыдала. Маленький доктор повелительно крикнул: — Перевяжите у плеча! Марина все поняла. Схватив с лабораторного стола кусок провода, она перетянула доктору изуродованную руку, чтобы приостановить кровообращение. Мотор работал. Гильотинный нож поднимался. Марина не сдержалась, отвернулась и закричала, кусая пальцы. Мотор продолжал работать, гильотинный нож опустился… Доктор стоял на коленях. — Спасибо, коллега… — тихо сказал он и прислонился к ставшей с ним рядом на колени Марине. — Операция… превосх… Кленов кинулся к выходу, поспешно открыл замок ключом и, распахнув дверь, с криком: «Врача! Врача!» — выбежал в коридор.Глава V. ОДИН ЗА ВСЕХ ИЛИ ПРОТИВ ВСЕХ
Василий Климентьевич прошел суровую школу революции, гражданской и Великой Отечественной войн. Министра считали железным человеком из-за его умения владеть собой, несгибаемой воли, сдержанности, методичности в работе и разговоре. Между тем ничто человеческое ему не было чуждо. Редко кто знал, например, каким он был неистовым рыболовом. С такими же, как он, любителями рыбалок на берегу или на льду у проруби он мог до хрипоты спорить о достоинствах того или иного способа рыбной ловли. При этом исчезала его известная всем манера говорить, последовательно отвечая на вопросы. Споря с рыбаками, он и перебивал их, и даже мог обругать, если уж его очень задевали. Возвращался он с рыбалки усталый, но всегда посвежевший. Кроме рыболовства, у Василия Климентьевича была еще одна тайная всепоглощающая страсть. Уже много лет, в секрете даже от самых близких людей, он трудился над одной проблемой, узнав о которой искренне удивились бы и математики и астрономы. Прежде Василию Климентьевичу не хватало для этих занятий времени. Но теперь он нашел эти часы. В юности и в зрелые годы Василий Климентьевич отличался крепким сном. Но с годами пришла бессонница. С четырех часов утра он уже не мог спать. По-стариковски кряхтя, пересиливая нежелание вставать, он заставлял себя идти в ванную комнату и, бросив в таз с водой кристаллики льда, обливаться холодной, покалывающей влагой. Потом, чувствуя, как уходит расслабленность, он растирал кожу сначала полотенцем, а потом суконной рукавицей, пока кряхтение не превращалось в покрякивание. Быстро одевшись, Василий Климентьевич несколько тяжеловатой походкой направлялся в кабинет. Полтора часа, с половины пятого до шести, принадлежали только ему, и даже в этот необычный день Василий Климентьевич не изменил себе. Подышав у открытого окна свежим воздухом, он по привычке сел за письменный стол в своем рабочем кабинете, где он находился теперь «на казарменном положении». В обычные дни он продолжил бы свою работу «О трех телах». Каждое материальное тело притягивает другое с силой, прямо пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния. Простой, понятный, убедительный закон. А если три тела взаимно притягивают друг друга? Каковы действующие на них силы? Неужели это не так же просто? Оказывается, уже два столетия виднейшие математики и астрономы бьются над решением этой «простой», но, увы, до сих пор не разрешенной задачи. Решить ее в общем виде обычными математическими средствами до сих пор ученые не смогли. Даже электроника компьютеров была способна лишь вычислить некоторые частные случаи. Но Василий Климентьевич считал, что найти общее решение можно, и трудился над этим с энтузиазмом Фарадея, настойчивостью Эдисона и виртуозностью Эйлера. Василий Климентьевич много сделал. Он нашел серию частных решений, открыл обобщающий математический метод, доказал попутно две новые теоремы, но полного решения задачи пока не нашел. Василий Климентьевич не был профессиональным ученым, но науку он любил и, повседневно сталкиваясь с учеными, умел направлять их работу. В то же время он всерьез относился и к той небольшой научной работе, которую вел сам. Поэтому она ни в какой степени не напоминала любительскую и смело могла претендовать на значение диссертационной. Кстати, это была та затаенная честолюбивая мечта, в которой ни за что не сознался бы этот упрямый и решительный человек. Василий Климентьевич просидел склонившись над столом, до без четверти шесть. В первый раз за много лет он не развернул своих рукописей, не взял в руки карандаша. Лоб его часто морщился. У губ ложились угрюмые складки. Мысль неуклонно возвращалась к одному и тому же, и страшные картины всплывали в его мозгу. И вот человек, которого считали железным, содрогнулся. Он подумал о детях. Слабости своей к детям он никогда не скрывал. Он любил после работы посидеть в саду у кремлевских стен, полюбоваться на резвящихся ребят и думать о чем-то своем, далеком, несбывшемся… О маленькой женщине в кожаной тужурке, которая могла бы принести ему обещанного сына и которую он послал в разведку… И он, былой комиссар, мог бы смотреть теперь на своих внучат. Все галдящие ребятишки, вся эта шумная и милая мелюзга казалась Василию Климентьевичу близкой, родной. В этот грозный утренний час он думал о детях, мерно шагая тяжелой поступью по кабинету, прикидывая план возможной борьбы. Дети могут и должны стать взрослыми… И его долг, именно его долг, позаботиться о них! Министр заметил, что телевизефон уже несколько секунд не переставая звонит. Василий Климентьевич удивился: всем было известно, что до шести часов утра его не беспокоят. Что же это могло быть? Все необходимые распоряжения, связанные с чрезвычайным заданием, были отданы еще вчера вечером. Совещание ученых созывается на девять утра. Василий Климентьевич протянул руку и нажал кнопку. На экране появилась чья-то седая голова. Странно! Кто бы это мог быть? — Хэлло! Это товарищ министр? — послышался низкий гулкий голос. — Осмелюсь осведомиться, не разбудил ли я вас? М-да!.. Вы имеете все основания быть на меня за это в претензии. — Да, — сказал министр и пододвинулся ближе к аппарату, чтобы его изображение было видно полностью, — это я, дорогой профессор. Вы не могли меня разбудить, ибо я уже давно поднялся. На вас я отнюдь не в претензии и рад вас выслушать. — М-да!.. Ах, так? Премного благодарен. Я рассчитываю на вас, Василий Климентьевич. Я разочарован во многих представителях нашей власти. Я требую правосудия и возмездия! М-да! Профессор говорил срывающимся голосом, внезапно останавливаясь или переходя с шепота на крик. — К сожалению, профессор, я не уяснил себе, что взволновало вас. Это первое. Второе: может быть, вы найдете возможным приехать ко мне? Мы бы поговорили. И наконец, третье: получили ли вы сообщение о созываемом сегодня в девять часов утра совещании? — М-да! Премного благодарен. Приеду, непременно приеду! Осмелюсь спросить: когда вам будет удобно? Извещение у меня какое-то есть, но я не читал. М-да! Право, не до того. А насчет взволнованности я буду иметь честь лично вам передать. Смею рассчитывать, что вы поймете меня. — Нет, — сказал министр, — это не стоит благодарности. Если хотите, то приезжайте сейчас… Так извещение вы все-таки прочтите и на совещании будьте обязательно. А насчет того, чтобы понять, так я думаю, что два таких старика, как мы с вами, как-нибудь друг в друге разберутся. Приезжайте! Жду! Разрешите прислать за вами машину? — Нет уж, увольте!.. Извините, я сам. М-да!.. — Ну, как хотите, Иван Алексеевич. Буду ждать. Борода профессора, занимавшая весь экран, исчезла. В кабинет негромко постучали. Нажатием кнопки министр, не сходи с места, открыл дверь. На пороге стоял секретарь. Он, улыбаясь, подошел, обменялся рукопожатием с министром и развернул папку. — Разрешите доложить? Министр сел в кресло и сказал: — Выкладывайте, Федор Степанович, слушаю вас. — Обработка данных метеостанций мира показала, что в атмосфере появились пока слабые, но выраженные ветры, направленные к Тихому океану. — Так. — Исследование привезенного Матросовым порошка подтвердило, что это неизвестный до сих пор окисел азота. Путем нагревания до очень высокой температуры его удалось разложить на азот и кислород, но получить вновь этот окисел оказалось невозможным. Нет нужного катализатора. — Так. — Письмо низовым и районным партийным организациям о проведении разъяснительной кампании среди населения и необходимости возглавить настроение масс подготовлено. — Так. — За границей еще не осознано значение событий. Однако биржи реагируют первыми. В частности, тому способствуют грандиозные спекулятивные операции известного капиталиста Вельта. Очень поднялись акции метрополитенов и других подземных сооружений, скупаемые неизвестными лицами. Есть случаи паники. — Так. — Второе. Экстренное совещание ученых состоится в девять ноль-ноль утра. Все, товарищ уполномоченный правительства. Василий Климентьевич задумался. — Все это закономерно, даже консультация академиков. Итак, первое: доставьте мне звукозапись известного вам разговора. Сейчас ко мне приедет профессор Иван Алексеевич Кленов, которого, как я вам поручил, вы должны были пригласить ко мне в конце этой недели и, по-видимому, не успели. Позаботьтесь, чтобы нам не помешали. Для профессора закажите черный кофе, он любит его. Это второе. И третье. Возьмите вот этот листок. Здесь перечень мероприятий, проведение которых следует немедленно подготовить. Но спокойно, без спешки, без шумихи, не торопясь, по-боевому! Понятно? — Понятно, товарищ уполномоченный правительства! Будет исполнено. — Так. Хорошо, Федор Степанович. Кстати, недавнее постановление правительства не лишило меня имени и отчества. Секретарь смутился: — Простите, Василий Климентьевич. — Ну хорошо. Так-то лучше. Профессор Иван Алексеевич Кленов приехал к министру через двадцать минут. Василий Климентьевич встретил его в передней и был удивлен происшедшими с профессором переменами. Кленов так согнулся, что совсем перестал чувствоваться его высокий рост. Приехал он с палочкой, на которую опирался неуклюже, неумело. Волосы его были спутаны, борода разделилась на две неравные части. Осунувшееся лицо было растерянно. Снимая с помощью Василия Климентьевича пальто, профессор тяжело дышал. Кроме приветствия, Сергеев и Кленов не обменялись ни словом. Василий Климентьевич ввел Кленова в кабинет. Это была большая светлая комната с портретами ученых и деятелей искусства. В нишах стояли вращающиеся книжные шкафы. Окна только наполовину были закрыты скатывающимся в валик гибким стеклом. Увидев, что Кленов поежился от холода, министр незаметно нажал кнопку, и гибкое стекло бесшумно затянуло все окно. Оба молчали. Наконец Кленов поднялся с кресла, оперся руками о стол и согнул спину. — М-да!.. Уважаемый товарищ министр! Разрешите доложить, что я явился к вам как к представителю руководства партии, как к члену правительства. М-да! Я пришел жаловаться на некоторую, я бы сказал, преступную бездеятельность правительственных организаций, напряженная бдительность которых, казалось, не подлежала бы сомнению. М-да!.. Не подлежала. Наконец, я явился к вам требовать наказания, возмездия, сурового и безжалостного… Министр незаметно пододвинул стакан с водой. Кленов залпом выпил его и продолжал: — Я обратился в соответствующее место с заявлением, с требованием немедленного изъятия вредного для общества человека! М-да!.. Изъятия… И что же? Лица, достойные всяческого доверия, носящие высокие знаки отличия, вежливенько выпроваживают меня вон! М-да!.. Меня выпроваживали. Я требую… Я осмеливаюсь квалифицировать это как неуважение к моему авторитету гражданина! — Так, — сказал министр. — Кого же и в чем вы обвинили, профессор? — Как? Вы не знаете? Я имею честь сообщить вам, что он вынужден был сам себе ампутировать руку! М-да! — Ампутация? — Да, именно ампутация! Вина, преступление, злой умысел очевидны. Подумать только — ампутация! Такой поистине замечательный человек! Василий Климентьевич, ведь это же человек с глазами ястреба, с сердцем льва и руками… руками женщины. Василий Климентьевич, это ужасно!.. Профессор, обессиленный, почти упал на кресло. — Но это не все, не все, товарищ министр. Здесь имело место покушение на жизнь… м-да… молодой, талантливой и упорной девушки. Покушение, которое не удалось просто из-за старческой слабости, из-за невозможности убить еще и третьего человека. Но не только это злодейское покушение… Не только! Имеет еще место сокрытие от социалистического Отечества одного из величайших достижений человечества. Я требую справедливого возмездия, беспощадного наказания! — Кого же, Иван Алексеевич? — Меня, уважаемый гражданин министр! — Профессор величественно поднялся. — Я не осмелюсь отныне называть вас товарищем, Василий Климентьевич, ибо я преступник! Я настаиваю на том, что имел честь уже вам сообщить. Но только скорее, бога ради, скорее возьмите меня! Я не в силах больше бороться с собой. Рука… Девушка — живой мне укор, а ее работа — несчастье человечества! — Вы уверены в этом, Иван Алексеевич? — Вполне. Или, может быть, не вполне… Я был уверен все время, что сверхаккумулятор — несчастье человечества. Много лет… — Но ведь прежде вы мечтали этим же сверхаккумулятором сделать людей счастливыми, хотели прекратить войны! Профессор вздрогнул от неожиданности. — Откуда вы знаете? — сказал он чужим голосом. — Меня долго одолевали сомнения, вы ли это. Однако последнее время сомнения исчезли, не без внешней помощи, конечно. Во всяком случае, для меня стало ясно, что человек в галошах, встреченный мною в Аппалачских горах и мгновенно испаривший озеро, и неожиданный оппонент на защите диссертации Марины Садовской — одно и то же лицо! Кленов долго молчал, уставившись на министра. — У меня хорошая память на лица, но… — прошептал он. — Я напомню вам. Нас было трое, с цистерной. Мою фамилию они выговаривали не Сергеев, а Серджев. Мне пришлось бежать в Америку от царской охранки… — Ах, тот русский, который хотел отвести меня в сумасшедший дом! — Профессор покраснел. — Совершенно верно. Вы простите, конечно, меня за это! — Как же я вас не узнал? — Трудновато было, Иван Алексеевич. Изменились мы оба порядочно. — Значит, осмелюсь спросить, вам все известно? — Нет. Я только подозревал, но ваш опыт я помнил. Заставляя ученых искать в этом направлении, толкнул по этому следу и Марину Садовскую. Вас же я только заподозрил. И я сделал ошибку — в этом надо уметь сознаваться, — посоветовал привлечь вас к этой работе. Министр теперь расхаживал по комнате. — Я не понял, что происходит в вашей душе, а это надо было понять. Это вторая моя ошибка. Член партии обязан разбираться в людях. К чему это повело? Только постороннее вмешательство помешало вам дойти в ваших заблуждениях до логического конца. — Да, до логического конца… — шепотом выговорил Кленов. — Несчастье было предотвращено. Но какой ценой, какой ценой! Бедный удивительный доктор! — Так. — М-да!.. Оба замолчали… Василий Климентьевич взглянул в окно. В этот час к Московскому Кремлю один за другим подъезжали автомобили. На некоторых из них были иностранные флажки. Проходившие через Спасские ворота ученые вежливо раскланивались друг с другом. Не раз они встречались на международных научных конгрессах или на сессиях Всемирного Совета Мира, на недавнем экстренном совещании в Академии наук. Те, кто впервые оказался в Кремле, с любопытством осматривали творения великих зодчих: дворцы и соборы. Каждый камень мостовой здесь был свидетелем истории народа, показавшего человечеству путь к счастью. И вот по этим камням снова идут люди, призванные задуматься над судьбой человечества. — Вы спасали человечество… — полувопросительно сказал министр. — Да, от страшного несчастья, — поднял голову Кленов. — Я ведь терзался, делал попытки достать радий-дельта. Вы изволите знать о них. Но все мировые запасы радия-дельта оказались в руках Вельта — злого гения человечества. Теперь я почти знаю, догадываюсь. Вопреки своей клятве он обманул меня. — Вы встречались с ним в Америке? — Еще бы! М-да!.. Еще бы! Ведь это он, мой бывший товарищ по работе и друг, пытался когда-то вырвать у меня мою тайну. К счастью или к несчастью, мне удалось бежать. Но радий-дельта остался у него, и я понял, что тайну сверхаккумулятора открывать кому-либо не только бесполезно, но и опасно! М-да! — А вот это уже ошибка, профессор! — Сергеев остановился. — Дело, дорогой Иван Алексеевич, в принципиальности вашей ошибки. В индивидуальности ваших героических, по существу говоря, стремлений. В противопоставлении своей личности обществу. Человечество нельзя защитить тем, что будешь молчать. Наука все равно движется вперед, и человек все больше и больше завоевывает природу. Идеи, которые заказывает сегодняшний уровень прогресса, носятся, как принято говорить, в воздухе; всякое открытие, покоящееся на достижениях современной ему техники, будь оно сделано и скрыто, неизбежно повторится. Таков закон развития науки, зависящей от законов развития экономики. — Да? Я как-то не думал, право, об этом. Я знал, что это ужасно, и пытался от него защитить… — Иван Алексеевич, это все равно что пытаться остановить вращение Земли, упершись плечом в скалы Казбека. Ведь вы же хотели задержать прогресс, а это невозможно. Ибо прогресс подобен мчащемуся локомотиву, управляемому законом развития человеческих отношений. Его движение не может остановить один человек. Во всех случаях он должен будет опереться на опыт, знания и достижения предшествующих поколений и смежных областей науки. Точно так же не может быть задержан прогресс одним человеком, поскольку знания, опыт, достижения и способности человечества неизмеримо больше жалких возможностей и ничтожных сил даже гениального одиночки. — М-да!.. Право, надо подумать, взвесить… Это, пожалуй, так ново для меня… — Это даже не так ново для вас! Ведь вы не станете отрицать, что бессмысленно одному человеку выпить океан, чтобы спасти тонущий пароход? Что бессмысленно одному человеку пытаться перестроить несправедливые человеческие отношения тем, что он в течение двадцати пяти лет будет рисовать и нарисует замечательную картину, взглянув на которую люди должны подобреть? А ведь так, думал художник Александр Иванов, работая над своей картиной «Явление Христа народу». — М-да!.. Право… Какие хлесткие аналогии! Но ведь у меня же была конкретная цель. — Ваша цель, вернее, средство, было молчание. Но силой обстоятельств вы поставлены были перед необходимостью противодействовать. Это логический путь всякого, кто противопоставляет себя обществу. Из человека, который хотел мыслить и действовать «один за всех», вы превратились в человека, который встал «один против всех». За счастье человечества, Иван Алексеевич, можно бороться только организованными средствами. И если бы вы вместе со своим открытием встали в сплоченные ряды, вы сделали бы во сто крат больше, чем могли или даже хотели сделать как индивидуалист. Профессор очень долго молчал. — М-да! — наконец произнес он, вздыхая. — Может ли слепой прозреть? Видимо, я действительно слишком долго жил в другой стране, с иными взглядами. Василий Климентьевич достал небольшой блокнот и раскрыл его: — Да, вы долго жили там. Ассистент профессора Бакова И. А. Кленов покинул Россию в 1913 году. Профессор Кленов, живший сорок лет в Америке под именем Вонелька… Профессор кивнул головой: — Я вел чужую жизнь, чтобы скрыть тайну. — Так. Профессор Кленов, он же Вонельк, вернулся на Родину только через сорок лет. Открыв властям свое имя, стал гражданином СССР, отказавшись от принятого перед тем британского подданства. — У меня не было выхода. Американца Вонелька никогда не выпустили бы из Америки. Он слишком много знал… — И в том числе много того, что навеяно было окружавшей его средой, газетами, которые он читал. Став советским ученым Кленовым, вы все же рассуждали как профессор Вонельк, у которого в Америке было только одно средство борьбы — демонстративный уход из Кор-нельского университета и молчание. — Поймите, товарищ министр, — неуклюже поднялся Кленов, — даже здесь я оставался во власти Вельта. Сергеев недоуменно поднял седые брови. — В руках Вельта — страшное средство… Он мог бы зажечь воздух. И только я удерживал его от этого, я удерживал его своим знанием тайны сверхаккумулятора. Фауст кровью подписал условия… Мефистофель выполнял их. Вельт — сатана, и он так же честно выполнял условия, которые поставил мне на «Куин-Мэри». Он настиг меня на лайнере, когда я был уже британским подданным и покидал Америку навсегда. — Какие же это были условия? — Он предупредил меня, что едва узнает о появлении в СССР сверхаккумуляторов, сочтет это открытием тайны, и тогда… — Что тогда?.. — Он выпустит из лаборатории огненное облако, он превратит его в пылающую стену, которую двинет на континент… Нет, мне даже трудно, осмелюсь вас заверить, повторить все, что он сказал! — И вы боялись этого? — Я боялся даже газетного объявления о диссертации Садовской, где упоминались сверхпроводимость и аккумулирование энергии. Я рад был, что печать поместила мое опровержение этих идей. Вельт видел,что я соблюдаю тайну. — И вы верили ему? — Верил, потому что не имел иного выхода. Но, кажется, он обманул меня. Девушка в лаборатории перед неизбежной своей гибелью сообщила мне, что воздух подожжен в Тихом океане. То, от чего я спасал мир, свершилось. Это мог сделать только Вельт. Правда, я не понимаю зачем. Но он обманул меня!.. — И, полагаясь на его слово, вы готовы были… — Ах, не повторяйте, Василий Климентьевич… Я уже объявил себя преступником и умоляю: заключите меня скорее под стражу, за решетку, а если возможно, расстреляйте… — И, полагаясь на его слово, вы трепетали перед неизбежным повторением вашего открытия? — Ах, почтеннейший, оно уже никогда больше не повторится… Говорят, слепые видят вспышку атомного взрыва. Я увидел. Оно не повторится, потому что его не надо будет повторять. Последним своим деянием я открою тайну миру, Родине, вам… — Прежде позвольте мне открыть вам, как держал свое слово Вельт, пленником которого вы оказались на протяжении всей вашей трудной жизни. Министр вызвал секретаря. — Федор Степанович, своим первым поручением… — Есть, товарищ уполномоченный правительства! — С этими словами секретарь подошел к столу и положил кружок ленты. — Все, Федор Степанович. Секретарь вышел. Министр пододвинул к себе стоявший на столе магнитофон и вставил туда ленту. Несколько секунд слышалось шипение. «Хэлло, мистер Вельт!» — раздался голос Ганса. Кленов вздрогнул и насторожился. «Хэлло, Ганс? Проклятье! Что за шутки? Почему вы на „Голштинии“?» «Вы лучше спросите, биг-босс, почему я не в аду». «Но-но! Что за тон! У меня не слишком много времени для вас!» Министр остановил прибор. — Что это такое? — приглушенно спросил Кленов. — Это разговор небезызвестного вам мистера Вельта с Тихим океаном. Сущность того, что я хотел вам сказать, вы поймете из дальнейшего. Методом интерференции перекрестных волн удалось записать этот разговор, хотя он и велся на направленной волне. — Да-да, я знаю этот метод. Я сам принимал участие в его разработке. — Это ваш метод, профессор Кленов. Теперь слушайте дальше. Сергеев снова включил прибор. Кленов слушал напряженно и внимательно. Временами он вскакивал, ерошил волосы. К концу притих. «Мне не до родительских нежностей!» — грубо сказал Вельт. Прибор умолк. Кленов торжественно поднялся. Министр наблюдал за ним. — Это открытие ирландца Лиама, ассистента профессора Холмстеда. Лиам, Вельт и я — мы все были его ассистентами. Это отец Мод. — Мод? — Это единственная женщина, которую я любил и… — Так. — И убил! Сергеев взглянул на Кленова, но ничего не сказал. Профессор перестал замечать министра, поник головой и задумался. Он взял со стола Василия Климентьевича изящную тонкую ручку из слоновой кости, повертел ее в руках, сломал на несколько частей и положил в карман. Василий Клементьевич внимательно наблюдал за ним. — Но ведь профессор Бернштейн — ученый! — наконец проговорил Кленов, вскидывая на министра глаза. — Как он мог решиться на это? Как он мог упустить из виду, чем грозит его поступок всему живому на Земле? — Как ни странным это кажется, но разобраться в этом можно. Видимо, профессор в силу каких-либо причин находился в состоянии аффекта. Кленов смущенно затеребил бороду и искоса посмотрел на министра. Тот продолжал: — Он понял, в каких целях хотят использовать его открытие. Он задумал его уничтожить. При этом позаботился о спасении жизни членов экспедиции, отправив с ними письмо. — Спасти несколько человек! — воскликнул Кленов. — А миллионы? Миллионы обречены… — Такова логика. О них он не подумал. Вам, в, бытность вашу профессором Вонельком, разве не приходилось встречать людей мягких, жалостливых, которые подбирали бездомных кошек и в то же время работали над созданием атомной бомбы для Хиросимы? — Да, я видел таких… Я мог бы назвать их имена… Их знают во всем научном мире. — И некоторые из них не задумались о последствиях не менее страшных, чем уготовленные Бернштейном. Относясь к Бернштейну справедливо, надо заметить, что его американские коллеги вовсе не находились в состоянии аффекта. — Какие убийственные, осмелюсь выразиться, параллели всегда вы приводите! Подумать только! И Бернштейн, и я, и многие наши западные коллеги — все мы оказываемся более чем близоруки — преступно слепы. И в результате если не атомный пожар Земли, то пожар ее атмосферы! Что же делать? Старый профессор сжал голову руками. Сергеев следил за ним. От него не ускользнуло меняющееся выражение глаз профессора. Он угадал в них какую-то новую мысль. Профессор выпрямился, спина его больше не гнулась, потом он встал. Встал и министр. — Пойдемте, Иван Алексеевич, на совещание ученых. Уже, почти девять часов, — сказал он. — Вы увидите сегодня многих ваших коллег и из западных стран, и из Японии, из Индии, из братских стран-соседей… Дело касается всех. Вы тоже нужны там.Глава VI. КОНЦЕРН СПАСЕНИЯ
Марина ничего не написала Матросову, который улетел на космодром в Байконуре в связи с организацией космического рейса на Марс, — боялась его тревожить. Но он все узнал из письма Ксении, которая не поскупилась на ужасы. Через полчаса после получения письма, из которого Матросов только и понял, что теряет Марину навеки, он уже летел на самолете в Москву. А спустя три часа он, не в состоянии дождаться, пока за ним спустится лифт, взлетел через все ступеньки на десятый этаж, представляя лицо на подушке, любимое, изможденное, прозрачное, разметавшиеся волосы, полутемную комнату, запах лекарств… Когда, открыв дверь, он увидел Марину, ее радостно удивленные, расширенные глаза, неожиданную седую прядь в волосах, он так сжал ее в объятиях, что она, счастливая, застонала. Потом, держа за плечи, он оттолкнул ее от себя, чтобы посмотреть, убедиться, налюбоваться… Марина, сияющая, смеялась и все пыталась спрятать лицо у него на груди. Надя, заглянувшая было в переднюю, закрыла дверь и стояла, прижав руки к груди и зажмурившись. Что-то произошло в Марине — Дмитрий сразу не мог понять. Она стала красивее, взрослее, ярче… Нет, он не знает, что с ней произошло. Ах, эта седая прядь так меняет и красит ее! Но он ничего не сказал любимой. Держа ее за плечи, словно боясь опять потерять, он прошел с ней в столовую. Догадливая Надя выскользнула в кабинет сестры и стояла там у двери с закрытыми глазами и думала: «Как это необыкновенно! Как она счастлива!» Потом они, Марина и Дмитрий, говорили. Говорили сбивчиво, бестолково о каких-то пустяках, не отвечая друг другу, говорили и не могли наговориться. И, конечно, целовались. По крайней мере, Надя была уверена, что целовались. — Это неопасно? Радиация не скажется на тебе? — все спрашивал Дмитрий. Марина качала головой. — Меня проверяли счетчиком Гейгера — Мюллера. Я неопасна. Я не излучаю гамма-лучей! — смеялась она. — Я должен видеть этого замечательного человека! Хочу пожать ему руку. — Руку? — переспросила Марина печально. Матросов хлопнул себя по лбу. — Ты увидишь его. Мы вместе сейчас же проведаем его в больнице… — Можно мне с вами? — из-за двери спросила Надя. Но ее не взяли. Она всучила им шоколадные трюфели, которые любила больше всего на свете, и приказала передать их больному доктору. Они пошли пешком. Шли и все время взглядывали друг на друга и, кажется, даже ничего не говорили в пути. Впрочем, нет! Матросов все время что-то предлагал Марине: то зайти в магазин за каким-то пустяком, то купить мороженого или цветов, то выпить газированной воды. Марина смеялась. Продавец газированной воды улыбнулся им, улыбнулась и старушка, только что сердито прикрикнувшая на непослушную внучку. А девчушка лет трех несколько шагов шла вместе с ними, заглядывая в их лица. По Калининскому проспекту они дошли до Садового кольца и повернули направо. Здесь, на необъятно широкой улице, не было галерейных тротуаров. Марине город казался особенным, удивительно красивым, словно она никогда не была в нем. Она сказала об этом Дмитрию. Он с удивлением осмотрелся, потом, будто боясь потерять секунды, снова уставился на Марину, на ее профиль, который казался ему навеки выгравированным в сердце, в памяти, в воображении — словом, в нем, в Матросове, и отныне неотъемлемым от него. На площади Восстания, близ огромного дома, стояло старое здание с колоннами, воздвигнутое, вероятно, великим архитектором. Марину и Дмитрия ждала молоденькая женщина-врач, предупрежденная об их приходе. Она со скучающим видом повела их в особую камеру, где их облучили, уничтожая бактерии. Оказавшись одни в камере, посетители укладкой поцеловались. Дежурный врач, давая им халаты, старалась на них не смотреть: верно, в камере все-таки имелось окошечко! Высокий Матросов в коротеньком халатике выглядел таким смешным и необыкновенно сильным, что у Марины выступили слезы на глазах. Вскоре три фигуры в белых халатах шли по высокому, светлому и пустынному коридору. По полу рассыпались красноватые блики. Это вечернее солнце пробивалось сквозь листву, заслонявшую окна. Все трое остановились перед высокой дверью. Она бесшумно открылась; на пороге стояла медицинская сестра. — Ждут, — сказала она тихо. — Прошу вас, — любезно пригласила врач, с любопытством оглядывая счастливую пару, какую редко встретишь в больнице. Запахло лекарством. Матросов вспомнил свою недавнюю тревогу. Ощутимее показалась тишина. Марина оглянулась на Дмитрия, ободряюще улыбнулась ему. Он старался идти на носках. У окна стояла белая кровать. На подушке виднелась голова доктора Шварцмана, непривычная без пенсне, совершенно круглая и гладкая, с вьющимися волосами на височках. — Вы, может быть, думаете, что я не знаю, кого вы ко мне привели? Ничего подобного! Это Матросов. — Я привела человека, который хочет поблагодарить вас… за меня, — Ну а я поблагодарю вас за него. Я уже успел возненавидеть своих коллег. Они не допускают ко мне никого, кроме моего собственного пациента. Представьте, теперь он меня лечит! Назначил мне мозговую диету и не желает рассказывать, что делается на свете, а сам уехал к министру! Я всегда говорил, что он аллигатор… Так почему, молодой человек, вы пожелали поблагодарить меня?.. Впрочем, не отвечайте! Я умею ставить диагноз по глубокомысленным лицам. Только не сердитесь, мои дорогие! Вы подумайте: я все время молчу и даже газет не вижу! — А я захватил, — сказал Матросов. — Догадался, что вам будет интересно. — Дорогие вы мои, хорошие! Дайте я вас обниму! — Шварцман рассмеялся. Матросов, смущенный и этим взглядом, и словами доктора об их глупых, наверно, лицах, поспешил перевести разговор на сенсации дня. — «Пари суар» четырнадцатого июня сообщает… Вы еще ничего не знаете? Владелец военного концерна мистер Вельт послал на остров в Тихом океане экспедицию. Некий профессор Бернштейн научился сжигать воздух… — Постойте, постойте! Как это — сжигать воздух? Марина вмешалась: — Воздух состоит из азота и кислорода. Соединение этих двух газов, до сих пор проходившее с большим трудом, и есть горение воздуха. — Забавно, забавно! — Дальше не так забавно, — продолжал Матросов. — Этот самый профессор принес себя в жертву. — В жертву? — Доктор Шварцман украдкой взглянул на Марину. — Да, в жертву человечеству и зажег над островом Аренида атмосферу. Это событие в течение нескольких дней занимало весь капиталистический мир. Вот здесь лондонский «Таймс», римская «Трибуна», американский «Нью-Йорк таймс». Они пережевывают сенсацию на все лады. Ученые опровергают возможность горения воздуха и утверждают, что все это не больше чем мистификация. Словом, этого хватило ровным счетом на неделю. Газеты от девятнадцатого июля заняты уже иным. — Что же загорелось теперь? — Кризис, Исаак Моисеевич. На всех биржах паника. — Вы, может быть, думаете, что это ново? — Есть и кое-что новое. Газеты пишут о необыкновенных сделках, совершаемых на биржах, о крахе крупнейших предприятий, о невероятной спекулятивной игре Вельта, неожиданно купившего знаменитую Мамонтову пещеру в Кентукки. — Здесь, по-моему, надо искать связь, — сказала Марина. — Конечно! Связь ясна. Сначала он пугает народ, а потом начинает грабить. Старый прием, уверяю вас! Я еще помню, были такие бандиты, которые одевались в белые балахоны и прыгали на пружинах, а потом обирали перепуганных прохожих. — Газеты полны сообщениями о том, что все метрополитены, американские собвеи и железные дороги, обладающие крупными туннелями, приобретены концерном Вельта. Все задают себе вопрос: «Что бы это могло значить?» — Да, странно! — Неожиданно прекращают работы многие предприятия, Америка в полном смятении. Вельт закрывает даже свои военные заводы. Аннулировал военные заказы ряда государств. — Совсем удивительно! — Это вызвало растерянность капиталистических стран, заказы которых Вельт так еще недавно пытался заполучить. На улицу выброшены миллионы безработных. В то же время Вельт начинает какие-то гигантские работы. Об этом пишут и в Германии, и в Скандинавских странах. Указывают на огромный интерес Вельта к Гренландии. — Послушайте, Матросов! Вам еще не надоел ваш Вельт? — Что же делать! Весь капиталистический мир занят сейчас только им. Вы забываете, что он стоит во главе огромного числа монополистических объединений. — Что же ему нужно? Я не понимаю… — Этого никто не понимает. — Здесь какая-то связь с катастрофой в Тихом океане, — снова заметила Марина, украдкой улыбнувшись Дмитрию. — Скоро все разрешится, Исаак Моисеевич. Сегодняшние зарубежные газеты полны сообщений, что самый знаменитый человек нашего времени — доктор Фредерик Вельт выступит с речью по радио, обращенной ко всему миру. — Так-таки ко всему миру? — засмеялся Шварцман и тотчас сморщился. Вероятно, ему стало больно. Марина встала и поправила на нем одеяло. — Да, Исаак Моисеевич, этому обращению за границей придают огромное значение. Никто еще не говорил сразу со всем миром. — Просто он американец и любит сенсации! Скажите, он будет говорить по-английски? — Да, — сказал Матросов. — Радиостанции после его выступления будут передавать речь Вельта на всех основных языках Земли. Но я мог бы сразу переводить вам. — Похоже на грандиозную американскую рекламу. Может быть, вы думаете, что я стал бы терять свое время и слушать его капиталистическую болтовню? Ничего подобного! Лицо Матросова омрачилось. — А я думал, Исаак Моисеевич, что это вас заинтересует… — Матросов вынул из кармана часы. — Что вы смотрите? Я ни за что не отпущу вас! Рассказывали мне о каком-то Вельте… Вы лучше расскажите, что делается у нас. — У нас, Исаак Моисеевич, все спокойно. Вчера был решающий футбольный матч на кубок страны. Пятнадцатого июля вступило в строй Всесоюзное электрокольцо. Оно теперь объединило энергетические системы Сибири, Волги и Днепра. Одновременно с этим заработала очередная турбина Сибирьэнергостроя. Домна Курского металлургического завода дала чугун. Профессор Гринев показывал вчера лошадь без сердца, которое было заменено насосной установкой, помещенной вместо седла. Профессор Гринев проехал на своей лошади по манежу два круга, после чего лошадь издохла. Оборвался провод. — Жаль, жаль! Это очень интересно. Что же вы мне сразу об этом не рассказали? Матросов опять посмотрел на часы. — В шесть часов по среднеевропейскому времени сегодня, двадцать первого июля, по радио, обращаясь ко всему миру, выступит Вельт. — А сколько сейчас времени? — спросил Шварцман. — Без одной минуты восемь. — Так что же вы мне раньше не сказали? Ах, какая досада! Может быть, он еще не кончил? — Он еще не начинал, Исаак Моисеевич. Разница во времени — два часа. Начнет через одну минуту. — Так включайте скорее! Что же вы ждете? Торопитесь! Ах, какой вы медлительный, молодой человек! Доктор очень волновался. Матросов, сдерживая улыбку, включил приемник. — Теперь я понимаю, какое сообщение собирался сегодня слушать мой аллигатор! Ах, несносный! А мне ничего не сказал! В репродукторе слышался легкий шум. Матросов настраивал приемник. Из коридора доносилось слабое тиканье стенных часов. Доктор Шварцман сел. Все приготовились слушать сенсационное выступление Вельта.
В репродукторе что-то щелкнуло. «Люди мира! — послышался голос Фредерика Вельта. — Обитатели Земли! Я выступаю сейчас перед вами как ученый, который, может быть, несколько скучно постарается объяснить вам весь ужас сегодняшнего положения человечества…» Матросов переводил слово в слово. Голос умолк. Никто не проронил ни звука. Даже доктор Шварцман молчал. «Люди мира! Чтобы сделать для вас понятным то, что происходит сейчас на Земле, я прочту вам первую и последнюю в истории существования Земли научную лекцию для всего человечества…» Булькнула вода: это Матросов налил ее в стакан. «Люди мира! Воздух, которым вы дышите, состоит из смеси двух газов — азота и кислорода. Кислород — очень деятельный газ. При повышенной температуре он стремится соединиться со многими телами нашей Земли. Эта реакция хорошо известна нам как горение. Когда горит уголь, вещество его соединяется с кислородом, и при этом выделяется тепло. Соединение многих тел с кислородом сопровождается выделением тепла; выражаясь научно, является реакцией экзотермической. Но не все тела таковы. Есть соединения с кислородом, образование которых требует тепла извне, есть явление холодного горения — горения, не выделяющего, а поглощающего тепло. Таким холодным горением было до сих пор соединение двух газов нашего воздуха — азота и кислорода. Эта реакция эндотермическая, она требовала затраты значительной энергии и потому была редка на Земле. Она происходила в природе во время грозовых электрических разрядов — во время ударов молний…» — Вы, может быть, думаете, что я знаю, куда он клонит? Ничего подобного. «Несколько десятилетий назад я как ученый обратил внимание, что миру известны пять соединений кислорода и азота, или, иначе говоря, окислов азота. Эти пять химических соединений азота и кислорода в различных пропорциях требуют, оказывается, для своего образования разного количества тепла. Я усмотрел в этом неразгаданную тайну природы. В самом деле, сопоставьте следующее: чтобы соединить две частицы азота с одной частицей кислорода, требуется 26,6 калории. Для одной частицы азота и одной кислорода необходимо 21,6 калории. Для соединения, где азота две, а кислорода три частицы, требуется 22,2 калории. Но уже следующее соединение — NO2 — требует тепла много меньше — 8,13 калории, а для образования последнего, пятого окисла — N2О5, где азота две частицы, а кислорода пять, требуется всего лишь 1,2 калории. Выпишите такую таблицу: N2O. . 26,6 калории N2O3. . 22,2 калории NО. . 21,6 калории NО2. . 8,13 калорий N2O5. . 1,2 калории Что это может значить, люди мира? Здесь чувствуется какая-то тайная закономерность. Это умозаключение заставило меня предположить существование шестого, неизвестного еще окисла азота, где пропорция соединяющихся газов такова, что реакция горения азота должна проходить гораздо легче. В четвертом и пятом окислах азота, требующих для своего образования меньших количеств тепла, чем остальные окислы, мы лишь приближались к таинственной и совершенной пропорции. Логически напрашивался вывод, что реакция шестого окисла может протекать при выделении, а не при поглощении тепла. Что это значит? Из этого следует, что, найдя шестой окисел, мы превратили бы весь наш воздух в топливо, в гремучую смесь. Мы научились бы извлекать из атмосферы в любом ее месте тепловую энергию. Мы бы жили в бесплатном вездесущем топливе, дышали бы им, ходили бы в нем, обладали бы даровой неиссякаемой энергией. Наши автомобили, локомотивы, пароходы, аэропланы освободились бы от мертвого груза топлива — ведь оно в виде гремучей смеси было бы повсюду. Человечество обрело бы богатство и счастье! Люди мира! Большую часть своей жизни я посвятил поискам шестого окисла азота. И я нашел его!..» — О! Кажется, я начинаю разбираться в химии! До сих пор мы с ней были не в ладах, — сказал Шварцман, весело оглядывая окружающих. Но Марина была сосредоточенно внимательна. Матросов бесстрастно переводил. «Я нашел шестой окисел азота, для образования которого требуется присутствие одного газа, который сам в реакции участия не принимает. В химии такие вещества зовут катализаторами. В присутствии некоего радиоактивного катализатора атомы изменяются и входят в соединение с кислородом в нужной мне совершенной пропорции. Я добился этой реакции. Она протекала с выделением тепла. Я заставил азот по-настоящему гореть! Я поджег воздух! Я победил природу! Я превратив атмосферу в вездесущее топливо, в гремучий газ…» В палату вошла сиделка и принесла поднос с чаем и печеньем. Марина сделала знак, и Матросов извлек из кармана коробку трюфелей. Больничная жизнь шла своим чередом. Доктор взял свой стакан. Ложечка звякнула… «Люди мира! Нужный мне газ был только в одном месте на Земле. Его принес из глубин космоса неведомый метеорит, образовавший остров Аренида. Я краток, люди мира! На острове Аренида произошла катастрофа! Самопроизвольно загорелся воздух!» — Что, что? — спросил доктор. «Загорелся воздух! — как бы отвечая, повторил Вельт. — Люди мира! Нет возможности остановить этот воздушный пожар! Он не распространится за пределы пылающего острова, туда, где нет газа-катализатора, но над островом с каждым мгновением будут сгорать все новые и новые массы воздуха, стекающиеся со всей планеты. Жадный костер будет пылать до тех пор, пока не уничтожит на Земле всей атмосферы. Земля останется без воздуха, все живое задохнется, жизнь погибнет!» — Позвольте, позвольте! — закричал доктор и поставил стакан на тумбочку. — Как так «задохнется»? Марина посмотрела на Дмитрия вопросительно. «Воздух уничтожается. Жизнь кончается на Земле? Об этом я объявляю вам, последние люди Земли!..» Доктор взял с подноса печенье. Марина развернула ему трюфель. Репродуктор молчал. Матросов, думая, что Вельт кончил, хотел что-то сказать, но сдержался, а громкоговоритель заговорил снова: «Но не все еще потеряно, люди мира! Я предвидел приближающееся несчастье и, заботясь о населении Земли, создал Концерн спасения. Завтра на все биржи поступят в продажу акции спасения. Тот, кто приобретет их, получит право на подземное убежище и свою долю искусственного воздуха, право на жизнь если не на Земле, лишенной воздуха, то под землей! Люди мира! Через несколько месяцев человечество начнет задыхаться. Концерн за это время закончит работы по созданию будущих жилищ для людей, которые приобретут акции концерна. Вот все, что имел сказать я, люди обреченной Земли! Покупайте акции спасения!..» Голос в репродукторе умолк. Замолк и Матросов. Миллионы слушателей Вельта у бесчисленных приемников и репродукторов молчали. …Доктор одним глотком допил свой чай. Матросов хмурился. Марина смотрела на него, и ее взгляд, казалось, говорил: «Какая нелепость! Как может погибнуть мир, когда все так хорошо вокруг! Как может погибнуть мир, когда он существует только для нас с тобой!» И она улыбнулась Дмитрию. …Генерал Кадасима торжественно выключил репродуктор и отправился во дворец императора. В его голове уже зрел величественный план. …Ганс выпил кружку пива, которое забыл посолить, и сказал: — Вижу я, что наш босс захотел стать хозяином безвоздушной Земли. Доктор Шерц хрустнул пальцами, а дядя Эд сплюнул. …Бенуа сбросил на пол тарелочки с написанной на них ценой за каждый бокал или бутерброд. Никто не оглянулся на звук разбиваемой посуды. — Гибель! Гибель человечества… культуры… цивилизации, — шептал он. …Профессор Кленов оперся обеими руками о стол Сергеева и смотрел на министра. — Вельт украл идею Лиама, но он прав! — сказал Кленов торжественно. — Костер Арениды уничтожит воздух. М-да! Обитателям Земли действительно угрожает смерть… смерть от удушья! …«Смерть от удушья!» Эту фразу произнесли в эту минуту миллионы людей, приговоренных к неизбежной мучительной гибели. …Фразу эту произнесло все человечество, быть может, в последний год своего существования.
КНИГА ТРЕТЬЯ. УРАГАННЫЙ ТУМАН
Миллионы тонн воды, десятки кубических километров ее мгновенно превращались в туман, темной толщей придавивший океан. Ураган повлек его тяжелыми тучами, срывавшими пену с остатков океанских вод. Помчался мутный ураганный туман.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АГОНИЯ
Каждую минуту все новые и новые массы воздуха превращались в пыль. Клокочущие волны бросали этот прах на раскаленные ржаво-желтые скалы, а сами, с шипением отпрянув назад, клубились паром. Море пузырилось и кипело. Грозовые тучи поднимались прямо с волн…
Глава I. СТОЛИЦА БУДУЩЕГО
— Хэлло, Ганс! — сказал Вельт, слезая с аэросаней. — Вот мы и приехали. На смену реву пропеллера в воздухе сухо рассыпался треск моторов. Вельт отряхнул снежинки, попавшие при быстрой езде на воротник, и огляделся. Из-за изломанных краев ледяной глыбы выползали тракторы, волоча за собой тяжелые сани с огромными цистернами, похожими на обрубки гигантских деревьев. За глыбы юркнули автомобили-вездеходы на резиновых гусеницах. Ганс, кряхтя, вылез на снег и стал колотить замерзшими руками по бедрам. Перед ним опрокинутым небом раскинулся лазурный наст. Лунной дорожкой отражалось в нем холодное, полузамерзшее солнце. Легкий ветер с шорохом гнал по льду крупинки снега. Внезапно равнину огласил залихватский свист. Откуда-то выскочил маленький паровозик и разогнал вечное безмолвие снежной пустыни. Вельт был в легкой спортивной одежде, прошитой металлическими нитками. В аэросанях по ним непрестанно проходил электрический ток, согревая тело. Но сейчас холод давал себя чувствовать. Вельт ежился, глядя на приближающихся к нему лыжников. Первым подошел бородатый человек. На лице его, казалось, росли не волосы, а ледяные сосульки. Он вытянулся и гаркнул: — Строительство имеет честь приветствовать вас, мистер Вельт! Вельт едва кивнул в ответ. — Как грузы? — Прибывают точно в сроки, предусмотренные графиком. — О'кэй! Готовы ли вы к их приему? — О-о! Вполне, мистер Вельт! Не хотите ли сойти вниз? — Я думаю, мы приехали сюда не для того, чтобы иметь удовольствие беседовать с вами. Человек в сосульках промолчал. — Давайте мне ваши лыжи, — приказал Вельт, потом, повернувшись к Гансу, ткнул рукой в пространство. — Главный инженер строительства Митчел. Познакомьтесь. Митчел торопливо снял лыжи, посмотрел в глаза Гансу и потряс его руку. Вельт уже удалялся на лыжах Митчела. Один из спутников главного инженера уступил свои лыжи Гансу. Митчел, увязая по колено в снегу, старался не отставать от приехавших. Поджидая Ганса, Вельт оглядел снежную однообразную равнину. Солнце стояло низко. Везде виднелись точки движущихся тракторов, вездеходов и аэросаней. Белый отчетливый горизонт сливался с голубоватым небом. У самой его линии плыло несколько серебристых пятен. — Дирижабли, — сказал Вельт и посмотрел на часы. Подошли Ганс и Митчел. Неожиданно Вельт закричал на главного инженера: — За опоздание с выгрузкой дирижаблей я выгоню вас из нового города! Митчел робко уверил Вельта, что все меры приняты. Ганс посмотрел на крутой спуск, ведший в черную глубину, зажатую поблескивающими на солнце ледяными стенами. Митчел предложил сесть в маленький вездеход. Вместо ответа Вельт закричал Гансу: — Эй, старина! Вы еще не разучились спускаться на лыжах по ущельям? Ганс крякнул и подскочил на лыжах, отчего они глубоко ушли в снег. Вельт усмехнулся и с неожиданной в сухом, старческом теле силой ринулся вперед. Ганс покатился за ним. Митчел сломал несколько сосулек в бороде, покачал головой, сел в вездеход и приказал ехать следом. Вельт и Ганс, все ускоряя движение, мчались вниз. Они обгоняли вереницы тракторов, им встречались группы отскакивающих в стороны людей. Вдоль их пути спускалась вниз трехрельсовая зубчатая железная дорога, позволяющая благодаря зубчатой средней рейке преодолевать такой крутой подъем. Скоро спуск превратился в ущелье. Вертикальные ледяные стены поднимались все выше и выше, заслоняя дневной свет. Их покрытые снегом, освещенные солнцем края казались раскаленными добела. Ветер от быстрой езды хлестал по лицу, выдавливая слезы из глаз. Иногда в лицо попадали комья снега, вылетавшие из-под гусениц спускавшегося трактора. Ганс щурился и чертыхался. Ушедшие на сотни метров вверх стены, казалось, смыкались там недосягаемым сводом. Становилось заметно темнее. Вдали виднелись огни. Вельт и Ганс, не замедляя скорости, въехали в ночь. Кругом появились освещавшие дорогу электрические фонари. Вверху, в узенькой полоске между ледяными стенами, виднелось черное ночное небо, а в нем звезды. При этом кромки ледяного ущелья по-прежнему были освещены солнцем. Дно ущелья опускалось все глубже и глубже. Звезды на черной ленточке неба становились отчетливее, походя на серебряные блестки. Ущелье расширялось. Встречалось больше машин и людей. Позади осталось километра два. Не меньше чем на километр ушли вверх ледяные стены. Внезапно стены разошлись и стали едва видимыми, несмотря на лившийся отовсюду электрический свет. Сверху спускались гигантские иглы, сверкавшие в лучах невидимых прожекторов. Сам же свод, из которого росли эти иглы, исчезал во тьме. Наклонный спуск превратился в ровную ледяную площадь, по которой между тракторами, вездеходами, кранами, экскаваторами и другими машинами сновали толпы людей. Пронесясь некоторое время по льду, лыжи остановились. Ганс надул щеки и вздохнул: — Давно я так не спускался? Припоминаю… Как-то раз мы этак же с вами удирали. Вельт захохотал: — От той же самой причины, старина, от какой удерут сюда будущие жители мира! — Да, пожалуй, — согласился Ганс. Подъехал вездеход. Митчел вылез на лед. — Я не ожидал, мистер Вельт, что вы такой изумительный лыжник. — А я изумлен неделовым тоном вашего разговора. — Простите, мистер Вельт! — Мы намерены осмотреть строительство немедленно. — Я к вашим услугам, мистер Вельт. Какое средство передвижения пожелаете вы избрать? — Кресла. — Будет исполнено, мистер Вельт. Подойдя к вездеходу, Митчел сказал в трубку радиотелефона несколько слов. Ганс с любопытством оглядывался вокруг. Они были в гигантской пещере. Сверху, как заметил он уже раньше, свисали причудливые иглы сталактитов. Если справа и слева местами можно было разглядеть обледеневшие стены, то впереди расстилался гладкий, сверкавший в электрических огнях лед. В нем отражались ледяные колонны. Щупальцами натеков и наростов свод соединялся с полом. Митчел стоял поодаль, ожидая, когда Вельт заговорит с ним. — Хэлло, Ганс! Недурное место? Как вы находите? — Да, босс! Право, недурное для туристской прогулки, но отнюдь не для того, чтобы провести здесь остаток своих дней. — Вас никто к этому не принуждает. Вы живете в свободном мире. При желании вы можете издохнуть от удушья. Ганс крякнул. — Скажите спасибо природе, — продолжал Вельт, — что она приготовила нам такое убежище. Здесь вырастет недурной город нового мира. — Босс, я осмелюсь спросить вас: не слишком ли холодное место избрали вы для столицы нового мира? — Что? Гренландию? — Да, именно Гренландию, этот покрытый вековым льдом остров. — Я вижу, вам здесь не очень нравится! В замке вы не задавали мне таких вопросов. Гренландию я избрал по двум причинам. Вам, как будущему руководителю этих мест, надо это твердо уяснить. — Слушаю вас, босс. В этот момент к ним подкатили двое конькобежцев, везущих перед собой два кресла, какие обычно употребляются на катке. Инженер Митчел успел надеть коньки и стоял на льду в нескольких шагах. Вельт и Ганс сели в кресла и почувствовали, как легко и бесшумно понеслись они по гладкому полу пещеры. Вельт приказал везти кресла рядом. Ганс наклонился в его сторону, чтобы лучше слышать. — Такого подземного помещения, как эта ледяная пещера, открытая два года назад, не найти во всем свете. Даже знаменитая Мамонтова пещера в штате Кентукки с ее залами по пять тысяч пятьсот квадратных метров — тесная каморка по сравнению с нашей. — Если не ошибаюсь, босс, ведь и Мамонтова пещера также принадлежит вашему концерну. — Да, мне. Там будет филиал спасательных работ для Америки. — Значит, первое — это площадь, босс. Однако холодноватая площадь! — Ну, дорогой мой Ганс, я не собираюсь спасать в этих местах изнеженных жарой негров или малайцев. Здесь будет жить новое человечество белой расы. Владельцы акций спасения и… — оглянувшись на везущих кресла конькобежцев, Вельт добавил: — …и те, что строят этот город и будут в случае нужды его защищать. — Да, это верно, — сказал задумчиво Ганс. Кресла мчались мимо строящихся зданий, поднимающихся к самому своду пещеры. Кругом чувствовались бешеные темпы работы. Стены собирались из готовых, заранее смонтированных плит. Их устанавливали специальные, скользящие по льду краны. Перед постройками на льду высились привезенные готовые части зданий. Вельт подозвал Митчела. — Проклятье! — закричал он. — Разве это темпы? Люди у вас не двигаются, а ползают! Надо спешить! Когда я вдолблю это в вашу глупую голову? Скажите, что я должен здесь применить для поощрения? Плети, деньги или возбудитель в кровь? Поймите, что вы на пожаре. На пожаре Земли, черт возьми! Я вижу, вы не хотите получить акции спасения! Митчел, опустив глаза, беззвучно шевелил губами. Квартал за кварталом тянулся будущий город. По улицам его скользили машины и конькобежцы. Кресло Вельта снова подъехало к Гансу. — А второе, Ганс, что вам так не понравилось? — Что мне не понравилось? — Холод. — Холод? — Ну да, холод. Холод наверху со среднегодовой температурой минус тридцать два градуса Цельсия и холод внутри пещеры с постоянно установившейся температурой минус пять градусов Цельсия. — Вот этого я никак не пойму. — Сколько я вас помню, вы никогда не отличались особой сообразительностью. У вас куда лучше выходило выламывать ручки из дверей. Ганс заерзал, бросив быстрый взгляд на конькобежцев. — Не столько сам по себе холод, — продолжал Вельт, — сколько разница между средней температурой пещеры, отапливаемой, так сказать, земным теплом, и арктическим холодом на поверхности. Этот даровой тепловой перепад я и собираюсь использовать как источник энергии, которой будет жить новый мир. — Но как, мистер Вельт? — Для этого можно применить один старый метод. — Что же именно? — Пар. — Что вы, босс! Разве пар может существовать при такой температуре? — Конечно, не водяной! Пар бутана. — Бутана? — Да, есть такой углеводород, который в жидком состоянии кипит уже при минус семнадцати градусах Цельсия. Привычная нам жидкость — вода — кипит при ста градусах выше нуля. Для этого надо нагревать ее, сжигать топливо. Для бутана топлива не надо. Достаточно сравнительно низкой температуры пещеры — минус пять градусов, чтобы он испарился и даже поднял давление своих паров. При этом он, конечно, будет отнимать у пещеры тепло, но земля немедленно его возместит. Образовавшийся пар из котлов, как бы обогреваемых холодом пещеры, мы пропустим через паровые турбины. Там он отдаст энергию, понизив свою температуру, и будет выпущен из турбины по специальным, проходящим по поверхности трубам, где очень большим холодом будет сгущаться в жидкость — конденсироваться — и снова поступит к вам в пещеру, чтобы за счет земной теплоты вновь испариться и поднять давление. — Я не слыхал о таком проекте, босс, но это, черт меня побери, сильно напоминает перпетуум-мобиле — вечный двигатель! — Да, перпетуум-мобиле, только мнимый. — Что это значит? — Это значит, что наша установка не будет создавать энергию из ничего, а будет сколько угодно, бесконечно превращать тепловую энергию Земли в электрическую, необходимую для жизни нового мира. Даже для атомной энергии понадобилось бы добывать уран. Мы же будем получать энергию вечно и бесплатно. Кресла свернули в боковой проход и вскоре очутились перед ведущими вниз ступенями. Вельт и Ганс сошли с кресел и зашагали вниз. Их «ледяные» рикши стали спускаться по приспособленным для коньков ступеням. Спускаться пришлось довольно долго — может быть, на глубину десяти этажей. — Что же там внизу? — спросил Ганс. — Место для озер. — Озер? — Да, озер! Озер жидкого воздуха, который мы уже начали сжижать на всех принадлежащих нам станциях. Цистерны, встреченные наверху, были с жидким воздухом. Лестница кончилась. Вельт и Ганс оказались в коридоре с гладким ледяным полом. Рикши снова усадили их в кресла и быстро покатили по льду. Инженер Митчел скользил на коньках впереди. Коридор уперся в запертые железные ворота. Вдоль поблескивающих коркой льда стен проходили укутанные изоляцией толстые трубы. — По этим трубам мы спускаем с поверхности привезенный жидкий воздух, мистер Шютте, — услужливо объяснил Митчел. — Можете посмотреть, Ганс, на наши первоначальные накопления. — Вельт указал на маленькие стеклянные окошечки в воротах. Прильнув к одному из них глазом, Ганс убедился, что он смотрит словно через трубу, пронизывающую огромную толщину ворот. В пространстве, куда смотрел Ганс, зажегся свет. Это Митчел повернул выключатель. — Ну, видите вы будущую атмосферу? — Нет, мистер Вельт, я вижу водоемы неимоверно синей воды. Вельт расхохотался. — Это синь, отнятая у неба, — концентрированная небесная голубизна. Небо будущего мира, если кому-нибудь доведется его увидеть, будет черным, как пустота. Вы видите синее дно бассейна, которое усиливает голубой оттенок прозрачной жидкости. — Неужели здесь можно накопить воздуху на весь век будущего мира? — Нет, это только первоначальные накопления, запас и резерв. Текущие же наши нужды мы будем удовлетворять за счет энергии «холодовых», если можно так выразиться, электрических станций. — Но ведь энергией не станешь дышать! — Ваши нелепые вопросы раздражают меня, Ганс. Нельзя быть таким олухом, дожив до седин! Клянусь, и предпочел бы иметь более толкового помощника из людей техники, если бы мог им доверять. — Простите, босс… — Так, по крайней мере, слушайте, чтобы мне не повторяться. Дышать мы будем кислородом. Его мы получим, разлагая нашей даровой энергией воду, которую будем добывать с поверхности в виде льда. Этим путем мы будем возобновлять атмосферу пещер. — Теперь я понял. — Наконец-то! Подъехал Митчел и стал что-то говорить. Вельт рассердился и затопал ногами. — Спешить! — закричал он. — За одну минуту опоздания я выгоню вас вон! Найдется немало охотников на ваше место. Я плачу не только деньгами, но и правом жить! Выгоню! Я не намерен повторять. Спешить, черт возьми! Митчел слушал, понурив голову. — Все будет выполнено в установленный срок, мистер Вельт. Вельт и Ганс снова уселись в кресла. Через несколько минут они попали в низкие, следующие друг за другом пещеры, уставленные несметным количеством ящиков. — Здесь запасы провизии на первые годы. — А когда мы их съедим?.. — спросил Ганс. Вельт поморщился: — Вы в своей ребячьей слепоте, вероятно, предполагаете, что я ни о чем не думаю, ни о чем не забочусь? — О нет, босс, нет! Совсем даже наоборот! Вельт, обернувшись, что-то сказал рикшам. Кресла проехали через несколько пещерных залов, где в гладком полу отражались исполинские обледенелые сталактиты. Два раза приходилось вставать с кресел и снова опускаться все ниже по лестницам. — Скажите мне, босс, такой гладкий лед в пещерах естественный? — Да, во многих залах он природный. Это навело меня на мысль об использовании такого дешевого и быстрого транспорта, как коньки. Соответственно и в машинах я заменил трение качения столь экономичным скольжением. Поэтому в тех местах, где не было льда, я приказал его сделать. — Правда, биг-босс, это неплохо! — Я думаю! — Отчего этого никогда не применяли там, на Земле? — Оттого, что «города минувшего» открыты были для ветров и метелей; оттого, что они не знали ровной и благодатной температуры, как наш мир будущего. — Этот способ передвижения останется все время? — Да, я пожелал, чтобы жители города будущего передвигались так. — Наш город можно было бы назвать Ледяной Венецией. — Нет, он будет называться Вельттаун. — Ах да, «город Вельта»! Это справедливо. — Еще бы! Они сошли с кресел в громадном зале с особенно высоким потолком. К нему, как к небу, тянулись строительные леса. Вверху суетились люди, устанавливая флуоресцирующие спектральные лампы. Митчел хотел что-то сказать, но Вельт перебил его: — На полу этой и ей подобных пещер я запроектировал выращивать растения под светом таких вот ламп, заменяющих нам солнце, потому что они дают ультрафиолетовые и все остальные лучи солнечного спектра. — Выращивать растения? — Да, картофель, капусту, апельсины, томаты и кормовые травы для животных. Надеюсь, хоть теперь вы уяснили, в чем тут дело? — Не сердитесь, босс, я почти уяснил. На чем же будут расти эти подземные сады, чем же будут питаться их корни? Не замерзнут ли они? — Здесь будет тепло. Эти залы я приказал отапливать. Пол покроется удобряемой землей. Удобрения будут получаться химическим путем из встречающихся здесь минералов, содержащих азот в связанном виде. Для дыхания растений нужна углекислота. Я буду подавать сюда всю выдыхаемую людьми Вельттауна углекислоту. В мире будущего будет постоянное количество кислорода, совершающего циклический круговорот, проводя различные формы. Начиная с питания и дыхания растений через организмы растений и животных он перейдет в форме еды к людям будущего города, которые вернут его в качестве углекислоты и удобрений. Как видите, все будет создано энергией холода, начиная с тепла и кончая едой. — Да, биг-босс, это все гениально придумано для спасения людей! — Для создания нового мира! — Где будут царствовать счастье и справедливость. — Где буду властвовать я! — Его создатель. — Его собственник! — Властелин будущего мира… — прошептал Ганс и невольно пригляделся к сидящему в кресле старику. И, словно впервые, он увидел нахохлившуюся тщедушную фигуру, землистого цвета морщинистое лицо, выцветшие брови и глаза, один из которых прикрыт веком больше, чем другой, нездоровые мешки под глазами, говорившие о постоянном недомогании. По льду пещеры, направляясь к Вельту, мчался встревоженный Митчел. Еще издали он крикнул: — Мистер Вельт! Экстренное сообщение! Вельт испуганно вздрогнул и беспокойно зашевелил пальцами. Митчел остановился у кресла. — Ну? — морщась, спросил Вельт. Митчел сделал знак глазами «ледяным» рикшам, и они бесшумно отбежали в сторону. — Я прочту вам, босс. — Да ну читайте! — раздраженно крикнул Вельт.«Правительства блока великих держав, неудовлетворенные переговорами с Концерном спасения, утвердили ассигнования на посылку крупных вооруженных сил к берегам Гренландии — вероятно, с целью насильственного захвата Рейлихской пещеры…»Вельт вскочил: — Проклятье! Эти идиоты и лодыри хотят потягаться со мной силами! Но нет, я не какая-нибудь страна! Я система, на которой держатся они сами! Я сотру с лица земли их армии силой моей техники еще раньше, чем они издохнут от удушья! Митчел, пишите немедленно телеграмму. — Сию минуту, мистер Вельт… В моей ручке, к сожалению, замерзла паста. — Проклятье! У вас вечно что-нибудь не в порядке! Эй, Ганс! Пишите вы. — Готов, биг-босс, — пробасил Ганс.
«Берлин, Курфюрстендамм, двести тринадцать, генералу Копфу. Прошу принять предложение прибыть в качестве коменданта города Вельттауна для командования боевыми силами.Вот. Отослать немедленно! Я окружу свои владения огненной крепостью! Я угощу их огненной стеной! У меня найдется для них фиолетовый газ. Не беда, что воздух Земли сгорит немного скорее! Мы просто раньше переедем на новую квартиру. Инженер Митчел помчался отправлять телеграмму. Ганс испуганно смотрел на своего патрона, скорчившегося в кресле. Приступ боли от язвы желудка! В глазурных стенах и ледяных колоннах безучастно отражались огни.Вельт».
Глава II. СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ
Произнесенная по радио речь Вельта переполошила мир. Люди не знали, как реагировать на это чудовищное сообщение. Вельта провозгласили сумасшедшим, сообщение его — беспримерной мистификацией, но акции спасения были раскуплены в первый же день. За одни сутки в кассы Концерна спасения влились миллиарды долларов. Типографии едва успевали печатать новые акции. На бирже свирепствовал смерч. Толпы безумцев осаждали подъезды касс концерна. Но купить акции спасения могли только единицы: акции эти были недоступно дороги. К тому же курс их ежесекундно рос. Великие державы в спешном порядке направляли к острову Аренида научные экспедиции. Через несколько дней в газетах появились отчеты, и ужас объял мир: Вельт был прав! Акции спасения поднялись недосягаемо. Купить их стало невозможно. Посыпались заказы Концерна спасения и сотрясли мировую капиталистическую промышленность. Концерн спасения в короткий срок завладел почти всем производством капиталистического мира. Работали только те предприятия, которые имели его заказы, остальная промышленная жизнь прекратилась. На биржах, в индустрии, в сельском хозяйстве свирепствовал небывалый по своим размерам кризис. В знаменитой Рейлихской пещере в Гренландии, в гигантской Мамонтовой пещере в Кентукки, в обширных пещерах Девоншира и Дербишира, в пещерах Южной Америки, во всех метрополитенах и туннелях, в шахтах и карьерах — везде и всюду, где природа или люди приготовили погибающему человечеству убежище, начались исступленные работы, организованные Концерном спасения. Утопающий хватается за соломинку. Человечество не хотело умирать. — Человечество не может погибнуть! — сказал министр, оглядывая зал заседания, где сидели не только выдающиеся советские ученые, но и крупнейшие ученые и прогрессивные общественные деятели многих стран Востока и Запада, все, кто проявил подлинную заботу о человечестве и отозвался на приглашение приехать в Москву на чрезвычайное совещание. — Сколько бы ни кричали в некоторых странах о неизбежной гибели цивилизации в результате мировой катастрофы, надо помнить, что погибнет при этом не человечество, а капиталистический строй, стремившийся развязать катастрофу и в конце концов развязавший ее. Конечно, сейчас господа капиталисты сами в ужасе от вырвавшейся из их рук силы. Ища спасения, они исходят из фальшивой догмы незыблемости капитализма. Напрасно господин Вельт думает, что все простые люди, которым не купить акции спасения, станут уважать частную собственность на воздух, когда им будет трудно дышать. Подземные убежища для богачей делаются рабочими руками, и эти же руки могут открыть или закрыть туда двери. Мы не экспортируем революций, но можем предвидеть, что негодование простых людей будет тем больше, чем труднее им будет дышать. Однако мы все, здесь собравшиеся, не можем равнодушно смотреть на любого умирающего человека Земли, живет ли он в нашей или в какой-нибудь другой стране. Мы умели бороться, предотвращая мировую катастрофу, которая годами висела над головами людей. Мы должны суметь ликвидировать и эту разразившуюся катастрофу. Созданная человеком, она будет остановлена им же! Нашлись товарищи, которые, будучи «озабочены» судьбой наших народов, предложили оборудовать по западному образцу подземные убежища хотя бы для части нашего населения, использовав все естественные пещеры и создав искусственно новые. План разработан добросовестно. Привлечены выдающиеся ученые и инженеры. Вероятно, оборудовав пещеры должным образом, в них действительно можно было бы жить столетиями. Однако я не буду сейчас разбирать этот план в деталях. У меня записался полковник Молния, который хотел бы выразить свое отношение к этому плану. Василий Климентьевич сел. Его энергичное лицо осунулось за последнее время, отчего он казался помолодевшим. Глаза его смотрели проницательно и строго. Со своего места в задних рядах поднялся высокий, жилистый полковник Молния и прошел к столу министра. Что-то общее было у него с Сергеевым. Пожалуй, выражение глаз. — Буду краток. Времени мало, — начал он, взглянув на наручный хронометр. — О плане, который упомянул здесь товарищ Сергеев, могу только сказать военной формулой: «Добьется победы тот, кто перейдет в наступление». Устремиться под землю — это бежать, отказываясь навеки от солнца. Бежать, бросив на произвол судьбы всех, кого нельзя взять с собой, — это позор! Это поражение!.. — Молния замолчал и оглядел аудиторию. — Люди наших стран не могут пойти таким путем. Они всегда умели встречать опасность лицом к лицу. Разбуженной человеком силе можно и нужно противопоставить силу, тоже созданную человеком. Над человечеством долго висела опасность опустошительной атомной войны. Советское правительство не раз предлагало уничтожить все запасы атомного и термоядерного оружия. Настал момент, когда люди всего мира могут объединить свои усилия, совместно использовать все имеющиеся в мире атомные и термоядерные материалы. Пожар Арениды можно уничтожить, если из всех стран, владеющих атомным оружием, выстрелить реактивными межконтинентальными снарядами, несущими на себе атомные и водородные бомбы. Если, идя даже на риск заражения атмосферы опасной радиацией, взорвать все атомные и водородные бомбы, которые можно создать в ближайшие месяцы, взорвать их все одновременно на острове Аренида, то он будет уничтожен, газ-катализатор развеется, и пожар воздуха прекратится. Пусть это будет единственным и последним случаем, когда люди еще раз применят оружие разрушения, изготовлять которое отныне они торжественно откажутся навсегда! Присутствующие аплодировали Молнии. Высокий, подтянутый, он шел между рядами, возвращаясь на свое место. Снова поднялся Василий Климентьевич. — Я вижу, что присутствующие с интересом выслушали сообщение полковника Молнии, — сказал он, надевая очки. — Но прежде чем обсудить такую возможность, я хотел бы, чтобы собравшиеся выслушали мнение по этому поводу такого крупного авторитета в области ядерной физики, каким во всем мире не так давно признавался американский ученый профессор Вонельк. Ученые зашептались. Все они слышали об исчезновении этого ученого. Где он? К столу министра, неуклюже горбясь и растопырив локти, шел высокий худой человек с седой шевелюрой и спутанной бородой. Многие узнали в нем профессора Кленова и недоуменно переглядывались. — М-да, — сказал Кленов, опершись о стол руками и согнув узкую спину. — М-да… Уважаемые коллеги! Я действительно могу здесь говорить от имени профессора Вонелька, потому что сорок лет носил это имя. Возгласы изумления прокатились по залу. Кое-кто привстал, чтобы лучше рассмотреть говорившего. — Леди и джентльмены! — начал он по-английски. — Совесть ученого заставляет меня предостеречь весь мир. Долг патриота, — продолжал он, переходя на русский язык, — заставляет меня возразить полковнику Молнии, а также убедить вас и наше правительство отказаться от мысли взорвать в Тихом океане огромное количество ядерных бомб! Ученые были ошеломлены. Василий Климентьевич сидел с непроницаемым лицом. Кленов продолжал: — Мои коллеги оказывали мне в свое время высокую честь, признавая за мной внесение посильной лепты в область ядерной физики. М-да!.. Разрешите же мне, как профессору Вонельку, решительно заявить, что столь массированный, я бы выразился, атомный взрыв, где бы он ни произошел, повлек бы за собой распространение опаснейшей радиоактивности в атмосфере, как это, впрочем, совершенно справедливо заметил уважаемый полковник Молния. Люди Земли, избавившись от одной опасности, столкнулись бы с другой — быть может, не меньшей. Кто знает, ведь такой массированный ядерный взрыв может вызвать глобальную реакцию — взрыв океанов Земли. М-да… — Профессор залпом выпил стакан воды. — Теперь осмелюсь просить у почтенного собрания и уважаемого Василия Климентьевича разрешения выступать дальше уже как советскому гражданину Ивану Кленову. Министр кивнул. — Профессор Иван Кленов тоже предлагает взорвать остров Аренида. Но взорвать его не ядерными бомбами, а средством, которое долгое время было известно вашему покорному слуге, не понимавшему даже, какую конструктивную роль оно могло бы сыграть в руках правительства коммунистической страны. Это средство я имею сейчас честь передать безусловно и безоговорочно своему народу, с большим и ничем не оправданным, увы, опозданием. По своей разрушительной силе, почтенные коллеги и слушатели, оно ничем не ограничено и в то же время не вызывает никакой опасной радиации. Остров Аренида будет уничтожен, и воздушный пожар погашен. А мы, позвольте выразить в том уверенность, здесь этого не почувствуем. Перестанут лишь дуть ветры, несущие воздух в Тихий океан. В свое время мною, по замыслу покойного русского физика Бакова, был создан сверхаккумулятор, накапливающий колоссальную энергию в магнитном поле сверхпроводника. Изготовление нужного количества сверхаккумуляторов сейчас не было бы ничем затруднено, если бы не одно обстоятельство. Сверхаккумуляторы, чтобы они не потеряли своего свойства, нужно покрывать особым защитным слоем, в состав которого входит редчайший элемент радий-дельта, о котором почтенные мои коллеги, по всей вероятности, не слышали. Я сообщил нашему правительству местонахождение запасов этого элемента, коими в свое время я располагал, и льщу себя надеждой, что будут приняты все необходимые меры, чтобы нужное вещество было передано в руки моих коллег-физиков. Полагаю, что этот же сверхаккумулятор может быть использован для питания электрических орудий, над которыми я когда-то также имел возможность работать, и буду рад поделиться своим опытом. Мой замысел требует очень точного — плюс-минус метры — и одновременного — плюс-минус доли секунды — попадания всех снарядов. Межконтинентальные ракеты при всей их прицельности могут не обеспечить одновременного попадания. Но это сделают электрические орудия. — Такие электрические орудия уже существуют, профессор Кленов, и могут быть предоставлены для этой цели! — произнес с места полковник Молния. Профессор выпрямился: — М-да!.. Ах так? Это замечательно! Я осмелюсь высказать свое восхищение. Полагаю, что тогда затруднений, кроме получения радия-дельта, для осуществления предлагаемого плана не будет. Засим прошу собрание извинить меня за внимание, которое отвлекли у него профессора Вонельк и Кленов, и выражаю присутствующим совершенное почтение! Кленов направился к своему месту. Министр объявил перерыв. После выступлений во второй половине заседания академиков, маршала артиллерии и врачей, анализировавших детали плана, заключительное слово взял министр: — Итак, подведем краткий итог. Путь первый для избавления от мировой катастрофы, как здесь говорили, — это путь бегства, поражения, гибели основной части человечества, путь, избранный капитализмом: устремиться под землю, спастись немногим имущим за счет оставшегося наверху большинства. Ясно, что этот путь привел бы прежде всего к гибели самого капитализма. Путь второй: силой техники потушить зажженный техникой пожар, ликвидировать его взрывом всех мировых запасов атомных и водородных бомб. К сожалению, некоторые западные государства в предложении разом уничтожить все запасы ядерного оружия снова увидели лишь опасность лишиться своей пресловутой атомной силы. Даже мировая катастрофа не отрезвила защитников интересов большого бизнеса: они отказались от ликвидации катастрофы такой ценой. Однако катастрофа должна и будет ликвидирована. На страже судеб человечества, как и всегда, стоят страны социалистические. У нас есть электрические орудия, о которых сообщил товарищ Молния, у нас есть поправка к его плану, внесенная профессором Кленовым. Нужны оперативные меры для осуществления этого скорректированного плана, и эти меры будут приняты. Мы ставим перед собой задачу: взорвать остров энергией, заключенной в сверхаккумуляторах, созданных в свое время профессором Кленовым и успешно разработанных вновь нашими физиками. Для абсолютно одновременной переброски сверхаккумуляторов в другое полушарие построить электрические пушки сверхдальнего боя, питающиеся энергией подобных же сверхаккумуляторов. Для осуществления этого плана необходимо следующее: 1. Во что бы то ни стало, любой ценой достать требуемый для сверхаккумуляторов радий-дельта, необходимый для создания защитного слоя. Как мы знаем, все мировые запасы этого элемента, добытые в свое время профессором Кленовым, принадлежат лично ему, но по известному стечению обстоятельств находятся в руках главы мировой военной фирмы и знаменитого Концерна спасения Фредерика Вельта. Раз радий-дельта нужен, надо будет его достать. Поручить это дело людям надежным, а такие, я думаю, у нас найдутся. Так… 2. Все энергетические ресурсы коммунистических, а возможно, и части капиталистических стран — они ведь в этом тоже заинтересованы — следует уже сейчас подготовить к тому, чтобы созданные в будущем аккумуляторы насытить достаточной для наших задач энергией… Министр стал теперь расхаживать около стола, опустив голову и время от времени взмахивая левой рукой с протянутым указательным пальцем. Казалось, он диктовал разработанную диспозицию военного сражения. 3. Пока радия-дельта нет, пока он для целей спасения человечества не попал еще в наши руки, следует аккумуляторы все же строить, чтобы покрыть их защитным слоем впоследствии. Времени не терять. Так… Василий Климентьевич остановился и, глядя на полковника Молнию, продолжал: 4. Пушки надо начать сооружать, не упуская ни одного часа, ибо разрежение атмосферы скоро начнет себя проявлять. По некоторым проведенным подсчетам, место прицела должно находиться в Средней Азии, в пустыннейшей местности. Это выгодно для расположения огневых точек: выстрел будет удален от жизненных центров страны. Но зато появляются многие трудности, которые следует преодолеть. Создадим строительство, которое по месту очага пожара назовем Аренидстрой. Придется победить пустыню и построить пушки в нужный для человечества срок. Вот тот путь, который впору и по плечу коммунистам. Его и должны избрать коммунистические страны. Так… Но это не все… Министр стал медленно набивать трубку. Он курил очень редко. Давно уже не видели Сергеева с его неразлучной когда-то трубкой. Заметив общее внимание к своей трубке, Василий Климентьевич улыбнулся, потом стал серьезным и продолжал: — Полковник Молния приводил нам военную поговорку, но я тоже военного дела еще не забыл: «Наступления не начинай, не подготовив позиции для отхода». Надо идти в атаку, бросить в бой все средства, но следует считаться также с возможной неудачей и быть к этому готовым. Надо помнить, что, как бы ни повернулась борьба, человечество не должно прекратить существование. Поэтому для нашего боевого плана надо предусмотреть резервные позиции, и если даже в бою мы погибнем и не сумеем предотвратить сгорание всей атмосферы, то дети наши должны жить. Убежища для них должны быть созданы. Вот почему, отдав все силы на осуществление плана Молнии и Кленова или какого-нибудь другого, направленного на активную борьбу, одновременно для спасения молодого поколения должны быть подготовлены пещеры: Залугская, Кунгурская, Курманаевская, Улан-Удэйская и другие. Право на сохранение жизни, во всяком случае, должно принадлежать детям, которые будут обслуживаться лишь минимальным количеством взрослых. Так. Борьба за жизнь для всех и безусловно жизнь детям — вот только таким образом могут поступать коммунисты!Глава III. ФЛАНЕЛЕВЫЙ МЕШОЧЕК
Закончив свой злополучный рейс на остров Аренида, боцман Эдвард Вильямс вернулся в Англию. Мимо окна вагона промелькнули лондонские пригороды с их прославленными коттеджами, садиками, парками и лугами — с великим синтезом городской и деревенской жизни. Потом помчались бесконечные корпуса похожих друг на друга зданий. Медленно поплыло целое море из тысяч и тысяч крыш, на которые ежедневно оседает семьдесят две тысячи английских фунтов сажи и копоти. Именно этому обязан истинный, а не задуманный архитекторами цвет всех лондонских зданий. Наконец мистер Вильямс вышел из-под арки вокзала Чаринг-Кросс и оказался в центре города. Дядя Эд свято верил в благопристойность всего, что происходит в доброй старой Англии. Здесь всегда царил порядок, чтимый, как английские традиции, древний и прочный, как башни Тауэра, и такой же деловитый, как зажатая доками Темза, где на одну пинту воды приходится полтора фунта товарных грузов. Поэтому мистер Вильямс был несколько озадачен движением всех машин и пешеходов в одну сторону по всей ширине улицы. На его недоуменный вопрос джентльмен в мягкой шляпе с короткими полями торопливо ответил: — В Гайд-парк, сэр. Оттуда — на Трафальгар-сквер. Назревают события. Потом он исчез между старинной формы лимузином, напоминающим графскую карету, и каплевидным, словно стелющимся по мостовой спорткаром. Мистер Вильямс стал задумчиво набивать всегда пустую трубку. Его прижали к грязно-серой стене трехэтажного здания с восемнадцатью подъездами восемнадцати квартир. «Чем же теперь заняться? Зачем Я приехал сюда? — подумал дядя Эд. — Не жалеть же сушу или воздух одному из славных моряков, открывших и завоевавших для Соединенного королевства полмира! Уж если что и стоит пожалеть, так это море! И зачем только притащило меня в этот город, где волнение на улицах не меньше девяти баллов! Пусть кошка научится плавать, если течение не увлечет меня с собой!» Дядя Эд так и не закурил своей трубки; он только переложил ее в другой угол рта и отправился вместе со всеми, никого ни о чем не спрашивая. Толпа стекалась к огромному лугу Гайд-парка. Она зажала между деревьями, окаймлявшими луг, стадо овец, мирно пасшихся здесь, в центре Лондона. Траву Гайд-парка, которую разрешалось мять каждому англичанину, вытаптывали сейчас миллионы ног. То здесь, то там над толпой возвышались переносные трибуны, на которых жестикулировали и кричали ораторы. Мистер Вильямс не мог услышать ни одного слова, пока к нему на помощь не пришла сама толпа, начинавшая повторять восклицания ораторов: — На Трафальгарскую площадь! На Трафальгарскую площадь! Толпа стала покидать Гайд-парк, освобождай его для мирных, ни о чем не заботящихся овец. Небо приблизилось к земле, стало клочковатым и грязным, почти осело на темные крыши, как разновидность копоти или сажи. Дядя Эд поднял воротник. Двигаясь от Гайд-парка к Трафальгарской площади, люди уже не молчали. Невдалеке от дяди Эда шел высокий седой джентльмен без шляпы. Время от времени он оборачивался назад и кричал: — Воздух! Воздух! В доброй старой Англии до сих пор всегда хватало воздуху! Совсем близко от дяди Эда шла худая, изможденная женщина, прижимая к груди хилую трехлетнюю девочку. Девочка плакала, а мать утешала ее: — Не плачь, не плачь! Добрые дяди не отнимут воздух… Добрые дяди не отнимут воздух… Немного позади женщины плелся молодой человек с острым носом и откинутыми назад длинными волосами. Он говорил, почему-то обращаясь к мистеру Вильямсу: — Я не хочу задыхаться, сэр! Я хочу жить! А для того чтобы купить акцию спасения, я должен работать четыре года по вчерашнему курсу. По сегодняшнему курсу это будет уже верных пять лет, сэр… Верных пять лет! Дядя Эд невольно положил руку на грудь, где под волосатой морской фуфайкой во фланелевом мешочке лежала его акция спасения. Он получил ее через Ганса от самого мистера Вельта с условием молчать обо всем виденном во время последнего рейса. У мистера Вильямса было право на продление жизни. Скоро жизнь на Земле закончится. Владельцы акций, а с ними и дядя Эд уйдут под землю, чтобы никогда больше не видеть неба, не чувствовать, как струйки дождя заползают за шиворот, никогда больше не подставить своего лица свежему бризу и не взглянуть на морской горизонт… Дядя Эд, перед тем как навеки уйти под землю, приехал проститься с Лондоном, Англией, воздухом, туманом, дождем, небом, ветром, лесом, лугами… Дядя Эд приехал проститься вот с этими окружающими его людьми, большинство из которых должны… Молодой человек продолжал, обращаясь к мистеру Вильямсу: — Верных пять лет, сэр! А дышать мне осталось только несколько месяцев. Как же и когда я могу заработать достаточно денег на акцию? Как я смогу заработать? Рядом с Вильямсом, касаясь плечом его локтя, шла худенькая девочка лет одиннадцати. У нее были большие заплаканные глаза. Она молчала и только изредка поглядывала вокруг испуганно, непонимающе. Соседние ряды стали сильно нажимать. Дядя Эд костлявым плечом отодвинул от девочки двух забывших все на свете джентльменов. — Правительство должно заботиться о нас, — говорил упирающийся старичок, — оно должно обеспечить нам пищу и воздух, иначе оно слетит! Да-да! Иначе оно слетит, сэр! — Сэр, — обратилась к старику идущая впереди девушка с красивыми, тоже заплаканными глазами, — неужели я должна умереть? Скажите, что я сделала? Что я сделала? — Не плачьте, леди! Не плачьте! Мы уже давно научились требовать мира и жизни. Правительство снова вынуждено будет подать в отставку! Дядя Эд слышал, как разговаривала шедшая сзади него пара. — Молли, мы так и не успели пожениться! — Да-да, нам осталось купить только один сервант для нашей обстановки… Боже, только один сервант!.. Мы могли быть счастливыми! — Молли, неужели мы не успеем пожениться? — Может быть, мы не будем ждать серванта? — Нет, мы продадим… мы продадим все, чтобы купить акцию хотя бы только для вас, Молли! — Нет-нет, Сэм, это невозможно! Только вместе! — Нет, Молли, я умоляю вас… — Ах, нет, Сэм! Теперь никто не купит нашей обстановки. Нам никогда не достать денег! — Не плачьте, леди! Мы идем предъявить свои требования. Правительство выполнит наши условия или вынуждено будет подать в отставку. Я уверяю вас, леди! В толпе застряло несколько автомобилей. В одном из них сидели поджарая леди в мехах и тучный джентльмен. Автомобиль остановился против движения, и толпа обтекала его. Женщина с плачущей девочкой на руках едва не упала, споткнувшись о колесо. Увидев это, двое рабочих, которые несли транспарант с надписью: «Потребуем воздуха, как мы требовали мира», открыли дверцу лимузина и попросили пассажиров выйти. Докеры предложили женщине с ребенком сесть в автомобиль, а шофера заставили тихо двигаться задним ходом вместе с толпой. Леди в мехах и толстый джентльмен не смогли протискаться на тротуар и, повинуясь общему движению, пошли следом за своим автомобилем. На крышу автомобиля забрался какой-то коротконогий человек с лоснящимся лицом и стал кричать: — Господь бог карает вас за грехи, дети! Молитесь и посещайте молельню сестер и братьев «Святого приличия»! Молитесь, и господь бог пошлет вам с неба воздух! Сзади коротенького человека оказался какой-то джентльмен в котелке. Он довольно бесцеремонно отодвинул проповедника в сторону. Когда он говорил, у него топорщились маленькие усики: — Протест! Протест! Леди и джентльмены! Мы потребуем у правительства, чтобы оно скупило для англичан, и только для англичан, все акции спасения! Англия достаточно богата для этого! Проповедник исчез с крыши автомобиля. Вместо него появился внушительный джентльмен с седыми усами. Своим густым басом он совсем заглушил крикливый голос соседа: — Мы будем требовать оккупации Гренландии! Британия должна завладеть Рейлихской пещерой! В ней можно спасти половину Англии! Дядя Эд подсадил на подножку «роллс-ройса» девочку с испуганными глазами, а сам шел рядом. На своеобразной движущейся трибуне было теперь четыре человека. Все они кричали так, что ничего нельзя было разобрать. — Я не хочу задыхаться! Я хочу жить! Я не могу существовать без воздуха! — кричал блеклый человек в мягкой шляпе. — Должно же правительство считаться с тем, что я не могу существовать без воздуха! Я всю жизнь дышал! — Скажите, сэр, — высунулась из автомобиля изможденная женщина, — я могу купить эту ужасную акцию для своего ребенка? Хотя бы… хотя бы ценой жизни… Ведь она так мало жила! Я уверяю вас, сэр, она такая маленькая… Дядя Эд с удовольствием пустил бы какое-нибудь морское проклятье, но это был первый случай с мистером Вильямсом, когда ничто подходящее не пришло на язык. — Неужели должны спастись только богачи? — спросил один из докеров. — Мне кажется, что справедливее было бы бросить жребий, — ответил другой. — Во всяком случае, — визгливо закричал идущий рядом старичок, — этим должно заняться правительство! Ему мы вверяем, джентльмены, заботы о нашей бренной жизни в тягчайшую минуту существования нашей страны. Ему, правительству, джентльмены! С минуты на минуту в Вестминстерском дворце должно было начаться экстренное и чрезвычайное заседание парламента. Пристав палаты, носитель черного железа, почти бегом совершал трехвековую традицию обхода вестминегерских подвалов. Триста лет назад здесь был раскрыт пороховой заговор Гай-Фокса, хотевшего взорвать парламент во время торжественного заседания. Теперь в каждом подвале фотоэлектрические автоматы включали свет при одном лишь приближении людей, но люди эти все равно держали в руках незажженные фонари. Сегодня палата общин и палата лордов заседали совместно. Одетый в старинный черный костюм и башмаки с чулками, спикер, председатель палаты, нервничал. Он ждал донесения, что традиционный обход завершен, а без этого он не имел права начать заседание. Не один раз соскакивал он с окруженного решеткой кресла и вертел во все стороны напудренным париком. Но спикера беспокоило еще больше отсутствие первого лорда казначейства — иначе говоря, премьер-министра — и других членов кабинета. Неужели кабинет министров все еще заседает в доме премьера на Даунинг-стрит? Депутаты против обыкновения были на местах. Лидер оппозиции уже сидел на своем месте против «скамьи казначейства» и всем своим видом выказывал негодование по поводу столь пренебрежительного отношения правящего кабинета к чрезвычайному заседанию парламента, а значит, и к древнейшей в мире демократии. Напряжение увеличилось еще больше, когда пришло сообщение о продвигающейся к Трафальгарской площади демонстрации. Напрасно ждал спикер. И пудра осыпалась с его парика. Это был, может быть, единственный случай во всей истории существования старейшего в мире парламента, когда на заседание его не пожелал явиться ни один член кабинета. Та часть процессии, с которой шел дядя Эд, не могла пройти к Трафальгарской площади прямым путем, а повернула к Сити, чтобы через давно исчезнувшие ворота старинной и узкой улицы Стрэнд проникнуть на площадь. Демонстрация, как снежный обвал, увлекала все на своем пути. Улица Стрэнд — улица юристов. К моменту приближения демонстрации все они выскочили на улицу из залов заседаний в своих официальных костюмах, в коих вершили дела. В человеческой лавине замелькали напудренные парики, черные мантии и тоги. Но у всех этих пламенных барристеров, крючкотворных клерков, деловитых атторнеев и солиситоров высокочтимых их лордств судей, — у всех этих людей, несмотря на их нелепые костюмы, были такие же испуганные глаза и опущенные головы, и они также хотели дышать самым обыкновенным английским воздухом, ибо у них тоже не было денег для приобретения акций спасения. Процессия достигла Трафальгарской площади. Восемь людских потоков вливались в нее с разных сторон, над головами людей колыхались откуда-то появившиеся плакаты: «Воздуха!», «Воздуха англичанам!», «Мы сумели спасти людей от войны, мы сумеем спасти их от удушья!», «Снизить цены на акции спасения!», «Мир и жизнь!», «Требуем рассрочки на акции!», «Мы хотим дышать!», «Люди, объединяйтесь во имя жизни!» Трафальгарская площадь, несмотря на ее огромную величину, не смогла вместить всех собравшихся. Толпы народа щупальцами протянулись по всем прилегающим улицам. Дядя Эд так и не мог пробраться к площади. Вместе с испуганной девочкой, стоящей на подножке автомобиля, он оказался прижатым к зданию суда на улице Стрэнд. Может быть, благодаря этому около них оказалось больше всего людей в странных нарядах. Девочка смотрела на них непонимающе и еще более испуганно. — Сэр, — обратилась она к дяде Эду, — скажите мне, что происходит? Объясните мне. Я попала сюда случайно. Я искала по улицам моего маленького братишку, Вы не можете мне помочь найти его? Дядя Эд что-то промычал в ответ. На площади с цоколя колонны памятника адмиралу Нельсону говорили сразу несколько ораторов. На улице Стрэнд их, конечно, не было слышно. Но они могли говорить только об одном. Они только могли требовать воздуха, только права жить для тех, кто не мог приобрести акций спасения. Они требовали от правительства принятия мер. На маленькой уличке Уайт-Холл показались отряды полицейских. Плотными рядами, вооруженные резиновыми дубинками, ом оттеснили толпу от Даунинг-стрит. Толпа постепенно отступала. Около черно-серых башен Конногвардейской команды полицейские неожиданно рассеялись. На крыше Национальной галереи, на арке, где начинается пустынная улица Мэлл, и на других выходящих на площадь зданиях стояли пулеметы. Поблескивающие стволы одновременно выдвинулись и показались толпе. На улице Стрэнд были хорошо слышны выстрелы. Толпа побежала. Может быть, задавленных и искалеченных в этом паническом бегстве было куда больше, чем погибших под пулями. Дядя Эд почувствовал эту обратную волну спустя минуту после первых выстрелов, значения которых он не понял. Его оттеснили от автомобиля и от стоящей на подножке девочки. Он видел ее умоляющий взгляд. Люди кричали. Крик этот несся с площади и пропадал на улицах. Плакаты с требованием воздуха, мира и жизни валялись, растоптанные толпой. Паника и ужас овладели людьми. Дядя Эд напряг все свои силы. — Тысяча три морских черта! — заревел он. — Я не собираюсь менять свой курс! Кто-то упал перед ним. Это дало дяде Эду возможность ловким маневром протолкнуться к автомобилю. Дядя Эд чувствовал, что он во что бы то ни стало должен добраться до девочки. — Сэр, сэр, вы поможете мне? Я боюсь! — шептала она. Ее сорвали с подножки и понесли в толпе. Жирный толстяк в парике старался проложить себе дорогу. Под руку ему попала девочка. Она вскрикнула от боли. Дядя Эд видел это. Ему удалось дотянуться до толстяка, но в руке его остался только парик. В толпе виднелась лысая голова, обрамленная соломенно-рыжими волосами. Девочка плакала. — Пусть проглочу я морского ежа… — начал дядя Эд, но не договорил. Дрожащая, заплаканная девочка оказалась перед ним. — Сэр, он мне сейчас сказал, что я все равно задохнусь! Разве это правда? Разве это может быть правдой? — Пусть никогда я не увижу океана, если правда! — сказал дядя Эд и сунул в руку девочке фланелевый мешочек, который сорвал с груди. Со стороны Трафальгарской площади все еще слышались выстрелы.Глава IV. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
Матросов позвонил Марине по телевизефону и попросил разрешения немедленно прийти. Марина заволновалась. Этого никогда не было. Что-то случилось! Она побежала к директору института хлопотать пропуск. К ее удивлению, Николай Лаврентьевич, едва услышав о Матросове, тотчас распорядился выдать ему пропуск. Марина ждала Дмитрия, нервно расхаживая по лаборатории. Она добилась, чтобы ненавистные ножницы были вынесены. Они стояли сейчас на дворе под навесом, и Марина всякий раз делала крюк, чтобы не пройти вблизи. Фундамент от них все-таки остался. Даже он был неприятен Марине, и она распорядилась поставить на нем лабораторный стол и сама взялась помогать лаборанткам и технику. Заниматься обычным делом она не могла. Все валилось из рук. Матросов застал ее раскрасневшейся после перестановки в лаборатории. Две лаборантки с бесцеремонным любопытством рассматривали статного посетителя с седыми висками. Под этими взглядами Марина чувствовала себя скованной и в душе боялась, что Дмитрий подумает, будто она холодна с ним. Марина не знала, куда посадить Матросова. Отправить своих помощниц из лаборатории она стеснялась. — Ну, покажи, — попросил Матросов, — где здесь ваша алхимия? — Вот за тем свинцовым экраном, — показала Марина, не понимая, зачем об этом спрашивает Матросов. — Вот оно где, «марсианское производство», — задумчиво сказал Матросов, глядя на закрытый проем в бетонной стене. — Да, там сверхурановый реактор. Мы пытаемся утяжелить ядра сверхтяжелых элементов. Превратить кюрий, берклий или менделевий в радий-дельта. — Понимаешь, какое дело… — замялся Матросов. — Зачем ты пришел… сюда? — тихо спросила Марина, включая электромотор, чтобы он начал жужжать. — Выходит дело, неверно я сказал тебе в Брестской крепости, что никогда больше не вернусь туда… — Куда? В крепость? — Нет, я говорил о Западе. — Что ты хочешь сказать? — ужаснулась Марина. — Пойми меня, родная. Не было у меня часа с тех пор, как я на Родине, чтобы не терзала меня мысль о моей вине перед людьми. Я оказался никуда не годным психологом, не смог разобраться в профессоре Бернштейне, которого должен был подготовить к бегству от Вельта. Я не угадал его состояния, его угрызений совести и благородного желания спасти людей от своего открытия. Теперь я имею возможность частично искупить свою вину. — Как? Что ты задумал? — Профессор Кленов говорил тебе, что все запасы нужного вам радия-дельта находятся у Вельта, у того самого Вельта, который так ценил меня и сейчас считает погибшим. — Ты хочешь ринуться в его пасть? — Кто лучше меня знает Вельта? Кто лучше меня может выполнить задание — добыть радий-дельта для тебя, для спасения человечества? — И ты едешь к нему? — Проститься пришел, девочка моя, — сказал просто Матросов. — Через сорок минут улетаю. Марина опустила руки и испуганно смотрела на Дмитрия. — Прощай, Мариночка, — сказал он, беря ее за плечи. Она отрицательно замотала головой. — До свидания… — И спрятала голову у него на груди. Девушки-лаборантки, ступая на носочки, вышли. Техник работал и ничего не замечал. Матросов вышел следом за лаборантками. Профессор Кленов в сопровождении директора института шел к Марине. Профессор был очень возбужден и не заметил, что Марина украдкой вытирала покрасневшие глаза. — Достопочтенная моя государыня! Дозвольте войти в апартаменты ваши гонцом вестей хороших! — Со старомодным изяществом профессор поклонился и вошел в лабораторию. Дойдя до середины комнаты и увидев, что свинцовый экран спущен, профессор разогнулся и застыл в удивлении перед приборами, дрожащие стрелки которых показывали, что в защищенном помещении начался процесс: — М-да! Что это такое? Черные лоснящиеся стены повторяли фигуру Марины в голубом рабочем халате, который в отражении казался совсем другого цвета. Марина взяла со стола провод и вертела его в руках. Директор рассматривал лабораторию после перестановки. — М-да! Чем это вы опять заняты, моя дорогая барышня? — Продолжаю работу, — пожала плечами Марина. — Какую, с позволения спросить? — Готовлю защитный слой для сверхаккумуляторов. — В сторону, государыня моя, в сторону! Теперь перед нами гигантская задача! М-да! — В чем дело? — подняла брови Марина. — Будем изготовлять несметное количество наших аккумуляторов. Задание правительства… Имею честь довести до вашего сведения, что план принят. М-да!.. Принят. Недаром жил все-таки ваш покорный слуга! Будем стрелять по упавшему метеориту аккумуляторами. Извольте бросить все ваши работы… — Но ведь я работаю над аккумулятором, — тихо сказала Марина, рассматривая концы проводов. — Как? Не расслышал или не понял? — Я продолжаю работать над сверхаккумулятором, — четко выговорила Марина. — Но позвольте… Я уже имел честь открыть… открыть вам свою тайну! Марина выпрямилась, положив провода на стол. — Да, профессор. Я знаю это. — Так какой же смысл тратить время? Ведь решено добыть для нас радий-дельта! Радий-дельта, без которого мой аккумулятор все равно не может обойтись. — Вот потому-то я и продолжаю работать. — Не понимаю, какая связь? — пожал плечами профессор. — Все мировые запасы радия-дельта в руках у Вельта. — Совершенно верно. — Следовательно, надо продолжать поиски. — Какие поиски? — сердито зажевал челюстями профессор. — Я позволю себе вторично напомнить, что имел честь открыть стране, и вам в том числе, способ, коим удалось мне сосредоточить в сверхпроводнике не виданные дотоле количества энергии. — Меня этот способ не устраивает, профессор. Кленов беспомощно огляделся: — Как так? Как не устраивает?.. Так зачем же… зачем я тогда открывал свою тайну? Позвольте, как же так? Я полагал, что открытие мной тайны сверхаккумулятора исключает надобность новых исканий. — Я хочу найти равноценный заменитель отсутствующего у нас радия-дельта. Марина опустила голову. Глаза ее из-под высокого лба смотрели угрюмо. Профессор растерянно бормотал: — Я думал… храня тайну столько десятилетий… Открыв ее, надеялся, что это будет использовано… Директор обратился к Кленову: — Иван Алексеевич, что смущает вас в работе Садовской? Она хочет найти лишний шанс к решению нашей общей задачи. — Что? Вы ко мне? Ах, да!.. Смущает? Ровным счетом ничего. М-да!.. Ни-че-го! — Профессор тряс курчавой белой бородой. — Меня ничего не смущает! М-да!.. Но я осмелюсь обратиться к вам: раз мои достижения не надобны, покорнейшая просьба освободить меня от дальнейшего участия в работах над аккумулятором и над осуществлением предложенного мной правительству плана. М-да!.. Уж покорнейше вас об этом прошу. — Профессор, я не вижу причины… — Нет, увольте, сделайте одолжение… Поручайте ведение работ более молодым… М-да!.. И более сведущим, а мне уж позвольте… м-да… откланяться… Профессор пятился к двери, пока с шумом не захлопнул ее за собой. Марина подошла к директору несколько смущенная: — Николай Лаврентьевич, вы поглядите за ним. Успокойте Ивана Алексеевича! — Хорошо, Марина Сергеевна. Не тревожьтесь об этом. Вашу инициативу одобряю. Заменитель будем искать! Дам задания всем остальным лабораториям. Марина бросила на академика быстрый взгляд, и директор понял, что она вовсе не собиралась дать кому-нибудь себя опередить. — Хорошо. Но найду его все-таки я! — медленнопроизнесла она и решительно повернулась к столу. Поднявшись по лестнице своего дома, профессор Кленов долго стоял перед дверью. Шаря по карманам, он невнятно бормотал: — М-да!.. Поражен… Не подыщу объяснений. Ключ всегда лежал именно в этом кармане… Полвека таил, а это никому не нужно… М-да!.. Никому и не нужно, почтеннейший мой профессор… М-да! Ключ нашелся, причем в том же кармане, где всегда. Еще в передней профессор заметил, что у него кто-то есть. Он не спеша разделся и открыл дверь в комнату. Раздался знакомый веселый и торопливый голос: — А, почтеннейший! Наконец-то! А я тружусь. Вы, может быть, думаете, что легко разобраться в ваших бумагах? Ничего подобного. Вот и сижу, разбираюсь в вашем утиле. Выполняю ваше поручение. Профессор поднял тусклый взгляд. — Они насмеялись надо мной. Им оказалась ненужной моя нелепая тайна… М-да!.. Не нужна… — Послушайте, что вы такое говорите? Вы думаете, что я что-нибудь понимаю? На стуле около самой стены лицом к ней сидел доктор. Перед ним на откинутой картине Левитана лежала груда рукописей, вынутых из секретного бюро профессора Кленова. Это был доктор Шварцман, но он чем-то отличался от прежнего доктора. Он был не в пенсне, а в роговых очках. Очки сидели плотно и теперь уже не слетали, как ни вертелась докторская голова. — Столько лет носить в себе проклятую тайну и убедиться, что носил скорлупу, которую надобно выбросить!.. — Послушайте, если вы так же читаете свои лекции, то я выражаю соболезнование вашим студентам. Скажите, кому не нужны ваши сообщения? — Ей не нужны. Этой молодой барышне… Профессор неожиданно осекся. — Какой, какой барышне? — спросил доктор, поднимаясь. Правый рукав у него был засунут в карман. — Та… та барышня… Профессор замолчал. — А министр, а чрезвычайный совет, а человечество? Профессор молчал. — Вам, по-видимому, трудно ответить на эти вопросы, почтеннейший. Знаю. А я вам задам еще один вопрос. Я разбирался в ваших записях. В вашей науке я слабоват, но вот каким это образом вы оказались таким крупным домовладельцем? — Что? Что такое изволили вы сказать? — удивился Кленов. — Я никогда не думал, что у вас такие поместья! — М-да!.. Не понимаю, о чем вы говорите. — Да вот, пожалуйста. Доктор стал неуклюже перебирать левой рукой разложенные на откинутой картине бумаги. Наконец, найдя нужную бумагу, он принялся размахивать ею перед лицом профессора. Кленов взял бумагу и достал очки. — Тут звонил Матросов. Через сорок минут он вылетает в Данию, просил вам передать, что ему поручили достать какой-то там радий-дельта… Профессор прочел бумагу и несколько мгновений смотрел в лицо доктору отсутствующим взглядом. Вдруг он ударил себя по лбу: — Какой глупец! Какой глупец! — А что такое? Почему вы присвоили себе такое ученое звание? — Какой глупец!.. Доктор, немедленно одевайтесь! Извольте показать, где ваше пальто, я помогу вам одеться! — Я могу и сам. Может, вы думаете, что я калека?.. Но куда вы спешите? — На аэродром, доктор! На аэродром! — О, вы видели этого юношу?! Теперь ему понадобился аэродром! — Я осмелюсь просить вас не задерживать меня. — Но позвольте… — М-да!.. Я ничего не могу позволить, милейший доктор. Спешим! Мы должны застать Матросова и передать ему эту бумагу. Трясущимися руками профессор накидывал на доктора пальто. …Красный самолет расправил свои белые складывающиеся крылья. Матросов в качестве пассажира занял место в кабине. Начальник аэродрома Баранов, высокий, с рыжими бакенбардами, заглядывал в кабину и отдавал последние приказания: — Смотри, брат! Напасть ни с того ни с сего могут. Тогда держи вверх и радируй. Стрелять начнут — в бой не вступай: камнем вниз — и приземляйся. Помни, кого везешь! Понял? Вокруг самолета толпились летчики и провожающие. Матросов слушал последние напутствия. По пустынному вагону метро метался профессор Кленов. Доктор Шварцман не отставал от него. — Только бы не опоздать! Только бы не опоздать! — шептал профессор. — Ничего подобного! — кричал доктор. — Подумать только, милейший: от такого пустяка, как возможность задержать самолет, зависит спасение человечества! — говорил Кленов. — Вы, может быть, думаете… — начал доктор и замолчал. Поезд подходил к Станции «Аэропорт». Доктор Шварцман и профессор Кленов изо всех сил старались открыть еще запертые пневматические двери. Самолет плавно двинулся с места. Люди махали руками и шляпами. Никто из провожающих не заметил двух бегущих по полю стариков. В общей суматохе это казалось естественным. Когда профессор подбежал к начальнику аэродрома, самолет уже превратился в едва заметную точку. — Уважаемый!.. Осмелюсь обратиться… Скорее, возможно скорее верните самолет! — Что? Вернуть сверхэкспресс? Да вы с ума сошли! — Ничего подобного! — закричал подоспевший доктор и первым делом вцепился в пульс профессора. — Скверно, — проговорил он, задыхаясь. Начальник аэродрома недоумевающе слушал, что наперебой говорили ему старики. Потом быстро направился к радиорубке. Все присутствующие были удивлены. Строились всевозможные догадки, но никто толком не знал, почему понадобилось вернуть самолет. Вскоре на горизонте появилась точка, а через несколько минут на бетон аэродрома опустилась красная машина с белыми, отогнутыми назад крыльями. Кленов быстро шагал следом за еще катившимся самолетом. Доктор семенил сзади. Едва машина остановилась, профессор забрался в пассажирскую кабину и долго что-то объяснял Матросову, передавая ему старые, много лет хранившиеся в секретном сейфе бумаги. Телевизефон самолета соединили с Василием Климентьевичем. Министр поблагодарил профессора и дал Матросову четкие приказания. Его изображение исчезло с экрана, но самолет не отправлялся, дожидаясь приезда нотариуса для выполнения каких-то формальностей. Только через час самолет снова готов был к полету. Начальник аэродрома выходил из себя, но Матросов медлил. Ему что-то хотелось сказать профессору. — Иван Алексеевич, — наконец сказал он, — простите… Вы увидите Марину Сергеевну? Профессор насупился, зажевал челюстями и сердито взглянул из-под насупленных бровей. — М-да!.. М-да!.. — сказал он, потом еще раз взглянул на Матросова. Неизвестно, что он прочел на лице Матросова, какое воспоминание промелькнуло у него в голове. Может быть, он вспомнил Мод… Около рта его легли болезненные складки, еще ниже опустились лохматые брови. Потом, вдруг по американской манере ударив Матросова по плечу, он сказал бодро и весело: — Хорошо! Я передам привет от вас Марине Сергеевне. М-да… На прощание еще раз хочу поблагодарить вас за согласие взять с собой мой аппарат связи на отраженной волне. Если он вам даже и не понадобится, не откажите в любезности радировать на нем любое сообщение. Матросов пообещал. Кленов раскланялся и в сопровождении доктора Шварцмана покинул самолет. Взревел мотор, и самолет плавно побежал по взлетной дорожке.Глава V. СВЯЩЕННЫЕ ЗАКОНЫ
У подножия замка Фредериксбург на острове Зеландия — большое озеро. Серые стены дворца спускаются уступами в тихую гладь. Высокие восьмиугольные башни касаются самого дна. Вековые гиганты парка подергиваются под водой неощутимой влажной дымкой. Вместе со своим отражением замок словно висит в воздухе, опоясанный бахромой густой зеленой тени. Это король Христиан IV построил на берегу озера датский Версаль. Он любил видеть дворец и небо над ним у своих ног. Но за последнее время совсем иным стало отражение в озере. Странный, нестихающий ветер покрыл гладь морщинистой рябью, и затрепетал, заколебался висящий в воздухе замок. Жалобно выл ветер, словно навеки прощаясь с землей. Он цеплялся за ветви, в отчаянии кидался в воду, заставлял в страхе дрожать колеблющиеся башни, печально вздымал с дорожек песок и, как пеплом, посыпал им головы понурых людей, шедших в замок Фредериксбург. Невесело шли в резиденцию короля министры Датского королевства. Кратка, но тяжела была повестка дня чрезвычайного заседания: 1. О нарушении Данией союзной солидарности. 2. Меры Дании по спасению мира. Прошли министры; начались нерадостные прения во дворце, а ветер все выл на одной протяжной, несмолкающей ноте и уносил воздух в неведомую даль. Почти одновременно с министрами ко дворцу подъехал автомобиль. В нем сидел Матросов. В этот момент в старинном зале дворца печальный и интеллигентный старичок сообщил, что в органе западной военной солидарности поставлен вопрос о предательском нарушении Данией обязательств в части традиционных поставок Англии мяса и молочных продуктов. — Дело в том, — продолжал премьер-министр, — что господин Петерсен, в руках которого сосредоточен почти весь экспорт страны, неожиданно продал все датские запасы господину Вельту. — Вельту? — воскликнули многие министры. Толстый и красный Петерсен, владелец датского синдиката мясных и молочных продуктов, присутствовал на заседании. Он хитро улыбнулся и сказал: — Напрасно англичане обижаются, господин министр: с господином Вельтом я имею дело не один десяток лет. Я всегда продавал ему молоко и мясо. — Однако ваш синдикат запродал сейчас Вельту все, что может дать Дания до конца… — Старичок министр замялся и совсем тихо добавил: — До конца мира… — Он вытащил платок и тщательно высморкался. — Совершенно верно! — весело ответил Петерсен. — А как же Англия? — робко спросили из-за стола. — Я не знаю как! — Что же будут есть англичане? Что им ответить? — По-моему, надо им ответить: товар продан, лавка закрыта. Они не заплатили бы мне таких денег, как Вельт! Конечно, Англия — датский союзник. Но Вельт — владелец мира будущего, в который каждый человек мечтает попасть. И опять же, священное право собственности превыше всего. Министры не решились принудить Петерсена расторгнуть сделку с владельцем Концерна спасения, а потому решили все вместе выйти в отставку. Но прежде предстояло обсудить меры по спасению мира. На заседание пригласили Матросова. Он поклонился важному собранию, мельком оглядел лепной потолок, золотые карнизы, темные картины в тяжелых рамах и сразу начал: — Моя страна совместно с другими странами, всегда тревожившимися за судьбу человечества, принимает общие меры к ликвидации возникшей на острове Аренида катастрофы, но для осуществления намеченного плана нужен редчайший элемент радий-дельта, все запасы которого находятся на территории Дании… Министры оживились. Конечно, они не знали ни о существовании радия-дельта, ни о том, где он находится, но все они были готовы помочь смелому начинанию. Кроме того, они гордились тем, что Дания оказалась страной, в которой сосредоточены все запасы такого важного элемента. Однако едва произнес Матросов имя Вельта, как наступило неловкое молчание. — Просьба моя сводится к тому, — закончил Матросов, — чтобы силой власти датского правительства реквизировать радий-дельта и передать его для спасательных мер. — Реквизировать? Нет, почтенный господин Матросов просто не понимает, что это невозможно! Отнять у Вельта то, что принадлежит ему, нарушить священные законы, на которых зиждется цивилизация, просто невозможно для культурной страны. Кроме того, подобный акт восстановил бы Вельта, главу Концерна спасения, против датского населения, чего правительство Дании ни в коем случае не может допустить! — Старичок премьер волновался, путал слова, но все время старался быть изысканно вежливым. — Это невозможно, — согласились министры. — Мы не можем, господин Матросов, попирать ногами частную собственность, — закончил премьер-министр. — Я не прошу об этом, — спокойно сказал Матросов. — Наоборот, я прошу защитить частную собственность. Я выступаю здесь как частное лицо, как собственник Ютландского замка, где незаконно обосновался Вельт. Министры единодушно выразили готовность помочь: в душе они всегда были за мир, если он не нарушает устоев цивилизации. Но как пойти против Вельта? Однако, кроме адвокатов и писателей, профессоров и чиновников, заседавших в романтическом зале старинного замка, в городе Копенгагене, знававшем и гнет оккупации, и международные конгрессы борьбы за мир, было много и других людей, болевших за судьбы мира, воспитанных современной Данией — страной судостроения и пищевой промышленности, высокомеханизированного сельского хозяйства и несчетных типографий. Эти люди заводов и полей, студенты и женщины, матери детей пришли к замку с флагами, трепещущими на ветру, с транспарантами, с которых кричали слова: «Борьба!», «Забота!», «Воздух!». Все больше становилась толпа, все громче раздавались голоса. Древний датский Версаль гудел, как готовый взорваться паровой котел. Премьер-министр, прервав заседание, вышел на балкон. Рев толпы обрушился на него. Она бушевала внизу. К нему тянулись тысячи поднятых кулаков. Премьер, улыбаясь, раскланивался. Вернулся он к министрам со словами, что его партия в решительную минуту всегда находила общий язык с народом. Коллеги по кабинету смотрели вопросительно. Матросов, заложив руки за спину, спокойно разглядывал лепные украшения. Премьер-министр солидно сел и задумался. Он понимал, что ему сейчас предстоит «найти общий язык» с пришедшим к стенам замка народом, и в то же время он был в большом затруднении. Чудовищное стечение обстоятельств! Священный закон частной собственности, основа величественной пирамиды цивилизации, вдруг оказался противопоставленным ее вершине, самому Вельту — владельцу ключей от мира будущего… Поистине близок конец мира, если на глазах у поборников цивилизации она опрокидывается. И почтенный, всегда гуманный министр, сторонник прогресса и нерешительных мер, даже обрадовался, когда в раззолоченный зал, знавший камзолы и парики, звезды и брильянты, шпаги, плюмажи, ботфорты, смокинги, фраки и лакированные туфли, явилась группа людей в сапогах, с решительными лицами. Люди эти назвали себя Комитетом содействия, который был избран стоящими внизу людьми. — О каком содействии идет речь, уважаемые члены комитета? — с надеждой в голосе осведомился премьер-министр. Требования пришедших к замку людей были очень просты и понятны: они не хотели задыхаться. Прошел слух, что коммунистические страны, решившие вести активную борьбу с катастрофой, обратились за содействием к Дании. — Вот Комитет содействия и будет это делать, — закончил здоровенный детина с ясными серыми глазами и массивным подбородком. Почтенные министры переглянулись. Впервые за всю летопись Датского королевства, со времен Гамлета, принца Датского, совет министров Дании, одной из передовых стран Европы, провел совместное заседание с Комитетом содействия… Заседание было очень кратким, без прений и споров. Народ стал расходиться. Матросов уехал. Председатель Комитета содействия едва не раздавил в своей ручище тонкую руку премьер-министра. Министру казалось, что он совершил подвиг. Гордый, респектабельный, даже красивый, шел он, забыв надеть шляпу, по берегу озера, и ветер трепал его седые волосы. Да, он был горд, горд тем, что достиг единения с народом и… не нарушил священных законов собственности. Когда он подошел к озеру, то в ужасе отпрянул. В воде колебались неустойчивые, опрокинутые шпилями вниз башни. Это убедило почтенного социалиста, что все действительно перевернулось и опрокинулось. На следующий день утром несколько автомобилей один за другим неслись по гладкому шоссе, обгоняя ровный, шуршащий вереском ветер. Солнце поднялось уже высоко, кузнечики в траве отчаянно звенели. Верно, солнцу надоел назойливый звон, и оно решило сжечь их живьем. Но кузнечики пока не поддавались — должно быть, на их стороне был ветер. Солнце в ярости забралось еще выше и злобно нагревало и сушило все вокруг. Вскоре машины скрылись в небольшой роще стонущих от нестихающего ветра буков. Из-за раскачивающихся верхушек выглядывали шпили Ютландского замка. Машины остановились в лесу, и только одна из них подъехала к замку. После нескольких гудков ворота со скрипом открылись. Привратник пропустил автомобиль, удивленно оглядывая приехавших. Лакеи повели Матросова и сопровождавшего его чиновника по изъеденным веками ступеням. Седой и важный дворецкий с почтительной радостью узнал мистера Тросса, который «так вовремя», по его мнению, вернулся, и отправился доложить Вельту. Когда Матросова ввели в полутемный зал со стрельчатыми окнами, первое, что бросилось ему в глаза, была фигура женщины в облегающем бархатном платье, стоявшей в противоположных дверях между двумя закованными в латы средневековыми рыцарями. В первый момент могло бы показаться, что это замечательная картина, но женщина, вызывающе красивая, медленно пошла навстречу Матросову. Она бесцеремонно рассматривала его энергичное, открытое, немного скуластое лицо.
— Тросс! Это вы или привидение? Впрочем, в замках полагаются привидения! — Да, это я, мэм. Во плоти и крови, мэм, — Проверим. Я ведь никогда не верила, что вас съели акулы. Это неэстетично! Фи! Просто вас нужно было спрятать… может быть, от меня. Не так ли, Тросс? — И она заглянула ему в глаза. — Как вам будет угодно, мэм. Всегда к вашим услугам. — Как прежде? О'кэй! Мне угодно побеседовать с вами, будь вы хоть привидение, хоть оживший скиф! В библиотеке. Надеюсь, вы не забыли, где она? — Нет, мэм! Прекрасно помню. — Я хочу узнать о вас все. — И Иоланда повернулась к окну так, чтобы мистер Тросс видел ее профиль, профиль римлянки. Матросов с холодной учтивостью любовался им. Вернулся знакомый дворецкий и почтительно пригласил Тросса пройти в кабинет. Вельт сидел в полутемной комнате со спущенным жалюзи. Перед ним стояла лампа с рефлектором, неприятно слепившая входивших. Он медленно поднялся из-за стола и шагнул навстречу Maтpocoвy: — Тросс? Я не поверил ушам. Что мне сделать с этим болваном Шютте за его доклад о вашем безумии? — Наградить его ящиком пива, сэр. Он прекрасно служил вашему делу. — Вы так считаете? Ну хорошо. Выпьем по рюмочке за это дело, а вы пока обдумайте, как изложить мне свою версию. Или она давно готова? — говоря это, Вельт открыл вделанный в стену сейф, внутри которого оказался американский бар с пузатыми бутылками. Он налил две рюмки коньяку и пригласил Тросса к столику: — Вот теперь выкладывайте, парень, вашу подготовленную версию. Матросов спокойно сел, закинув ногу на ногу и держа рюмку у губ. Вельт внимательно наблюдал за ним. Но намеренно налитая им рюмка «с верхом» не расплескивалась. Руки у Тросса не дрожали. — Версии нет, — спокойно сказал он. — Вы ведь знаете, биг-босс, для какой деятельности меня готовили у вас в Америке. — Думаете, я зря пообещал вам выгодное место при себе? — И Вельт покосился на бар, который в его нью-йоркском кабинете был прикрыт картиной с изображением Белого дома. — О'кэй, сэр! Я держался за вас. Но мог ли я упустить необычайную возможность, которая ввела бы меня в тесный круг коммунистических верхов? — Что вы имеете в виду, Тросс? — Я мог бы разом стать «разоблачителем капиталистического мира», вестником грозящего Земле несчастья, свидетелем занявшегося пожара атмосферы и… заработать доверие Кремля, не потеряв вашего. — Каким образом? — Перейдя на советский корабль, подошедший к пылающему острову. — Матросов выпил рюмку и поставил ее на столик перед Вельтом, не прикоснувшимся к своей. — И я не задумываясь сделал это, сэр. — Откровенно! — не без восхищения процедил Вельт и пригубил рюмку. — А как же акулы? А кровь? Мне даже представили цветную фотографию места вашего упокоения. — Резиновый жилет с кислородом, когда я в море, всегда на мне. Акваланг легко умещается под пиджаком. — А кровь? — О, сэр! Порошок в пакетике выдается вместе с аквалангом, бумагу даже не надо разрывать, размокает в воде моментально. Безукоризненный цвет. Я думал, вы знаете, сэр. — Я мог знать, а акулы? — О, сэр! Вы же ценили во мне кое-какие спортивные качества. А в разведшколе нас обучали бороться в океанарии с дельфинами, а это почище акул, поверьте, сэр. — И всю эту болтовню вы считаете версией? — Я же предупреждал вас, сэр, что версии не будет. — Как же вас выпустили коммунисты? — Очень просто, сэр. Они меня послали к вам с поручением. — Бизнес? Вижу, вы и там не терялись. — Если хотите, то бизнес. Безусловно, бизнес. Вы можете получить огромную выгоду, если продадите им имеющиеся у вас запасы радия-дельта. Видите, я и сейчас борюсь за ваши интересы. — Зачем? Зачем я стану торговать с коммунистами? — Ради выгоды, сэр. — Не поздно ли они собрались торговать со мной? Мой концерн, как вы отлично знаете, производит самое лучшее вооружение, но где найти ему применение в обозримом будущем на безвоздушной Земле? — И Вельт неприятно рассмеялся. — А жаль, Тросс! Неправда ли? Вы так умело рекламировали мои пушки, танки, газы! Микробы! Ха-ха-ха! Помните, вы подсчитали, что, если стрелять из одних моих пулеметов, можно расстрелять все население земного шара в десять минут. — Вы меня знаете, сэр. Вы никогда не ошибались, прислушиваясь к моим прогнозам. Я пришел к вам, чтобы возобновить свою работу у вас, если вы согласитесь на это, разумеется. — Вот как? А пресс-секретарем Белого дома вы уже не стремитесь стать? — Мне кажется, сэр, что сейчас у нас с вами, да и вообще у всех людей мира, иные интересы. — Какие же? — вкрадчиво поинтересовался Вельт. — Выжить на Земле. — Почему на земле, можно и под землей, — усмехнулся Вельт. — Если вы не возражаете против возобновления моей работы у вас, то позвольте сообщить Советской стране о вашем согласии продать радий-дельта. — Если не ошибаюсь, мы говорили о вооружении, которое вы так ловко рекламировали, Тросс. Может быть, начнем с него наш бизнес с коммунистическими странами? — Боюсь, биг-босс, что коммунистическим странам не нужно ваше вооружение. — Знаю, знаю! У них свое вооружение. Они не желают пользоваться моими услугами. Тем хуже для них. Правда, Тросс? У нас с вами всегда были общие взгляды. Но все же им пришлось обратиться ко мне, даже послать посредника из числа моих бывших служащих. Может быть, поговорим об акциях спасения? Так передайте своим новым хозяевам, что в мир будущего, созданный мною, я их не пропущу. — У меня нет новых хозяев, сэр. Но, насколько я знаю, приобретать у вас акции спасения коммунистические страны не собираются. Им нужен всего лишь радий-дельта. — Что вы заладили «радий-дельта, радий-дельта»! Чего он вам въелся в печенку? — Видите ли, сэр… я думаю, что вы тоже заинтересованы в его применении у коммунистов. — Это почему же? — Коммунисты собираются потушить воздушный пожар. — Слушайте, Тросс. Вы немало работали со мной. Я вас считал умным человеком. Вы вернулись ко мне, насколько я понимаю… — Вернулся, сэр, для совместных с вами действий. С помощью вашего радия-дельта пожар над Аренидой можно потушить. — Клянусь, Тросс, если бы вы еще работали у меня, я бы вас уволил за этот неделовой бред. — Почему неделовой, сэр? Меня в этом вы никогда не упрекали. — Слушайте, парень. Вы стали тем, кто вы есть, потому что много лет я учил вас жить. Без меня вы ничего не понимали бы в жизни. — Вы в этом уверены, сэр? — Уверен. Но мне горько слышать, как вы бормочете о спасении мира, о том, чтобы совместно с коммунистами потушить воздушный пожар. Неужели вы такого скверного мнения о моих умственных способностях? — Нет, что вы, сэр! — Подумайте сами. Руководители, к которым вы, по вашим словам, втерлись в доверие, как в свое время и ко мне, собираются каким-то таинственным способом потушить пожар в Тихом океане. Одним из застрельщиков этой идеи выступает мой бывший служащий (бывший ваш сослуживец, не так ли?) господин Кленов. Как видите, у меня информация не только от вас. Я хорошо знаю все его работы. И вдруг теперь им срочно требуется радий-дельта! Ха-ха-ха! Вывод ясен. Налить вам еще? — Спасибо. Если позволите, я налью сам. — Валяйте. И мне тоже. Итак, радий-дельта им нужен для выполнения их фантастического плана. Как вы думаете, Тросс, вы всегда были моим советником, дать им этот радий-дельта? — А почему бы и не дать, сэр? Когда жизнь сохранится на Земле, она сохранится и у вас. — Замолчите. Я не хочу в вас разочаровываться. Я считал вас разбирающимся в коммерции. Вы осведомлены, конечно, что перед вами владелец Концерна спасения — грандиозного промышленного и коммерческого предприятия, стоящего сотни миллиардов долларов! На эти средства уже построены многие сооружения, которые могут быть использованы только при жизни нового мира, то есть мира без воздуха, без атмосферы. Что же вы предлагаете мне? Отдать им радий-дельта, помочь Кленову потушить пожар? Сделать новые подземные города ненужными? Вы предлагаете мне пустить на ветер все вложенные в новые сооружения средства? Это не коммерческий разговор! — Вы хотите сказать, что вам невыгодно спасение человечества? — Не мне, не мне, мистер Тросс! — насмешливо сказал Вельт. — Это только законы коммерции. Деньги не могут быть пущены на ветер, они не могут погибнуть. Я не позволю разорить себя. — Очень ясно, — сказал Матросов без малейшего удивления. — Особенно ясно, если учесть, что образ мышления людей, населяющих их территорию, является постоянной угрозой мировым деловым кругам! Нельзя, Тросс, упустить случай раз и навсегда покончить с призраком, который бродит не только по Европе, но и по Азии, Африке и Америке! Будущий мир будет и без атмосферы, и без коммунизма. — Вы не сказали мне ничего нового. Я ожидал такого ответа. — Зачем же вы тогда обеспокоили себя и явились ко мне? — язвительно пожал плечами Вельт, почти совсем закрывая левый глаз. — Сообщить, что я не потерплю больше ни одной минуты вашего пребывания в моем замке. Вельт оторопело откинулся на спинку кресла. Матросов насмешливо посмотрел на него. — К-к-ка-ак?! — начал Вельт. — В вашем замке? Вы с ума сошли, Тросс! Вельт недоуменно смотрел на своего посетителя и не узнавал его. В нем произошла мгновенная перемена. Бывший его помощник, вернувшийся к нему после долгого отсутствия, исчез. Перед ним сидел с решительным лицом незнакомый человек, отчеканивавший слова: — Не Тросс, а Матросов, мистер Матросов, если желаете. В дальнейшем прошу вас правильно выговаривать мою фамилию. И при обращении ко мне, если это вас не затруднит, добавлять «сэр». — Я не поверил вашей «версии», но теперь… — Напрасно, я рассказал вам то, что было. — И что же вы еще хотите рассказать? — Я даю вам полчаса для того, чтобы покинуть мой замок. Достаточно вы пожили здесь, не имея на то права! — Молчать! Мальчишка! Вон отсюда! — ударил кулаком по столу Вельт. Появился лакей. — Позвать Ганса! Пусть он выгонит этого нахала!.. Вон отсюда! — небрежно приказал Вельт. В дверях показался датский полицейский чиновник. — Я вам нужен, сударь? — обратился он к Матросову. — Да, пожалуйста, разъясните этому господину, что он находится в принадлежащих мне стенах и должен немедленно очистить помещение. — Как так? — злобно засмеялся Вельт. — Мне, владельцу мира будущего, смеют говорить, что я нахожусь в чужом доме? — Сохраните серьезность, господин Вельт, — сказал датчанин. — Ознакомьтесь вот с этими документами. — Он разложил на столе перед Вельтом старые, пожелтевшие бумаги. Перебирая их, он вежливо говорил: — Не угодно ли господину Вельту узнать свою подпись под дарственной записью на имя доктора Кленова? — Кленова? — воскликнул Вельт. — Да, доктора Кленова. Вы сами передали владение Ютландским замком этому Кленову взамен принятия господином Кленовым на себя обязательств по оборудованию особой лаборатории, которые, как здесь помечено, выполнены в 1916 году. Вот документ, удостоверяющий исключительное право собственности на элемент радий-дельта ученого Бакова, его открывшего, создавшего его запасы и завещавшего их все тому же Кленову… — При чем тут Кленов? — закричал Вельт. Датчанин попыхтел трубкой и спокойно продолжал: — Вот документ, где доктор Иван Кленов, ныне заслуженный деятель науки Советской страны, переуступает права владения упомянутым замком в Ютландии и запасами радия-дельта господину Матросову. — Матросову?.. Это вам? — спросил хрипло Вельт. В комнату вошел громадный Ганс и недоумевающе остановился поодаль. Из двери выглядывали несколько полицейских. — Сопротивление напрасно, мистер Вельт, — сказал Матросов. — Если вы немедленно передадите мне радий-дельта, то я подожду с выселением. Учтите, что замок оцеплен отрядом полицейских. Вельт смотрел то на Матросова, то на пожелтевшие бумаги, столько лет пролежавшие в секретном сейфе комнаты Кленова. Ганс никогда не видел своего хозяина в таком состоянии. — Босс, какие будут ваши приказания? — спросил он тихо. — Убирайтесь к черту! — заорал на него Вельт. — Отдайте радий-дельта, и я подожду с выселением. — Не знаю этого элемента! Я никогда не видел его! — забрызгал слюной Вельт. — Прекрасно! — весело воскликнул Матросов. — Даю вам полчаса сроку, чтобы удалиться отсюда. Пока же я отправлюсь осмотреть свой дом. Вельт скрипел от ярости зубами. — Кажется, я понимаю, почему он явился сюда не один. — Вельт подошел к полицейскому чиновнику и тихо сказал: — Вы… Я дам вам акцию спасения! Только убирайтесь отсюда вместе с этим нахалом! Датчанин вынул трубку изо рта, улыбнулся и неторопливо ответил: — О нет, господин Вельт! Я бедный человек, я не смогу купить вашу акцию. — Дурак! Я дам вам даром! — прошипел Вельт. Датчанин поклонился: — Благодарю, но у меня большая семья и много друзей, с которыми вместе я много лет боролся за мир и которых мне не хотелось бы покидать. — Вы торгуетесь? Это безбожно! — О нет, господин Вельт. Я просто предпочитаю надеяться на коммунистические страны. Для многих они всегда были надеждой… — Здесь все с ума сошли! — закричал Вельт. — Ганс, что же это такое? Ганс недоумевающе вращал глазами. Вельт запустил портсигаром в лампу-рефлектор, но промахнулся.
Глава VI. ЖЕЛЕЗНАЯ ПОСТУПЬ
По пустыне бежал человек. Оставляя за собой цепочку следов, он бежал ровно и легко, словно ноги не увязали в сыпучем песке, словно солнце не жгло так, что воздух плясал горячими струями. Спортивные трусы и майка, мускулистые длинные ноги и тренированное дыхание помогли бы узнать в нем спортсмена, если бы не полосатая рейка, которую он нес на плече. Ящерица зарылась в песок. Следы бегуна пересекли тонкую полоску, будто оставшуюся от протянутой веревки. Навстречу бегуну по склону струился «пересыпаемый в часах вечности» песок. Это движение выдавало пустыню. Ее застывшие волны на самом деле двигались, дымясь песком. Человек поднялся на гриву бархана, поставил рейку вертикально и оглянулся, ладонью прикрывая глаза от солнца. На вершине соседнего холма появился вездеход. Сошедшие с него люди расставили треногу. Бегун, повинуясь их жестам, стал переставлять полосатую рейку. Когда место для нее было найдено, бегун воткнул в песок колышек, взятый из походной сумки, взвалил рейку на плечо и огромными, похожими на скачки шагами побежал вниз по склону. На гребне впереди себя он видел высокую фигуру человека, его четкий силуэт на эмалевой сини неба. Бегун вошел в ритм бега. Рейка на его плече не колебалась. Горизонтальная, она плыла над землей, как рога северного оленя, которые не дрогнут при самой бешеной скачке. Человек на бархане был в военной форме. Высокий, жилистый, он сам чем-то напоминал бегуна. Бегун, добежав до гребня бархана, опустил рейку на песок и отрапортовал, не переводя дыхания: — Геодезическая группа строительства движется строго по расписанию, товарищ полковник! Полковник посмотрел на ручной хронометр, потом на голые загорелые ноги спортсмена. Он узнал знаменитого бегуна. Тот понял его взгляд. — Слово дал, товарищ Молния, пробежать через всю пустыню. Мечта такая была, — и оглянулся на оставленный им бархан, где на вершине появилась машина и люди с треногой. — Своим бегом вы задаете темп всей наступающей армии, — сухо сказал Молния. — Задержка связана, товарищ Зыбко, не с проигрышем состязания в комплексном беге, а со срывом графика движения, в котором соразмерены все элементы. — Разрешите просить, товарищ начальник строительства. Если собьюсь с ноги, проиграю хоть секунду, — сажайте с позором в автомобиль. И не сдержит тогда Зыбко комсомольского слова! Молния мог бы запретить это необыкновенное испытание выносливости, но он сам был спортсменом, и, кроме того, ему знакома была мечта. Строго смотря на Зыбко, Молния спросил: — С комсомольцами пришли на Аренидстрой? Зыбко кивнул, взвалил на плечо рейку и легко побежал вниз по склону. Молния с удовольствием отметил великолепную технику бега. Впрочем, он сам держал бы корпус чуть прямее, хотя, быть может, так легче нести рейку. Молния подошел к ожидавшему его автомобилю и поехал навстречу наступающей технической армии. Рядом с цепочкой следов бегуна пролегла колея от резиновых гусениц. Первой машиной, встретившейся полковнику, был вездеход геодезистов. Сидевшие в открытом кузове, они почтительно приветствовали начальника. Полковник взял под козырек. Когда автомобиль Молнии въехал на следующий гребень, стали видны машины. Они двигались одна за другой параллельными нитями. Ближние из них не поднимались на песчаный холм. Держа равнение на вехи, оставленные геодезистами, они вгрызались в него. В обе стороны разлетались тяжелые фонтаны песчаных туч. В нескольких десятках метров песок ложился вытянутыми ровными грядами по обочинам гладкого проспекта. Немного позади звенели рельсы. Заблаговременно свинченные со шпалами, они взлетали вверх, напоминая огромные лестницы. Готовый кусок железной дороги точно ложился на свое место. Рабочие электрическими ключами завертывали гайки, соединяли его с рельсами уже уложенного пути, на котором стоял железнодорожный путевой комбайн. Вскоре он передвинулся, неся по воздуху новую лесенку со ступеньками шпал. Позади путевого комбайна к далекому горизонту уходили серебристые полосы. Вдали по ним двигались поезда, груженные рельсами, шпалами и другими материалами. За подножку путевого комбайна уцепилась девушка. Из-под платочка выбились непокорные колечки светлых волос, румянец пробивался через загар. Увидев автомобиль начальника стройки, она соскочила на песок и побежала наперерез вездеходу. Молния остановил машину. — Здравствуйте, товарищ Молния! Я Надя Садовская. Сестра Марины… Но сейчас не об этом. Я комсорг механического звена. Понимаете, нам не хватает рельсов и шпал. Мы могли бы двигаться быстрее. Отработали движения как часы… — Простите, — холодно сказал Молния. — Армия обладает совершенной организацией, потому она исполнительна, предельно точна и быстра. В ней все подчинено дисциплине и единой логике. Уклониться от точности выполнения нельзя. — Даже вперед? — запальчиво спросила Надя, вскочив на ходу в открытую машину полковника. — Даже вперед, — подтвердил Молния. — Ну нет! Ребята с вами не согласятся! — Строители, «ребята» и «не ребята», — солдаты наступающей армии. Их умение, энтузиазм, порыв должны служить делу выполнения общего плана. Один опрометчивый солдат мог бы погубить план наступления. Вы предлагаете ускорить движение? — Молния холодно говорил это, а сам думал, почему он так любуется этой девушкой и почему она попалась ему на пути? — Конечно! — воскликнула Надя. — Агрегат может двигаться быстрее! Мы убедились в этом. Мы еще догоним Зыбко, которого вы встретили! — И она улыбнулась Молнии. Молния все же продолжал в прежнем сухом тоне: — Двигаться быстрее — внести сумятицу во все связанные с путевым комбайном звенья. Запоздает подвозка шпал и рельсов. Внесена будет нервозность в работу обслуживающих механизмов и поездов. Техническая армия — это армия четко работающих машин. Нельзя заставить одну зубчатку вращаться быстрее. — Пусть все зубчатки завертятся! — Хронометр — идеальный механизм. Он станет одинаково негодным, будет ли отставать или уходить вперед. Глаза Нади сузились. — Рычаги, колеса!.. А мы, а люди? — Люди обслуживают машины. — Неправда! Машины помогают нам! Молния пожал плечами. — Тогда уж лучше доставлять детали орудий на самолетах, а не прокладывать в пустыне пути! — с вызовом сказала Надя. — Нет, — решительно возразил Молния и сразу оживился. — Напротив! Именно сейчас выгодно проложить через пески пути. Мы можем сделать это, пока заводы изготовляют детали орудий и сверхаккумуляторы. Я всегда мечтал пройти живым конвейером через пустыню. — Живым конвейером? — растерянно переспросила Надя. — Мечтали? — О новом городе, который вырастет на месте, с которого мы произведем залп. Разве это плохая мечта? Надя смутилась. — Остановитесь, пожалуйста. Я соскочу. — Подождите, — сказал Молния. И Надя с удивлением услышала новую нотку в его голосе. Сердце у нее екнуло, и она почему-то жалобно попросила, чтобы машина сейчас же остановилась. Надя старалась не смотреть на Молнию, когда он отъезжал, но потом она все-таки оглянулась. Оказывается, он смотрел ей вслед. Правда, он сделал вид, что интересуется километровым столбом, только что установленным на месте. Он даже сверился с хронометром, в должное ли время появился здесь этот столб. Надя побежала и слышала, как стучит у нее сердце… Конечно, от бега стучит… Наконец Надя остановилась и огляделась. Как далеко они успели отъехать с Молнией! Чуть левее в небо поднималась гигантская ферма крана на гусеничном ходу. Кран повернул свой хобот и снял с железнодорожной платформы стальную мачту. Надя любила эти ажурные конструкции: в них чувствовалась не только техническая целесообразность, но и тонкий вкус их создателя. Около подножия крана визжала маленькая машинка, кончающая рыть глубокую яму. Рядом стояла девушка в комбинезоне, крепкая, широкая в кости. Низким повелительным голосом она отдавала приказания. Это была Ксения, «племянница» Матросова, как она называла себя, подруга Нади, с которой вместе записалась в комсомольский отряд Аренидстроя. Матросов отыскал ее родителей, единственных своих родственников, и Ксения стала с гордостью называть его «дядей Димой». Но только Наде рассказывала она о нем. Ксения, продолжая наблюдать, как кран ставит в яму основание мачты, чмокнула Надю в щеку. Потом ей пришлось выслушать, какой сухой и бесчеловечный Молния и что — подумать только! — у него вся жизнь была мечта… А вообще он замечательный… Вот если бы не считал строителей рычагами… Подъехала цистерна с жидким бетоном. Пока Надя рассказывала Ксении про Молнию, яма была заполнена. Ксения приказала дожидавшемуся своей очереди прожектору направить в яму желтоватые лучи, заставлявшие бетон схватываться в течение нескольких минут. Откуда-то доносилось пение. К установленной мачте приближалась решетчатая коническая башня с колоссальным барабаном наверху. Он приходился как раз на уровне чешуйчатых изоляторов. Барабан медленно вращался, разматывая провода. Девушки запрокинули головы. На площадке барабана, свесив ноги, сидел паренек и распевал на итальянском языке чудесную арию. В руках у него были плоскогубцы и электропаяльник. — Это он для меня поет, — шепотом сообщила Ксения. — Но я не обращаю внимания. На мужчин никогда не надо обращать внимания… И ты на Молнию тоже не должна… И вдруг совсем рядом раздался резкий голос полковника: — Что это такое? Девушки так и присели. А монтер наверху переспросил: — Шо це таке? Так це ж каватына Альмавыво! — Я не об этом спрашиваю вас, товарищ монтажник. Меня интересует, почему вы, нарушая правила безопасности, сидите на площадке, свесив ноги? Девушки переглянулись, и Надя опрометью бросилась догонять свой далеко ушедший путевой комбайн. — Винюсь, товарищ полковник! Забывся, як дурень… Ксения, упершись руками в бедра, смотрела наверх. Автомашина начальника исчезла. Молния все-таки догнал Надю Садовскую, чтобы подвезти ее к переднему краю. Машина с барабаном подъехала к мачте. Паренек-певец встал около проводов. Рядом с ним появилось еще двое. Площадка оказалась под самыми изоляторами. Монтажники прикрепляли к ним провода, которые красивыми волнами, перебрасываясь с мачты на мачту, тянулись к горизонту. Машина начальника снова проехала мимо Ксении. Девушка с понимающей улыбкой проводила ее глазами. Молния, довольный и помолодевший, смотрел по сторонам. Через пески в строгом порядке лавиной двигалась армия машин, преображая пустыню и осуществляя его мечту. Одна из этих машин с огромным ртом, похожая на гигантского крокодила, ползла по земле, заглатывая впереди себя песок. Позади машины ровной струей разливалась расплавленная магма. Ее разравнивали катками, и она быстро застывала, образуя твердую глянцевитую поверхность. По готовому шоссе двигалась передвижная электростанция, питая энергией ползущую печь. Глянцевитая лента дороги, так же как рельсы и натянутые провода, уходила за горизонт. Молния услышал сзади себя звонок. Он повернулся и открыл крышку телевизефона: — У экрана полковник Молния. — Здравствуйте, товарищ полковник! Докладывайте. — Есть доложить, товарищ уполномоченный правительства! Наступление идет развернутым фронтом. Пройдено двести тридцать два километра семьсот двадцать метров. Расхождений с графиком нет. — К меступрицела артиллерии сверхдальнего боя придете без опоздания? — Рассчитываю прибыть к сердцу Каракумов в назначенное время. — Я отгружаю вам части электроорудий. — К монтажу орудий приступим немедленно по достижении места назначения. — Хорошо. Будьте добры, расположите так экран, чтобы мне были видны ваши войска. Молния выполнил просьбу министра. В поле зрения телевизионной установки попали гигантские резиновые кольца, сами собой катившиеся по пустыне. — Это наш водовод, товарищ уполномоченный правительства. — Ах да, помню, помню! Это ваш проект. Любопытно, любопытно… Подъедем поближе. Кольца двигались группами. Догоняя одну из них, машина Молнии поравнялась с большим закрытым автомобилем. У руля, изнывая от жары, сидел толстый человек в белой панаме. Перед ним был пульт с большим количеством кнопок. Толстяк нажал кнопку. Одно из колец тотчас остановилось у конца проложенной резиновой трубы. Толстяк нажал соседнюю кнопку. Кольцо развернулось и улеглось продолжением резинового трубопровода, на сотни километров протянувшегося по пустыне. Через несколько секунд из отверстия трубы выехал маленький тягач, который, перемещаясь внутри резинового кольца, заставлял его катиться. На двух легковых машинах подъехали люди и принялись соединять новую часть водопровода. Толстяк вытер платком красное лицо и мельком взглянул на Молнию. — Жарко? — послышалось из машины. — Ну ничего. Вот дадите воду — купаться станете. Сидевший за пультом человек очень удивился. Полковник Молния не имел привычки разговаривать подобным образом. Но сам Молния рассеял удивление толстяка. — С вами говорит уполномоченный правительства, — сказал он. — Есть искупаться, Василий Климентьевич! — радостно закричал толстяк. Автомобиль Молнии отъехал. — Управление по радио тягачами внутри колец полностью оправдалось? — спросил министр. — Да, — подтвердил Молния. — Таким образом, теперь совершенно ясно, что мы подведем к Аренидстрою средства сообщения, энергию и воду одновременно. — Ваш проект живого конвейера удался, товарищ полковник. — Это не могло быть иначе, товарищ уполномоченный правительства. — Подождите, полковник! Сейчас у вас все выполняется по хронометру, потому что ничто постороннее не вмешивается. Не поклоняйтесь секундной стрелке, обращайте больше внимания на людей, на их состояние. — В условиях точного расписания меня не ждут никакие неожиданности. Люди хорошо инструктированы и обладают высокой культурой труда. — Наступайте, не сомневаясь в удаче! — Есть наступать! Молния закрыл крышку телевизефона и огляделся. Всюду наступали машины, а от них назад тянулись рельсы, провода, ряды мачт, глазурное шоссе, резиновый водопровод… По шоссе двигались гигантские автобусы, напоминающие дома. Они везли подсменные армии рабочих. Командующий наступлением полковник Молния направился в тыл. Он проезжал теперь мимо промежуточной железнодорожной станции, уже заканчиваемой постройкой. Здесь перегружались поезда. Порожняки мчались обратно. На смену им приходили новые составы, расчетливо посланные по графикам. Они везли шпалы, рельсы, мачты, провода, бензин, продовольствие и неисчислимые материалы, нужные самому необыкновенному и самому спешному строительству в мире.Глава VII. ЗВОН И ЗАПАХ
Председатель недавно сформированного чрезвычайного кабинета министров генерал Кадасима встал и демонстративно покинул заседания сюгиина — нижней палаты японского парламента, где в этот момент обсуждался вопрос о мерах спасения японского народа. В ушах Кадасимы еще стоял пронзительный крик с галереи: «Бака! Бака!» Генерал только что зачитал свой замечательный проект обращения к населению древнейшей страны Ямато. — Однажды бог воздуха Шанаи, беседуя с супругой и задумчиво глядя на облако, окунул свое копье в пурпурное море. Капли, упавшие с копья, затвердели и образовали нашу Страну восходящего солнца, — так начал свою речь генерал Кадасима. — Представляя Японию, страну былых великих стремлений, я уверен: перед лицом гибели мира наша великая нация должна продемонстрировать свое величайшее единение! Не борясь с неотвратимым, посланным миру свыше, она не позволит все же мировой катастрофе отнять у японцев хотя бы одну человеческую жизнь. У каждого японца всегда есть в запасе средство, перед которым бессильны все силы и людей и природы. Японец не станет жертвой мировой катастрофы. Нет. Он сам уйдет из жизни, падая только вперед. Японцы не забыли священного обычая сеппуку, не разучились еще делать харакири. У каждого японца найдется еще близкий друг, который возьмет на себя роль кайтсаки, чтобы отсечением головы уменьшить страдания. Генерал Кадасима призывал японцев мужественно уйти из жизни. Он призывал к ста миллионам самоубийств. Предварительное обсуждение проекта вызвало переполох в правящих духовных и промышленных кругах. Концерн Мицубиси, захваченный общим порывом национального единения, не дожидаясь окончательного утверждения проекта, переключил свои сталелитейные заводы на производство ста миллионов вакасатси — традиционных кинжалов прекрасной японской стали, длиной в девять дюймов, необходимого атрибута процедуры харакири, по пяти иен за штуку. Банк Фурукава, служа посредником между концерном Мицубиси и другими, сумел заработать на этом деле не менее двадцати миллионов иен. Генерал Кадасима и его проект взволновали сердца японцев. В первый же день в виде демонстрации солидарности с мыслями достойного генерала более ста виднейших чиновников и военных одновременно покончили жизнь самоубийством посредством харакири. Правда, как всегда, нашлись злые языки и очевидцы, которые утверждали, что повстречали кое-кого из них в слегка измененном обличье. Как бы то ни было, но с помощью усердных газет генерал Кадасима, блюститель былых традиций, на один день стал самым известным человеком. И вот теперь этот самый генерал Кадасима, имя которого все еще можно было прочитать на валяющихся по мостовым листках, демонстративно вышел из зала парламента. В ушах его все еще стоял крик: «Бака! Бака!» Никогда ни один японец не позволил бы себе произнести это слово на улице. Самое ужасное ругательство, какое можно услышать в устах японца, — это сравнение с черепахой! Но в парламенте можно крикнуть даже самому почтенному старику, даже автору такого потрясающего проекта: «Бака!», что на хорошо известном Кадасиме русском языке значит «дурак». Кадасима пожал плечами, застегнул верхнюю пуговку генеральского мундира, которую незаметно для себя расстегнул, и поспешил к выходу. Было еще слишком рано. Автомобиль не ждал генерала. Кадасиме же было мучительно стыдно вернуться в здание и вызвать шофера. Кадасима вышел на улицу и пошел пешком, решив дойти до первой остановки такси или рикш. Взглянув на прохожих, генерал спохватился, вынул из кармана черную повязку и завязал ею нос и рот. Такие черные повязки имели сегодня все прохожие. И немудрено. Если многие благоразумные японцы носили повязки даже в обычное время, предохраняя свои легкие от пыли, то теперь… теперь это было необходимо. Кадасима прижал развевающуюся бороду к груди и остановился. Он чувствовал, как несущиеся массы воздуха давили на его спину, но не ощущал порывов ветра. Это было постоянное, назойливое, ни на секунду не ослабевающее давление. Кадасима знал, что с каждой минутой оно возрастает… Генерал плотнее придвинул к глазам стекла очков, что хоть немного предохраняло от несносной пыли, мельчайшие частицы которой, казалось, могли под действием воздушного пресса проникнуть куда угодно. Мимо промчался мотоцикл. Сидевший на нем японец в кожаном шлеме подоткнул под себя полы своего широкого киримона. Круто повернув, он скрылся за поворотом, едва не сбив с ног рикшу. Кадасима знал, что этот японец везет в императорский дворец его прошение об отставке. Сомнений быть не могло: отставка будет принята. Благородное и возмущенное сердце генерала клокотало. Он окликнул рикшу. Рикша лихо подбежал и остановился около тротуара. Старик с трудом забрался в двухколесную коляску. Экипаж тронулся. Мерно заколебались перед ним иероглифы на синем халате, мелькали упругие ноги в резиновых чулках с оттопыренным большим пальцем, из стороны в сторону качалась на проволочных подставках широчайшая соломенная шляпа-зонт. Среди рикш-велосипедистов остались и эти рикши-бегуны. Брать их считалось особым шиком, как извозчиков в европейских городах. Под тяжестью нерадостных дум Кадасима свесил голову на грудь. Проезжали мимо огромной стеклобетонной громады редакции газеты «Асахи». Верхние этажи здания были выкрашены в желтый цвет — японский символ надежды и стремлений, нижний — в голубой, что означало идеалы и мир. Старик криво усмехнулся. Он уже слышал, что газета сегодня закрылась. — Да, надежда, стремление, идеалы, мир! — горько сказал он. — Нет больше их, нет больше настоящих японцев! Теперь ехали по Гинзе — главной магистрали города. Кадасима хотел доехать на рикше только до первого попавшегося такси, но теперь он решил, что ему все равно больше некуда торопиться, в коляске же так мерно покачивает. Можно думать и думать… Проезжая мимо стоянки такси, Кадасима не остановил рикшу. Однако рикша остановился сам. Седок был удивлен. Проехали еще слишком мало, чтобы рикша вздумал отдыхать. Ах да! Опять все то же… Грудь рикши судорожно вздымалась. При каждом вздохе бока его проваливались, словно стараясь достать до позвоночника. Ага, значит, разрежение уже дает себя чувствовать! Кроме того, ветер совсем не попутный. Рикши не живут больше сорока лет. Этому крепкому парню лет двадцать пять. Значит, он не доживет целых пятнадцать лет… Коляска тронулась вновь. Рикша останавливался все чаще и чаще, но Кадасима не отпускал его. Несмотря на то что они продолжали ехать по главной улице, все вокруг изменилось. Каменные громады зданий исчезли. По обеим сторонам Гинзы шли теперь одноэтажные, редко двухэтажные деревянные домики. Рикша отвез старика словно на сто лет назад. Страшный ветер давал себя чувствовать. Бумага, натянутая на рамах стен, во многих местах была прорвана. Сквозь висящие клочья ее виднелась внутренность жилищ с лимонно-желтыми циновками, ширмами, картинками без теней. Кадасиме запомнилось в одном из таких отверстий испуганное женское лицо с высокой прической словно твердых, отливающих черным лаком волос. Непрекращающийся ветер приложил свою разрушающую силу везде. Гигантские вертикальные плакаты, испещренные столбцами иероглифов, давно были изодраны в клочья. Многие жерди, на которых они крепились, были поломаны. Даже неимоверно высокие телеграфные столбы совершенно явственно казались наклоненными на юго-восток. Да не одни столбы, даже приземистые расщепленные японские ели, нет, больше — даже сами полуигрушечные дома наклонились все в одну и ту же сторону. Их голубоватые ребристые крыши, казалось, готовы были сорваться, напоминая отогнутыми краями застывшие всплески волн. Казалось, что навалился на дома своей лютой и незримой тяжестью вырвавшийся из океанских тюрем тайфун. Но это был не тайфун. Генерал Кадасима хорошо знал, что это было такое. При очередной остановке рикши Кадасима спросил его: — Ты не боишься погибнуть, японец? — Я боюсь остаться без работы, но я не боюсь смерти, господин, — ответил рикша и снова взялся за лакированные оглобли. Дальше ехали молча. Наконец рикша остановился около небольшого двухэтажного домика. Кадасима сошел и расплатился. Рикша сделал удивленные глаза, но Кадасима повернулся к нему спиной и, подойдя к двери, стал снимать ботинки. Рикша еще раз пересчитал деньги. — Дайбутцу мой [Восклицание, призывающее бога.], — прошептал он, — Он оставил мне двойную плату! Рикша хотел броситься вслед за своим странным седоком, но тот скрылся за порогом дома. Кадасиму встретила, касаясь лбом циновки, еще не старая японка. Что-то процедив сквозь выкрашенные черные зубы, она протянула ему письмо. Генерал, неся в одной руке ботинки, другой взял письмо и, не взглянув на преклоненную женщину, вошел в дом. Робкий почерк, которым был написан адрес на конверте, заставил сердце его радостно сжаться. Забылись обиды этого дня. Не стесняясь присутствия женщины, Кадасима снял с себя мундир и брюки и с удовольствием облачился в поданный ему киримон. Сев на корточки, старик дрожащими пальцами стал разрывать конверт. Письмо было от его воспитанницы, маленькой девочки, находившейся сейчас в Париже, где Кадасима хотел дать ей образование. Как хорошо помнил Кадасима смешную детскую песенку, которую она когда-то распевала:«Отец, сердце холодеет у меня от мысли, что я сейчас вдали от тебя! Я получила твои деньги и письмо, где ты приказал продать все драгоценности и приобрести акцию спасения. У меня нет сил передать тебе весь ужас положения. В Париже все сошли с ума. Мне не понять, что происходит. В ресторанах с названием „Аренида“ творятся страшные вещи. Те, кто имеет деньги, ведут себя так, словно переживают последние дни Содома. Они стараются дожить свои дни. Они неистовствуют в своем предсмертном безумии…»Кадасима опустил письмо и остановившимся взглядом посмотрел на надувшуюся, готовую лопнуть бумагу наружной стены. Слышался истерический вой ветра. — Воздух мчится в Тихий океан, чтобы превратиться на острове Аренида в серую пыль, как в колбе мистера Вельта, — произнес Кадасима. — Что изволили вы сказать? — переспросила японка. — Ничего, — ответил старик и снова принялся за письмо.
«…Они беснуются, сорят деньгами, но они не хотят давать деньги даже за лучшие мои драгоценности. Отец, проходит один день за другим. Стоимость акции спасения растет с каждым днем. И я начинаю думать, что мне никогда не купить ее. А когда я прихожу к этой мысли, мне начинает грезиться наш Ниппон, прозрачный розовый воздух и жизнь. Отец, мне начинает грезиться жизнь, как будто она может продолжаться! Тогда я падаю на пол и беззвучно рыдаю. Рыдаю, хотя, может быть, это и недостойно японки. Но это плачет не японка. Нет. Это просто девочка, которую ты так любил, которую покидает жизнь, не показав ей своего сияющего лица…»Подписи не было. Вместо нее почему-то расплылись последние иероглифы письма. Кадасима уронил руки и письмо на циновку. Потом он вскочил и, присев на корточки около телевизефона, судорожно стал набирать один номер за другим. Бывший председатель найкаку — совета министров — генерал Кадасима звонил в банки. Старик Кадасима хотел достать денег, чтобы купить своей девочке акцию спасения. Но в прекрасной стране Ниппон уже стало известно об отставке кратковременного председателя найкаку генерала Кадасимы. У банков не было денег для просто Кадасимы. Больше двух часов набирал старик дрожащими руками номера. Но все было напрасно. Банки и друзья знали уже о провале проекта. У старика Кадасимы на склоне лет не оказалось ни положения, ни друзей. У него не осталось даже надежды на спасение существа, которое он любил больше всего на свете. Тогда старик, не снимая киримона, надел на ноги деревянные гэта и почти бегом выбежал на улицу.

Он бежал, задыхаясь, чувствуя на себе давление ветра, напоминавшего о неминуемой гибели. Старик бежал и почему-то шептал свои давнишние стихи, написанные очень давно, еще до получения генеральского чина:
Глава VIII. ВЛАДЕЛЕЦ ЗАМКА
На лугу за буковой рощей сиял жаркий, ослепительный день. Но в узкие стрельчатые окна сквозь толщу многовековых стен замка почти не проникало солнце. Узкие полосы светящейся пыли тянулись от каждого высокого окна к полу. Они походили на перегородки, белыми стенками разгородившие полумрак. Тени не рассеивались от этого, а казались еще гуще, темнее. Матросов внимательно оглядел пустынный зал и направился к двери. Шаги гулко раздавались под сводами. Новый владелец замка в одиночестве совершал свой первый обход. В сумрачных залах он встречал только полицейских, предусмотрительно расставленных офицером-датчанином. Итак, он добился возможности без помехи искать то, что ему было нужно. Но существует ли радий-дельта? Не нашел ли его еще раньше, Вельт? Матросов гнал от себя эти мысли. Надо скорее отыскать в лабиринте сырых и мрачных комнат ту, о которой говорил старик Кленов. К величайшему удивлению слуг, новый владелец замка обошел залы с радиометром в руках. Учащенные щелчки привели его к двери. Ручка, отличавшаяся по стилю от всех других, привлекла внимание. Это была та самая дверь, которую повредил Ганс при переноске аккумулятора, как рассказал ему об этом Кленов. Матросов, сдерживая волнение, открыл ее. Шкафы с книгами закрывали стены. Посередине комнаты виднелся бетонный постамент, а около него стояла в капризном ожидании миссис Вельт. — Она! — прошептал Матросов, имея в виду комнату, а не Иоланду. — Наконец-то! — воскликнула Иоланда. Закинув красивые белые руки за голову, она добавила: — А я думала, что этот восточный варвар не поймет! — И она беззвучно рассмеялась, обнажив ослепительную полоску белых острых зубов. Матросову было досадно, что ему мешает взбалмошная женщина, но он торопился и, мысленно махнув рукой на этикет, решил заняться тем, что больше всего его сейчас интересовало. Конечно, это та комната. Наверно, здесь все осталось так, как было. Вот на этой полке, примерно в полутора метрах от окна, несколько книг в золотых переплетах. Так говорил Кленов. Необычайное волнение овладело Матросовым. Он чувствовал, что плохо владеет собой. В это мгновение Иоланда подошла к нему почти вплотную. — Вы не задумывались, Тросс, над тем, что конец мира близок? А я все время думаю об этом! Мне кажется, что в последние дни Земли мы, последние люди, — она многозначительно взглянула на Матросова, — должны уметь задыхаться не от отсутствия воздуха, а от сжигающего чувства! Матросов поморщился. Однако недвусмысленно! В Америке ему удавалось уклоняться от ее атак!.. А вот здесь как бы не пришлось переходить к обороне. Внезапно на выручку Матросову пришло совершенно неожиданное обстоятельство: снаружи донеслась стрельба. Иоланда порывистым движением бросилась к окну. Дмитрий смотрел через ее плечо. Августовские солнце разливалось по сочным лугам. То там, то здесь оно вспыхивало и искрилось ослепительными блестками на колеблющихся штыках. Отовсюду двигались отряды вооруженных людей. Из-за холма, заросшего соснами, выползли танки. Через открытые ворога войска входили в замок. Терять время действительно было нельзя. Матросов опять очутился у шкафа и стал выбрасывать книги одну за другой. Он протянул за полку руку. Пальцы нащупали дверцу сейфа. Дрожащими руками Матросов вынул из кармана переданный ему Кленовым ключ. Взвизгнули заржавленные петли. Иоланда, припавшая к окну, не повернулась. Здесь ли радий-дельта? Рука шарила в пустоте. Эти мгновения казались вечностью. Наконец пальцы почувствовали холод металла. — Есть! — воскликнул Матросов. Иоланда обернулась. В руках Тросс держал маленькую металлическую коробочку. — Тяжелая какая! — прошептал Матросов. Радость, бурная, рвущаяся наружу радость переполнила Матросова. Этот огромный человек с седыми висками готов был прыгать на одной ноге. В руках у него был радий-дельта в той же самой свинцовой коробочке, в которой оставил его Кленов в начале века. Полный мальчишеского задора, Матросов схватил за плечи женщину и принялся ее трясти. — Победа, мэм, победа! — хохотал он. Иоланда сначала испугалась, а потом рассмеялась. Вдруг отворилась дверь, и неприятный гортанный голос произнес: — Я не помешал, надеюсь? Иоланда вскрикнула и отскочила. — Муж! — прошептала она. — Мы погибли! Матросов повернулся к Вельту, даже не потеряв веселою расположения духа. — Хэлло, мистер Вельт! — сказал он. — Полчаса прошло, а вы все еще здесь? Вельт медленными шагами подошел к Матросову. — Довольно! — крикнул он визгливо. Потом, сдержавшись, нарочито вежливо добавил: — Позвольте, сэр, познакомить вас с новым лицом, появившимся в замке. Следом за Вельтом в комнату вошел статный человек в военной форме, с холодным, надменным лицом. Матросов сразу стал серьезным и незаметно опустил в карман драгоценную коробочку. Военный поклонился Иоланде и, прищурив светлые ледяные глаза, осмотрел Матросова. Вельт, опершись рукой о книжный шкаф, молча наблюдал. — Полковник Уитсли, командир отряда межнациональной армии военной солидарности, — произнес сквозь зубы военный. Вельт неприятно усмехнулся. — Армия содействия, призванная пунктом «МР» договора западной солидарности, вступила на территорию союзной Дании, подверженной коммунистической опасности. Вы интернированы. Следуйте за мной, — процедил Уитсли. Иоланда бросилась к мужу и, прильнув к нему, что-то шептала на ухо. — Протестую, — спокойно сказал Матросов, — и настаиваю на немедленном предоставлении мне свободы и выезда на Родину. — Нет, — вмешался Вельт, — из моего замка не уйдет ни один человек. Этот джентльмен — мой гость. Сэр, это условие для удовлетворения просьбы об акциях спасения! Сзади Вельта стояла торжествующая Иоланда. Уитсли мельком взглянул на Вельта. Ударив перчаткой по руке, он сказал: — Как вам будет угодно, сэр. Мне известно ваше гостеприимство со времени вашего последнего парада, когда я был вашим гостем. Однако я прошу вас дать немедленно распоряжение лондонскому отделению концерна. — О'кэй! — сказал Вельт, усмехнувшись. — Все будет сделано. — Вас интересуют также и арестованные мною датские полицейские? — Ни в коей мере. Наоборот. Удалите их поскорее отсюда. Меня занимает лишь этот мой гость. Мы с ним мило беседовали, пока ваши войска подходили к замку по моему вызову. Правда, он забылся и принял меня за овечку. Матросов выступил вперед: — Вы представитель союзной власти, полковник. Я обращаюсь к вам с требованием выпустить меня отсюда. В противном случае я оставляю за собой право принять соответствующие меры. Уитсли повернулся в профиль и процедил сквозь зубы: — Это не касается армии, призванной сюда западной солидарностью. Воля владельца Ютландского замка, мистера Вельта, для меня священна. Вы, насколько мне известно, будете продолжать пользоваться его гостеприимством. Я удаляюсь, оставляя охрану в распоряжении владельца замка. — Владельцем замка датским правительством признан я, — сказал Матросов. — Датского правительства не существует уже полтора часа, — небрежно заметил Уитсли. — Владелец замка тот, кого признает союзное командование. Все. Прошу извинить меня, леди и джентльмены. Полковник Уитсли повернулся и, высокий, строгий, бесстрастный, вышел из комнаты. За окном с унылым однообразием выл ветер. В соседнем зале гулко зазвучали тяжелые шаги. В дверях, касаясь притолоки, остановился Ганс. Вельт насмешливо смотрел на Матросова: — Итак, сэр, теперь мы можем рассчитаться. — Фред, — прошептала Иоланда, снова приблизившись к Вельту, — повторяю, это только шутка! Не придавайте ей значения. Пусть он будет нашим пленником. Вспомните, он всегда был так предан нам! — Вспоминаю, миледи. Вас в Америке привлекали к себе его мышцы. Попрошу вас оставить ваши восторги! — огрызнулся Вельт и, обращаясь к Матросову, продолжал: — Я сожалею, мистер Тросс, или как там вас, Мак-Тросс! Я не смогу передать вам радий-дельта. Мистер Кленов не оставил мне никаких указаний ни о нем, ни о своем изобретении. Этой просьбы вашей я не смогу удовлетворить, но вторую вашу просьбу… — Вельт впился ненавидящим взглядом в Матросова, который спокойно пододвинул к себе стул и уселся, — но вторую вашу просьбу я выполню. — Что вы имеете в виду, мистер Вельт? — Я выполню ваше желание стать хозяином замка и остаться здесь до своих последних дней. Вы никуда отсюда не уйдете! — Вы хотите сказать, что я стал вашим пленником? Об этом немедленно будет поставлена в известность вся мировая общественность. — Что вы пугаете меня своей общественностью? Я окружен надежной защитой межнациональных войск, заинтересованных в моей охране. А вы в моей власти… сэр, — добавил он язвительно. Матросов поднялся. — Назад! — крикнул Вельт, отодвигаясь. — Ганс, взять его! Ганс крякнул и направился к Матросову. Матросов стоял и обдумывал, как должен он поступить. В кармане его лежал радий-дельта, нужный для спасения людей. Вельт купил командование, датчане арестованы. Лучше всего подчиниться. Позже можно будет дать о себе знать. Вдруг тяжелый кулак Ганса ударил его по голове. Это было подобно удару кувалды. В глазах у Матросова помутилось, инстинктивно он ухватился за спинку стула. Ганс закачался, превратился в двух Гансов, полез куда-то под потолок. — Ну? — грозно ухнул Ганс. Ярость затмила боль. Матросов почувствовал, что теряет над собой власть. Увидев снова приближающийся кулак Ганса, он инстинктивно отклонился. В тот же момент стул мелькнул в воздухе и обрушился на Ганса. Ганс тяжело грохнулся на пол. Обломки стула рассыпались по паркету. Матросов стоял, держа в руках револьвер. Раздался пронзительный визг Иоланды. Вельт крепко держал ее обеими руками. — Не смейте стрелять в женщину! — крикнул он, выставляя ее перед собой. — Ганс, хватай же его! Матросов отступил к окну. В дверях стояли солдаты, направив на него автоматические ружья. Матросов бросил револьвер и на мгновение взглянул в окно. Автомобиль, в котором он приехал с датским офицером, стоял во дворе. Ворота открылись, чтобы пропустить датских полицейских под конвоем солдат армии солидарности. Сержант прикуривал у привратника. Сдаться? А если будет обыск? Радий-дельта погибнет. Зачем он только взял его из тайника! Попав в плен, он нашел бы способ сообщить о местонахождении элемента, а теперь… — Я покоряюсь! — сказал Матросов, поднимая руки вверх. И в тот же миг раздался стреляющий звон высаживаемого стекла. В комнату ворвался ветер. Затрепетали листы брошенных на постаменте книг. С высоты второго этажа Матросов прыгнул на землю, как прыгал когда-то с яхты к акулам. В этот миг раздался крик Иоланды и звук второго высаживаемого стекла. Это Ганс прыгнул в окно. Упав на землю, Матросов услышал, как у него в кармане что-то хрустнуло. Пот сразу выступил на лбу от промелькнувшей мысли. Если прибор сломался… Размышлять не было времени. Матросов вскочил на ноги, увидел в нескольких шагах от себя автомобиль. Между ним и автомобилем высилась гигантская фигура Ганса. Расставив ноги и медленно переваливаясь, Ганс приближался к Матросову. Дмитрий наморщил лоб, согнулся и прыгнул навстречу. — Ах ты рваная покрышка! — закричал Ганс и с силой взорвавшейся бомбы ударил Матросова. Вернее, не Матросова, а пустое место. Неизвестно, куда тот исчез, во всяком случае, рука его коснулась подбородка Ганса, отчего огромная седая голова откинулась назад. Нельзя было представить человека, который устоял бы при таком ударе. Но Ганс только улыбнулся. Он любил достойных противников. Тем приятнее будет победа. Но пока Ганс смаковал будущее торжество, Матросов в несколько прыжков оказался у автомобиля. Он вскочил на сиденье и включил мотор. Ганс взревел от ярости. С неожиданной быстротой ринулся он к машине, но автомобиль сорвался с места и почти достиг ворот. Ошарашенный привратник отскочил в сторону. Ганс отстал от автомобиля лишь на два шага. Он упал вперед и ухватился за крыло. Автомобиль поволок его по каменным плитам двора. Из окна высовывался Вельт и что-то кричал. В другом окне виднелась Иоланда. Ветер рвал ее растрепанные волосы. Автомобиль тащил Ганса, но он все же умудрился подняться на ноги. Вот уже близки ворота. Крыло почти задело за них. И вдруг автомобиль остановился… Ганс побагровел, налился кровью. Обеими руками он держался за крыло, а ногой упирался в ворота. Колеса автомобиля вертелись, но машина не двигалась с места. Удивленный Матросов оглянулся и понял все. Мгновенно он дал задний ход, но было уже поздно. Три солдата направили на него автоматы. Матросов выключил мотор и откинулся на сиденье, спокойно смотря на небо. «Нелепая горячность! — подумал он. — Надо было сразу подчиниться, а теперь почти все погибло… Как мог я так опрометчиво поступить? Всю жизнь учился владеть собой — и вот, в решительную минуту…» Ганс скрутил Матросову руки и вывел его из машины. — Здоровы же вы, молодчик! — пробурчал он. — Жаль, что не пришлось с вами встретиться, когда я был помоложе. По двору шел Вельт. Красные пятна выступили на его лице. Солдаты вывели из ворот автомобиль. На серой военной машине проехал Уитсли, вежливо приложив руку к козырьку. Вельт прищурился и сказал Гансу: — Хэлло, убрать всех со двора! Чтобы в замке не осталось ни одного человека. Запереть ворота. Я хочу выполнить свой план без свидетелей. Матросов опустился на массивную каменную плиту и непринужденно рассматривал обветрившуюся серую стену. Молча наблюдал он, как выходили через ворота все слуги Вельта, как ушли солдаты. Последним вышел привратник, Ганс запер ворота. Вернулся он с железным ломом в руках. — Жаль, что мне не удалось с вами подраться!.. — буркнул он. — Я вам еще за яхту должен. — Довольно болтать! — грубо прервал Вельт. — Делайте свое дело! Ганс покорно взялся за лом и, предложив Матросову встать, отвалил тяжелую плиту. Это было под силу, пожалуй, только такому силачу, как Ганс. Иоланда испуганно схватила мужа за руку. Под плитой зияло черное отверстие. — Вот квартира, достойная владельца Ютландского замка! Там кончил жизнь один из них. Теперь кончите вы, мистер Мак-Тросс. Но не беспокойтесь: вам дадут еды и питья, чтобы вы могли «владеть» замком до последних дней мира, сэр. Вы видите, что я обращаюсь к вам, как вы того желали. Вы задохнетесь одновременно со всеми своими земляками и единомышленниками. Матросов сразу повеселел. Это удивило Вольта. Он стал торопить Ганса. Гигант спрыгнул в подземелье. — Босс, здесь по-прежнему валяются человеческие скелеты! Один из них на цепи. — Прежде оба были на цепи. Одну цепь в прошлый раз мы унесли. Ко второй приковать его! Пусть проведет весь остаток своих дней в собственных владениях, в приятной компании! Один из скелетов ведь женский… Надеюсь, это не доставит вам мук ревности? Или я не угадал?.. — Последние слова Вельт прошипел на ухо жене. — Или, может быть, вы бы предпочли, чтобы я заменил тот скелет вашим? Иоланда побледнела и отшатнулась: — Вы безумны, Фред! — О нет, сударыня! Я отлично понимаю ваши христианские побуждения, а также ваши просьбы сохранить жизнь этого атлета, объятия которого так крепки. — Фред, Фред! Вы ошибаетесь! — застонала Иоланда и беспомощно опустилась на плиты двора. Вельт повернулся к ней спиной. Ганс грубо столкнул Матросова в подземелье, потом опустился туда сам. Ветер выл похоронную песню, но не об одном человеке, упрятанном в подземелье. Он пел ее о всех людях Земли, унося воздух на далекий, но неумолимый костер Арениды.Глава IX. ДНИ ВЕТРОВ
Надя, вконец обессиленная, едва взбиралась по склону бархана. Густой, тяжелый ветер был насыщен песком, но воздуха не приносил. Дышать было трудно. Приходилось отворачиваться, сгибаясь в поясе. Надя падала на колени, но вставала и снова шла. С гребня, к которому она стремилась, срывались длинные серые языки. Взмывая вверх, они сливались с низко летящим песчаным облаком, похожим на дым пожара. Облако оседало на землю и на глазах, у Нади осыпалось растущими барханами. Пустыня, которая прежде казалась застывшим в бурю океаном, теперь ожила. Мрачно двинулись песчаные валы, кипя на гребнях серой пеной. Они ползли, грозя засыпать навеки только что воздвигнутые комсомольцами сооружения Аренидстроя. Низкое небо угнетало Надю, давило. Она не помнила, когда видела солнце. Ей уже казалось, что солнце не покажется больше и не будет на земле ни радости, ни надежды… Люди теперь работали в противопесочных масках. Надя не хотела надевать на себя резиновую «морду» и последние дни еле держалась на ногах. Утомление приходило быстро. В ушах гудело, перед глазами плыли… цветные круги. Но надо было работать… Работать, забыв все на свете! Но люди не хотели забывать. Сколько раз слышали Надя и Ксения слова о том, что все это напрасно… Ксения слушала, опустив голову, а Надя спорила, горячилась. Некоторые из их товарищей продолжали твердить: — Вся работа придумана только для того, чтобы отвлечь. Прячут правду… Говорили бы прямо! Смерть, и все. Не хуже мы, чем за границей. Умереть сумеем! — Это же и есть трусость! — возмущалась Надя. Она говорила о сестре, о Марине, которая, рискуя собой, стремится получить в лаборатории радий-дельта, необходимый для залпа. — Глупая ты… Да разве мыслимо без предварительных опытов построить сверхдальнобойные пушки и сразу удачно выстрелить! — И место-то какое выбрали. Ветер житья не дает… Не можем мы больше — сил нет… — Уж если пожить последние дни, так как следует, а не глотать здесь песок. Надя, комсорг, проводила собрания, изгоняла слабых, отправляла их с позором в Москву. Но павших духом становилось все больше. И тут вдруг Ксения, лучшая подруга Нади, Ксения… Конечно, причина была в исчезновении ее дяди Димы. Надя слышала, как Ксения плакала по ночам. Днем она была вялой, неузнаваемой. Надя все же держалась. Она и сегодня говорила о том, что вся страна работает с величайшим напряжением, что бессовестно комсомольцам, которые во все времена шли на самое трудное, падать духом. Она указывала на лучших, которые, не обращая ни на что внимания, продолжали бороться, иной раз делая непосильное. А Ксения сдала, бросила все — сказала, что не может и не хочет жить без дяди Димы и что вообще больше никто жить не будет… А ведь она казалась Наде такой сильной. Ксения ушла на железнодорожную станцию, где толпилось множество обезумевших людей. Они дрались за места в вагонах. Оставшиеся бесцельно бродили между разбросанными, полузанесенными песком машинами. Надя шла к Молнии. Она чувствовала потребность рассказать ему все. Он умный, бесстрашный, он один может остановить начавшуюся панику. И если он сделает это, она… она, может быть, откроет ему что-то очень важное, важное для них обоих. Перебраться через два бархана, чтобы дойти до центрального пункта управления, оказалось для Нади неимоверно трудным. Она отдыхала, сидя на песке, обхватив руками колени. И ей вспомнилась ее первая встреча с полковником Молнией. Это было в тревожные дни, когда было объявлено о начале строительства Аренидстроя, во главе которого был поставлен Молния. Полковник Молния проснулся в то утро, как всегда, за минуту до автоматического включения репродуктора. В ожидании голоса диктора он лежал, закрыв глаза. Сработали автоматы, открывавшие шторы, и солнечные блики упали на стену. Бесшумно открылось окно, заколыхалась занавеска. Молния встал и вытянулся во весь рост, готовясь к утренней гимнастике. Он взглянул на солнечную Москву и всей грудью вдохнул свежий воздух. Однако в это утро ему помешали. Едва только он взялся за гири, раздался звонок. Молния растерянно оглянулся. Во-первых, он был не одет; во-вторых, не все упражнения были закончены; в-третьих, он не мог терять ни одной минуты: на столе, лежала корректура его книги об артиллерии сверхдальнего боя. Молния накинул халат и нажал кнопку на письменном столе. В передней раздался ответный звонок, сигнализировавший, что дверь открыта. Молния стоял перед зеркалом. И вот в этот момент полковник увидел в нем девушку. Это до такой степени поразило Молнию, что он даже забыл выключить электрический кофейник. Надо заметить, что женщина впервые появилась в квартире сурового полковника. — Здравствуйте, — сказала девушка робко. — Здравия желаю! — ответил Молния, стараясь овладеть собой. — Садитесь, прошу вас. Чем обязан? Девушка стояла у стола. Руки ее беспокойно бегали, пока наконец не напали на лист корректуры и не начали его непроизвольно мять. Ни один мускул не дрогнул на лице Молнии. — Я — Надя Садовская, сестра Марины, с которой вы знакомы по работе. Молния наклонил голову, стараясь не показать, что он ничего не понимает. Надя села. — Это никуда не годится, что я так рано к вам пришла! Но я должна была… Нельзя терять ни минуты. Молния согласно кивнул. Что касается его, то он всю жизнь свою расписывал по минутам. И он украдкой взглянул на электрические часы. — Аренидстрой, как объявлено, будет вестись по-армейски. Молния снова кивнул. — Мы узнали, что туда не берут девушек, потому что они невоеннообязанные. Молния снова кивнул. — А кто строил Комсомольск? — вспылила Надя. — Кто осваивал целину? Кто строилБАМ? Кто воевал рядом с мужчинами? Молния встал, Надя вскочила. — Хорошо, — пообещал Молния. — Я разберусь. В армии прекрасно показали себя регулировщицы, связистки, зенитчицы… — И партизанки! — И партизанки, — кивнул Молния. — Вот спасибо! Я знала, что вы такой! Можно вас поцеловать? Нет, нет! Только в щечку. И она чмокнула его в невыбритую щеку. Молния смутился. Он проводил девушку до двери. Потом попытался сесть за корректуру, но правил плохо. Девушки тогда были допущены на Аренидстрой. А теперь… теперь строительство оказалось не под силу… и не только девушкам… Полковник Молния с каждым днем становился все мрачнее. Он понимал, что не заметил чего-то самого главного. Люди теряли веру у него на глазах. Руки опускались не только у некоторых рабочих, терялись командиры. Нудный, изматывающий ветер влиял на психику, отравляя сознание, уничтожал уверенность, внушал страх. Все же большинство рабочих держались крепко. Члены партии и передовые комсомольцы самоотверженно боролись со страшной заразой паники. И все же сломался жесткий график, перед которым всегда преклонялся полковник Молния. С чувством досады и в то же время растерянности смотрел он, как все чаще и чаще срывались сроки отдельных работ, как слабела строгая организация, как рушились его расчеты и планы. Он понимал, что стоит перед угрозой губительной задержки — задержки, которая будет стоить миру сотен тысяч, а может быть, и миллионов людей, погибших от удушья… Выйдя из автомобиля, полковник понуро шел по шуршащему, живущему в непрестанном движении песку. Мимо медленно прополз локомотив, толкая перед собой пескоочиститель. Сзади двигался состав. Вдали сквозь серую пелену виднелись поднимавшиеся к небу железные конструкции. Через песчаную мглу просвечивали звезды электросварок, то потухая, то вспыхивая вновь. Неужели что-то упущено? Организация работ была такой совершенной!.. Ведь пустыня завоевана в небывало короткий срок! Что же теперь вызывает задержку? Что происходит с людьми? Как вселить в них веру в успех? И вдруг Молния подумал: верит ли он сам? Он подумал об этом и увидел перед собой девушку в комбинезоне. Он с трудом узнал ее побледневшее, осунувшееся лицо с запавшими синими глазами, которые так помнил… — Зачем вы еще здесь? — спросил он. — Я не хочу уезжать, как они, — сказала Надя, показывая рукой на станцию, и с надеждой посмотрела на Молнию. — Надо сделать так, чтобы и они верили. Молния усмехнулся: — Верить? Можно верить в то, что пушки будут построены, пусть даже с опозданием. Но как я заставлю людей верить в то, что эти пушки выстрелят? Все знают, что Матросов исчез, радия-дельта нет… — Марина найдет его! — протестующе воскликнула девушка. Полковник пожал плечами: — Марина Сергеевна, насколько мне известно, смогла получить один из изотопов радия-дельта. Изотоп этот, обладая нужными свойствами радия-дельта, к сожалению, неустойчив: он распадается сам собой в короткий срок. Из него нельзя изготовить снаряды для наших пушек. — Значит, вы сами не верите в успех? — почти с ужасом спросила Надя. Молния посмотрел на Надю с теплотой и сожалением. Так смотрят на маленьких детей. — Я всегда был честен с людьми. Народ должен знать правду, какая бы она ни была. Надя взглянула на Молнию, и ей стало тоскливо. Она подумала, что этому сникшему человеку она готова была открыть самую дорогую свою тайну… Надя повернулась и пошла обратно. Думала о том, какая счастливая Марина, она любит Матросова, а она, Надя, так несчастна… Молния провожал глазами уходившую девушку, и ему казалось, что он упускает сейчас что-то очень важное, как упускал все прошлые дни. С тяжелым чувством подошел Молния к одинокой цилиндрической будке, стоявшей посередине строительной площадки Аренидстроя. Необходимость очередного телевизионного разговора с министром угнетала его. В кабинете Василия Климентьевича Сергеева сидел Кленов. Приподнято взволнованный, он говорил: — Я позволю себе заметить, Василий Климентьевич, что, хотя путь, избранный Мариной Сергеевной, сейчас и единственный, нельзя все же переоценить возможные результаты! М-да!.. Я еще и еще раз сочту необходимым указать вам на принципиальную незаменимость радия-дельта. — Так, Иван Алексеевич. К отысканию Матросова мы меры принимаем, но рассчитывать надо на худшее. Поэтому найти заменитель радия-дельта — задача первостепенная. Если вы боитесь применить его для выстрела, то он пригодится для предварительного аккумулирования энергии до тех пор, пока радий-дельта будет найден. — Да, я действительно боюсь… Несомненно, заменители будут нестойкими. Они распадутся от сотрясения выстрела, и вся энергия снарядов-аккумуляторов вырвется наружу. Министр встал и прошелся по кабинету. — Значит, решающий опыт назначен на сегодня? — спросил он. — Да, через полтора часа. Как я уже имел честь вам сказать, я лично приму в нем участие. Это очень опасно и слишком ответственно, поэтому я не могу разрешить Садовской произвести опыт без меня. — Хорошо, профессор. Если вы считаете это необходимым, то поезжайте в лабораторию. — Превосходно! Тогда я осмелюсь откланяться. — Нет, Иван Алексеевич! Вам ведь еще рано. Пойдемте со мной в телевизорную будку. Увидите Молнию. Поговорим. Не все благополучно у него на строительстве. — М-да!.. Ну что же, я с охотой, с удовольствием повидаюсь с полковником Молнией. Весьма уважаемый человек. Сергеев и Кленов прошли маленькую дверь и оказались в крохотной серебристой комнате, стены которой смыкались правильным цилиндром. Посередине стояли два мягких кресла, а перед ними — небольшой пульт. Василий Климентьевич пригласил Кленова сесть и тронул блестящие рычажки. Тотчас же стены засветились, как будто исчезая. За ними начало обрисовываться нечто неясное, постепенно превращающееся в объемное очертание каких-то конструкций, похожих на устремленные в небо фермы разводных мостов. Выл ветер, неслись тучи песка. Профессор Кленов невольно прищурил глаза, улыбнулся сам своей слабости и погладил бороду. В комнате не было ни одной песчинки. На фоне пустыни в запорошенном песком плаще стоял полковник Молния. — Привет, товарищ полковник! — сказал Василий Климентьевич. Профессор церемонно раскланялся. Полковник Молния ответил на приветствие и замолчал. Подождав, Василий Климентьевич спросил: — Как с установкой магнитных полюсов? Молния поднял глаза, встретился со взглядом министра и опустил голову. — Опаздываем, товарищ уполномоченный правительства, — сказал он. — Так. Опаздываете? А вот другие участки наших работ по-иному говорят. Вы вот пройдите-ка в свою телевизорную будку, мы с вами совершим путешествие по нашим заводам. Посмотрим, везде ли такой прорыв, как на вашем участке. Молния повернулся и нашел к цилиндрической будочке. — Так, — сказал Василий Климентьевич и тронул рычажки. Пустыня превратилась в мутную пелену, из которой постепенно возникли контуры прокатного цеха Магнитогорского металлургического комбината. Когда изображение стало объемным и до ощутимого реальным, трудно было поверить, что министр и Кленов находятся не в этом цехе, а за тысячи километров от него. В прокатном цехе стояла цилиндрическая будка точно такого же объема, как и в комнате близ кабинета министра. Сейчас эта будка исчезла, и на месте ее были видны два кресла с сидящими людьми. Мимо кресел, почти задев за ногу Кленова, которую тот непроизвольно отдернул, пронеслась раскаленная болванка и тотчас исчезла во вращающихся валках. Через секунду она выскочила обратно удлиненной змеей и быстро поползла по рольгангам. Еще через мгновение ослепительно засверкал звездный фонтан. Это дисковая пила разрезала прокатанную полосу на несколько частей. К министру и Кленову подошел инженер. В двух шагах от него на круглой площадке стоял полковник Молния в запорошенном плаще. — Слушаю, Василий Климентьевич!.. Привет, товарищ Молния! — сказал инженер. — Строительство ждет проката, — произнес министр. — Прокат для Аренидстроя отправлен по адресу Краматорского завода два часа назад. — На самолетах? — Да. — Так. Спасибо… Видите, товарищ Молния? — спросил министр, пристально глядя на серое лицо Молнии. Тот ничего не ответил. Мог ли он сказать о тех сомнениях, которые одолевают его, начальника строительства? — Хорошо, — сказал министр. — Посмотрим Краматорский завод. Площадка с министром и Кленовым перенеслась в один из цехов Краматорского завода. Молния со своим кусочком пустыни оказался рядом. Мимо площадки медленно двигался стол гигантского строгального станка, на котором можно было бы обработать двухэтажный дом. Вьющаяся стружка толстым пружинящим рукавом волочилась за ним следом. Из-за станка показался старичок, держа в руках трубку и кисет. — Иван Степанович! — окликнул его министр. — А, Василий Климентьевич! — обрадовался старичок мастер. — А я вот, знаете, табачок дома забыл. Ну, прямо беда! Не найдется ли у вас? — Потом он огляделся кругом, посмотрел на министра, на холодное лицо Молнии, на песок под его ногами, что-то сообразил, махнул рукой и засмеялся: — Фу-ты, будь ты неладна! Забылся, право, забылся! — Прокат получили, Иван Степанович? — Прокат-то? Как же, минут сорок как получили. Слыхать, в механический на сборку поступил. — Так, хорошо. Где начальник цеха? — А вот идет… Товарищ начальник, поди-ка сюда! Василий Климентьевич тут. Через минуту министр, Кленов и Молния оказались на площадке Аренидстроя. — Так, теперь вы сообщите нам, товарищ полковник, почему только вы опаздываете? Молния выпрямился: — Товарищ уполномоченный правительства, считаю необходимым довести до вашего сведения… Молния замолчал. — Так, продолжайте, полковник. — На строительстве упадочные настроения, товарищ уполномоченный. Причина этому — неверие в успех. — Что? Как ты сказал? Неверие? — Голос министра стал резким, неприятным. Молния вытянулся и продолжал: — Да, сознание того, что выстрел не обеспечен аккумуляторами, отсутствие радия-дельта, неуспех поисков заменителя — все это приводит многих к выводу о бессмысленности всех наших трудов. — Как? Бессмысленность? — М-да!.. Позвольте, — вмешался Кленов, — вы, кажется, изволили усомниться в возможности залпа из орудий, сооружение которых вы возглавляете? — Я говорю не о себе. Эти мысли постепенно завладевают всеми работниками Аренидстроя… — Всеми ли? — прервал министр, хмуро глядя перед собой. — Значит, неверие, говоришь? Теперь мне понятно, почему у тебя грузовики песком заносит. Все равно, мол, через полгода они уже не понадобятся. Министр ткнул рукой по направлению к колонне забытых автомобилей, наполовину занесенных песком. Молния болезненно сморщился. — Разве в этом теперь дело? — сказал он. — Дайте нам веру, что наш труд небесполезен, и… — Постой, постой, полковник! Ты что же, выполнение правительственного задания особыми условиями оговаривать собираешься? Да ты понимаешь, что ты строишь? Ты понимаешь, что тебе доверила партия и страна? Ты коммунист, военный, всю жизнь секунды за хвост ловил, а строительство проворонил. Почему появились сомнения? О людях ты забыл — вот что! Об их внутреннем мире, о страхе, о горестях. Видно, зачерствел ты, в хронометр превратился! После каждой фразы министр тыкал указательным пальцем в пространство, все время ударяя им о невидимую твердую стенку. Молния стоял вытянувшись. Лицо его почернело, щеки ввалились. Ему хотелось, чтобы ветер занес его песком с головой. Министр некоторое время смотрел на него молча. — Товарищ полковник, сегодня же сдадите строительство своему заместителю. Новый начальник прилетит к вам завтра. Сами займетесь только подготовкой к выстрелу. Все. — И министр отвернулся, обратившись с каким-то вопросом к профессору. Молния попятился назад. Перед ним постепенно появлялась стоящая посередине песчаной площадки будка. — Итак, с вашего позволения, Василий Климентьевич, я еду в лабораторию. Надо рассеять неверие Молнии и ему подобных. Необходимо скорее найти хотя бы заменитель, но, само собой разумеется, это не освобождает нас от розысков радия-дельта. Министр задумчиво смотрел на старика, рисковавшего вместе с молодой девушкой жизнью в опасном эксперименте. — Пробивайтесь в крепость, товарищи, — тихо сказал он, помня, как Марина называет свою лабораторию. — М-да!.. Простите… Недослышал или не понял… — приложил руку к уху профессор. — Поезжайте, поезжайте в лабораторию, Иван Алексеевич! — улыбнулся Василий Климентьевич и проводил профессора до дверей кабинета.Глава Х. ОБОРВАННОЕ ДЫХАНИЕ
Через весь гигантский обновленный город шла широкая магистраль, залитая, словно солнечным светом, оранжевым асфальтом. Синие тротуары красиво обрамляли ее. Облицованные розовым мрамором десятиэтажные дома стройным архитектурным ансамблем уходили вдаль. Между ровными стенами, не чувствуя препятствий, мчался ветер. Струи воздуха, вырываясь из переулков, кружились маленькими смерчами, старательно выметая и без того чисто вымытую мостовую. По тротуару шли Марина и доктор Шварцман. Придерживая левой рукой шляпу, доктор говорил: — Конечно, я не могу усидеть в больнице. Вы только посмотрите вокруг: каждый делает что-нибудь для общего дела. А вы, может быть, думаете, что я могу спокойно сидеть сложа руки? Ничего подобного! Я не могу спокойно смотреть, как вы ищете заменитель, Матросов гоняется за жар-птицей, профессор превратился в чемпиона комплексного бега и носится вскачь, работая за десятерых. Что же, по-вашему, я не найду себе достойного занятия, чтобы принять участие в общей борьбе с гибелью мира? Только на секунду доктор отпустил шляпу, и тотчас она помчалась над синим тротуаром, перескочила на оранжевую мостовую и, не соблюдая правил движения, понеслась вперед, задевая и обгоняя автомобили. Доктор погладил свою блестящую макушку, обрамленную вьющимися короткими волосами, и, глядя вслед улетевшей шляпе, сказал: — Пускай она сгорит теперь на острове Аренида, куда ее доставит ветер. — Как же вы пойдете домой без шляпы? — воскликнула Марина. — А я не пойду, я останусь в лаборатории. Я должен быть при профессоре. — Доктор, что вы! Кто же на это согласится? — Вот это меня нисколько не интересует. Я нашел для себя занятие, и с меня совершенно достаточно того, что правительство согласилось вручить мне заботу о здоровье профессора Кленова. Доктор стал подниматься по лестнице на галерейный тротуар узкого переулочка. Вдали виднелись белые корпуса института и ажурный мостик, переброшенный к нему через улицу. Вскоре они вошли во двор института. Белые стены проглядывали сквозь сетку зелени. На аллее показалась угловатая фигура с растопыренными локтями. Седые волосы развевались по ветру. — А вот и мой профессор Дон-Кихот!.. Здравствуйте, почтеннейший! К вам прибыл ваш верный оруженосец Санчо Панса, чтобы теперь не отходить от вас больше ни на шаг. Профессор был серьезен. — Здравствуйте, почтеннейший. Право, рад вас видеть, но именно сегодня вряд ли вам удается не отойти от меня ни на шаг. — Ничего подобного! Именно сегодня я не отпущу вас ни на минуту. — М-да!.. Может быть, вы избавите меня от необходимости спорить на эту тему? — Профессор, — вмешалась Марина, — а если доктор прав? — Что, Марина Сергеевна, подразумеваете вы под этим, осмелюсь узнать? — Я хочу еще раз просить вас, Иван Алексеевич, позволить мне провести этот опыт одной. — Что? — Профессор вытянул шею и посмотрел по-ястребиному. — Вы, кажется, изволили сойти с ума? Разве вам непонятна опасность, с которой связано проведение задуманного вами опыта? — Я понимаю это. Но, может быть, именно поэтому… одному из нас, то есть вам, лучше не принимать участия в опыте, не подвергать себя опасности, — произнесла Марина, подыскивая слова. Разговаривая, все трое подошли к зданию, где помещалась лаборатория Марины. — Марина Сергеевна, — сказал профессор сухо, — мне не хочется снова возвращаться к спору, на который нами затрачен не один день. Каждый час, осмелюсь напомнить об этом, может стоить тысяч и тысяч человеческих жизней. Веру в успех теряют даже выдающиеся люди. Надо решиться: или опыт провожу я, как мне уже приходилось настаивать, или мы проведем его вместе под моим руководством. — Вот именно вместе! — вмешался доктор. — Мы проведем этот опыт втроем. — То есть как это «втроем»? Не расслышал или не понял? — склонил голову Кленов. — Очень просто, втроем: вы, профессор, ваш ассистент и я, доктор, к вам приставленный. Вы не смеете подвергать себя опасности в моем отсутствии. Профессор в изумлении уставился на доктора. Ветер вытянул в сторону его длинную бороду. Покачав головой, он вошел в вестибюль. Уже давно он понял, что спорить с доктором бесполезно. В коридоре им встретился академик, директор института. Профессор подошел к нему: — Итак, решено, Николай Лаврентьевич: мы с Мариной Сергеевной проведем опыт… — Он пожевал челюстями. — Теперь, Николай Лаврентьевич, вот о чем: направление работы для всех восемнадцати лабораторий мною дано. М-да!.. — Профессор задумчиво погладил бороду. — Если заменитель найдут уже после нас или Матросов привезет радий-дельта, сверхпроводники покрывайте с исключительной тщательностью. М-да!.. Вы уж сами за этим последите. Вот-с… Словом, я полагаю, что наш возможный… м-да… уход с работы не повлияет на ее результаты. Кажется, все. Дайте я вас поцелую, дорогой Николай Лаврентьевич. Продолжайте свои работы! У вас огромная будущность… У самых дверей лаборатории Садовской профессор обнял директора, потом обернулся к доктору: — Исаак Моисеевич, дайте я вас обниму. Вы, может быть, думаете, что я вас не люблю? Ничего подобного! — Виноват, — сказал доктор и оттащил директора в сторону. — Я извиняюсь, товарищ директор, скажите: с этим экспериментом связана смертельная опасность? — Да, — сказал тихо академик. — При неострожности или ошибке грозит смерть, но это единственный шанс. Мы долго не решались на этот опыт, но… — О, теперь я понял все! Я тоже отправляюсь с ними. — Вы? — удивился академик. — Нет, не я, а доктор Шварцман, которого правительство наделило соответствующими полномочиями. — Это невозможно. Доктор посмотрел на академика с сожалением. Около дверей лаборатории собралось много сотрудников. Все они с расстроенными, тревожными лицами наблюдали сцену прощания. Открылась дверь, вышел один из лаборантов. — К опыту все готово, — сказал он. — Итак, Марина Сергеевна, — встрепенулся профессор, — не мешкая… — И я! — воскликнул доктор. Профессор взглянул на него, склонил голову и вздохнул. Марина подбежала к взволнованной научной сотруднице и сунула ей в руку записку. — Дмитрию! — прошептала она. Дверь закрылась за тремя людьми, вносящими свою долю в общую борьбу. Директор молчал, расхаживая по коридору. К нему никто не подходил, так как все знали, что происходит в его душе. По всему институту, из лаборатории в лабораторию, передавали, что опыт начался, и на мгновение остановились работы, замолкли сотрудники; тревожно было на сердце у всех. В лаборатории было тихо. Кленов задумчиво смотрел на согнувшуюся над столом девушку. Доктор молча сидел в стороне. Кленов оглядел лабораторию. Привычная обстановка напомнила другую лабораторию, отделенную несколькими десятилетиями. На лакированной стене отражалась его фигура. Неужели это он, Кленов? Может быть, это его старый учитель профессор Баков или Холмстед? Давно-давно не возникали в сердце старика запретные воспоминания. Подождите… Как это надо подглядывать за летающими деревьями?.. И почему тают в небе облачка? Все погибло тогда: и старый ученый, и она, полная жизни, любви… Виной всему были те же сверхпроводники. По ним пропустили тогда ток выше предельной силы. — Марина Сергеевна, умоляю вас, действуйте осторожно! — Профессор наклонился над Мариной. Вдруг на столе перед девушкой что-то засверкало. Запрыгала на стене нелепо большая тень профессора. — Исаак Моисеевич! — крикнул Кленов. Доктор подбежал к нему. — Хорошо, что вы здесь, почтеннейший! Надо помочь. Будьте добры, возьмите этот сосуд. Берите. Да берите же! Скорей, скорей!.. Доктор бросился к профессору. Старик протягивал доктору желтый сосуд. Шварцман подхватил его левой рукой. Получилось это у него неуклюже. — Вот это настоящая работа! Теперь я чувствую это, — прошептал он. В тот же момент сосуд выскочил из его единственной руки. Раздался звон, потом удар. Профессор пошатнулся и отступил на шаг назад. Марина судорожно ухватилась за стол, медленно опустилась на него и сползла на пол. Черный едкий дым наполнил лабораторию. Грохот пронесся по институту. Жалобно зазвенели стекла. Перепуганные сотрудники вскочили с мест. Академик бежал по коридору. Остановившись около двери, за которой что-то неприятно гудело, он прошептал: — Погибли! Все трое… Из окон лаборатории вырывался черный клубящийся дым. Почти ураганный ветер прибивал его к земле и гнал на деревья. Деревья сгибались, словно под его тяжестью. Серая струя вырвалась на улицу, мела оранжевую мостовую, взлетела до уровня ажурных мостиков, на стены облицованных мрамором домов и наконец помчалась по магистрали, обгоняя поток автомобилей. Скоро дым растворился в воздухе, который летел над гранитной набережной, покидая огромный город. Сплошной волной несся воздух через леса и горы, через всю Европу, вздымая штормовые волны на море, заставляя его воды заползать на берега. Через пустыни гнал он ревущие тучи песка, каких никогда не поднимали самые страшные самумы. Со всех концов Земли шли потоки воздуха через Тихий, ставший теперь штормовым океан к маленькой, незаметной точке, где происходило самое невероятное явление из всех, какие знала когда-либо наша планета. Каждую минуту все новые и новые массы воздуха превращались в пыль. Клокочущие волны бросали этот прах на раскаленные ржаво-желтые скалы, а сами, с шипением отпрянув назад, клубились паром. Море пузырилось и кипело. Грозовые тучи поднимались прямо с волн… А где-то наверху, над этими непроницаемыми тучами пылал воздушный костер. Едва заметная фиолетовая дымка, поднимающаяся с острова, кончалась гигантским факелом кровавого цвета, уходившим в вышину. Земля медленно теряла атмосферу. Ничто теперь не могло остановить этот разрушительный процесс. Гибель людей, культуры, цивилизации была неизбежна. …Ассистент профессора Бернштейна доктор Шерц отбросил в сторону перо, к которому из упрямого своего консерватизма был привержен. Оно воткнулось в подоконник и стало тихо покачиваться. Потом он вскочил и, хрустя пальцами, стал ходить по комнате. — Все, все погибло! — шептал он. — Нет, нельзя больше заниматься работой. Голова не в состоянии вместить в себя эти мысли… Гибель миллиардов человеческих жизней, лесов, зверей… Неужели перестанет существовать этот маленький городок Дармштадт, исчезнет эта вымощенная булыжниками улица, лавка мясника, которую видно в окно? Перестанут существовать эти чистенькие ребятишки, которые, ничего не подозревая, бегают сейчас по улице? Не будет в живых всех этих прохожих, идущих с каким-то испуганно-покорным видом? Но что делать? Что можно предпринять, когда единственный шанс на спасение — это иметь баснословные деньги, которые неоткуда взять скромному ученому! А жить так безумно хочется! Нет, он должен жить, и он сумеет этого добиться! Надо взять себя в руки и продолжать работу. Доктор Шерц зажал ладонями голову и сел к столу. Потом он выдернул из подоконника уже переставшую качаться ручку, попробовал перо пальцем, вздохнул и снова начал писать. За окном, метя улицу, на воздушный костер к острову Аренида неслись тяжелые массы воздуха. Они хлопали окнами, задевали вывески, тащили с собой какие-то бумажки, мелкие предметы. Одна из таких бумажек застряла, зацепившись за крыльцо высокого красного дома с башенками. Проходившая мимо высохшая женщина нагнулась и принялась читать. Лицо ее стало испуганным, она оглянулась боязливо и спрятала бумажку на своей впалой груди. Дома она покажет ее мужу и сыновьям. Значит, есть еще люди, не падающие духом! Ветер метет по улицам Дармштадта, Берлина, Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Токио. Везде один и тот же, ровный, со все возрастающей силой дующий ветер. …Старый японец, что-то шепча, собирал чемоданы. О! Он еще не сдался. Пусть погибнет мир — у него есть средство… Никогда бы не смог на него решиться японец! Но в Японии нет больше японцев! Нет! Не отодвигая наружной рамы, сквозь прорванную бумагу Кадасима глядел на улицу, где неумолимый ветер мел землю. …Все моря бесились штормами и бурями; один фантастический по силе циклон охватил весь земной шар… Панические, злобные в своем бессилии волны ударялись о скалистые берега Англии. На скале стоял дядя Эд. Он с наслаждением вдыхал морские брызги. Дядя Эд знал, что нужно будет сделать, когда дышать станет трудно. На последние деньги дядя Эд купил парусный бот. Он подобрал команду — странную команду из одних только старых моряков, таких же, как и он, морских волков, которые не представляли себе иной могилы, кроме дна океана. В последнюю земную бурю с последним ураганным ветром поплывет бот в последний свой рейс. Дядя Эд, держа в зубах нераскуренную трубку, смотрел вдаль, крепко упершись ногами, чтобы ветер не сдул его со скалы. Поля шляпы отогнулись далеко назад… …На скоростном автомобиле из замка к домику Шютте ехал Ганс. В ушах его еще стояли последние слова Вельта: «Вам я это поручаю, Ганс. Нужно разрушить все их сооружения в зародыше. Событиям нельзя давать двигаться вспять. Возьмите мои эскадрильи, танки, сухопутные броненосцы, мегатерии, газ. Я дам вам добровольцев, которые за акцию спасения готовы будут сровнять с землей все нелепые сооружения в советской пустыне, в прах превратить советские институты, где сидят безумные ученые вроде Кленова. Приговор миру произнесен, и нет у человека, а тем более у коммунистов, права отменять его!» Ганс поежился. Он перестал понимать своего хозяина. Ветер метет пыль по дороге, летят бумажки. Кому-то еще охота писать!.. Куда это исчез Карл? Мать больна, а сыну хоть бы что. Шляется бог весть с кем, говорит речи, которые и слушать-то страшно. Автомобиль остановился, и Ганс вбежал в дом. Навстречу из-за стола поднялись два товарища Карла. У дверей комнаты матери стоял Карл Шютте. Все-таки он пришел! Синеватыми пальцами он перебирал лацканы пиджака. — Ну что? — спросил Ганс. — Очень плохо, отец! — Почему, Карл, почему? — Потому что мы поднялись уже на четыре тысячи двести метров над уровнем моря, — сказал приятель Карла, которого Ганс знал как «красного». — Что вы хотите этим сказать? — сердито обернулся Ганс. — Воздух стал разреженным, как на горе высотой в четыре тысячи двести метров. — Ну и что же? — Для больного человека, отец, это… Ты сам понимаешь… — Карл отвернулся. — Как, уже? Так скоро, Карл? Этого не может быть! Не хватает воздуха? Уже умирает? Задев плечом дверь, Ганс вбежал в комнату. На кровати, провалившись в подушки, лежала женщина. Она тяжело дышала. В комнате было тихо. За окном завывал ветер, уносящий все, что нужно было сейчас этому ослабевшему телу. — Где же кислородные подушки? — закричал Ганс. Карл подошел к отцу: — Разве ты не знаешь, отец, что все производство кислорода находится в руках Концерна спасения! Достать кислород невозможно, потому мать и умирает. Ганс встал на колени и положил свою большую седую голову на тонкую, спадавшую с одеяла руку. Он думал. Вот она не может уже больше дышать. В конце концов, она не так стара. Это жизнь ее состарила. Все заботилась о детях… А он? Неужели он должен вести каких-то разудалых молодцов, платя этим разбойникам акциями спасения за то, что они разрушат сооружения, от которых, быть может, зависит спасение мира? Неужели старый Ганс должен пойти на это? С каждой секундой дыхание больной становилось все чаще и прерывистее. Она заговорила тихо, иногда широко открывая рот и с трудом ловя частицы воздуха: — Ганс, Карльхен… У меня в матраце зашит мешочек… Вы слышите меня? — Да, да, мать! — Это я экономила на хозяйстве, на черный день… Вот теперь, Карльхен… Ты не хочешь брать от господина Вельта эту… акцию, так ты купи на эти деньги… Женщина замолчала. Ганс и Карл посмотрели друг на друга. — Там целых полторы тысячи долларов… целых полто… Больная смолкла. Седой гигант плакал. Полутора тысячи долларов не хватило бы и на ничтожную долю акции спасения… Один из товарищей Карла заглянул в дверь и, обращаясь к стоявшим сзади, сказал: — Товарищи, миллионы часов наших жизней будут обменены на секунды благоденствия владельцев акций спасения! Ценою смерти покупают они свою жизнь. Они уходят в новый мир, унося туда проклятое неравенство капитализма. Мы не придем к ним туда, но перед смертью пошлем им проклятье! Ганс обернулся и удивленно посмотрел на говорившего. Он встал. Потом, спохватившись, обернулся к больной. Она тихо лежала на матраце, в котором были спрятаны ее сбережения на акцию спасения для сына, и уже не дышала. Ганс снова стал на колени и прижался лицом к холодеющей руке. Карл отвернулся к окну. Ганс вскочил, подбежал к этому окну и ударом ноги вышиб раму. Карл вздрогнул. Зазвенели стекла. В комнату ворвался ветер, но он не принес с собой живительного кислорода. На вдавленных подушках лежала первая жертва мировой катастрофы — человек, которому не хватило воздуха! Люди на Земле стали задыхаться и умирать.ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОНЕЦ ВСЕГО
Крепчал космический мороз. Скафандр мертвого человека затянуло льдом. На Земле царила температура межпланетного пространства. Ничто не защищало Землю от потери тепла — ведь на ней не было атмосферы.
Глава I. ПЕПЕЛ ГРЯДУЩЕГО
«Когда на угольной шахте произошел обвал, в дальнем забое находилось всего двое: Гарри и Том. Гарри был крепкий мужчина, способный вынести любые потрясения. Другое дело — откатчик Том. При обвале ему зашибло ногу. Спасся он только потому, что, худенький и маленький, смог забраться под вагонетку, откуда его и извлек Гарри. На двоих у них был лишь скудный завтрак в грубой картонной коробочке, который Гарри купил у входа в шахту. Лампу Гарри сразу же погасил. Мальчику было страшно, но Гарри объяснил, что кислород нужен для дыхания — нельзя его жечь. Том тихо стонал, а Гарри некоторое время сидел, прислушиваясь и раздумывая. Какова причина обвала? Как далеко он идет? Как скоро можно ждать помощи? Гарри был трезвый человек. На скорую помощь он рассчитывать не стал, а положился на собственные силы. Он был старым рабочим и прекрасно знал расположение всех штолен Он подумал, что если он сумеет пробиться в соседнюю штольню, то найдет там много ценного. Во-первых, воду. Потом аварийный запас провизии и, наконец, скафандр с кислородным баллоном. Тогда уже можно будет сообразить, как выбраться наверх. Недолго думая Гарри принялся за работу. Никогда еще не работал он с такой яростью. Несмотря на причитания Тома, он заставил его помогать. Гарри дал ему треть своего завтрака, остальное оставил себе, чтобы не потерять сил. Пневматический молоток был бесполезен. К счастью, под рукой оказалась кирка, которую он всегда брал с собой, так как воздух в эту отдаленную штольню подавался с перебоями, а Гарри дорожил заработком. Теперь, руководствуясь чутьем шахтера, в полной темноте рубил он породу, завалившую выход. Изредка под его киркой вспыхивали искры, которые подчеркивали темноту. Гарри не знал отдыха. Он работал с остервенением, как человек, защищающий свою жизнь. Том уже не стонал. Перестал он и помогать. Гарри не кричал на него больше и работал один. Когда Гарри совершенно изнемог, он позволил себе уснуть. Спал он тревожно, боясь проспать лишнюю минуту. Ведь во сне он не работает, а только зря поглощает драгоценный кислород. Проснувшись от этой мысли, Гарри испуганно схватился за кирку и принялся рубить. Том опять застонал и стал помогать, откатывая в сторону глыбы. Ни Гарри, ни Том не знали, сколько времени они пробыли в темноте, сколько времени продолжалась их нечеловеческая работа. Дышать стало труднее. Может быть, они очень ослабли, истомленные голодом, а может быть, уже иссякал кислород. Особенно чувствовал это Том, который почти все время лежал. Углекислота скоплялась внизу, поэтому Гарри заставил его лечь на груду выброшенной им породы: все равно Том больше работать не мог. В редкие перерывы в работе Гарри прислушивался. Но ни один звук не доносился к заживо погребенным. С проклятиями Гарри снова принимался рубить породу. О нет! Он не так скоро сдастся. Гарри всегда цепко держался за жизнь… Гарри не мог бы сказать, на который день умер Том. Он сам к тому времени уже настолько ослаб, что не мог даже оттащить труп. Ноги не повиновались ему, но руки привычными, размеренными ударами крошили породу. Гарри не нашел в себе даже чувства жалости к умершему мальчику. Он так отупел и так свыкся со смертью, что отнесся к гибели товарища с испугавшим его самого равнодушием. Сам он едва ползал, но руки его не могли остановиться. Он удивлялся, глядя на них. Они словно принадлежали не ему. Откуда бралась в них сила? Струя свежего воздуха в первые мгновения опьянила Гарри. Кругом было все так же темно, но он ясно ощущал эту струйку. Он пил ее как неразбавленное виски и скоро опьянел. Он что-то бормотал, кажется, пел, потом уснул. Проснулся он испуганный, схватился за кирку и стал рубить. Но сила покинула руки. Кирка показалась ему непостижимо тяжелой. Работать его заставила жажда. До сих пор он поддерживал себя каплями влаги из ведра, которое он принес, чтобы умыться здесь же, в забое. Это было чудачеством Гарри, над которым подсмеивались его товарищи. Но он любил выходить из шахты чистым и весело крикнуть «хэлло» хорошенькой Дженни, с которой всегда неизменно встречался у входа. Теперь это чудачество если не спасло жизнь, то продлило ее. Мальчику он давал очень мало воды. Когда Гарри подумал об этом, то на минуту в нем вспыхнуло что-то вроде угрызения совести, но жажда скоро вытеснила все, на несколько минут вернув силы. Пробив себе узкий проход, Гарри с трудом вылез из плена. Тут же он уснул. Спал долго, не боясь израсходовать кислород. Жажда разбудила его. Он не стал возвращаться за лампой и ощупью пошел вперед, мысленно видя перед собой знакомый путь. «Странно, — думал он, — сравнительно небольшой обвал пробит, но в этой штольне так же темно и тихо, будто все погибли». Словно в ответ, под ноги ему попалось что-то мягкое. Ощупав препятствие, Гарри брезгливо отдернул руку от трупа. Страх заставил его ускорить шаги. Он спешил к кладовой. Кладовая оказалась на замке. С яростью отчаяния обессиленный Гарри стал ломать дверь. Снова неведомо откуда берущаяся сила поднимала кирку и обрушивала ее на доски. На пол кладовой Гарри свалился в глубоком обмороке. Придя в себя, он первым делом отыскал запасы воды, но выпить позволил себе лишь несколько глотков. Потом он нашел консервы и съел несколько крошечных кусочков. Гарри был благоразумным человеком. Он хотел жить во что бы то ни стало. Силы понемногу возвращались к нему, а вместе с ними и воспоминание о Томе. Теперь он уже жалел мальчика. Он даже вернулся в свою недавнюю могилу и похоронил разлагающееся тело. Потом зажег лампу и отправился исследовать штольню. Ему попалось несколько трупов. По-видимому, эти люди умерли с голоду или отчаяния. Гарри пожал плечами. Верно, они не знали о кладовой и у них не было такого дикого желания жить, как у него, последнего оставшегося в живых. Выход из штольни был завален. Тут же валялись кирки и два трупа знакомых Гарри рабочих. Он оттащил их подальше и принялся за работу Теперь он работал уже не так бешено, как раньше. Он регулярно отдыхал, нормально ел, берег силы. Но ему не удалось вести счет дням. Он не знал, протекли ли дни, недели или, может быть, даже месяцы, но он понимал, что забыт всеми. Ни одного звука не доносилось до Гарри. Верно, там, наверху, что-то произошло. Может быть, какое-то несчастье обрушилось на всю шахту? Прекратились работы, а оставшихся внизу сочли погибшими? Он не позволял себе опускаться. Он даже брился каждый день. Хорошо, что бритва оказалась у него в кармане. Эта педантичная строгость к себе сохранила в нем бодрость, работоспособность и непрекращающуюся жажду жизни. И вот однажды после удара кирки Гарри услышал свист. Это был первый посторонний звук, который он слышал со времени обвала. Гарри прислушался. Свистело впереди него. Он еще раз ударил киркой. Засвистело сильнее, и он ощутил ветерок. Гарри закричал от радости, вылез из своего прохода и долго исполнял какой-то замысловатый танец. Потом побежал в кладовую и устроил пир: съел целую коробку консервов, выпил единственную бутылку виски, которую берег. Навеселе он вернулся к месту работы. Пролез в проход. Свист по-прежнему слышался, ветерок ощущался. Но вдруг Гарри встревожился: воздух шел не снаружи, а уходил из его штольни. Гарри был осторожный человек. Мало ли с какими неожиданностями можно встретиться в заваленной штольне! Торопливо вернулся в кладовую и извлек скафандр. Он не знал, как им пользоваться, и провел целый день за изучением приложенной инструкции. Гарри был упрям, и в конце концов он освоил это. Облачившись в скафандр и захватив с собой большой запас жидкого кислорода, он снова отправился к месту, где слышал свист. Теперь он был готов к тому, что попадет даже в отравленное место. Кроме того, его скафандр был непроницаем для жары. Пусть даже стоградусная жара или холод обрушатся на него — Гарри в своем скафандре и со своим желанием жить все стерпит. В скафандре работать было трудно, но это, конечно, не остановило Гарри. Так проработал он два дня. Со шлемом на голове он не слышал свиста, не ощущал и ветерка. В кладовую он возвращался, только чтобы поесть и возобновить запасы кислорода. Снимая шлем, он убеждался, что без скафандра ему становилось тяжело дышать, словно воздух был разрежен. «Избаловался кислородом», — подумал он. На третий день Гарри вышел из штольни. С собой он нес небольшой запас провизии и жидкого кислорода. Снимать скафандр он боялся: неизвестно, каким газом наполнены соседние штольни. Он не хотел погибать от удушья. Он поставил себе целью выбраться наружу, затратил на это много месяцев труда и достигнет своего. Ох, и задаст он владельцу шахты, появившись наверху! Пусть Дженни никогда больше не улыбнется ему, если он не устроит грандиозной стачки! А кстати, о Дженни: ему не хотелось бы появиться перед ней небритым. Как только представится случай снять скафандр, он тотчас побреется. Гарри дошел до вертикального ствола шахты. Конечно, подъемник не работал Он стоял внизу; ослабевшие канаты свободно болтались. Гарри покачал шлемом и двинулся к лестнице. Подниматься в скафандре было делом нелегким, но Гарри не рискнул его снять. Слишком дорожил он достигнутыми успехами, чтобы рисковать. Ведь неизвестно, почему заброшена эта шахта. Может быть, все вокруг заполнено удушливым газом! В голову Гарри пришла мысль проверить это. С трудом достал он из кармана скафандра коробок и неуклюжими пальцами в толстых, жиронепроницаемых перчатках попробовал зажечь спичку. Но спичка даже не вспыхнула, как будто вокруг совсем не было воздуха. Снова Гарри покачал шлемом и, укрепив на спине кирку, полез вверх. Лез он несколько часов. Конечно, он не знал, было ли наверху утро или ночь. Его электрический фонарик слабо освещал темные стены шахты и перекладины лестницы. Хорошо, что он не истощил батарейки в своей штольне! Здесь лампа не горела бы. Верно, вверху он еще встретится с завалом. Но Гарри ошибся. Больше он не встретил никаких препятствий и вышел на поверхность земли. То, что он увидел вокруг, испугало его больше, чем даже обвал в его штольне. Недоуменно оглядывался он, не узнавая знакомых мест. Словно сглаженные, то там, то здесь возвышались развалины. Вокруг была пустыня: ни деревца, ни травинки… Голые скалы, кое-где покрытые илом. С содроганием смотрел Гарри перед собой. Была ночь. В небе горели немигающие и удивительно яркие звезды. Они-то и освещали странную местность. Гарри тихо шел по каменистой земле. Взойдя на одну скалу, он увидел перед собой ледяное поле. В изнеможении Гарри сел. Он ничего не понимал. Он хотел уже снять скафандр, но руки не поднимались. Сердце болезненно колотилось. Медленно он оглядывался вокруг. Ужас душил его. Он видел вымершую пустыню. Ни одного живого существа… Что произошло? Где его Дженни? Смутно рождалась мысль о какой-то катастрофе. «Может быть, война? — подумал он. — Но почему же лед? Неужели море замерзло?» Гарри не чувствовал холода через скафандр, но он вдруг понял, что страшный мороз сковал поверхность земли. Гарри подумал, что долгий плен свел его с ума, что это галлюцинация. Тупо смотрел он перед собой. Ни один звук не нарушал полной тишины. Даже там, внизу, Гарри не чувствовал себя одиноким, а здесь… Гарри вскочил и закричал. Закричал дико, не по-человечески. Потом побежал. Он бежал вниз, туда, где простиралась ледяная равнина. Задохнувшись, он упал на скалы и долго лежал, боясь оглянуться. Что случилось? Что произошло? Какой дикий кошмар давит его? Верно, он все еще лежит в своей штольне. Сейчас, сейчас он проснется… Но Гарри не просыпался. Он поднял голову и увидел матово-черное небо. Необычное зрелище заставило его вздрогнуть и подняться на ноги. На этом пустом черном небе, без зари, без рассвета, из-за ледяного поля появился ослепительный край солнца, арядом с ним по-прежнему ярко горели холодные звезды. Кошмар продолжался. Гарри видел, как от его скалы легли темные, геометрически правильные тени. Он видел, как первые лучи солнца коснулись ледяного поля. Оно засветилось драгоценными камнями, засверкало до боли в глазах, и тотчас над ледяным массивом заклубился нежный туман. Гарри ничего не понимал. На его глазах тяжелые льдины без всякого переходного состояния превращались прямо в пар. Яркое, словно вырезанное в черном небе, окруженное косматой огненной короной солнце ползло вверх. Дико выглядело это дневное взлохмаченное светло на мрачном небе. Из-подо льда стала проступать вода. Льдины плавали теперь в клокочущем кипятке. Беспокойно бросались из стороны в сторону бурлящие волны. На поверхности моря вздымались гигантские, наполненные белым паром пузыри. Вверх поднимался густой туман. Гарри понял, что произошло что-то страшное, непостижимое, чего нельзя объяснить. Жутко было подумать, что, может быть, только он один ходит еще по Земле… Ноги Гарри шлепали по лужам воды, которая почти мгновенно высыхала, превращаясь в струйки тумана. Пар клубился над всей поверхностью клокочущего моря. Казалось, что весь океан превращается в гигантское облако. Туман наполнял собой все, окружая Гарри сплошной ватой. Гарри почти ничего не видел. Страх перед одиночеством гнал его куда-то. Вместе с тем он почувствовал голод. Но ведь он не мог есть, не снимая шлема, а сделать это он безотчетно боялся. Теперь до слуха Гарри стали доноситься звуки. Гарри вздрогнул прислушиваясь. До него доносились какие-то взрывы, раскаты артиллерийских залпов. Надежда и страх боролись в Гарри. Неужели война? Но что могло случиться с природой? Или эти звуки тоже проявление чего-то неведомого? В этот момент с треском лопнула скала, на которой недавно стоял Гарри. Гарри отскочил в сторону. Скала лопнула, как холодный стакан, в который налили кипяток. Нет, это не война. Трескается земля. Солнце мгновенно раскаляет камни… Скоро плотный туман непроницаемой пеленой закрыл все вокруг. Гарри бежал к морю. Достигнув берега, он увидел, как вода отступала перед ним. Он бежал, задыхаясь, одержимый дикой мыслью не дать ей уйти. А море отступало все дальше и дальше, словно начался небывалый отлив. Но Гарри понимал, что это испаряется море, превращаясь в туман. Под ноги Гарри попал какой-то предмет, увлекаемый водой. — Лодка, лодка — крикнул Гарри и уцепился за алюминиевый край. Он уселся в лодку и, ухватившись за ее края, сидел, дико озираясь вокруг и не видя ничего, кроме тумана. Гарри не хотел покидать этого осколка человеческой культуры, попавшегося ему. На нем он бежал от грохота разверзающейся под ногами земли, от жуткой, вымершей пустыни… Лодка была алюминиевая, с герметически закрывающимся верхом. Гарри не боялся утонуть. Он лег на дно и зажмурил глаза. Он пролежал так несколько часов, в течение которых отступало море, вырастали материки и обнажались новые острова. Белые хлопья тумана лизали скафандр и маленькую лодку. В тумане теперь чувствовалось движение. Казалось, что он растекается по всей Земле, стараясь заполнить пустоту. Гарри пришел в себя от воя ветра. Это сырым черным ураганом мчался туман. Волны бросали лодочку. Гарри опять захотел жить. Поспешно вычерпал он воду из лодочки, закрыл герметический верх, плотно затянув резиной отверстие, из которого высовывался корпус его скафандра. Скафандр предохранял его от воды. Дикая жажда жизни снова заговорила в Гарри. До его слуха донесся гул и грохот, словно где-то поблизости низвергался водопад. Гул приближался, причиняя ушам физическую боль. Вдруг Гарри увидел перед собой стену воды. Это была не волна. Это скорей походило на сорвавшийся с места горный хребет. На мгновение туман рассеялся. Гарри видел, как с вершины водяной горы летели клочья белой пены, похожие на облака, и смешивались с туманом. Гарри показалось, что сюда мчится другой океан — может быть, из противоположного полушария, стремясь восполнить испарившееся за утро море. В следующий миг вода закрыла Гарри и его лодочку. Долго был Гарри под водой, чувствуя, что вертится, опрокидывается… Мрак окружал его. На мгновение он включил электрический фонарик. Беспомощный зеленоватый лучик протянулся на несколько метров. Гарри ничего не видел. Но он не гасил этот огонек. С любовью он думал теперь о своей кладовой, где можно было так хорошо поесть, выпить, поспать… Лучше бы он и не выбирался на эту проклятую поверхность! Но что же случилось с Землей? Какие страшные потрясения произошли с ней? Зачем он не вернулся в свою штольню, а побежал за этой дурацкой лодкой? Нет, все равно бесполезно! В штольне теперь такой же отравленный воздух, как и вокруг. А может быть, его и совсем нет? Эта страшная мысль вдруг поразила Гарри. Он сразу понял значение свиста и разреженного воздуха в последние дни работы в штольне. Значит, из его штольни исчезал воздух! Но как могла исчезнуть с поверхности Земли вся атмосфера? Меж тем Гарри всплыл наружу. Вероятно, солнце зашло, потому что температура стала резко падать. Гарри заметил это по ледяной коре, покрывшей его скафандр. По мере охлаждения земли ураганный туман, окружавший Гарри, пролился ливнем. Гарри почувствовал, что он снова оказался под водой. Испарившиеся моря падали вниз. Недавно еще залитые морем материки снова превращались в морское дно. Когда через несколько часов измученный, голодный Гарри снова всплыл на поверхность, ливень кончился, прекратился черный ветер. Рассеялся туман. Вблизи виднелся какой-то остров, быстро поднимающийся из воды. Видимо, Гарри с его лодочкой находился над материком, с которого спадала вода. На глазах у Гарри остров превращался в гору. Течение относило лодочку от выраставшего горного хребта. Суша проступала с поражающей быстротой. Гарри, как ребенок, радовался этому. Не отдавая себе ни в чем отчета, он стремился только стать ногами на твердую землю. Беспомощно он старался направить свою лодочку к появляющимся островам, но неумолимое течение несло его дальше. Голод и жажда мучили его все больше и больше. Смутно пытался Гарри представить себе, где он находится. Вероятно, волна давно унесла его из Англии. Что это за горы, исчезающие на горизонте? Альпы? Спадающая вода оставляла в каждой ложбине озеро, мгновенно подергивающееся льдом. Под лодочкой было совсем мелко. Из воды проступали смутные контуры, может быть, скал, а может быть, развалин. Было слишком темно, хотя звезды и светили ярко. Лодочка остановилась. Вода убегала по улицам когда-то существовавшего города. Бесформенные развалины почти не походили на людские строения… Гарри, вконец измученный, освободил себя от лодки и встал ногами на обледеневшую почву. «Вероятно, чертовски холодно!» — подумал он, опускаясь на землю. Силы оставили его. Прежде вера в жизнь воодушевляла его. Казалось, не было испытания, которое сломило бы Гарри, но теперь вид погибшей, опустошенной Земли победил этого последнего человека, который недавно так хотел жить. Гарри беспомощно и равнодушно смотрел перед собой. Он не хотел шевелить ни рукой, ни ногой. Он мог бы покончить все разом, сняв шлем, но он не делал этого. Перед его глазами возвышалась какая-то железная конструкция, сильно покосившаяся набок. «Ах да… Эйфелева башня! — подумал он. — Значит, я в Париже. Как это смешно! При жизни я никак не мог попасть сюда: ее хватало денег… Хотел съездить вместе с Дженни». При жизни! Значит, он считал себя уже мертвым? Да, он был уже мертв. От него ушла вера в жизнь, а с ней вместе и жизнь. Крепчал космический мороз. Скафандр мертвого человека затянуло льдом. На Земле царила температура межпланетных пространств. Ничто не защищало Землю от потери тепла — ведь на ней не было атмосферы. Ничто не нарушало молчания над пятью миллиардами могил последнего поколения несчастной планеты. И снова на черном небе внезапно появился ослепительный солнечный диск. Заклубились вновь рожденные изо льда облака. Над водой не было атмосферы и ее давления. Лед сразу превращался в пар. Едва исчезал лед, вода начинала кипеть. Туман поднялся над морем и, расползаясь по суше, скрыл под собой труп последнего человека Земли…»Глава II. КНИГА ДОКТОРА ШЕРЦА
«В черном небе светила снежно-яркая луна. Безмолвна была ледяная ночь новой, омертвелой Земли. Вдруг без шороха и звука промелькнула по льду тень, за ней другая… Неужели есть еще жизнь на Земле? Странные существа с большой круглой головой и толстыми короткими ногами, неуклюже взобравшись на скалу, остановились около огромной машины, потом скрылись в люке. Через мгновение что-то сверкнуло, и машина беззвучно ринулась вперед. Вероятно, она обладала ракетным двигателем. Из узкой горловины сзади вылетал огонь и черные, падающие на лед газы. Будь на Земле воздух, грохот взрывов наполнил бы все вокруг. Но теперь ничто не нарушало тишины. На лед легла черная дорожка упавших газов, похожих на пролитую жидкость, а где-то вдали поблескивала все уменьшавшаяся звездочка. Машина развивала огромную скорость. Дорога по льду ночного замершего моря была идеально гладкой. За каких-нибудь два часа машина промчалась от Гренландии до бывших берегов Англии. Теперь Британские острова сливались с Европейским материком. Они казались высокими горами. Свет появился внизу машины, и она легко подскочила вверх. Теперь машина летела над Землей, направляясь в гигантскую лощину, бывшую когда-то проливом Ла-Манш. Потом она поднялась еще выше и повернула на восток. Скоро под ней появились развалины города. Машина сделала несколько кругов вокруг покосившейся железной конструкции. Когда-то это было Эйфелевой башней — Она простоит не больше двух дней, — сказал один из сидевших в машине людей. Двое его спутников внимательно смотрели вниз через окна. Скафандры, в которых они выходили на поверхность Земли, лежали на полу. Люди не заметили на Земле ничего особенного и повернули на север. Они не увидели затянутого льдом скафандра бедного Гарри, умершего от мысли, что он один на Земле. Ракетоплан взял курс на Гренландию. Надо было спешить, чтобы достигнуть пещеры раньше, чем начнется утро и время туманов. Экономя горючее, ракетоплан спустился на лед и бесшумно помчался, оставляя за собой едва заметную полоску следа и льнувшие ко льду клубы черного дыма. Когда появился край ослепительного солнца, люди, в последний раз взглянув на черное небо, скрылись в воздушных шлюзах города Вельттауна. Испытание нового ракетоплана было закончено. Он должен был стать могучим оружием в руках властей Вельттауна. Приходилось серьезно заботиться о перспективах продления жизни обитателей Рейлихской пещеры и об их удобствах. В городе ощущался недостаток во многих жизненно необходимых предметах. Например, в пещере никак не рос табак. Все же запасы как табака, так и сжатого сигарного дыма давно уже были израсходованы. Кроме того, люди, не внимая увещеваниям администрации, безрассудно размножались. Воздушный и продовольственный оборот пещеры не был рассчитан на увеличение населения. В то же время было определенно известно, что Мамонтова пещера на бывшем Американском континенте освоена далеко не полностью. Кроме того, там рос табак. В связи с этим обсуждался вопрос о мерах по овладению Мамонтовой пещерой, которая, забыв свою связь с Концерном спасения, объявила себя самостоятельным государством. Ракетопланам при выполнении этих замыслов придавалось большое значение. Но совсем особую роль приобретали ракетопланы в свете осуществления замыслов еще более широких. Имелись в виду походы на восток, где в подземных сооружениях, как недавно удалось установить, укрылись остатки населения коммунистических стран. Уничтожение этих сооружений было завещанием погибшей культуры и цивилизации. Рейлихская пещера срочно вооружалась. Город нового мира, Вельттаун готовился к войне. Он готовился к схватке за «неиспользованные» колонии (имелась в виду Мамонтова пещера), к уничтожению остатков коммунизма где-то на востоке. Генералы Вельттауна горевали, что в условиях подземных пещер-убежищ и атомные и водородные бомбы могут оказаться малоэффективными. Приходилось рассчитывать на рукопашный бой. Десантная армия головорезов, вооруженных автоматами, шпагами и кинжалами, готовилась вылететь на тысяче ракетопланов в поход. Воинственный город Вельттаун жил войной и не мыслил жизни без нее. А там, наверху, мчался черный ураганный туман, принося с собой моря влаги, которые обрушивались на дрожащую Землю, а мертвящий космический холод сковывал льдом остатки не исчезнувших еще океанов. День за днем все больше и больше сравнивались все неровности мрачной, почти умершей планеты…» Василий Климентьевич захлопнул книгу и откинулся на спинку кресла. — Так, — сказал он, рассматривая черную обложку, изображающую ночное небо, а на нем странное, желтое, взлохмаченное солнце с пышной короной протуберанцев, взошедшее над мертвой, скованной льдом Землей. — «Доктор Шерц, „Пепел грядущего“, роман из близкого будущего, литературная премия „Арениды“, учрежденная господином Вельтом». Как видите, друзья мои, перед нами яркий пример буржуазной фантастики. У представителя обреченного мира фантастическая мысль может быть только обреченной — он лишен мечты. Министр встал и заложил руку за борт гимнастерки. На кровати лежала Марина. Лицо ее было бледно; тени под глазами делали их особенно большими. На стуле рядом с кроватью сидел профессор Кленов. Между колен он держал старинную палку с серебряным набалдашником, на который положил подбородок. — Я бы осмелился распространить вашу мысль, Василий Климентьевич, — сказал он. — Обречено все, что, не являясь наукой, претендует на трактовку научных положений или предвидений… М-да!.. — Нет, — возразил министр. — Подлинная научная фантастика способна бросать в умы людей зерна замечательных идей, она может по-настоящему приподнять завесу будущего. Но этого не в состоянии был сделать доктор Шерц, — если не ошибаюсь, ассистент самого профессора Бернштейна. Как автор цитированной книги, он не ушел за пределы мыслей и идей, в окружении которых живет. Даже в будущем мире этот буржуазный ученый не смог обойтись без капиталистических противоречий. Город Вельттаун у него борется за новый передел мира, не забыл еще своей дикой ненависти к коммунизму, даже в новых условиях мечтает о войне с ним. Произведение доктора Шерца сейчас самое популярное в капиталистическом мире, оно вышло на всех языках невиданным тиражом. Для забавы я принес это вам, Марина. Министр положил книжку в красивом переплете на стол. Кленов встал, опираясь на палку, и стал перелистывать книгу. — М-да!.. Научная фантастика… Не вижу смысла в распространении подобных изданий. Где тут зерна идей, о которых вы изволили упомянуть? Какой-то ураганный туман… Испаряющиеся моря. Бред! М-да!.. Позвольте, однако… Испаряющиеся моря… Пожалуй, это стоит обдумать. Министр смотрел на профессора, улыбаясь. — Какие страшные картины будущего мира нарисовал Шерц!.. Мне жаль этого Гарри! — задумчиво сказала Марина. — К сожалению, автор грешит в основных предпосылках. Все это не так правдоподобно, как может показаться. Ведь для полного исчезновения атмосферы с Земли нужно, чтобы происходящая на острове Аренида химическая реакция соединения азота с кислородом имела ту же пропорцию, что и соотношение этих газов в воздухе. А ведь это далеко не так. Миру грозит гибель не от исчезновения атмосферы, а из-за потери кислорода, необходимого для дыхания. Следовательно, доктор Шерц оперирует с неправдоподобным положением, и книга его поэтому не отвечает моим основным требованиям к научной фантастике и, в конечном итоге, бесполезна… Стоявший в глубоком раздумье профессор вдруг оживился: — Позвольте… М-да! Позвольте! Я только что сам был склонен отрицать значение этого жанра литературы, но некоторые мысли, высказанные в этой книге, натолкнули меня на интересную и крайне полезную идею… Значит, книга уж и не так бесполезна. Министр улыбнулся. — Что же заставило вас, уважаемый мой профессор, столь непоследовательно изменить ваши взгляды? Профессор поднял вверх палец. — Прекрасная идея, Василий Климентьевич! Она поможет нам уничтожить очаг воздушного пожара. Это напомнило мне нечто из моих прежних опытов. Я даже готов нейти на некоторое изменение нашего плана расстрела из орудий острова Аренида. Министр нахмурился: — Профессор, я напоминаю вам, что какие-либо изменения… Остров должен быть взорван! — Нет, нет, Василий Климентьевич, я позволю себе заверить вас… Все остается по-прежнему. Снаряды будут посланы в остров Аренида, но… Одну минуточку… Кленов сел и стал что-то писать на полях книги доктора Шерца. Он вынул из кармана очки, счетную электронную машинку и углубился в вычисления. Министр усмехнулся, посмотрел на Марину и пожал плечами. Потом он пододвинул к Марине стул и сел на него. — А ведь я приехал проститься! — Как, вы уезжаете? — Еду на площадку Аренидстроя. — Надолго? — До его окончания. Заехал повидаться с вами. Поправляйтесь, принимайтесь снова за работу. Только, пожалуйста, не разбивайте больше сосудов! — Василий Климентьепнч лукаво сощурил глаза. — Это все доктор! — рассмеялась Марина. — Он не удержал чашки в левой руке… А все уж подумали, что произошел взрыв. — М-да!.. — погладил бороду профессор Кленов, отвлекаясь от записей. — Тем не менее началось бурное выделение газа, и я осмелюсь предположить, что мы бы задохнулись, если бы Василий Клименьтевич не оказался в институте и не открыл дверь. — Не велика заслуга — открыть дверь, товарищи. Итак, последним опытом вы пробили брешь. Теперь лаборатории уже заканчивают работу над заменителем. Марина встанет, будет подготовлять аккумуляторы к зарядке. Прощайте, мне уже пора. — Как жаль!.. Ну, мы к вам приедем. — Непременно. Я вас вызову, как только буду готов к приему аккумуляторов. До свидания, Иван Алексеевич! — А? Что? М-да!.. Одну минуточку… Вы куда, Василий Климентьевич? — оторвался от вычислений Кленов. — Уезжаю на Аренидстрой. — На Аренидстрой! М-да!.. Ну что же, это хорошо! Министр пожал профессору руку и неторопливой тяжеловатой походкой пошел к выходу. В дверях обернулся и спросил: — Когда вы сообщите мне, Иван Алексеевич, результат ваших вычислений? — Ах да… М-да!.. Не извольте беспокоиться. Кажется, все получается. Я еще раз проверю. Приеду к вам еще сегодня со специальным докладом… Превосходную мысль подсказал мне доктор Шерц! Теперь уж воздушный пожар погаснет непременно. — Хорошо, я жду вас. Сергеев ушел. Голова Марины упала на подушку. — Ушел… Ни-че-го не сказал!.. Значит, нового нет. — И Марина печально посмотрела на маленький костяной самолетик, подвешенный к потолку над ее кроватью. Кленов засопел и склонился над книгой, на страницах которой делал заметки. Молчание длилось долго. — Иван Алексеевич, что же вы придумали? — Секрет, сударыня моя! Извольте сначала поправиться, на работу выйти… М-да-с!.. Я тоже распрощаюсь с вами. — Не скажете? — Ни в коем случае! Я поеду сейчас и проверю себя. — Я буду мучиться… — До свидания, до свидания, Марина Сергеевна! — бормотал Кленов, поглощенный своими мыслями. — Спешу. Жаль, что Василий Климентьевич уезжает!.. Хотя, впрочем, это хорошо. Теперь дело в пустыне пойдет, а то там начались некоторые затруднения. М-да!.. Василий Климентьевич все может. Итак, поправляйтесь, моя дорогая! А насчет нового плана я вам еще сегодня позвоню… Книжечку Шерца я уж возьму у вас, а то у меня здесь кое-что записано. Прощайте, дорогая! Горбясь и прихрамывая, профессор вышел на крыльцо. Яростный ветер рванул полу его пальто. Действительность, страшная сверхъестественная действительность налетела на него, растрепала его бороду, заставила зажмурить глаза. По ветру неслись какие-то бумажки. На противоположной стороне улицы оборвалась вывеска: «Детская консультация». Какие-то люди старались укрепить ее. Ветер мешал их работе. Прохожие пробирались вдоль стен, используя каждое прикрытие. Через улицу были протянуты канаты. Переходя мостовую, люди держались за них. По знаку светофора канаты опускались, и через них переезжали машины. Окружающая обстановка вернула профессора Кленова к действительности, в которую он с трудом заставлял себя верить. Когда он разговаривал с людьми, бывал в своей комнате, обедал, спал, ему не хотелось верить в грядущую гибель человечества. Как ученый, он боролся с катастрофой, отдавая этому делу все силы, но в глубине души не мог: Книга Шерца взволновала его. — М-да!.. Однако это так. Исчезнет кислород… Правда, не вся атмосфера, как в книге доктора Шерца, но все равно жизнь на Земле прекратится… — Профессор поежился. Шофер оглянулся, думая, что Кленов обращается к нему. Профессор замолчал, сердито уткнувшись в воротник. Он думал о «Пепле грядущего»… «Разве может прекратиться жизнь на Земле? Не этого ли боялся всю жизнь профессор Вонельк? Может ли людской разум уничтожить сам себя? Главное, чего не знал и не понимал профессор Вонельк и что уяснил его старый преемник, — это то, что в мире действует не только злая воля ничтожной части людей, но и коллективный разум человечества. М-да!.. Мировая катастрофа, якобы угрожавшая и существованию цивилизации и самой жизни на Земле, годами висела над людьми. Ядерная война, неизбежные якобы взрывы атомных и водородных бомб, губительная смертоносная радиация рассеянного после взрыва в атмосфере изотопа кобальта — все это должно было окончательно убить в людях веру в будущее. И многие люди действительно теряли голову, как готов был ее потерять в свое время профессор Вонельк. Но лучшая часть человечества, о которой он забывал, которую не брал в расчет, — эта часть человечества поняла, что мировая катастрофа, если она грянет, может привести лишь к гибели строя, ее породившего, а не всех живущих на Земле. Коллективный разум людей, объединенных борьбой за будущее, помешал разразиться атомной катастрофе. Но разразилась другая, также вызванная стремлением капитализма к войне и истреблению, также грозящая теперь существованию жизни на Земле. Против такой угрозы в закономерном противодействии снова восстал коллективный разум лучшей части человечества. Угроза миру должна быть предотвращена… А если она будет предотвращена, уцелеет ли на Земле то старое, что породило угрозу всему живому, что готовило миру гибель? Простит ли простой человек Земли этому старому его великие преступления? Однако ничто не приходит само собой. Чтобы усмирить пробужденную стихию, надобно напряжение всех людских сил, как на пожаре». — М-да! Пожар заливают водой… Ураганный туман доктора Шерца! — сказал вслух Кленов. — Любопытная мысль, но она нуждается в проверке. Шофер снова недоуменно оглянулся.Глава III. ЗАГАДОЧНАЯ ВОЛНА
В последние месяцы жизни Земли эфир неистовствовал. Радио убеждало, пугало, веселило, рекламировало. Правительства успокаивали, церковь подготовляла несчастных к переходу в лучший мир, отвлекала от каких-либо эксцессов; капитал уговаривал рабочих продолжать работу. На волнах эфира мчались неистовые проповеди, лихорадочные джазы и нудные лекции. Но все-таки это была жизнь! Через эфир чувствовался мир — многоликий, многоголосый, кричащий на всю Вселенную, что он еще жив. Вот почему старый моряк дядя Эд установил на своем боте радио. Носясь вместе с четырьмя такими же, как он сам, старыми морскими волками по волнам, сквозь вой и свист ветра он хотел слышать жизнь, хотел знать, что в вечном океане тонет еще не последний человек. Бот несся без цели, без направления, только ради того, чтобы плыть, — таково было желание старых моряков. Им невмоготу стало на суше, где надо было бессмысленно ждать смерти, не видя ее приближения, не имея возможности бороться с ней. Нет, лучше волны! Дядя Эд с товарищами искал бури, чтобы встретить смерть лицом к лицу, а не ждать ее месяцами. И, распустив белый парус, бот плыл со своей странной седой командой, в буре, в шторме находя покой… Ходить по палубе было трудно даже старым морским волкам. Приходилось цепляться за борта. Но не от качки, конечно! Просто по непонятной причине у всех кружилась голова, а в ушах стоял давящий, нестерпимый звон, заглушавший даже неумолчный вой ветра. Он вползал в голову, сверлил мозг, отдавался в затылке одуряющей болью. Напрасно дядя Эд старался заглушить его, тер руками уши, подходил к старому медному колоколу и звонил тревожно, громко и долго… Шум, растущий, злобный, разрывающий череп, заглушал собой все. Одно лишь средство против нестерпимого шума нашел дядя Эд. Надев наушники, он бесцельно метался по эфиру, как бот его метался по океану. Кто-нибудь из стариков, заглянув в каюту, спрашивал: — Хэлло, старина! Живут ли еще на суше? Дядя Эд умудрялся настраиваться сразу на несколько станций, чтобы в уши ему на разных языках кричал весь мир. Слушая все сразу, дядя Эд весело кричал: — Гей, старина! Придется нам еще поплавать! Пусть не найдется мне на дне океана местечка, если мир еще не живет! Но особенное удовольствие доставляло дяде Эду находить одну странную станцию. Волна ее действовала на него успокаивающе. Поймав ее, он созывал всех своих стариков и, не снимая наушников, под мерный, назойливый звук неизвестной передачи начинал рассказывать свои приключения. Однотонные, мерно следующие друг за другом звуки на короткое время вытесняли собой шум из головы. Забывалось проклятое разрежение воздуха. Но если волна терялась, дядя Эд обрывал свой рассказ. Тогда невыносимый шум с удвоенной силой врывался к нему в уши. Старик судорожно вертел ручки приемника, но волна не возвращалась. — Лево руля! — кричал взбешенный шкипер. Он уже знал, что волна не исчезла бесследно: ее можно найти, стоит лишь порыскать по океану. Старики охотно подчинялись дяде Эду. Не все ли равно, куда плыть, что искать! Лишь бы плавать… Дядя Эд знал, что волна найдется, снова зазвучат спокойные «ти-ти… ти-ти… «Надо только найти прямую геометрическую линию, проходящую через океан. Бот вертелся и рыскал по волнам. Дядя Эд крутил ручку. Так же внезапно, как терялась, волна находилась. Снова слышались мерные, однообразные, успокаивающие «ти-ти-ти… «. И дядя Эд снова принимался за прерванный рассказ. Эту волну слышал не один только дядя Эд. Вот уже сколько дней, как она привлекала своей бессмысленностью и непонятностью одного англичанина. Собственно, какое дело англичанину до этой волны? Но старый агент «Интеллидженс сервис», больше полувека числившийся под № 642, был хорошо вытренирован. Он считал, что все непонятное другим должно быть разгадано именно им. И он позволил, себе не согласиться с мнением своего начальника, который отказался этим заниматься, сославшись на скорый конец мира. Старый сыщик и сам чувствовал приближение всеобщего конца, но он, не раз видевший смерть очень близко, не боялся конца жизни. Лишь конец интриг, петель и паутин международных ситуаций искренне его огорчал. С этим невозможно было примириться. Он не был привязан к жизни и не цеплялся за акции спасения. Но перед тем как уйти из жизни, агент № 642 решил совершить что-нибудь величественное, открыть какую-нибудь необыкновенную тайну. Ему не нужна была слава, он привык оставаться в тени. Такова его профессия И вот, наткнувшись на таинственную волну с ее непонятными «ти-ти-ти», сыщик решил для собственного удовольствия установить цель и источник этой передачи. Он деятельно принялся за разрешение задачи. Надо было сделать засечки, и он отправился в Шотландию, чтобы поймать волну и там. В своей старинной машине «роллс-ройс» сыщик ехал через Лондон. Привычно прищуренным глазом оглядывал он пустынные улицы Лондона. Уже давно правительство распустило парламент, объявило себя чрезвычайным, запретило демонстрации, отменило свободу слова, конфисковало газеты. Словом, стало вести себя так, как, по мнению агента № 642, давно было пора. Стачки не разрешались, страшными мерами каралось прекращение работы, палочными средствами правительство пыталось поддержать расползающуюся жизнь доброй старой Англии. «Образцовая жизнь до конца!» — таков был лозунг чрезвычайного правительства Англии, и он проводился любой ценой. К удивлению своему, в Шотландии сыщик не услышал таинственной передачи. В то же время включенный в телефон его квартиры приемник продолжал передавать все те же «ти-ти-ти». Агент прекрасно слышал эти звуки, вызвав свою квартиру по телефону из Шотландии. «Значит, волна направленная», — решил сыщик. Но кто и для какой цели мог посылать эту бессмысленную волну? Сыщик умел сосредоточивать все свои мысли, все внимание на одном предмете. Его занимала только волна. Он совсем не думал о том, что дышать становится труднее, что пульс у него поднялся до ста пяти, что голова кружится и словно распухла в висках. Все это ощущали миллиарды люден. Ничтожная доля их ждала избавления в подземных городах и мысленно торопила срок окончания их постройки, срок начала новой жизни, а остальные… Остальные смотрели вперед кто с ужасом, кто тупо, кто с сарказмом, кто с надеждой… …Беспомощный, скованный цепью, сидел в глубоком затхлом подземелье Дмитрий Матросов. Тяжелые думы терзали его. Он не мог простить себе прыжка из окна. То, что карманный аппарат сломался при падении, лишило его силы, надежды… Он, обладатель запасов радия-дельта, закопанных сейчас в углу тюрьмы, обладатель средств спасения миллиардов человеческих жизней, сидит здесь, не имея возможности дать о себе знать!.. Второй провал в его жизни!.. Слишком он был самонадеян, верил в свою удачу. Достаточно вспомнить остров Аренида. Как нелепо вел он разговоры с Бернштейном, как мало понимал он этого гениального и гениально заблуждавшегося человека! Нужно было угадать, что он не от мира сего, что он, мечтающий о благе всех людей мира, может прийти к мысли о необходимости спасти их хотя бы ценой собственной жизни! Нельзя было отпускать Бернштейна на остров вдвоем с Гансом. Кто знает, что наговорил маленькому ученому тупой толстяк!.. Что сказал бы дядя Коля!.. А теперь этот «визит» к Вельту, разыгрывание перед ним вернувшегося верного помощника, взывание к совести негодяя, никогда ею не обладавшего, Матросов убеждал Сергеева, что очень хорошо знает Вельта и его слабые места, что сумеет найти с ним общий язык. И «миссия частного лица» пошла прахом!.. Но самым страшным было сознание собственного бессилия. Обладать запасами радия-дельта и не дать об этом знать.. Эта мысль и овладела Дмитрием, овладела настолько, что вытеснила все его терзания. Матросов был человеком действия и, вспомнив все, чему его учили в американской разведшколе, а также все напутствия Кленова, наметил для себя невероятный, казалось бы, неосуществимый план. Но, раз взявшись за него, он уже не переставал трудиться. Дышагь в подземелье было тяжело. Воздух сюда не проникал, он только уходил. И утечка его с каждым часом становилась все ощутимее. Но Дмитрий, проклиная себя, неустанно трудился. Упрямо, в полной темноте, только на ощупь продолжал он начатую работу. Иногда мысли его отвлекались соседями по тюрьме. Два человеческих скелета, один из них женский… Какая драма произошла здесь? Какова была эта женщина, кости которой здесь лежат?.. Вероятно, она была красива. Может быть, походила на Марину или на Иоланду…
И Дмитрий рассмеялся. От смеха стало труднее дышать, закололо в боку. Какое ему дело до этих человеческих костей! Сейчас для него в них существует только одно свойство — не проводить электричество, больше ничего! И нужно работать, работать… «Эх, Маринка! Милая Маринка! Ты-то считала меня непогрешимым…» Зачем могли понадобиться Матросову изоляционные свойства человеческих костей? Какую затеял он работу? В одной из комнат замка сидел Вельт. Появившаяся за последние дни одышка очень раздражала и мучила его. Сообщения, которые он получил о задуманном социалистическими странами плане уничтожения воздушного пожара, выводили его из равновесия. Он вовсе не собирался отказаться от мысли о создании нового мира. И если большевики сооружают какие-то фантастические орудия для расстрела острова Аренида, то у него, Вельта, владельца мировых военных вооружений, найдется средство стереть с лица земли эти самые сооружения. Опять проклятый Кленов путает его планы! Нет, господа, Вельт не позволит природе идти вспять! Он предпримет глубокий рейд своих машин к сердцу Каракумов, куда коммунисты запрятали свои сооружения. Вельт направился к радиопередатчику, чтобы переговорить с генералом Копфом — комендантом Вельттауна. Какая гнусность! Кто постоянно мешает в эфире? Откуда эти непрекращающиеся возмутительные звуки «ти-ти-ти»? Вельт был вне себя от ярости. Он не мог отстраниться от них, словно кто-то нарочно посылал это надоедливое тиканье на его замок. Ти-ти-ти… Над разгадкой этих звуков продолжал ломать голову старый сыщик. Сейчас он бродил близ доков. Сырой, пронизывающий ветер не давал туману опуститься на Темзу. Где-то вдали сквозь мутную пелену проступали башни Тауэра. Зажигались редкие огни. В доках смутно темнели силуэты кораблей, которым некуда и незачем было больше плыть. Сыщик пришел осмотреть нанятую им яхту. Завтра он пересечет на ней море, придерживаясь направления загадочной радиоволны. «Как быстро теперь устаешь! — подумал сыщик. — Голова кружится, в ушах звон. Сказывается разрежение». У одного из пустых строений сыщик заметил одинокую фигуру. Ему послышалось тихое: «Сэр…» Агент подошел к дощатой стене… Он пристально вглядывался. Кажется, это ребенок. Без карманного фонаря плохо видно. Может быть, следует достать фонарь. Но слабость и апатия сковали тело сыщика. — Сэр, у меня умер мой маленький братик… Его не хотели пустить туда, хотя у меня и был для него билет… — Какой билет? — устало спросил агент. Девочка тяжело дышала. — Такой… золотой, с черными разводами… Агент непонимающе пожал плечами и наклонился. Рука коснулась чего-то теплого. — Он умер, а я пришла сюда, в доки. Дядя здесь работал сторожем… Ведь братика надо похоронить… — Да, — неопределенно согласился сыщик. — Я не могу дойти домой, и у меня нет денег… — Девочка заплакала и задышала еще чаще. — Право, сэр, мне так трудно дышать… Что-то шевельнулось в сердце сыщика. — Я отвезу вас домой, — устало выговорил он. Девочка перестала плакать. — Пойдемте, — протянул руку сыщик. Но девочка не поднималась. Сыщик не мог больше ждать. Недовольный, он наклонился и одним движением поднял удивительно легкое тельце. Однако нести его было необыкновенно тяжело. Дул сшибающий с ног ветер. Рука, тоненькая и слабая, беспомощно болталась в воздухе. Сыщик не заметил, как слабеющие пальцы ребенка выпустили какую-то бумажку. Ветер тотчас подхватил ее и унес. Сыщик положил девочку на колени, и автомобиль двинулся. Девочка порывисто дышала, иногда слабо вздрагивала. Когда автомобиль проезжал по улице Стрэнд, мимо здания городского суда, девочка перестала дышать. В судорожно сжатом кулачке ее старый сыщик нащупал какой-то мягкий, видимо фланелевый, мешочек. Он был пуст…
Глава IV. СТРАНА ВПОТЬМАХ
Василий Климентьевич Сергеев принял от Молнии строительство батареи сверхдальнего боя в Каракумах, оставил на монтаже орудий только самых нужных специалистов, всех остальных людей он отослал. Пришлось уехать и Наде. В Москве она снова встретилась с Ксенией. Здесь, в большом городе, на людях, мрачное, упадочное состояние, заставившее Ксению бежать из пустыни, прошло. Она обрадовалась подруге, бросилась ей на шею и долго плакала. Ксения рассказала, что о Дмитрии нет никаких вестей. Надя, в свою очередь, поведала все о Молнии. Ксения готова была ополчиться против полковника, но тут выяснилось, что Надя больше всего удручена несчастьем и одиночеством Молнии, который все равно очень хороший… Ксения поняла, что ей лучше всего не вмешиваться. Подруги решили, что они должны чем-то активно помогать стране в эти тяжелые дни. Вечерний, залитый огнями город походил на опрокинутое ночное небо, где звезда самой последней величины горела как первостепенная. Ксения и Надя спешили. Идти было трудно. Ветер нестерпимо давящим грузом упирался в грудь, бил в лицо сплошным, фантастически растянутым, непрекращающимся ударом. Он захлестывал легкие разреженным воздухом, но кислорода все равно не хватало. Говорить из-за ветра не удавалось. Девушки старались соблюдать все инструкции: дышать размеренно, считать до трех на вдох, до трех на выдох… Люди пробирались вдоль освещенных прожекторами стен, держась за натянутые канаты, как на океанских кораблях во время шторма. На улицах было пусто и неприятно тихо. Вдруг завыли сирены. Звук их, низкий и глубокий, выползал, казалось, из-под земли. Злобно подхваченный, заверченный ветром, он с каждой секундой становился все выше и пронзительнее. Наконец, перейдя в истерический визг, он достиг самой высокой ноты. По коже подирало, звук сверлил уши, давил мозг, сжимал сердце… Надя обернулась к подруге и прошептала: — Началось… Ксения не слышала слов, но поняла и согласно кивнула. Вой постепенно спадал, глухо пропадая вдали. Девушки остановились. Они смотрели друг на друга неподвижными расширенными зрачками. Где-то вдалеке завыли новые сирены. — Сюда! — сказала Надя, и они повернули в подъезд. Вестибюль был ярко освещен. На вешалках висело много пальто. Девушки торопливо разделись и мельком взглянули на себя в зеркало. — Этот несносный ветер делает нас всех похожими на косматых ведьм! — сказала Надя, поправляя волосы. По коридору шли молча. Дверь аудитории оказалась приоткрытой. — Нет, доктор еще не пришел, — сказала Ксения. Подруги едва успели войти в аудиторию и сесть около окна, как следом за ними вошел и доктор Шварцман. Осунувшийся, он был непривычно серьезен. Взойдя на кафедру, он оперся о нее рукой и оглядел своих слушателей. — Атмосфера стала разреженной, — начал он. — Людьми овладела горная болезнь… То, что было прежде участью немногих, что прежде интересовало только академических ученых, стало делом всех. Вы, может быть, думаете, что медицина здесь бессильна? Ничего подобного! Для этого и организован новый институт. Он призван сейчас помочь слабым в течение значительного промежутка времени бороться с последствиями перехода в новые условия. Но без вас, товарищи, мы ничего не сможем сделать. Инициатива молодежи, ваша инициатива, товарищи комсомольцы, решает здесь все. Доктор перешел к непосредственному инструктажу о помощи больным, слабым, задыхающимся. Он разложил на столе маски, приборы. — Вы можете видеть… — начал он, указывая на них рукой. В этот момент погас свет. Шварцман замолчал. Молчала и погруженная во тьму аудитория. Ксения быстро отдернула портьеру и взглянула в окно. За окном, где минуту назад виднелось опрокинутое вниз звездное небо городских огней, было тоже темно. Сзади слышался шепот: — Если бы ты знала, Ксения, как я волнуюсь! Так волновались, наверно, только перед Октябрьской революцией. — А по-моему, тогда совсем даже не волновались! — сказала громко Ксения. Голос ее прозвучал как удар в тишине. Невидимая толпа зашуршала. Доктор откашлялся и продолжал: — Вы могли бы увидеть здесь те несложные приборы, которыми следует научить пользоваться наиболее слабую часть населения… Ксения глядела в окно. На стекле отразился слабый отблеск света. Это внесли свечи. Гигантские вытянутые тени прыгали по стенам и потолку. Плохо освещенные лица соседей казались серыми. Только в глазах мелькали колеблющиеся огоньки свечей. При первом звуке сирен инженер прокатного цеха магнитогорского комбината прекратил подачу слитков в печь. Неторопливо отдавая приказания и прислушиваясь к исступленному вою сирен, он наблюдал, как на рольгангах появился последний слиток. Обдав инженера жаром, слиток пробежал около самых его ног и скрылся между вращающимися валками… Несколько раз он с прищелкиванием выскакивал обратно, чтобы снова пропасть в очередном ручье. Минуту спустя дисковая пила, разбрасывая ослепительный веер звезд, разрезала последний слиток на несколько частей. Скоро остановились, казалось, никогда не прекращавшие своего вращения валки. В цехе постепенно стали выключать свет. Рабочие расходились. Инженер подошел к телевизорной будке, где так недавно он разговаривал с министром; мгновение постоял в раздумье и пошел проверять машины. Старичок мастер краматорского завода, едва услышал вой сирен, страшно заторопился Он даже рассыпал табак, пытаясь дрожащими пальцами свернуть самокрутку. Сокрушенно взглянув на рассыпанные крошки, он махнул рукой, сдвинул со лба на нос очки и взял со стола чертежи. Недовольно покачивая головой, он говорил: — Эх, не успел, не успел, а ведь хотел кончить! Еще только два прохода осталось! Мимо него медленно, с несокрушимой силой волоча толстую сталь стружки, двигался гигантский стол его любимого строгального станка, того самого, на котором можно обработать двухэтажный дом. Старик нажал кнопку, и станок остановился. По железной лестнице мастер полез наверх счищать стружки. По мере того как останавливались в цехе машины, доносящийся снаружи вой сирен становился слышнее. Электрический поезд, который вез уголь для Союзной межрайонной электрической станции, остановился всего лишь в нескольких километрах от цели. Выключили ток Машинист посмотрел на часы. — Не так уж плохо: прошли на пять километров больше, чем рассчитывали. Будем ждать паровой тяги. Совсем как в былыевремена. Машинист соскочил в темноту. Сильный ветер доносил издалека гнетущий вой сирен. Придерживая рукой фуражку, машинист стал прогуливаться вдоль поезда. Из тьмы выступали груженные углем платформы. Угольная пыль кружилась в черном воздухе. Ветер шуршал рассыпанным на междупутье балластом. — Да, топлива для этакого дела много понадобится! Послышался протяжный свисток. Прищуря от несносного ветра глаза, машинист увидел надвигающиеся огни паровоза. — Ну, вот и помощь подоспела! Бывший чемпион комплексного бега Зыбко, работающий после окончания строительства Аренидстроя дежурным в центральной диспетчерской Куйбышевской энергосистемы, нажал кнопку автомата. Строго по расписанию выключал промышленные районы. Достаточно было одного ничтожного движения, чтобы остановить тысячи машин, погрузить во тьму десятки городов. Зыбко следил за секундной стрелкой и нажимал кнопки. Из репродуктора послышался голос: — Алло! Товарищ дежурный! Можете включить все резервные агрегаты. Работать на пределе… Ничего в запасе! — Есть на пределе! Есть все резервные агрегаты! — крикнул Зыбко. Защелкали автоматы. Это включались все резервные машины. Загорались сигнальные лампочки, выскакивали цифры нагрузки, дрожали стрелки приборов, сигнализирующие о работе находящихся за сотни километров отсюда машин. Зыбко радостно смотрел перед собой. Еще никогда за все время существования Куйбышевской системы не работали станции с такой нагрузкой! — Алло! Товарищ уполномоченный правительства, говорит главный энергодиспетчер восточных станций. Докладываю: станции работают с предельной нагрузкой. — Есть, — ответил Василий Климентьевич и включил другой номер. — Алло! Товарищ уполномоченный правительства! Докладывает главный энергодиспетчер центра. Все станции включили резервные агрегаты. Перебоев нет. Все в порядке. — Есть, — сказал министр. — Алло! Сообщает главный энергодиспетчер южных районов Нагрузка максимальная, потребление повышается. Промышленность выключена полностью. Все в порядке. Министр поднялся. — Все в порядке! — сказал он, обращаясь к профессору Кленову. — Пойдемте, Иван Алексеевич. Накинув на себя плащи с капюшонами и закрыв глаза очками, Сергеев и профессор Кленов вышли из телевизорной будки. Сразу же их запорошило песком. Их ждал закрытый автомобиль на воздушной подушке. Говорить стало возможно только после того, как захлопнулась дверца. — Так. Ну, теперь я выслушаю вас. Спасибо, профессор, что прилетели, не побоялись урагана. Итак, будете сами руководить установкой аккумуляторов. С покрытием аккумуляторов защитным слоем вы справились хорошо. Объявляю вам благодарность от правительства. Плоды вашей работы налицо. Зарядка аккумуляторов начата по всей стране, только на это и расходуем сейчас энергию. Всех на свечки да на керосин перевели, заводы остановили… Профессор, который полчаса назад прибыл На Аренидстрой, сказал, заметно волнуясь: — М-да!.. Совершенно верно… Считаю необходимым выразить свое восхищение предельной организованностью, каковую повсеместно я встречал и которую ощущаю как отличительнейший признак нашего времен». Это совершенная утопия, осмелюсь вам доложить, когда в течение десяти минут все силовые ресурсы нашей страны переводятся на служение единой цели. — Так. Теперь сообщайте о последних опытах с новым защитным слоем. — М-да!.. — сказал Кленов, навертывая на палец бороду. — Защитный слой без радия-дельта, с заменителем Садовской, найден… Все мои сомнения опрокинуты, имею честь это доложить, но… Сергеев мельком посмотрел на профессора, который, глядя в землю, продолжал: — Может быть, это и старческое упрямство, но не доверяю я заменителю Марины Сергеевны… — Профессор, держа руку у сердца, болезненно поморщился. — Не доверяю… Это ведь не радий-дельта, а только изотоп его. Нестойкий он, Василий Климентьевич, как я уже вам говорил об этом! От сотрясения при выстреле он может распасться… М-да! А результат вам должен быть ясен. Вся энергия мгновенно превратится в тепло! Автомобиль проезжал мимо сооружений Аренидстроя. Они были расположены правильным, исчезающим за горизонтом полукругом. Каждое из них далеко идущим клинообразным забором вдавалось в пустыню. Словно фантастический ледорез, разбивал этот забор струю ураганного песка и вел ее вдоль гладких высоких стен, отводя далеко в сторону. За такими заборами в относительно» спокойствии заканчивалось строительство мощнейших электрических орудий. Странными, устремившимися вверх железнодорожными мостами смотрели в песчаное небо ажурные конструкции. Поблескивали желтизной широкие токопроводящие пути, еще не везде закрытые серыми тяжелыми полукольцами электромагнитов. Глубоко в землю уходили амортизационные устройства, которым надлежало принять на себя удар, по силе не уступающий крупнейшим землетрясениям, — удар, из-за которого батарея строилась в столь пустынном месте. — Итак, Василий Климентьевич, если снаряд, начиненный энергией аккумулятора, покрытого новым защитным слоем, разорвется в стволе или только вылетев из орудия, вся энергия, запасенная нами за долгое время работы электростанций, погибнет. М-да!.. И я осмелюсь выразить сомнение, успеем ли мы вновь восполнить ее. Риск велик, Василий Климентьевич. М-да!.. Очень велик. Энергию погубим, а цели не достигнем… — Так, — сказал министр, откидываясь на спинку сиденья. — Ваши опасения очень серьезны. — Да, они велики, Василий Климентьевич. Все-таки радий-дельта был бы надежней. Он уже испытан… Кстати, какие последние вести о Матросове? — Вы знаете о его исчезновении, об оккупации Дании межнациональными войсками. Мы добиваемся разрешения произвести обыск Ютландского замка. Могу вас заверить, профессор, что все необходимое для спасения мира будет сделано, и если радий-дельта существует, он будет передан в руки наших ученых. Автомобиль остановился перед уходящей вверх эстакадой, вдоль которой прокладывался путь будущего сверхдальнего снаряда. — Все это так, Василий Климентьевич, но все же на сердце у меня неспокойно. Разорвутся наши снаряды сразу после вылета… Нестойкий элемент у Марины Сергеевны… М-да!.. Что же тогда? — Что тогда? — переспросил задумчиво Сергеев. — Тогда пещеры… Профессор нервно пожал плечами и снова схватился за сердце. — Разве это выход? Не лучше ли погибнуть всем, чем спасать какую-то горсточку людей, обреченных на жизнь без прогресса? Министр серьезно, может быть, несколько сурово посмотрел на Кленова: — Вот у нас с вами, Иван Алексеевич, нет детей, а у каждого из нас мог бы быть сын… Кленов низко опустил голову и не видел, какими печальными стали глаза у Василия Климентьевича. Сергеев продолжал: — Вот тогда вы поняли бы, что если не вы, то сын ваш должен жить! — Но жизнь без солнца, без неба — это жизнь в гробу! — Мы бьемся за наше солнце, за наш воздух для всех людей, и мы победим! — решительно сказал министр. Кутаясь в плащи, они вышли из вездехода. Перед ними стоял худой, с провалившимися щеками полковник Молния.Глава V. УДАР ВГЛУБЬ
Вельт наконец опустился в кресло. Он долго ходил по кабинету и теперь, усталый и злой, позвонил. Появился слуга. У него были ввалившиеся щеки, и он дышал так, словно болел астмой. — Позвать ко мне дряхлую скотину. Приехал ли он наконец? Слуга замер в испуге. Кого имел в виду мистер Вельт? — Ганса! Подать сюда этого старого идиота! Слуга попятился. — Мистер Шютте ждал вашего вызова, сэр… — прохрипел он. Вельт встал из-за стола. Видимо, он чувствовал себя скверно, дышал он тяжело, прерывисто. В дверях показался Ганс, сразу загородив их своей фигурой. — Ну? — сказал Вельт, смотря на Ганса из-под сморщенного лба. Кислородная маска глушила его и без того глухой голос. — Да, босс, — ответил Ганс. — Что вы можете мне сообщить? — начал Вельт, раздражаясь. — Что я могу вам сообщить, босс? Вот жена у меня задохнулась… умерла… — произнес Ганс отсутствующим голосом. — Вот как? — И сын меня бросил… Он не захотел иметь со мной ничего общего… Странно было слышать, как дрожал могучий бас гиганта. — Довольно! — прервал Вельт. — Меня мало интересуют ваши семейные дела! — Концерн спасения завладел всем производством кислорода. Никто не мог достать кислородной маски для нее, пока я был с вами… Вот она и умерла… — Хорошо, хорошо! В конце концов это мне надоело! Тем, что вы будете отнимать у меня время на эти причитанья, вы не воскресите разложившийся труп, который уже перестал потреблять столь дефицитный воздух. — Я попрошу вас не говорить о ней в таком тоне, босс! — Но-но! Не злоупотребляйте моим терпением! — После этого сын мой Карл… ушел от меня… — Что же, он избавил вас от необходимости доставать ему акцию спасения! — Перестаньте, босс! Я мог бы отдать ему свою. — Ха-ха-ха! — неприятно рассмеялся Вельт. — Вы думаете, что для того, чтобы попасть в столицу будущего, достаточно иметь на руках акцию спасения? Ганс растерянно посмотрел на капиталиста. — Знайте, что в город Вельттаун попадет только тот, кого я захочу там иметь. Вот, например, прославившийся своим писательством еврей Шерц, заработав на акцию, в новый мир не попадет! — Как? Не все владельцы акций?.. — Ха-ха! Владельцы акций… Они всегда существовали для того, чтобы отдавать акционерному обществу деньги, которыми могли бы распоряжаться по своему усмотрению финансовые магнаты. Ганс что-то промычал, переминаясь с ноги на ногу. Вельт откинулся на спинку кресла. — О, в городе Вельттауне все будет устроено великолепно! Новая эра начинается с самого совершенного искусственного отбора. И этот отбор проведу я! Я создам мир рационализации, доведенный до совершенства. Разработанными мною методами я исключу возможность зарождения вредных идей! Величайшее зло цивилизации — грамотность — будет исключено достижениями науки и техники. В городе Вельттауне будут только радио, фонотеки, тонфильмы… В столице будущего не будет книг! О, когда люди утратят письменность и не будут в состоянии передавать в «многоголосом молчании» свои мысли, когда они будут слушать всегда и везде только то, что будет продиктовано в диктофоны нами, руководителями, владельцами машин, то, дорогой мой Ганс, можете мне поверить, что даже в такой глупой голове, как у вашего сына, не зародятся революционные идеи, а если бы и зародились, то не смогли бы передаться другим поколениям! — Оставьте моего сына в покое, босс! Он честный человек! — Что? Дерзить? Не забывайте, что одного движения моего пальца достаточно… — Я знаю это и многое другое, что говорил мне мой Карл, уходя и проклиная меня… — Хватит! — закричал Вельт, вставая. — Опять сын, внук и еще черт знает кто! Переходим к делу. Готовы ли все мои машины для удара вглубь? Я жду коменданта Вельттауна с минуты на минуту. — Я не принимал и не приму к этому никаких мер. — Что?.. Неповиновение? Отказ выполнить мои приказания?.. — Вы можете меня выгнать, хоть я и служил вам верой и правдой полвека. Но я и пальцем не пошевелю для уничтожения того, что призвано спасти миллионы человеческих жизней, кем бы это ни было построено! — Ах, вот как? — завизжал Вельт. — Это бунт! Вон отсюда, дряхлая свинья! Вельт судорожно дышал, комкая в кулаке кислородную маску. Ганс по-бычьи наклонил голову, посмотрел на хозяина, потом резко повернулся и вышел. Вельт запустил золотым портсигаром в настольные часы. Звук разбитого стекла доставил ему удовольствие. В дверях стоял слуга. — Сэр, осмелюсь доложить: прибыл генерал Копф. — Позвать. В кабинет, гордо закинув седую голову, вошел комендант Вельттауна. — Почему так поздно? — крикнул Вельт. Генерал замер в изумлении от такого приема. — Слушайте мои приказания. Взять все мои машины. Нанести ложный удар по социалистическим странам. Внести панику и переполох, дезорганизовать и так уже, вероятно, панически настроенную страну… Не думаю, чтобы они могли оказать значительное сопротивление. Воспользовавшись сумятицей, вы нанесете удар с воздуха вглубь. Основная задача — снести с лица земли все, что сооружено в пустыне Каракумы, уничтожить так называемый Аренидстрой. Генерал Копф опешил. — Да, мистер Вельт… Но, может быть, вы объясните мне цель этого рейда? Вельт сразу же взорвался: — Вы… Вы… С кем я имею дело? Я нанимал себе военного, а не политика! Не ваше дело рассуждать… Или вы хотите получить отставку второй раз в жизни? Тогда просто сознайтесь, что вы трус! — Что?! Генерал Копф трус? В другое время вы ответили бы за свои слова! Я служу честно и могу выполнить все, что от меня потребуют. Я лишь хотел понять… — Кто служит мне, не спрашивает у меня отчета. Это коммерческая операция. Угодно вам выполнить мои приказания? — Я готов… Каково же назначение этих сооружений? Я, право, не в курсе дела, так как не читаю красных газет. — И хорошо поступаете. Это не ваше дело. Завтра Аренидстрой должен перестать существовать. — Есть! — сказал Копф и, резко повернувшись, звякнул своими бесчисленными орденами. Комендант Вельттауна был быстр и точен. Когда он получал приказ, он знал, как надо его исполнять. Спустя несколько часов через границу быстро двинулись колонны машин мирового военного концерна Вельта. Начался самый дикий и самый бессмысленный военный поход, когда-либо имевший место на Земле. В этом походе не участвовали армии. Двигались одни только машины, призванные защищать коммерческие интересы их владельца. Однако поход этот ожидали совершенно не учтенные владельцем концерна препятствия. Прежде чем дойти до границы коммунистических государств, машинам нужно было пройти целую страну. А там случилось следующее… Сухопутный броненосец шел впереди. Изредка величественно накреняясь на холмах, он двигался напролом через возделанные поля, кудрявые рощи, небольшие деревеньки. Дым, подхваченный ураганным ветром, яростно срывался с его труб. Небо было ясно и холодно. Ни одно облачко не могло удержаться при таком стремительном, непрекращающемся воздушном течении. Следом за броненосцем ползли с нечерепашьей скоростью черные танки-черепахи, неуязвимые для артиллерийских снарядов; за ними шли все новые и новые грохочущие, лязгающие стальные машины, а за каждой тащились длинные черные тени. Казалось странным, что ветер не сдувает эти тени с земли. Если ветер был бессилен против теней, то скоро их стерли сумерки. Однако надвигающаяся темнота не остановила машин. Зажглись волчьи глаза, и тьму прорезали белые полосы щупальцев. Поднимаемая стальными колоннами пыль яростно крутилась в прожигающих темноту лучах. В один из лучей броненосца попал заяц. Он скакал, смешно выбрасывая задние ноги, и никак не мог свернуть в темноту. Луч света гипнотизировал его. Броненосец прибавил ходу. Все ближе, ближе гусеницы к мелькающим заячьим лапам. Миг — и заяц раздавлен. Внутри машины смеялись. Огненные щупальца шарили по полю: не найдется ли еще один зайчик? Но в этот момент перед стальной колонной возникло неожиданное и странное препятствие. В черноте ночи прямо перед броненосцем зажглась надпись. Командир броненосца вздрогнул от неожиданности. Слова были предельно просты и понятны. Кто мог ударить колонны мистера Вельта этой фразой? Огненные слова были видны всей колонне, их мог прочесть каждый человек, сидящий в машине. Броненосец ускорил ход. Он словно врезался в светящуюся в темноте фразу, бросился на нее, как бросается разъяренный кабан на дерево. Но броненосец пронесся через пустое поле, а немного дальше горела уже новая фраза. Ничто не могло уничтожить эти простые, понятные и жгучие слова. Страна, через которую шли машины Вельта, не воевала с ними, но в ней нашлись люди, которые поставили на пути колонны страшное препятствие… Получив шифрованную радиограмму, генерал Копф в ярости порвал ее и немедленно отправился на аэродром. Он понимал, что нужно спешить. Восемьдесят эскадрилий ждали его сигнала. Было удивительно темно. Копф ругался и был предельно зол. Дорогу ему освещали карманным фонарем, и Копфу почему-то казалось, что так освещают себе дорогу бандиты. — Мы только военные, черт возьми! — неожиданно закричал он, заставив подпрыгнуть адъютанта. Наконец комендант Вельттауна увидел командорский корабль. Освещенный только карманными фонариками, самолет казался продырявленным, простреленным в нескольких местах. Копф крякнул и открыл дверцу.Глава VI. КИСЛОРОДНЫЕ БОКАЛЫ
Около водоема в саду Тюильри стоял доктор Шерц. Он молча смотрел перед собой. Ветер толкал его к воде, хлопал полами его пальто, срывал надвинутую на глаза шляпу. Вода в круглом водоеме рябила, на ней вздымались крохотные волны. Там был маленький шторм, и от этого изображение доктора Шерца странным образом искажалось. Лицо внизу нагло смеялось, строило гримасы. Из воды смотрел кто-то, знавший все и издевавшийся над доктором Шерцем. Что? Ты написал страшную книгу, заработал деньги на общем испуге, веря в нерушимость справедливости, но в «мир будущего» тебя не пустили! Ха-ха-ха!.. Лицо доктора Шерца в воде кривилось, выпячивало губы, сжималось, разжималось. Ветер пододвигал Шерца к воде. Он был один… Шерц нагнулся. Изображение пропало, и ему стало видно близкое дно. В воде плавали золотые рыбки. Они присасывались к поверхности открытыми ртами и пускали пузыри. Им тоже не хватает воздуха! Доктор Шерц хрустнул пальцами, повернулся круто и пошел по направлению к площади Согласия. Ветер дул ему в правое плечо. Было странно смотреть на фигуру идущего доктора Шерца. Уравновешивая давление непрекращавшегося ветра, он наклонялся вправо, и казалось сверхъестественным, что он не падает, продолжая идти под таким невозможным углом к земле. Около египетского обелиска Шерц остановился. С педантичностью безразличия он стал его рассматривать. Зачем его привезли сюда?.. Наклоняясь против ветра, Щерц обошел колонну. И вдруг он подумал, что кончится жизнь на Земле, погибнет культура, — может быть, разрушатся все окружающие здания, а этот нелепый обелиск, привезенный по капризу Наполеона, будет стоять. Может быть, на Земле снова появится жизнь. Возродится атмосфера. Выделится откуда-нибудь кислород. Возникнет новое человечество. Появятся ученые, археологи. Что даст им этот кусок камня? Этот бессмысленный вопрос завладел доктором Шерцем. Он даже перестал думать о смерти. Нелепый обелиск показался ему самым ценным памятником человеческой культуры, который обязательно должен быть сохранен навек. Приглядевшись к написанному на камне, доктор Шерц вдруг понял, что перед ним единственный в мире памятник, где выгравирован инженерный чертеж. На сторонах обелиска по чьему-то вдохновенному приказу были высечены все операции перевозки и установки обелиска. Вот что должно быть передано будущему человечеству! Все погибнет, ничего не останется, а этот каменный чертеж расскажет о том, какие существа жили на Земле. Поколение новых людей через сто миллионов лет прочтет этот единственный в мире каменный чертеж. Доктор Шерц сразу успокоился и тихо побрел к пустынной аллее Елисейских полей, по которой дул сшибающий с ног ветер. Вдали виднелась Триумфальная арка. Шерцу захотелось посмотреть, задул ли ветер огонь на могиле Неизвестного солдата. Но ему стало страшно. Ему казалось, что если огонь задут, то нет больше надежды. Борясь с самим собой, он шел по бульвару. Деревья последней весны… Шерц протянул руку и сорвал несколько листочков. Между пальцами попалась нераспустившаяся почка. Шерц разминал клейкий ароматный сок… Неужели огонь погас? Теперь этот вопрос завладел Шерцем. Вот и Триумфальная арка. Она казалась мрачной, нахохлившейся, даже накренившейся от ураганного ветра. Шерц подходил к арке так, чтобы ему не было видно могилы солдата. Долгое время он стоял, прислонившись к холодному камню, защищавшему его от губительного, напоминающего о смерти ветра. Потом, пересилив себя, доктор Шерц вошел под арку. У ног его была простая чугунная плита, где похоронен не известный никому солдат, которого каждый мог считать своим братом, сыном, мужем. Столько лет непрестанно горевший здесь огонь погас… Доктор Шерц, шатаясь, вышел из-под арки. Теперь все погибло. Надежды нет. Он так загадал… Шерц не помнил себя. Сам не зная как, он очутился на мосту Александра III. Перегнувшись через перила, он дико смотрел на беспокойную и грязную воду Сены. На плечо его легла рука. — Мсье, уверяю вас, здесь слишком грязно, чтобы топиться. Шерц вздрогнул и оглянулся. На него смотрели веселые глаза человека с седыми усами. Что-то бесконечно знакомое, где-то виденное напомнило Шерцу это лицо. — Кто вы? — попятился Шерц. — Такой же, как и вы, последний из живущих на Земле! — Незнакомец рассмеялся. — Почему вы смеетесь? — испугался Шерц. Француз взял Шерца под руку: — Пойдемте! Я вам расскажу, почему я смеюсь. Они пошли по набережной. По реке какой-то смельчак катался на парусной лодке. — Смотрите, вот едет француз? А вы спрашиваете, почему я смеюсь. — Может быть, он будет жить? — прошептал Шерц, глотая воздух. Когда он особенно нервничал, дыхание становилось для него мучительным процессом. Нехватку воздуха он начинал чувствовать болезненно. — Нет, мсье! Жить будут те, кто давно уже уложил свои чемоданы и сейчас сидит около кислородных баллонов… Будь они прокляты, говорю я, потому что у меня нет денег, а если бы деньги были, то я бы тоже трясся за каждый глоток кислорода! — А у меня были деньги, но мне не дали акций спасения. — Почему? — Вельт… — прошептал Шерц. — Вы капиталист? — спросил незнакомец. — Нет, я доктор Шерц. — А! — воскликнул француз и рассмеялся. — Дайте вашу руку! Вы мрачно остроумны, а я почему-то представлял вас веселым остряком. — Я не могу шутить перед смертью! — Послушайте! Я уже был в вашем состоянии. Но не потому, что боялся смерти, нет! Я был единственным из всех, который знал об общей гибели. Я был одинок, а это страшно! А теперь я счастлив, мсье Шерц! Я в толпе и весело гляжу вперед. Вот Трокадеро! Здесь веселятся парижане. Смотрите, сколько цветов! Шерц и француз вышли на площадь. С одной стороны она переходила в мост через Сену, ведущий к подножию Эйфелевой башни, с другой — окаймлялась подковообразным ослепительно белым зданием с колоннадой. Через реку и площадь с Эйфелевой башни на это здание спускались гирлянды цветов. Они смешивались с раскинутой над всей площадью сетью, в которую тоже были вплетены цветы. Цветы были повсюду. Они лежали под ногами на прорезиненной мостовой; они украшали каждый столик этого необыкновенного, расползшегося по всей площади кафе; они летели по ветру, попадая в лицо, застревая в волосах… Последняя весна на Земле засыпала цветами последних парижан. Оранжерейное чудо всех времен года! — Мсье Шерц, смотрите! Что может быть лучше цветов! Наивные фиалки, чувственные розы, холодные астры, дурманящие орхидеи, заносчивые гортензии… Их столько же, сколько женских характеров. Женщины потому и любят цветы, что сами похожи на них… Сядем! Площадь была заполнена народом. Даже ураган не мог рассеять людей. Вместе с цветами ветер нес музыку. Разряженные люди в масках плясали между столиками. — Это самый замечательный в мире карнавал, мсье Шерц! Ни один из этих людей ни за что не снимет свою маску. — Потому что она кислородная, — мрачно сказал Шерц. — Правильно, мой друг! Потому что она веселит и удваивает жизнь. Выпьем, друг! Сегодня я вас угощу самым замечательным напитком на Земле, только для этого нам надо будет подняться на Эйфелеву башню! Около столика с бокалом в руке танцевал художник — один из восьмидесяти тысяч, населяющих районы города искусств. На нем была широкополая шляпа, из-под которой лихорадочно блестели живые черные глаза. Но его молодое лицо покрывала мертвенная бледность. Он держал за тонкую талию девушку с платиновыми волосами; она истерически хохотала. У обоих рвались из рук разноцветные шарики. Рядом, притопывая ногой, стоял худенький француз. — Вы посмотрите, мсье Шерц, на этого рантье! До сорока лет он накапливал право не работать и расходовать сорок два франка в день. Сейчас он тратит свой сорок третий франк. Он покупает себе желтенький шарик. Но, конечно, он не будет с ним плясать. Вы видите, он присоединил его к маске и сейчас выдавит! Ведь в нем кислород… Смотрите, он дышит обжигаясь. Он уже пьян. Он кричит, поет… — И плачет… — Да, и плачет. Ему жаль своих сорока лет лишений, которые он расходует сейчас на пьянящее… — Дыхание… — Да-да-да! А вот, смотрите, на соседний столик забрался белобрысый детина! Уверяю вас, это швед! Ветер сдует его со стола или стол сломается… Разве не весело смотреть на все это? Смотрите, как расточительно разбрасывает он деньги! Он покупает кислородные шарики для того, чтобы только раздавить их. Вот это я понимаю! Он молод, и у него никогда не было денег. Ему их давали взаймы. Так у них принято. Если бы он достиг сорока лет, он стал бы отдавать свои деньги, живя в нищете. А теперь ему некому платить долги. Шарики рвались по ветру. Их едва сдерживали. Француз поманил одну из девушек и купил у нее два шарика и цветы. Девушка смеялась. Кажется, она была пьяна. Она наклонилась и поцеловала француза в усы.
— Это бесплатно! — закричала она, смеясь, и убежала, проведя нежной рукой по лицу Шерца. — Да здравствует кислородный карнавал! Пусть безумствуют люди! Полгода назад я смотрел на их веселье и чувствовал себя Мефистофелем. Я знал, что они погибнут, а они не знали. Это ужасно, мсье Шерц, быть человеком, который знает будущее! А теперь… теперь они все знают, что их ждет. Давайте пить! Ах да, я обещал вам замечательный напиток. Он продается на Эйфелевой башне. Поднимемся. Шерц и Бенуа — это был он — встали и, стараясь удержаться на ногах, начали пробираться к мосту. На Эйфелеву башню было страшно смотреть. Казалось невероятным, что она не падает. У доктора Шерца от этого кружилась голова. Они вошли в старинный лифт. — Я люблю этот подъемник, — говорил Бенуа. — В нем чувствуешь, что поднимаешься: есть окна, видишь, как мимо тебя ползут железные конструкции, под ногами разверзается бездна… Шерц вздрогнул и отодвинулся от окна. — Не смотрите так мрачно, мсье Шерц! В жизни есть только одна стоящая сторона — это смех. И если смеются все вокруг, то вместе со всеми смеюсь и я. — Я не могу… — хрипло сказал Шерц. — Определенно, вы думаете о нарисованных в вашей книге картинах! — Я думаю об удушье. — А я — об опьянении! Два раза они пересаживались из одного лифта в другой. Наконец вышли на самом верхнем ярусе. Там было несколько столиков. К каждому стояла очередь. Многие толпились у барьера с бутылками, которые они прихватывали полотенцами. — Это жидкий кислород, мсье! — Жидкий кислород? — Нет ничего пьянительнее! Это изумительное вино, которое пьянит, даже когда его не пьешь! В руках Бенуа уже была бутылка. Вместе с Шерцем он подошел к барьеру. — Держите бокалы, мсье. Мы сейчас будем дышать кислородом на брудершафт! Внизу расстилался город. Он походил на гигантский макет. Не верилось, что все это настоящие здания. Там и здесь проглядывала тончайшая зелень первой в эту весну и последней в мире листвы. Она казалась нежными расплывшимися пятнами на этой объемной карте. — Я пью! — воскликнул Бенуа, поднося к губам кислородный бокал. С наслаждением вдохнул он обжигающий раз. Шерц смотрел вниз. У него кружилась голова. Страшная высота, бездна… По чьей злой воле убрана защитная сетка? Он бросил вниз свой бокал. Блеснула сверкающая точка и пропала из глаз. Бенуа смеялся, глаза его блестели. — На брудершафт! На брудершафт! — кричал он. Вдруг Шерц выпрямился и вскочил на барьер. Ветер захлопал полами его пальто. Бенуа выронил из рук бутылку. Тело доктора Шерца качнулось вперед. Ветер попытался откачнуть его обратно, но было поздно. Бенуа видел, как черный комок, постепенно уменьшаясь, коснулся на мгновение ажурных стальных конструкций, отлетел в сторону и стал опять уменьшаться… Бенуа сполз на колени, уткнулся лицом в барьер и дико, истерически захохотал. На полу лежала шляпа Шерца. Ветер доносил снизу музыку и смех.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЗАЛП
С шипением вырывались из кратеров столбы алебастрового пара и врезались в небо удивительной колоннадой. Ветер крушил, валил эти колонны, но они неуклонно рвались в небо…
Глава I. ДВА СНАРЯДА
Министр одернул гимнастерку и повернулся к профессору. — Так. Резюмирую все сказанное. Они находились в будке центрального поста управления батареями Аренидстроя. Щит автоматики, два экрана, какие-то аппараты стояли у серых стен. — Вы продолжаете утверждать, что защитный слой с заменителем Марины Садовской, которым покрыты все заряженные аккумуляторы, нестоек? — М-да!.. Совершенно верно — Есть опасность, что снаряды, несущие энергию для уничтожения очага пожара, разорвутся, едва вылетев из орудия, благодаря удару, который они воспримут? — Да, таковы мои опасения. Поэтому радий-дельта был бы надежнее полученного Садовской изотопа. — И вы считаете необходимым задержать выстрел до полного выяснения дела с Матросовым и радием-дельта? — Совершенно верно. — Помните ли вы о тех тысячах человеческих жизней, которые может унести каждая минута промедления? — Мне страшно и думать об этом… Но, Василий Климентьевич, если мы все же произведем немедленно залп, то может случиться, что вся накопленная нами с такой изумительной организованностью и таким напряжением энергия пропадет даром, быть может уничтожив и весь Аренидстрой. М-да!.. Мне нет надобности указывать вам на то, что ждет в этом случае человечество… — Так. Сергеев встал и прошелся по комнате, глубоко задумавшись. — Хорошо, — сказал он. — Возражения ваши серьезны и глубоки. Я должен поделиться своими сомнениями, получить совет и указания. Вы извините меня, Иван Алексеевич. — Министр прошел в угол комнаты, где стоял красный аппарат прямой связи с Кремлем. Он говорил долго. Кленов не прислушивался к тихому разговору. Казалось, что усталость бесконечных тревожных дней и бессонных ночей проявилась именно сейчас. Профессор вздрогнул от голоса министра. — Так, — сказал Василий Климентьевич. — Решение следующее. Хотя теперь у нас и есть предположения о местонахождении Матросова, ожидание может стоить многих жертв. Мы произведем два пробных выстрела. Если все будет благополучно, то немедленно же мы произведем и залп; если же нас постигнет неудача, реализуем имеющиеся у нас сведения, чтобы добыть радий-дельта. Покроем новым защитным слоем наши аккумуляторы еще раз, поверх заменителя, который уже дал нам возможность зарядить аккумулятор. Кстати, на пробном выстреле мы проверим прицел наших батарей. — Великолепно, Василий Климентьевич! Это прекраснейшая мысль! Мы действительно убедимся, как следует нам поступить. Тогда ожидать радия-дельта нужно будет только при неудачном исходе эксперимента. Вы превосходно поступили, воспользовавшись прямой связью. — Я сейчас же отдам распоряжение Молнии — он теперь в ранге майора занимается обеспечением артиллерийского залпа — о подготовке выстрела. Мы снабдим снаряд телевизионным передатчиком, чтобы следить за траекторией полета. Сергеев хотел нажать кнопку, чтобы вызвать секретаря, но, раньше, чем он успел это сделать, секретарь появился на пороге сам. — Василий Климентьевич, — сказал он, — на площадку строительства прибыло одно лицо, требующее немедленного свидания с вами или с профессором Кленовым. Сергеев заложил пальцы за борт гимнастерки: — Так. — Я пробовал говорить о вашей занятости, но… его настойчивости нет границ. Это очень пожилой человек, Василий Климентьевич, глубокий старик. — Ну, тогда просите. Стариков надо уважать. Впрочем, могу догадаться, что это господин Кадасима, который, как мне доложили, неистово стремится сюда. Что ж, он всю жизнь мечтал о вооруженном нападении на нас, пусть на склоне лет убедится, к чему это приведет. Зовите его, Николай Степанович, и попросите ко мне немедленно Молнию. — Будет исполнено. Секретарь вышел. Кленов подошел к окну и стал разглядывать гигантскую эстакаду электрической пушки, уходящую в низкое песчаное небо. Сергеев задумчиво остановился около стола. Дверь открылась. — Я должен принести вам, господин уполномоченный по борьбе с катастрофой, свои глубочайшие извинения, — начал вошедший на чистом, но несколько мягком русском языке, церемонно раскланиваясь. — Но обстоятельства необыкновенные привели меня к вам. — Так, — сказал министр. — С кем имею честь? Незнакомец печально посмотрел в сторону Кленова. Кленов внимательно вгляделся в бородатое лицо незнакомца. — Я профессор Кадасима. — Так. Генерал Кадасима. Чем обязан? Кленов испуганно смотрел на японца, который подошел к нему, протягивая руку. — Иван Алексеевич, жизнь привела меня к вам. Никогда я при других обстоятельствах не посмел бы напомнить вам о своей роли в вашем спасении… Вы помните, как устроил я ваш побег из Ютландского замка? Я вырвал вас из рук Вельта… — М-да… М-да!.. — бурчал Кленов. — Если не вспоминать ничего другого, то… м-да, я благодарен вам. Министр с интересом наблюдал за беседой двух стариков. — Иван Алексеевич, я пришел просить вас и господина товарища Сергеева вспомнить эту заслугу — ваше спасение имею я в виду — и удовлетворить мою просьбу. — М-да!.. Право, я в замешательстве… — Какова ваша просьба, господин Кадасима? Старик повернулся к Сергееву: — Вы видите, я пришел сюда как проситель. Я всегда стоял за дружбу с социалистическими странами… Мне известно, что вы построили в пещерах прекрасные убежища. Умоляю вас принять в них мою приемную дочь. Она не должна погибнуть! — Так. Что же, это маленькая девочка? — Нет, уважаемый господин министр, это девушка в цвете сил и красоты. Но она должна жить, господин уполномоченный, она не может погибнуть! Вы должны вспомнить, что именно я вернул вам профессора Кленова… — Мы ценим это, господин Кадасима. Однако боюсь, что удовлетворение вашей просьбы не в моих силах, хотят я и понимаю вас. — Почему? — испуганно спросил Кадасима, опускаясь в кресло. — Я уважаю ваши годы, господин Кадасима, и поэтому я объясняю вам. Наши подземные убежища предназначены только для детей. Для всего же остального человечества мы проводим работы, которые вы видите вокруг. Пещеры на случай неудачи существуют только для детей. Ваша же приемная дочь, к сожалению, уже не ребенок. Поэтому… — Ужас! — простонал Кадасима, закрывая руками лицо. Кленов яростно терзал свою бороду. Кадасима поднял глаза. — Господин уполномоченный, сделайте исключение! Я открою вам ценнейшие сведения, которые известны мне как эксперту о военной продукции концерна Вельта. Я сообщу вам все. Министр еле заметно улыбнулся. — Не трудитесь, господин Кадасима. Мы хорошо осведомлены о достижениях господина Вельта. Повторяю, никто не в силах изменить установки нашего правительства относительно населения пещер. Кадасима повернулся к Кленову: — И вы, вы, Иван Алексеевич, молчите?.. Просите же его, просите! Я умоляю вас! Когда-то я спас в ущелье вашу невесту. Теперь я прошу вас о спасении девушки… Кленов болезненно поморщился: — М-да!.. Право, надейтесь, уважаемый Кадасима… Поверьте, мы уничтожим очаг пожара… — О черствые сердца! — воскликнул Кадасима и стал раскачиваться в кресле. — Знайте же, что Вельт уничтожит все ваши сооружения! Он уничтожит вас, а с вами вместе и мою девочку… На минуту он замолчал, словно задохнувшись. Потом опустил голову, рассматривая свои то сжимающиеся, то разжимающиеся пальцы. — Я получил эти сведения, — добавил он шепотом. — Мы тоже получили их, — сказал спокойно министр. Дверь быстро открылась. Вбежал секретарь: — Василий Климентьевич, сообщение с границы! Четыре волны бомбардировщиков летят над нашей страной. — Уже? Хорошо. Их ждали. Так. Включите, пожалуйста, экраны первой зоны. Министр вышел из-за стола и стал расхаживать по помещению центрального поста. — Василий Климентьевич, осмелюсь вас спросить, что это такое? — взволновался Кленов. — А вот сейчас увидите, Иван Алексеевич. Приглашаю вас смотреть на этот экран. Центральная оборонная диспетчерская уже действует, сюда транслируется изображение. Комната внезапно наполнилась шумом моторов. Воздушные корабли, неровно покачиваясь от ураганного ветра, шли боевым строем. На экране замелькали какие-то цифры. — Ого! Держат курс прямо на Каракумы. К нам в гости хотят пожаловать. — Они уничтожат вас! Все бесполезно… — прошептал Кадасима. — Нет, почему же бесполезно? Очень даже полезно. Это тоже следует рассматривать как некоторый эксперимент для будущего времени. Как вы думаете, Иван Алексеевич? — М-да!.. Я, право, затрудняюсь… В правом нижнем углу экрана появилась большая цифра 1. — Операция номер один, внимание! Вражеские самолеты уже далеко вклинились в нашу территорию. — Почему же их не обстреливают, осмелюсь вас спросить? — Зачем? — пожал плечами министр. Кадасима вскинул на него глаза. — Цифра «один» показывает, что эскадрилья входит сейчас в зону бесцветного, невидимого газа, обладающего неприятным свойством. При засасывании его в цилиндры мотора или в реактивный двигатель исключается возможность вспышки. Мотор задыхается, а боевой самолет мирно спускается на нашу землю, где и вынужден сдаться. Министр говорил спокойно, словно читал лекцию. — Это не поможет! — глухо сказал Кадасима. — М-да!.. Занимательно, занимательно… Как же достигается это, осмелюсь узнать? — Очень просто. При вспышке мгновенно происходит реакция с громадным поглощением тепла. Температура сразу падает. В результате этой реакции в цилиндре образуется порошок, который невозможно удалить. В реактивном двигателе засоряются камера сгорания и дюзы. Моторы отказываются работать. Цифра 1 исчезла. Самолеты продолжали лететь. — Странно! — сказал министр. — Самолеты Вельта потребляют жидкий кислород, они не засасывают воздуха, — произнес Кадасима. — Они неуязвимы. В правом нижнем углу выскочила цифра 2. — Значит, к ним применят операцию номер два, — сказал министр. Комната огласилась страшным грохотом. Кленов вздрогнул. Кадасима поднял глаза. На экране то там, то здесь возникали взрывы. Объятые пламенем, самолеты падали вниз. — Что это? — спросил Кленов. — Это детонирующая ультразвуковая волна. Луч такой направленной волны настигает корабль. Взрывчатые вещества в бомбах корабля в силу детонации взрываются. Результат вам виден. — М-да… виден! — покачал головой Кленов. — Не все, не все взорвались! У Вельта должны быть атомные бомбы. Они не взорвутся от детонации! Кленов посмотрел на Кадасиму, потом на экран. — Конечно, не взорвутся! — сердито сказал он. Министр подошел к аппарату, нажал кнопку и спросил: — Сколько машин прошло две оборонные зоны? — Девять тысяч самолетов приблизительно, — сказал голос из репродуктора. — Девять тысяч! — ужаснулся Кленов. — Они долетят — погибнет все! — сказал Кадасима. — Что вы каркаете?.. М-да!.. Собственно, что вы каркаете? — рассердился Кленов. Кадасима устало посмотрел на него. Самолеты покачивались на экране. — Преодолена половина пути, — нахмурился министр. Самолеты проходили зону зенитных батарей. Все небо между машинами наполнилось черными расплывающимися пятнами. Это были взрывы самонаводящихся снарядов. То и дело падали объятые пламенем самолеты, но остальные стаей саранчи летели дальше. — Достаточно, чтобы долетела только одна сотая часть этих машин, — и все погибло! — сказал Кадасима. Самолеты бомбили зенитные батареи, отвлекали на себя их огонь, а в высоте над ними шли жужжащие тучи черных машин. Вдруг на экране появились движущиеся черные точки. Ракетные торпеды. Торпеды взрывались и около самых машин, в вдали от них. — По-видимому, у врага есть средства и против наших торпед. Он взрывает их на расстоянии. — Конечно, есть… У него все есть! — прошептал японец. Самолеты то и дело падали вниз, но места их тотчас же заполнялись другими. — М-да! Об этом страшно даже подумать. Если бы мы создали Аренидстрой не в такой отдаленной местности, все погибло бы уже, — сказал Кленов. — Мы должны были учесть и эту возможность, — сказал министр. Он был по-прежнему спокоен, но Кленов, привыкший уже к нему, замечал в нем неуловимую перемену. Василий Климентьевич подошел к аппарату вплотную и тихо разговаривал с невидимым собеседником.
— Всего выведено из строя около шести с половиной тысяч вражеских машин, — наконец повернулся он, — Сколько же осталось? — заволновался опять профессор. — Около четырех тысяч. — Это чудовищная цифра! — Истребители! — воскликнул министр радостно. Видимо, он давно уже ждал этого момента. — Наконец-то, наконец-то! — закричал Кленов. — Как они медлили! Навстречу туче бомбардировщиков двигалась стая вертких машин. — Есть еще время. Надо было беречь наши машины. — И людей! — воскликнул Кленов. Министр улыбнулся. — Это радиоистребители, — сказал он. — Что такое? — Это истребители без людей. Человек сидит в своем кабинете на земле, но видит и управляет истребителем, словно находится в воздухе. Сейчас мы проследим за боем самолетов, а, кстати, вы увидите одну знакомую вам фигуру. Министр нажал кнопку. На втором экране возникло изображение комнаты, в которой помещалась модель кабины самолета в натуральную величину, со всеми приборами управления. В комнате было несколько военных. Вдруг они вытянулись и отдали честь. В комнату вкатили кресло на колесах. В нем сидел седой генерал с бритым лицом. На груди его блестели три Золотых Звезды и колодка несчетных правительственных наград. Профессор Кленов радостно улыбнулся и взглянул на министра. Видимо, он сразу узнал этого человека. Человек в кресле был серьезен. Он отдал несколько приказаний. Его подкатили к приборам управления. — Значит… значит, он снова полетит? — взволнованно произнес Кленов. — Снова полетит его истребитель, — сказал министр. Вспыхнули лампочки перед пилотом в кресле. Появилось голубое небо, за стеклами кабины, чье-то заглянувшее в кабину лицо, крыло соседнего самолета… Седой пилот положил руки на рычаги. Несколько молодых военных оживленно зашептались. За окном самолета побежала земля и постройки аэродрома. — Поднялся, — сказал Василий Климентьевич. За стеклами виднелось синее небо и плывущие облака. Но вот в белой дымке показались черные точки. — Вот они! — сказал министр. В то же время на первом экране был виден набирающий высоту истребитель. За окнами кабины появился бомбардировщик. Седой пилот нажал рычаги. Бомбардировщик исчез. На втором экране было видно, как, кувыркаясь, летел он вниз. Истребитель подходил уже к другому. Насколько краток воздушный бой! Зрители не могли уловить, что происходит, хотя наблюдали за боем одновременно с двух точек: из кабины истребителя и со стороны. Еще два бомбардировщика один за другим были сбиты старым, заслуженным пилотом. — Здорово! М-да!.. Это замечательно! — трясся от возбуждения Кленов. Вдруг за окнами кабины что-то блеснуло. — Столкнулся! — сурово сказал пилот. — Себя не пожалел. Кленов видел, как, слившись в один огненный клубок, падали вниз два самолета. Седой пилот покачал головой и, обернувшись к молодым, сказал: — Характерный прием, товарищи. Они прибегают к столкновению как к последнему средству. Вам надо будет учитывать это в своей практике. В следующих теоретических занятиях мы познакомимся с этим подробно. Он нажал рычаг, и за окном его кабины появилось изображение аэродрома. Седой пилот поднимал с земли новый истребитель. Снова за стеклами кабины закачались вражеские самолеты. — Каковы потери врага? — спросил министр. — Не больше полутора тысяч машин продолжают полет. — Но и это чудовищно… чудовищно! — воскликнул Кленов. — Вот они, наши соколы! — закричал возбужденно министр. Кленов впервые видел его таким. — Вот когда начинается настоящее дело! — Что такое? Что такое? — Видите, идет отряд настоящих машин. Это эскадрилья Героев Советского Союза. Верткие красные сверхзвуковые истребители врезались в самую чащу бомбардировщиков. То и дело вниз факелами летели сбитые самолеты. Вот развернулся парашют, один, другой… — И наших сбивают! — сердито сказал Кленов. — Флагман! Смотрите, флагман! — Министр схватил за руку Кленова, указывая ему на черный маленький самолет с белыми крыльями, к которому приближался советский истребитель. — Он погибнет, этот русский пилот! — сказал Кадасима. — Флагман — сам знаменитый Копф. — Летчик-то не погибнет! — ответил министр. — Он по радио управляет. С напряженным вниманием следили все за единоборством двух машин. Радиоистребитель ловким маневром заставил флагмана изменить курс. Он старался подняться выше. Флагман сделал «мертвую петлю» и полетел вверх колесами в противоположную сторону, поливая красный истребитель огнем пулеметов. Истребитель гнался за ним. Но здесь произошла странная вещь. Вся воздушная флотилия повернула за своим флагманом и полетела назад. — Побежали! Побежали! — закричал Кленов. Из репродуктора послышалось: «Враг в составе шестисот машин уходит!» Несколько минут все молчали. Потом голос в репродукторе сказал: «Враг сбрасывает груз бомб на наши города. Есть жертвы». — Гады! — скрипнул зубами министр. На втором экране седого пилота вывезли на середину комнаты. — Товарищи, — сказал он, — сейчас мы с вами подробно разберем сегодняшнюю операцию. Министр многозначительно взглянул на Кленова и выключил второй экран. На первом экране не оставалось больше самолетов: он был пуст. — Бежали! — сказал министр и улыбнулся. — Героев наших не выдержали. Люди страшнее машин оказались. Кадасима встал и, не глядя на министра, подошел к Кленову. — Иван Алексеевич, могу я просить вас об одолжении выйти со мной на улицу лишь на одну минуту… Кленов пожал плечами: — Извольте, я могу. Едва вышли они на воздух, как неприятный песчаный ветер ударил их. Кадасима шел понуро, ни на что не глядя. — Вот, господин Кадасима, осмелюсь обратить ваше внимание. Это должно укрепить в вас надежду. Вот электрическая пушка сверхдальнего боя. Весь ствол ее представляет собой два полюса магнита, между которыми создается сильнейшее магнитное поле. Все получается как в моторе постоянного тока. Через снаряд из наших аккумуляторов пропускается громадной силы электрический ток. Он взаимодействует с магнитным полем. Каждый знает, что магнитное поле не терпит присутствия электрического тока, который искажает его, поэтому оно с колоссальной силой выталкивает снаряд с током прочь. Начальная скорость, обретаемая снарядом, достаточна, чтобы перебросить его через два океана. М-да!.. Позвольте, господин Кадасима… Я осмелюсь выразить опасение, что вы не слушаете меня. — Да, я не слушаю вас, господин Кленов, хотя в другое время я заплатил бы вам за эти сведения немалые деньги. Сейчас у меня с вами иной разговор. Моя ставка проиграна. Как истый японец, я должен уйти из жизни и ждать другого перевоплощения. Но я должен выполнить это согласно всем нашим обычаям. — М-да!.. Хорошо ли я вас понимаю? — Я уничтожен, я не нужен никому… Нет никого, кто внял бы последней моей мольбе. Я должен умереть! — М-да!.. — сказал Кленов и растопырил локти. В этот момент мимо прошел бывший полковник, а ныне майор Молния. Профессор вежливо поздоровался с ним. — Я должен умереть, Иван Алексеевич! Но у нас существуют традиции, которые я не могу переступить! У меня есть в мире только один человек, на дружбу которого осмеливаюсь я рассчитывать. И этот человек вы, Иван Алексеевич. — Я? М-да!.. — удивился Кленов. — Да, вы. Вы единственный человек, который может и должен оказать мне последнюю услугу. — Услугу? М-да!.. Пожалуйста, что могу… Извольте! — О, я знал это! Я не мог сомневаться. Мы связаны кровью, пусть случайно не пролитой, но все же кровью!.. — М-да.!. М-да!.. — сразу рассердился Кленов. Японец выхватил кинжал. Профессор в испуге попятился. — Не бойтесь! Это священный вакасатси. Я ношу его с собой как защиту от всех жизненных невзгод. У японского дворянина из жизни есть только одна дверь, на пороге которой лежит этот кинжал. — М-да!.. Но я не вполне понимаю… — В древней стране Ямато есть священный обычай сеппуку, или харакири… Этим кинжалом японец взрезает себе живот, а друг его, выполняя роль кайтсаки, должен отрубить ему в этот момент голову. Я привез для этого саблю… Иван Алексеевич, об этой дружеской последней услуге я прошу вас! — Что? — в испуге закричал Кленов, отскакивая от японца и хватаясь за сердце. Лицо старого японца исказилось от внутреннего страдания. — Я не могу уйти из жизни иначе. Поэтому я прошу, я умоляю вас, профессор: отрубите мне голову, когда я вспорю себе живот! — М-да!.. Но, позвольте… ведь я же не умею рубить головы… Японец упал на колени и, держа в одной руке кинжал, другой хватался за полы пальто профессора. К ним подошел секретарь министра: — Василий Климентьевич просит вас на испытание, профессор. Сейчас будет произведен эксперимент выстрела. Всем остальным предлагается скрыться за прикрытия. — М-да!.. Я сейчас, сейчас… — растерянно говорил профессор, глядя на распростертого на песке японца. Секретарь остался с хнычущим японцем, а Кленов зашагал прочь. Два раза он сердито обернулся. — Мы ждем вас, — сказал министр, увидев Кленова. — М-да!.. Понимаете, задержался… Какие-то совершенно необыкновенные предложения… Никогда в жизни не слышал ничего подобного! — Руки профессора тряслись. — Товарищ майор! — Есть! — Все ли готово? — Есть все готово. — Ваши координаты? — Триста сорок семь и девятьсот восемьдесят четыре. — Так. Подождите. — Министр полез в карман гимнастерки и вынул маленькую записную книжку. — Я, друзья, на досуге прежде астрономией и математикой занимался. Вот и решил траекторию подсчитать… Подождите, посмотрю, что у меня получилось. Так… Молния удивленно смотрел на министра. Молния, еще в бытность свою полковником, написал классический труд о сверхдальней стрельбе. Ему он и был обязан тем, что, отстраненный от руководства строительством, он все же остался при батарее сверхдальнего боя, чтобы произвести залп. Все подсчеты были сделаны им на основе этого труда. И вот Василий Климентьевич неожиданно сомневается теперь даже в правильности его расчетов. Но Молния не повел и бровью. Он умел сносить невзгоды, понимая, какому делу служит. — Триста сорок семь и девятьсот восемьдесят шесть? — спросил Василий Климентьевич, суетливо и застенчиво перелистывая книжку. — Нет, триста сорок семь и девятьсот восемьдесят четыре, — твердо сказал Молния. Министр нашел нужную страницу, голос его сразу стал, как и прежде, уверенным: — А по-моему, девятьсот восемьдесят шесть. Я учел некоторые дополнительные моменты притяжения космических тел. Знаете задачу о трех телах? — Разве вам удалось решить эту задачу? — удивился Молния. — В общем виде нет. Но методом постепенного приближения подсчитать конкретный случай можно. Молния пожал плечами. — Прежде вам пришлось бы только один случай подсчитывать несколько лет. — Вы правы. Но в наш электронный век это делает электронно-вычислительная машина. Это оказалось даже легче, чем переводить с одного языка на другой, играть в шахматы, точно определять по миллиону данных прогноз погоды, она может решить и наш случай. — Вы правы, — сказал Молния. — Без электронных машин не обойтись. — Все дело в программе вычислений. В моем случае машина получила цифры: триста сорок семь и девятьсот восемьдесят шесть. — Я могу изменить прицел. Промах не играет сейчас роли. Василий Климентьевич нахмурился. — Сейчас, может быть, и не играет. Но мы с вами ведь собирались взорвать остров Аренида. Точность прицела решает в таком случае все. — Какие будут приказания? — сухо спросил Молния. — Что ж, проверим? Тогда, товарищ майор, будьте любезны изменить прицел. С безразличным видом Молния подошел к аппарату и отдал распоряжение. Пока ждали сигнала готовности, все молчали. Кленов, растопырив локти, хмуро смотрел в пол. Наконец сигнальная доска засветилась. Министр взглянул на Молнию. — Огонь! — Есть огонь! — Молния нажал кнопку. Задрожали стены. Пол под ногами заколебался. За окном взметнулись тучи песка. Министр указал глазами на экран. В первое мгновение ничего нельзя было разглядеть. Потом стала отчетливо вырисовываться Земля, словно видимая с громадной высоты. С непостижимой быстротой она сначала превратилась в вогнутую чашу, с одного конца которой виднелось море. Потом чаша эта, постепенно поворачиваясь и удаляясь, стала закругляться с краев, превращаясь в шар. Молния, Кленов и министр переглянулись. Они видели земной шар, который благодаря полету снаряда заметно поворачивался. Сквозь просветы между облаками угадывались неясные очертания материков и морей. В немом молчании смотрели люди на чудесный экран телевизора, принимавшего передачу со снаряда. Люди потеряли счет времени. Тяжело дыша, они не отводили от экрана взоров. Вместе со снарядом неслись они сейчас в верхних слоях стратосферы. Наконец все заметили, что земной шар стал расти, по-прежнему продолжая поворачиваться. Он становился все больше и больше. Скоро всю видимую площадь стала занимать вода, походившая на ослепительную эмаль. — Тихий океан, — спокойно произнес министр и вынул из бокового кармана трубку. Внезапно в самом углу экрана появилась светлая точка. Постепенно она стала расти и шириться. Она походила на огонь электросварки, только кровавого цвета. Очень быстро огненная зона захватила весь экран. На него стало больно смотреть. Вдруг в центре появилось что-то фиолетово-черное, и все сразу исчезло. — Все, — сказал министр, раскуривая трубку. — Есть попадание! — сказал Молния. — Признаю свой расчет неверным. Верен ваш, товарищ уполномоченный правительства. Прошу отстранить меня. Министр пристально посмотрел на Молнию. — Просишь? А еще военный! Прошлый раз я тебя как будто не спрашивал… — И министр выпустил клуб дыма. — Теперь надо… м-да!.. Второй. И если все будет в порядке, тогда уж, благословясь, и залп… Министр спрятал в карман книжку, которую держал все время в руках, и дал предупредительный сигнал по строительству. Потом посмотрел пристально на Молнию: — Огонь! — Есть огонь! — ответил тот и нажал кнопку. Только на секунду появилась на экране Земля. В следующий момент все исчезло. Молча смотрели люди на пустой экран. Спустя несколько секунд страшный огненный вихрь пронесся над строительством. Затряслась центральная будка управления. Повалилась одна ее стена. Кленов, министр, Молния лежали на полу… Снаряд разорвался, едва вылетев из орудия. Через минуту Сергеев и полковник поднялись, но старый профессор так и остался лежать, подогнув острые колени и вытянув жилистую шею. Ртом он судорожно ловил воздух. Мертвенная, зеленоватая бледность покрыла его лицо. Из-под прикрытых век виднелись только белки. Василий Климентьевич опустился на колени, стараясь расстегнуть у Кленова воротничок.
Глава II. ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
После неудачного испытания снарядов с заменителем профессор Кленов вместе с Василием Климентьевичем вернулся в Москву. Переоценив свои силы, Кленов рассчитывал помочь Марине в получении нужного изотопа радия-дельта. Однако сразу же по приезде старый профессор занемог и не выходил из своей комнаты. Лечь в больницу он наотрез отказался. Но оставаться в стороне от общей борьбы он не хотел. И днем и ночью он лежал в постели с наушниками на голове, настроив чувствительный радиоприемник на «обратную волну Матросова». Конечно, можно было воспользоваться и репродуктором, но наушники выключали Кленова из всего окружающего, переносили в многоголосый мир эфира. Кленов знал, что на аппаратуре обратной волны дежурства ведутся и без него, но он одержим был идеей первым поймать сигналы созданного им радиопередатчика отраженной волны. Кленов не открывал штор, и дневной свет почти не проникал в его комнату. В полумраке виднелся стол, так заваленный книгами, что на нем мог с трудом поместиться листок бумаги. Надо бы прибрать, да нет сил, а главное, времени. Кресло, стулья, шахматный столик… Всюду стопки книг. Не успевал все прочитать, а заведено было не класть книгу в шкаф, пока не просмотрена. Теперь все равно не успеть даже перелистать. Доктор потом разберется, передаст в библиотеки. Уж очень он качает головой, когда выслушивает своего «аллигатора». Когда Кленов лежал на боку, ему была видна стена с картинами. Он начал коллекционировать их еще в Соединенных Штатах. Профессор Вонельк приобретал только картины русской природы, нарисованные преимущественно Левитаном. Каких ухищрений стоила ему заблаговременная пересылка их в СССР! Особенно близки были ему картины, где на фоне неба виднелись верхушки деревьев или где в небе плыли облака. Улетевшее облачко!.. Оно улетело из жизни много лет назад, а вместе с ним и способность любить. Странно думать, что в студенческие годы у него были друзья, что он сочинял стихи о любви. Что же так неузнаваемо изменило его, сделало нелюдимым и аскетом? Жизнерадостный, влюбленный, наивно мечтающий о прекращении войн, Кленов погиб вместе с Мод во время взрыва в Аппалачских горах. И он еще раз погиб, утонув вместе со своими иллюзиями в Атлантическом океане, когда моторный бот был потоплен японской подводной лодкой. Спасенный в море Вонельк был уже другим. Он принял чужое имя и весь сосредоточился на сокрытии от Вельта своей тайны. Имитировав потерю памяти, он начал жизнь сызнова. Никто не догадался, что необыкновенный студент потому в полтора года окончил Корнель-ский университет, что был уже профессором. И Джону Аллену Вонельку не так трудно было вскоре действительно стать профессором Корнельского университета. Никто не знал, как страдал он в добровольном своем изгнании, лишенный друзей и родины, нося выдуманный им крест служения человечеству. Однажды он побывал на съезде ученых. С волнением вступил он на Европейский континент — Россия была совсем близко! Он ходил по Парижу, смотря на резвившихся детей, и думал, что они своей жизнью обязаны ему, умевшему молчать… Он смотрел на собор Парижской богоматери, входил внутрь, платил суетливой монашке монету за право любования мрачной колоннадой. А уходя, оглядывался назад — на прямоугольные башни, на загадочные химеры, украшавшие фасад, и думал: Гюго прославил все это, а он сохраняет тем, что молчит, и безумное человечество не может взорвать, развеять по ветру Париж вместе с его памятниками искусства. Он шел в Лувр и как хозяин обходил залы. Все это существует благодаря ему. Вот бархатный зал со скамейками по стенам. Посередине, выделяясь на темнобархатном фоне, великолепная статуя Венеры Милосской… Никогда ни одна копия не производила на Кленова такого впечатления, как эта, чуть изъеденная с поверхности временем, но полная обаяния, красоты и древности статуя… Ее тоже спасает он, Кленов, для потомков… Пусть никто не знает о нем, пусть никто не подозревает, что это он сохраняет и эту статую, и все остальное… Ему не надо признания и благодарности! Кленов бродил незаметный, никому не известный по парижским бульварам в шумной, говорливой толпе, словно возвышаясь над всеми, гордый своей миссией и своей неизвестностью… Как это дико и нелепо выглядит теперь! Словно целое столетие отделяет его от того времени. А между тем разве не он год назад расхаживал с тем же самым чувством по улицам Москвы, гордясь великолепными, задевающими за облака зданиями, которые он сохраняет от разрушения своим молчанием? Разве не год назад он воображал, читая сообщения о грандиозных планах строительства, что незримо примет во всем участие, оберегая страну и весь мир от разрушения? Что же целым столетием встало между Кленовым вчерашним и Кленовым, лежащим на кровати с наушниками на голове? А ведь червь все-таки грыз его сердце, когда уже на Родине, слывя чудаковатым старым ученым, он отказывался от многих знаков внимания. Он не хотел ни многокомнатной квартиры, ни автомашины, ни обслуживания… Однако в Америке он пользовался всем этим! И чудаковатости у профессора Вонелька не было. Значит, говорил в нем все-таки голосок совести! Он только не хотел слушать этот писк, глушил его, отделывался конфузливым отказом от элементарных удобств. И сделка с совестью совершилась! Ах, если бы раньше понять все это! Профессор стонал и переворачивался на другой бок. Рухнуло здание фальшивого храма служения человечеству. Оказалось недостаточно только молчать. Он покатился вниз… к преступлению. Если бы не чуткость я великодушие новых людей его Родины, он так ничем и не помог бы человечеству, да он и не помог пока!.. Вот если бы Матросов привез радий-дельта и батарея выстрелила, погасив воздушный пожар, тогда Кленов понял бы, что жил недаром. Последнее страстное, неукротимое желание угасающего старика сосредоточилось на спасении Матросова. И Кленов исступленно слушал, не снимая наушников, не желая внимать уговорам доктора Шварцмана. Старик упрямо гнал все сомнения, уверяя себя, что прибор портативен, не требует энергии. Матросов найдет способ дать о себе знать. Только любящая женщина и только Кленов с его одержимостью могли верить в невозможное — спасение Матросова. И женщина пришла к Кленову. Кленов почти обрадовался звонку. У доктора был свой ключ… Кто бы это мог быть? Накинув на себя одеяло и включив вместо наушников репродуктор, профессор зашаркал в полумраке. Он открыл дверь и зажмурился. Оказывается, даже на лестничной площадке существует день, солнце, живут люди, говорят, смеются. — Боже мой! Это вы!.. Прошу прощения. Проходите! М-да!.. Но что с вами, дорогая, осмелюсь спросить? Вас словно с креста сняли. Перед Кленовым, прислонясь плечом к стене, стояла бледная, худая Марина. — М-да… Мой наряд… Осмелюсь просить прощения. Удивлен выше всякой меры и обрадован… Наш милейший доктор говорил о вашем серьезном недомогании… Кленов провел Марину в свою комнату. — Это радиация виновата, Иван Алексеевич, — слабо улыбаясь, сказала Марина. — Трудно уберечься. Получили мы еще один изотоп радия-дельта. К сожалению, — Марина болезненно усмехнулась, — период полураспада у него еще меньше. Он исчезнет скорее, чем его нанесут в виде защитного слоя на сверхаккумулятор. — М-да!.. Весьма серьезно и печально. Вижу, извелись вы со своими опытами. Молодость свою не бережете. Ради бога, не обращайте на меня внимания. М-да… Я бы прибрал постель… — Не смейте, Иван Алексеевич. Сейчас же ложитесь. Ну, я очень прошу вас, очень… — Марина так посмотрела на Кленова, что тот только зажевал челюстями и подчинился. — Теперь я отдерну шторы и на минуту отворю окно. Хорошо? У вас есть тряпка? Я вытру пыль. — Несомненно, тряпка имеется. Не извольте беспокоиться… Что это вы, право?.. Я бесконечно, рад вашему приходу! Марина, слабая, едва держась на ногах, стала прибирать комнату. Она то и дело присаживалась отдохнуть. — Можно сложить книги в шкаф? — спросила она. — М-да… Видите ли, я еще их не просмотрел. Ну ладно, теперь уже все равно. — Почему все равно, Иван Алексеевич? — Нет, нет… ничего… Я имел в виду, что вам, ласковая моя, все дозволительно: складывайте их куда хотите. — Какие у вас прекрасные картины, Иван Алексеевич! Вы так тонко понимаете живопись. Залитая солнцем комната меняла вид. — Когда я перекладываю ваши рукописи, у меня дрожат руки. Ведь я училась по вашим книгам, — говорила Марина, с улыбкой смотря на растроганного профессора. — Хотите, я согрею вам чаю? — Премного буду благодарен, дорогая Марина Сергеевна… Сочту за счастье выпить чашку вместе с вами. Предложи Марина сейчас Кленову мороженое, которое он никогда не ел, он с радостью бы согласился. Марина покачала головой: — Я приготовлю вам чай, но сама я не буду, Иван Алексеевич. Вы даже не понимаете, что у меня за состояние. Радиация, оказывается, вызывает тошноту… Поставив чайник, Марина снова села отдохнуть. — Ну вот… Помните, как вы защищали диссертацию? — говорил Кленов. — Какая вы были тогда, я бы сказал, светлая и настырная… И вы, право, очаровали меня… М-да!.. Вы меня извините, покорнейше прошу, что я в наушниках. Я ведь все слушаю, слушаю и слушаю… — Иван Алексеевич, если б вы знали, как… — Не стоит благодарности, право… — Нет! Как я вас люблю! — «Люблю»? М-да!.. Как это странно — «люблю»… Никогда не слышал этого слова… по-русски. «Люблю»… Разве меня можно любить? Сделавшего так много против вас? — Иван Алексеевич, говорят, что сердце не объясняет… — Ма-шень-ка, — тихо и раздельно, словно вслушиваясь в это слово, произнес Кленов. — Что? — тихо отозвалась Марина. — Нет, я просто так… Я желчный, завистливый старик. Я завидую вашему отцу. Как бы я хотел иметь такую дочь! Или внучку… Ведь вы могли бы быть моей внучкой… Я бы так гордился вами!.. М-да!.. Так нелепо и горестно сложилась жизнь. Наверно, это большое счастье — иметь детей? — Огромное, Иван Алексеевич! — сразу оживилась Марина. Она встала и подошла к радиоаппаратуре, положила свою тонкую, почти прозрачную руку на голубой ящик, почувствовала холод металла и отдернула ее. — Огромное счастье, Иван Алексеевич, — продолжала она. Ее затуманенные глаза смотрели вдаль. — Иногда мне кажется, что я буду очень счастлива… А иногда мне так горько, что не хватает слез… За эти дни я плакала больше, чем за последние десять лег. Можно, я сяду на вашу постель? Какая у вас большая рука… Скажите, ведь вы верите? Вы услышите сигналы? — Верю, Машенька, верю… Вся моя жизнь теперь в этой вере. До сих пор я думал, что хочу этого ради человечества… А хотел-то ведь ради себя… А теперь… — Старик закрыл глаза и замолчал. Марина гладила его лежавшую поверх одеяла руку. Она с нежностью смотрела на худое лицо старика с провалившимися щеками, с запавшими глазницами, с клочковатой белой бородой… Она гладила его руку и видела, как сначала из одного глаза, а потом из другого медленно сползли две слезинки. — А теперь для вас этого хочу, ради вас всей душой своей хочу… И благодарен вам за светлое чувство, которое вы пробуждаете во мне… Вот за эти слезинки, которых не стыжусь… Предыдущие принадлежали Мод… Марина своим платком вытерла глаза старику. — Чай поспел, Иван Алексеевич, — сказала она и улыбнулась. И, забыв про чай, они смотрели друг на друга, думая каждый о своем. Кленов ощущал величайшее умиротворение. Может быть, такое чувство бывает только раз в жизни… перед концом. — Какая страна, какое время, какие люди! — говорил он, видимо, сам себе. — Люди? — переспросила Марина. — Да… Вы, он… И все вы, люди будущего… В передней раздался шорох. — Почтеннейший, вы, может быть, думаете, что вас грабит однорукий бандит? Так ничего подобного? Это я, ваша назойливая сиделка. Прилетел к вам на минуточку, раздеваюсь, вешаю пальто… Привожу себя в порядок… Ведь отсюда я полечу к своей пациентке, к нашей Машеньке, как мы с вами говорим… Она очень плоха и неосторожна… Может быть, героична! Склоняюсь. Право ученого! Пренебрегает радиацией. Итак, как вы себя чувствуете? С этими словами в комнату вошел доктор Шварцман. — Что я вижу! Она здесь! Ох, медицина! Тебе как науке нужно прописать тысячу верблюдов, чтобы они плевали на тебя. Вдруг Кленов сел и предостерегающе протянул худую длинную руку. Доктор Шварцман осторожно сел на кончик стула. — Тише, тише! — шептал Кленов. Марина, вся подавшись к нему, смотрела на него умоляющими глазами. Кленов судорожно схватил ее руки и сжимал их в своей громадной ладони. — Доктор, пишите же… Да пишите же, доктор! — вдруг закричал он. Доктор привычным движением выхватил перо и бланк для рецепта. — Вызывает, вызывает так долго, что я осмелюсь думать — он располагает неограниченным временем… Марина окаменела. Наконец Кленов стал глухим голосом произносите текст радиограммы, а Марина беззвучно повторяла слова. Доктор записывал. По лицу профессора текли слезы, но глаза сияли… — Вот и все… Он повторяет вызов… Видимо, передает радиограмму еще раз. Какое счастье! Исполнение желаний! Помогите мне лечь, Машенька. Звоните, звоните по телефону Василию Климентьевичу… Передайте радиограмму и мой… мой привет. Уложив старика, который вытянулся под одеялом и закрыл глаза, как после сильнейшего утомления, Марина вытерла платком слезы и, счастливо улыбаясь, села за стол к телевизефону. — Я вам буду диктовать. Вы, может быть, думаете, что прочтете докторский почерк? Ничего подобного! Марина вызвала министра: — Василий Климентьевич! Вы извините, что я сквозь слезы… Это от счастья… — И она незаметно переключила динамик на телефонную трубку. — Вы уже знаете? — отозвался министр. — А я два часа всюду разыскиваю вас, чтобы сообщить радостную весть… — Василий Климентьевич! — перебила Марина. — Профессор Кленов только что установил связь с Матросовым… — К нему уже вылетела помощь, — сказал Сергеев. Марина плотнее прижала трубку к уху, чтобы не донесся в комнату голос министра. — Профессор будет счастлив. Он так стремился услышать Матросова первым. Я передаю принятый им текст… — Он лежит передо мной, — недоумевая, заметил министр. Но Марина, как бы не слыша этого, стала медленно передавать текст радиограммы, словно министр записывал его. Профессор Кленов приоткрыл глаза, напряженно вслушиваясь в каждое ее слово. Его губы беззвучно шевелились. Видимо, он повторял за Мариной… Министр не прерывал Марину. Когда она кончила, он сказал: — Спасибо. Видимо, Матросов повторяет свою передачу каждый час. Меры приняты. Передайте привет профессору. Марина положила телефонную трубку, невидящим взором смотря перед собой. — Что он сказал? — прошептал Кленов. Марина догадалась, о чем спросил Кленов. — Василий Климентьевич просил передать вам благодарность. Вы приняли радиограмму первым… Она подошла к Кленову. Лицо его стало спокойным и строгим. — Он сказал, что каждый час здесь имеет значение… Ваш сигнал, Иван Алексеевич, может оказаться решающим. Доктор во время разговора Марины с министром стоял близко от телефона и слышал голос Василия Климентьевича. При первых же словах Марины доктор изумленно поднял брови, но в следующее мгновение, поняв что-то, закивал. Он снял очки и тыльной стороной ладони вытер краешек глаза. А Марина все говорила Кленову, как она благодарна ему, именно ему, за спасение Матросова, за радий-дельта!.. Она передавала Кленову благодарность человечества за спасение всего живого на Земле. Марине показалось, что губы Кленова дрогнули. Может быть, это была тень счастливой улыбки. Доктор отстранил Марину. Он взял безжизненную руку Кленова, чтобы пощупать пульс. Очки он так и не надел, и глаза его показались Марине круглыми, добрыми, детскими. Он грустно покачал головой и сказал: — Всю жизнь он служил призрачной мечте… Марина опустилась у постели на колени, взяла длинные холодные пальцы, стала тереть их, чтобы согреть. Лицо у Кленова было величественно спокойно. Черты его обострились и стали неподвижными. Доктор встал, отвернулся и начал искать в кармане платок. Марина упала на грудь старика и зарыдала. — Вы знаете, — сказал доктор, сморкаясь, — он как-то говорил мне, что над ним некому будет поплакать… Как он ошибался!.. Он всю жизнь только ошибался… — Бедный Иван Алексеевич… — сквозь рыдания проговорила Марина, — несчастный профессор Кленов! — Нет, — сказал Шварцман, — это неверно. Он умер счастливым… благодаря вам…Глава III. ПОСМЕРТНЫЙ БОЙ
Специально нанятая агентом Интеллидженс сервис яхта не рискнула ночью приблизиться к западному берегу Ютландии. Два якоря едва удерживали ее на месте. Старый сыщик знал эти места: мелкое опасное море и бесконечные дюны на берегу, похожие на большие песчаные волны. Сыщик с трудом дождался утра. Кутаясь в развевающийся на ураганном ветру плащ, он стоял на палубе, вглядываясь в пустынный, мертвый берег. По временам он заходил в каюту. Висящий на стене репродуктор мерно отсчитывал «ти-ти-ти…». Загадочная волна еще не исчезла. Агент успокаивался, и в нем росла уверенность, что он откроет эту последнюю тайну Земли. Когда рассвело, сыщик вызвал капитана яхты. Капитан явился вместе со своим помощником. Оба они — один толстый и низкий, другой высокий — молча остановились перед ним, придерживая рукой срывающиеся фуражки. Сыщик сказал: — Я отправлюсь на берег. Если понадобится, пересеку полуостров. Моряки одновременно кивнули. — Вам надлежит перевести яхту к восточному берегу Ютландии. Моряки взглянули по направлению на восток, потом друг на друга и на сыщика. — Это все, — закончил агент и приказал спустить шлюпку. Моряки повернулись. Впереди пошел, страдая особенно усилившейся за последнее время одышкой, капитан, сзади, выставив из воротника свою тощую шею, — помощник. Через час с опасностью быть разбитой штормовыми волнами шлюпка высадила агента э 642 на берег Ютландии. С ним вместе был и его несколько странный багаж — мотоцикл с радиоприемником, расположенным на багажнике. Сидевшие в шлюпке матросы видели, как хозяин яхты скрылся на мотоцикле за дюнами, въехав в плотную тучу песка. Сыщик пересекал полуостров Ютландия по геометрической прямой. На пути его лежали бесконечные сухие степи, покрытые скучным жестким вереском. Когда-то прежде здесь росли дубовые леса, погибшие от неумеренных порубок. Впоследствии на месте их гибели образовался слой аля — связанного железом песчаника, — не дававшего возможности растениям развиваться. Скрытые в кожаном шлеме наушники передавали мерные звуки. Сыщик мчался вперед, руководствуясь волной, как радиопеленгом. К вечеру на горизонте показалась буковая роща, но, кроме гнилых, полуобломанных вершин и новой поросли, поднявшейся выше старых стволов, сыщик увидел и еще кое-что, заставившее его остановиться и наблюдать за происходящим на некотором расстоянии. Ему был хорошо виден старинный замок с зубчатыми стенами и высокими остроконечными башнями. К этому замку прямо через дряхлые деревья рощи шел подлинный морской крейсер, застилая небо срывающимся с труб дымом. Сыщика ослепил огонь. Потом он увидел рухнувшую башню. Наконец до него докатился звук выстрела. Сыщик решил, что он сошел с ума. Среди леса стоял морской корабль и обстреливал из восьмидюймовых орудий средневековый замок. Да, действительно гибель мира близка! Что можно придумать невероятнее! Обстрел продолжался. Теперь сыщик увидел еще, что замок весь окружен машинами совершенно невиданного им типа. Через несколько минут во многих местах стены замка обвалились. Наконец на одной из башен появился белый флаг. Сыщик тихо повел свой мотоцикл к месту этого необыкновенного боя. Навстречу попался английский солдат. Лицо у него было бледное, небритое. Сыщик спросил его, что здесь происходит. Солдат, услышав прекрасную английскую речь, несказанно обрадовался. — Этими машинами завладели рабочие, сэр. Они сагитировали водителей. Мы стояли здесь, девятнадцатая дивизия армии солидарности. Никто не ожидал такой стремительной атаки машин… Да никому и не было охоты драться! Сейчас рабочие берут замок. — А чей это замок? — Вельта. — Вельта! — воскликнул сыщик, и глаза его сузились. Побагровел старый шрам. Вдруг сердце сыщика почти остановилось. Прекратились таинственные звуки «ти-ти-ти», в унисон с которыми билось и его сердце. В этот момент на стене замка показалась фигура. Ветер трепал на ней одежду. — Эй вы, отродье свиней и сусликов! — загремел хриплый бас, уносимый бешеным ветром. — Какого черта вам нужно?.. Зачем вы повернули хозяйские машины и заставляете их стрелять в хозяйское же добро? На мостик сухопутного броненосца взошел молодой человек: — Господин слуга своего хозяина! Прежде всего нам надо, чтобы вы прозрели так же, как прозрели те парни, которых вы послали на дикую авантюру. Мы, немецкие, датские и шведские рабочие, пришли сюда вместе с вашими вернувшимися машинами с требованием выдать нам одного советского парня, который заточен у вас в подземелье. Он поможет всем людям не задохнуться. — Откуда вам это известно? — заревел Ганс. — Слухом эфир полнится. Мы войдем в замок, возьмем парня и спокойно уйдем, не разбив даже ни одного окошка, кроме тех, которые уже разбиты. — С вами ли сын мой Карл? — С нами, герр Шютте, с нами! — Пусть поговорит со мной он! На площадке броненосца показался Карл. — Герр Шютте! — закричал он. — Служа врагу человечества, вы ведете к гибели мир! Пряча в подземелье советского парня, вы обрекли на смерть от удушья тысячи и тысячи людей — на ту самую смерть, которая унесла мою мать… С катастрофой борются наши братья в демократических странах, вы же мешаете им работать. Отец, неужели ты слеп и не понимаешь, что делают твои руки? Неужели ты не поверишь мне, своему сыну? Сыщик увидел, что фигура со стены замка исчезла. Агент был одновременно и смущен потерей волны, и заинтересован всем происходящим. Все пространство между бронированными машинами было заполнено сейчас людьми. Сыщик подъехал к ним и смешался с толпой. Где-то наверху послышался звук пропеллеров. Все подняли головы. По толпе скользнула тень. В небе летел словно сказочный дракон. Но это был летательный аппарат. Сделав круг, странный самолет стал снижаться, заглушая скрип ворот, которые открылись, казалось, бесшумно. Рабочие, выскакивая из бронированных машин, бросились к мосту. Завыли сирены на сухопутном броненосце. Агент «Интеллидженс сервис» старался не отставать от толпы. Когда Карл и его товарищи вбегали во двор замка, Ганс с невероятным напряжением, задыхаясь от недостатка воздуха, отвалил надгробную плиту. Вконец обессилев, он все же спрыгнул в подземелье. Сразу же он наткнулся на что-то мягкое. — Эй, вставай, парень! Не думал я, что мне придется тебя отсюда вытаскивать! Ганс взял на руки тяжелое, обмякшее тело и попытался поднять его наверх; звякнула цепь. Ганс вспомнил про кандалы и, вынув ключ, освободил Матросова. Он поднял безжизненное тело Дмитрия и передал его подошедшим рабочим, потом с трудом выбрался сам. Вдруг, к величайшему его изумлению. Карл с товарищем скрылись в подземелье, хотя делать им там было заведомо нечего. — Карл, что ты там еще ищешь? Ведь парень-то наверху. — Подожди, отец! Я ищу то, за чем этот парень приезжал. Ганс сел и стал смотреть, как рабочие, вооружившись кислородной маской, возились с полузадохнувшимся Матросовым. — Есть! — закричал снизу Карл. Через минуту он стоял перед отцом, держа в руках свинцовую коробочку. Ганс качал головой. — Нет, скажи мне, как вы обо всем догадались? — уже в который раз спрашивал старый Шютте. — Ах, отец! Человек, владеющий знаниями, обеспеченный заботой других, может дать о себе весть даже из подземелья. К разговаривающим подошел сыщик. Пришедший в себя Матросов открыл глаза. — Вот ты скажи мне, парень, как это ты дал знать о себе? — обратился к нему Ганс. — Очень просто… по радио, — с трудом выговорил Дмитрий. — Как — по радио? Что вы морочите мне голову! Столпившиеся вокруг рабочие расхохотались. — Что вы дерете глотки, любезнейшие! Как может человек передавать что-нибудь по радио, не имея радиопередатчика! — Я передавал… на обратной волне… При слове «волна» сыщик насторожился. — Какая такая обратная волна? — загремел Ганс. — С момента моего отъезда из социалистических стран вдогонку мне все время посылали радиоволну… Моя забота была лишь отразить ее, послать обратно… Ганс удивленно хмыкнул. — Прибор у меня был такой… Профессор Кленов его сконструировал. — Опять Кленов? Дмитрию трудно было говорить, но он делал над собой усилие, чтобы не показать свою слабость. — Да-да, прибор Кленова… Только, выпрыгнув из окна, я его сломал… — Так чем же вы отражали? — Вероятно, вот этим! — сказал Карл, поднимая над головой странное сооружение из обрывков цепи, металлических прутьев и кусочков кости вместо изоляторов. Ганс и сыщик удивленно выпучили глаза. — Да, сломанные части… пришлось самому сооружать. Да ничего, делать-то ведь нечего было… Спасибо Вельту, о материале он позаботился. Все рассмеялись. У ворот послышался шум. Над толпой возвышался человек с рыжими, развевающимися по ветру бакенбардами. — Эй, Дмитрий, черт тебе в крыло! Как живем, старина? Мы за тобой! Матросов слабо помахал рукой, улыбнулся и попытался сесть. Сыщик склонился к нему и тихо спросил: — Простите, сэр, не звуки ли «ти-ти-ти» передавала ваша волна? — Кто говорит тут про «ти-ти-ти»? — закричал подошедший владелец бакенбард, обладавший, видимо, тонким слухом. — Нам это «ти-ти-ти» все уши просверлило! Дай, Дима, я тебя обниму! Ну, как живешь? Однако, брат, давай сразу же в путь… Время не ждет. Где радий-дельта? — Вот он, — сказал Карл. — Он был там, где закопал его товарищ Матросов из предосторожности, на случай собственной гибели. Внезапно часть стены замка отодвинулась, оказавшись замаскированными воротами. Раздался оглушительный звук мотора и сирены. Люди бросились врассыпную. Один только Карл остался стоять с поднятой рукой. Из зияющего отверстия потайных ворот вырвался сверхскоростной автомобиль, похожий на придавленную к земле лягушку. Из окна виднелся сморщенный лоб Вельта. — Измена! — закричал он и выстрелил через стекло. Карл покачнулся и упал на автомобиль. В руке он сжимал коробочку с радием-дельта. Все оцепенели от неожиданности. Карл медленно сгибался и сползал по гладкой полированной обшивке автомобиля… Вдруг через опустившееся окно протянулась сухая старческая рука. Быстрые пальцы ощупали рукав Карла, опустились до кисти и наткнулись на коробочку с радием-дельта. Матросов закричал и рванулся. В тот же миг коробочка исчезла в проеме окна. Мотор взревел. Обмякшее тело Карла, потеряв опору, скатилось на землю. Автомобиль дал задний ход. Кто-то закричал, попав под колеса.
Опомнившиеся рабочие стали стрелять вслед удалявшемуся автомобилю. Машина мчалась прямо на толпу. Приходилось давать ей дорогу. Еще мгновенье — иавтомобиль скрылся за воротами. Ганс вскочил на плиту и разорвал на себе рубаху. — Проклятье тебе, босс! — закричал он. — Наконец-то я понял тебя! Эх, если бы я мог тебя догнать! В бессильной ярости Ганс опустился на камень. — Я помогу вам, сэр, — сказал тихо сыщик. — У меня к мистеру Вельту есть один неоплаченный счет. — Вы? — заревел Ганс, поднимаясь. — За мной, — спокойно сказал сыщик и добавил несколько слов, взглянув на Ганса выразительным, прищуренным глазом. — Так вы тот самый сыщик Джимс? — вскричал Ганс. Сыщик кивнул. На стене стоял человек с развевающимися бакенбардами и, положив на левый локоть револьвер, стрелял в удаляющийся автомобиль. Ганс бежал за сыщиком. Вдруг около ворот он остановился. — Подождите! — крикнул он. Вернувшись назад, он забежал в будку привратника. Оттуда он вернулся, держа что-то в руках. Сыщика он догнал около самого мотоцикла. Оба хрипло, с трудом дышали. За скрывшимся автомобилем, сминая все на своем пути, ринулся броненосец, поливая его огнем пулеметов и пушек, но сверхскоростной автомобиль прыгал с заячьей верткостью. Он вертелся по полю волчком, постепенно увеличивая расстояние между собой и чудовищной машиной. Мотоцикл мистера Джимса обладал огромной скоростью. Скоро вдали показался автомобиль. Недалеко от него то и дело взлетал в небо песок: это стреляли с броненосца. Ганс, сидя сзади Джимса, высоко подскакивал на каждом ухабе, но крепко держался за сыщика. За спиной у него что-то болталось. Вельт знал, что за ним гонятся, но он знал также, что море близко. Машины мчались на восток без дороги, по знаменитым датским лугам, мимо наклонившихся в одну сторону деревьев. Временами мотоцикл подскакивал, сотрясаясь так, словно под ним взрывались мины. Ни Ганс, ни сыщик не знали, проживут ли они больше секунды, и если они не падали на землю, то только потому, что, обладая чудовищной скоростью, мотоцикл не успевал упасть… Расстояние заметно уменьшалось. Автомобиль Вельта ехал как-то боком. Вероятно, его все-таки задело осколком снаряда. Показалось море. Там меж прибрежных кустов колыхался на волнах гидросамолет. Комендант Вельттауна генерал Копф, ожидавший хозяина, поднялся на крыло. Копф был невероятно зол. Он едва спасся, прилетев из неудачного рейда на Аренидстрой. Копф увидел, как остановился у обрыва автомобиль хозяина. Мистер Вельт, сойдя на землю, более чем поспешно стал пробираться меж камней. Копф видел его черную фигуру, с безумной неосторожностью спускавшуюся по серым угловатым скалам. Местами Вельт скатывался вместе с камнями. — Он прилетит в свое ледяное царство весь в синяках! — сказал комендант Вельттауна. Когда мистер Вельт был уже близко к воде, на обрыве показался мотоцикл. Его силуэт ярко вырисовывался на фоне красного заката. Господин комендант увидел, как соскочивший с мотоцикла человек снял из-за спины лук. Вельт бежал по берегу зигзагами, как заяц. Господин комендант не видел стрелы, но он догадывался, что она летит, и знал, почему она не пролетит мимо. Вельт упал у самой воды. Буро-пенные волны лизали его скрюченную руку. Коробочка с радием-дельта откатилась немного в сторону и застряла меж двух камней… Копф приказал свезти себя на берег. Сидя в шлюпке, он видел, как спустившиеся с обрыва люди склонились над телом Вельта. Когда комендант достиг берега и подошел к трупу, силуэт мотоцикла на обрыве исчез. Господин комендант приказал перенести тело Вельта на гидросамолет. Вернувшись на борт, он сказал своему адъютанту: — Ну вот… Пора нам лететь в нашу проклятую пещеру. Надо отвезти туда хозяина. Там, по крайней мере, он не испортится. — Совершенно верно, господин комендант. Жизнь на Земле с каждой минутой становится опаснее… — Что — совершенно верно? Ничего вы не знаете! Надо понимать, что значит конец авиации… Я не могу забыть своей клятвы сбить сотый аэроплан! — Совершенно верно. Вы почти имели эту возможность сегодня над Советами, однако он не пошел на ваш тонкий маневр, не погнался за вами. — Да! — пробурчал Копф, отворачиваясь. — Да, сотый самолет! — вздохнул адъютант. — Ведь больше уже не будет воздуха… Некоторое время они посидели молча. Ветер выл снаружи, унося столь необходимый для подвигов господина коменданта воздух на костер острова Аренида… Вдруг адъютант вздрогнул. Генерал Копф оглянулся в ту сторону, куда смотрел его помощник. Не говоря ни слова, он бросился к рулю. — О! Ваше превосходительство, неужели вы хотите догнать этот самолет? — в волнении спросил адъютант. — Конечно! Черт побери, ведь это же мой сотый номер! Запишите в наш журнал: номер сто! — Слушаюсь… Но чей это аэроплан? — Проклятье! Какое мне дело? Я военный, и у меня сейчас больше нет хозяина! Это же номер сто! Гидросамолет уже мчался по бурному морю. Высоко в небе летел странный драконообразный самолет. Копф дал руль высоты и повел свою машину ему наперерез. — Проверьте пулеметы и орудия! — крикнул он своему помощнику. …Паролет вел второй пилот Вася Костин. Матросов, радостный и взволнованный, шагал по коридору между силовой станцией и штурманской рубкой. — Понимаешь, — хлопнул его по плечу Баранов, — решили мы за тобой на паролете лететь! Воздух-то разреженный, а паролет к этому приспособлен, как никакой другой, и потом, скорость, сам понимаешь… Конечно, всю сопровождавшую нас охрану мы обогнали! Где они, голубчики? Ха-ха-ха! — Молодцы, ребята, честное слово! На вас глядя, за себя стыдно становится… Матросов все хотел о чем-то спросить командира корабля, да никак, видимо, не мог решиться. — Ну давай, давай, спрашивай! — догадался тот. — Марину не видел ты? — спросил Матросов. — Гидросамолет внизу справа! — крикнул штурман. — Держит курс нам наперерез. Чего ему надо? — Черт ему в крыло! — завопил Баранов. — Беру управление! Стать к орудиям и пулеметам. Василий Климентьевич позаботился, чтобы мирный паролет был вооружен для ответственного рейса не хуже любого военного. Гидросамолет гнался за паролетом. Внизу было море. Ураганный ветер трепал оба аппарата. В кабине паролета все стонало и скрипело; за окном ревело и выло. Паролет подбрасывало одновременно и вправо и влево, он то подпрыгивал, то проваливался. Команда была спокойна. На каждом была кислородная маска. Гидросамолет приближался. — Это самолет Вельта! — крикнул штурман. Все промолчали, только мускулы у них напряглась. Гидросамолет выстрелил из орудия. Снаряд задел центральную будку. — Опять выбило из строя радио? — крикнул штурман. — Огонь! — скомандовал Баранов. Долговязый Вася Костин нажал кнопку. Заработала автоматическая пушка. Гидросамолет стал ввертываться вертикально вверх. Баранов тоже повернул свой тяжелый паролет. — Огонь! — снова скомандовал он. Затрещали взрывы. Гидросамолет оказался над паролетом. Как ястреб ринулся он вниз. Баранов перевел машину в штопор. Гидросамолет пронесся мимо. Излюбленный трюк Копфа не удался. — Он сумасшедший! — закричал Костин. — Он хочет погибнуть вместе с нами! — Нет, брат. Это ас классный! Баранов выровнял машину и оказался над противником. В тот же миг он нажал рычаг бомбомета. Паролет теперь был оснащен и этим. Гидросамолет, сделав совершенно невозможный пируэт, избежал неминуемой гибели. В первую секунду казалось, что он летит камнем в море, но в следующую стало ясно, что он выравнивается. Гидросамолет снова ввинчивался в воздух. Копф закусил губы и яростно оглянулся на бледного адъютанта. По дну кабины из стороны в сторону каталось непривязанное тело Вельта. Вельт давал свой посмертный бой. Лицо его прильнуло к стеклу и смотрело на оказавшийся снова внизу паролет. Один глаз трупа был прищурен, словно он прицеливался. Копф решился на последнюю, но испытанную меру. Он перешел в пике для удара вниз. Быстро приближался контур паролета. Копф целился в переднюю кабину. Но в самый последний момент что-то изменилось… Такой неуклюжий с виду, паролет внезапно повернулся и подставил свою хвостовую часть. От страшного толчка комендант ударился обо что-то лбом. Паролет тряхнуло. Все повисли на ремнях, привязанные к своим местам. Вокруг грохотало… Баранов тщетно пытался выровнять паролет. Снизу бешено мчались на кабину серые волны.
Глава IV. ЗАЛП
Впервые за время существования Земли по всей ее поверхности с одинаковой разрушающей силой мел свирепый ураган. Он разрушал дома, уносил крыши, валил деревья, выводил реки из берегов, топил суда, делал затрудненным и без того тяжелое дыхание и дул со всевозрастающей силой, вселяя в сердца людей безнадежность и ужас. Несмотря на этот неослабевающий вихрь, самолеты шли в воздухе. Это были грузовые самолеты, поднявшиеся с различных мест социалистических стран. Все они слетались к одной точке земного шара — к громадному аэродрому, расположенному в нескольких километрах от строительства Аренидстроя. На аэродроме стоял майор Молния. Он осунулся еще больше. Из запорошенного песков капюшона смотрели его угрюмые глаза. Молния наблюдал, как перегружали привезенные гладкие цилиндры на грузовики. Прибывали последние аккумуляторы. Отдаленные электростанции посылали плод своей многомесячной работы — сгустки энергии, заключенные в полированные оболочки обыкновенных электрических катушек, замороженных до температуры жидкого гелия. Майор сделал отметку в своей книжке. Все. Он больше не ждал аккумуляторов. Необходимый для залпа запас энергии был доставлен. Молния устало засунул книжку под капюшон. В этот момент он увидел круто идущий вниз белый самолет. Приземлившись, летчик вырулил машину и лихо подвел ее, едва не задев его крылом. Но майор Молния стоял неподвижно и не посторонился. Из кабины приземлившегося самолета легко выскочил человек и подбежал к майору: — Товарищ Молния! Куйбышевская энергоцентраль прислала со мной последний аккумулятор! Вынесли продолговатый цилиндр. Молния посмотрел на него холодно и равнодушно: — Вы опоздали. Я ничем не могу помочь. Машины уже ушли. — Товарищ Молния! — ужаснулся прилетевший. — Так это же сверх плана! Неужели не пригодится? Мы-то старались! Молния холодно пожал плечами: — К сожалению, я не рассчитывал на это. Мне не на чем отправить ваш аккумулятор. Человек непонимающе смотрел на майора, потом схватил его за руку: — Товарищ Молния, выручай! Ведь мы же с тобой оба спортсмены… Помните меня? Я Зыбко. По бегу я… Товарищ Молния, по-дружески, как спортсмена прошу… — Что же я могу сделать? — улыбнулся Молния. — Машин-то нет уже, а время на исходе. — О! Вы, может быть, думаете, что нас никто не встречает? Ничего подобного! Я вижу здесь самого майора Молнию. Молния обернулся. Перед ним стоял доктор Шварцман. Сзади доктора застенчиво улыбалась Марина. Подойдя, она протянула руку: — Скажите, Молния, о Дмитрии нет сведений? Молния почувствовал, что рука Марины немного дрожит. — К сожалению, — Молния посмотрел в землю и пожал плечами, — официально установлено, что паролет вместе со всем экипажем и запасом радия-дельта пропал без вести. Марина опустила голову. — Так, значит, все потеряно… Вот почему принято решение о залпе!.. — Марина отвернулась. Доктор забеспокоился. Он подбежал сначала к Марине, потом к Молнии: — Я сопровождаю Марину Сергеевну. Вы, может быть, думаете, что послеоперационный период не требует наблюдения? Ничего подобного. Исцеление достигнуто, но нельзя же пациенту идти через пустыню пешком!.. — Машина ждет вас. — Как? — вскричал Зыбко. — Значит, есть автомобиль? Товарищи, очень прошу отвезти наш аккумулятор! Ведь это же сверхкомплектный! — Хорошо, — сказал Молния, — аккумулятор поедет вместо меня. Я останусь здесь. — Как? Почему? Вы, может быть, думаете, что я не могу остаться? — Нет, доктор, — печально покачал головой Молния, — вы заслужили честь присутствовать при залпе. Майор Молния останется здесь. Аккумулятор нужнее. Подъехал трехместный скоростной автомобиль на гусеничном ходу. — Вы умеете управлять машиной, доктор? — Я, может быть, и смог бы… но… — Шварцман взглянул на свой пустой рукав. — Я умею управлять машиной, — сказала Марина. — Тогда садитесь… Товарищ Зыбко, поместите аккумулятор в машине. Хорошо, что она сделана, как и все на строительстве, из немагнитной стали. Зыбко радостно укладывал в автомобиль свою драгоценную ношу. Марина взглянула на Молнию. Молния опустил голову. Через минуту он и Зыбко провожали взглядами быстро удалявшуюся машину. — Всем самолетам немедленно покинуть район залпа! — отдал распоряжение Молния. — Разрешите мне остаться с вами! — попросил Зыбко. — Хорошо, — сказал Молния и пошел, надвинув на глаза капюшон. Скоро два последних самолета скрылись, в низком серо-коричневом небе. Ветер сдувал гребни холмов, закручивал и уносил вверх, к самому небу. От этого небо было низким, давящим, песчаным… Марина и Шварцман вошли в центральную рубку управления. Василий Климентьевич радостно приветствовал их. — Ну-с, Мариночка! — сказал министр, пожимая девушке руку. — Правительство решило произвести залп с вашим защитным слоем. Каждая минута промедления уносит тысячи жертв. Доля риска в этом есть, но все же у нас достаточно уверенности в благополучном исходе. Марина схватила министра за руку: — Значит, это правда? Правда, что нет уже надежды на возвращение паролета? Министр взял девушку за обе руки. Марина совсем низко опустила голову. Василий Климентьевич уронил бессильно упавшие руки Марины и, притянув ее голову, поцеловал в лоб. Доктор одиноко стоял в другом углу. — Во время эксперимента один снаряд достиг цели, другой взорвался. Как видите, риск велик… Тем не менее мы решили стрелять. Гибель Матросова с радием-дельта — непоправимый удар не только для всех нас, но и для всего мира. От успеха выстрела будет зависеть судьба человечества… Риск велик, Исаак Моисеевич… Ну а как ваша правая рука? Все ли еще чешутся у вас кончики пальцев? — Да, представьте себе! Ужасно нелепо. Теперь уже не кончики пальцев, а ладонь у меня страшно чешется… Отсутствующая ладонь… Удивительно, право! Мне совсем не нравится, как вы дышите. Вы не дышите — задыхаетесь! В комнату вошли несколько военных. — Товарищи, — сказал министр, — объявляю, что по постановлению правительства залп из всех орудий сверхдальнего боя будет произведен сегодня ровно в двенадцать часов по московскому времени. Через семнадцать минут все должны находиться на предусмотренных инструкцией защищенных местах. Военные вышли. — Так, — сказал министр, заложив руку за борт гимнастерки, и стал расхаживать по комнате. В молчании проходили нескончаемые минуты. Доктор Шварцман тоже расхаживал по помещению, все время встречаясь с министром. На несколько заданных Мариной вопросов министр только молча кивнул. Тяжелые, гнетущие минуты были длиннее лет. Марина стояла у окна и теребила платок. Из-под ногтей выступила кровь, оставляя на платке пятна. Заметив это, доктор остановился около Марины: — Типичное проявление горной болезни, результат разреженной атмосферы. Вам надо беречься, родная. После всех процедур, поставивших вас на ноги… Несколько раз девушка взглядывала на стрелку часов. Снова, как и тогда, перед защитой диссертации, она казалась ей неподвижной. Только секундная стрелка, пугливо вздрагивая, судорожно двигалась вперед. Министр остановился и, повернувшись к присутствующим, начал: — Товарищи, назначенная правительством комиссия по производству залпа в сборе. Недостает лишь двух членов: майора Молнии и Матросова, которые к назначенному сроку прибыть не могут, а потому прошу членов комиссии приготовиться. Секундная стрелка нервно двигалась вперед… Майор Молния взглянул на хронометр: — Пора! Надо уйти за прикрытия. Зыбко медлил. Он почему-то уставился в небо. Молния тоже посмотрел вверх. Проходили мгновения. Молния опять взглянул на хронометр. Потом, не говоря ни слова, оба побежали к радиорубке аэродрома. Яростный ветер сбивал их с ног, но оба бежали размеренным, легким, тренированным шагом, как бегают только спортсмены. Над землей, совсем низко, неуклюже переваливаясь с крыла на крыло, летел громоздкий самолет. Молния знал, что во что бы то ни стало должен добежать до будки. Надо успеть дать знать! Надо успеть предотвратить рискованный залп! Гул пропеллера, сопровождающийся какими-то странными перебоями, слышался над самой головой. Вдруг Зыбко схватил Молнию за руку. Оба упали. Гигантский паролет со свистом пронесся над ними и с размаху ударился в радиорубку аэродрома. Молния уже бежал к изуродованному самолету. В голове его тяжело стучала мысль: «Связь прервана… прервана… прервана!..» Из обломков паролета выскакивали люди. Молния увидел Матросова. Второй пилот и штурман вынесли из кабины чье-то бесчувственное тело и положили его на песок. Мертвенно-бледное лицо оттенялось огненными бакенбардами. Молния склонился над раненым. — Вот радий-дельта, черт ему в крыло… — пролепетал Баранов, протягивая тяжелую коробочку. — Товарищи, — сказал Молния, — до выстрела осталось десять с половиной минут! Из-за аварии связь прервана. — У нас тоже не работало радио, — сказал Матросов. — Надо предотвратить губительную трату энергии на рискованный залп. С центральным постом никаких сообщений. Туда надо бежать!.. Никто не ответил майору. Три фигуры побежали по песку. Это были Молния, Зыбко и Матросов. Они не держались друг за другом, как делают на стадионах. Они бежали рядом. Ураганный ветер дул им в бок, заставляя противоестественно наклоняться. Он валил с ног, выхлестывал глаза, засыпал песком уши, нос, рот. Молния взглянул на хронометр, сбросил плащ и прибавил темп. Спутники его не отставали. При каждом шаге нога глубоко уходила в песок. Глаза почти ничего не видели. Рот судорожно открывался. Дышать было нечем. Легкие готовы были вывернуться наизнанку. От сердца, казалось, отваливались кусочки. Кровь перестала циркулировать. А Молния все прибавлял и прибавлял теми. Трудно было поверить, что это человек. Перед глазами прыгали мутные круги; из-за них нельзя было разглядеть вырисовывающиеся в песчаном тумане силуэты орудий. Ноги подгибаются, тело готово упасть вперед, в затылке что-то хрустит и накапливается тупая боль, сердце останавливается… Воздуху!.. Воздуху!.. Это не бег — это безумное ныряние под водой! В ушах всезаглушающий, разрывающий мозг шум… В кулаке зажато что-то клейкое, липкое… Это кровь из-под ногтей. Земля кружится под ногами… Если б не «подземная гимнастика», то… Нет! Не сдавать! Держаться… Держаться! Сейчас придет дыхание, второе дыхание… Неужели Молния опять прибавляет темп? Это безумие… Но кто-то должен добежать, приостановить залп, приостановить во что бы то ни стало! Где же силы? Воздуху… хоть каплю! Марина увидела в окно бегущего человека и вскрикнула. Рука министра, дававшего предупредительный сигнал, дрогнула. Человек, не добежав двух десятков шагов, упал. Министр быстро открыл дверь и выбежал на улицу. В комнату ворвался вихрь. Марина, задыхаясь, бежала за министром. Она видела его широкую спину. Оба склонились над бесчувственным человеком. — Я не знаю его, — сказал министр, тяжело дыша. — А я где-то видела… и не могу вспомнить! В это время подбежал доктор; — Ба! Кого я вижу! Чемпион комплексного бега Зыбко! Лежащий на песке открыл глаза и прошептал: — Матро… Матро… сов… привез радий… — Что? — закричала Марина, вскакивая с колен. — Нужно перенести его, — сказал министр. Девушка снова опустилась на колени: — Где… где Дима? Где Димочка? — Сзади… Отстал… — прошептал Зыбко, и едва заметная улыбка скользнула по его измученному лицу. Марина уже бежала в пустыню. Платье ее развевалось по ветру. Доктор тщетно пытался догнать Марину. Когда же наконец он подбежал к ней, то смущенно отвернулся и сказал сидевшему на песке Молнии: — Вы, может быть, думаете, что здесь нужна медицина? Ничего подобного! Молния улыбался… — Уважаемая Марина Сергеевна, — говорил министр час спустя, — я вас прошу, вы сами проследите за тем, чтобы все снаряды были покрыты вторым защитным слоем с радием-дельта. Марина кивнула и вышла. Министр остался один. Он долго ходил из угла в угол, чему-то лукаво улыбался. Потом к нему забежал взволнованный доктор. — Понимаете, Василий Климентьевич, у них был необычайный бой с неизвестным гидросамолетом! Противник вывел из строя их силовую станцию и радио… Правда, при этом он разбился сам… Вы, может быть, думаете, что они погибли? Ничего подобного! Их понес ураган. Они стали планировать! Министр кивал. — Понимаете? Радио у них выбыло, моторы испортились! А их несет… Занесло куда-то на остров в океане. Сесть же на обратном пути нигде не могли. Во-первых, населенных мест не было, во-вторых, шасси у них в бою было повреждено. Вот они и полетели сюда. — Знаю. Все это уже знаю. Мне докладывали, — говорил министр, тепло улыбаясь. — Ах, знаете? Ну тогда я побегу кому-нибудь еще расскажу. Доктор исчез, а Сергеев опять стал ходить, все так же лукаво улыбаясь. Вдруг доктор вернулся: — Послушайте, Василий Климентьевич! Я забыл у вас просить, что за таинственную фиолетовую бутылку прислал вам какой-то Ганс Шютте? Что в ней такое? — Газ, — спокойно ответил министр. — Почему же он в пивной бутылке? Василий Климентьевич улыбнулся: — Ганс Шютте собрал в бутылку для личного употребления. Он уверяет, что это лучшее в мире газообразное пиво. — Затем же вам этот газ? — удивился доктор. — Чтобы сделать его химический анализ. — А! — хлопнул себя по лбу доктор. — Вы хотите производить такай газ, чтобы использовать его замечательное свойство? — Да, некоторые из его замечательных свойств, — уклончиво сказал министр. Залп был отложен на двое суток. Через два дня в одиннадцать часов пятьдесят минут по московскому времени министр снова обратился к членам комиссии: — Товарищи, назначенная правительством комиссия в лице всех ее членов, кроме скончавшегося заслуженного деятеля науки профессора Ивана Алексеевича Кленова, полностью в сборе. Через десять с половиной минут будет произведен залп из орудий сверхдальнего боя по очагу воздушного пожара. Все ли готово, по мнению комиссии, для этого залпа? — Все. Министр первым подписал протокол залпа. Поставили свои подписи Марина, Молния, Матросов, несколько военных и представитель Министерства здравоохранения доктор Шварцман. Затем все встали по своим местам. В абсолютной и торжественной тишине прошло несколько минут. Василий Климентьевич дал по строительству предупредительный сигнал. Долго и тревожно выли сирены. За тридцать секунд до двенадцати часов Молния подошел к огневым приборам. — Приготовиться! — скомандовал министр. — Есть приготовиться! — отозвался Молния. Сергеев смотрел на стенной хронометр. — Огонь! — скомандовал он. — Есть огонь! Молния нажал кнопку. Затряслась будка центрального поста управления. Заколебалась почва под ногами людей. Взметнувшееся вверх песчаное облако насыпало новые холмы за много десятков километров от места выстрела. Каждое из ста двадцати орудий сверхдальнего боя напрягло свое магнитное поле; через каждый снаряд, ринулся колоссальной силы электрический ток, исказивший магнитное поле, превративший его в чудовищную взведенную пружину. И сто двадцать магнитных пружин с непревзойденной силой выбросили в черное песчаное небо сто двадцать снарядов. Это не сопровождалось оглушающим звуком. Выстрел был бесшумен. Но отдача фантастических лафетов прокатилась подземным гулом, как страшное землетрясение. Удар этот был отмечен сейсмографическими станциями даже в Мексике. Во многих городах близлежащих стран остановились потревоженные настенные часы. Снаряды пробили слой атмосферы, как броню, и понеслись в почти безвоздушном пространстве по заранее с идеальной точностью рассчитанным кривым. Наконец они снова вернулись к Земле и помчались к кроваво-красным бушующим волнам Тихого океана. Отблеск воздушного пожара освещал клочковатую пену, делал океан похожим на расплавленную медь. В центре ослепительного и в то же время густого зарева чернел пылающий остров Аренида. Снаряды приближались к нему. Еще мгновение — и они врежутся в буро-желтые скалы… Но ни один снаряд не попал на остров. Ни один! Что это? Неверный расчет? Правильным кольцом легли снаряды вокруг очага пожара. Они углубились в толщу вод и там взорвались, выделив все несметное количество запасенной в них энергии. Электрические орудия обеспечили не только точность попадания, но и одновременность погружения в воду и взрыва снарядов. И тогда вскипел и покрылся язвами Великий океан. Над каждым снарядом родилась воронка, похожая на кратер вулкана с бешено крутящимися стенами. С шипением вырвались из кратера столбы алебастрового пара и врезались в небо удивительной колоннадой. Ветер рушил, валил эти колонны, но они неуклонно рвались в небо… Миллионы тонн воды, десятки кубических километров ее мгновенно превратились в туман, темной толщей придавивший океан. Ураган повлек его тяжелыми, низкими тучами, срывавшими пену с остатков океанских вод. Помчался мутный ураганный туман. Над пылающим островом тучи столкнулись. Блеск ударивших молний затмил воздушный пожар. Раскололись ржаво-желтые скалы… Чудовищный взрыв грома закачал космическую глыбу, и на дрожащий остров рухнул испаренный океан. Это не был ливень, это было повисшее в воздухе море. На короткий миг водяной горой поднялся в этом месте океан. Остров и раскаленная атмосфера над ним погрузились на мгновение в воду. Сокрушительная тяжесть воды опрокинула остров, и он скатился в черную пучину. Сомкнулись над ним клокочущие воды… Гением человека созданный ливень, какого не знала Вселенная, потушил воздушный пожар и начисто смыл и налеты серого окисла азота, и сам пылавший остров. Все электрические станции прогрессивных стран уже отдавали свою энергию на восстановление атмосферы. А люди? Что сталось с ними? Дышать могли все, но… Люди сами определяют свою судьбу. Каждый герой нашего романа, каждый человек спасенной Земли почувствовал, как никогда глубоко, в какой части мира он живет.ЭПИЛОГ
Солнце стояло высоко; его почти вертикальные лучи палили, готовые выжечь землю, превратить ее в пустыню. Но у самой земли было совсем не жарко, скорее сыро. Мальчик лежал, притаившись у корней. Пахло прелью. Перед глазами качалась былинка. Чуть выше висела лиана. Из лиан можно делать веревки и забраться на неприступные горы. Мальчик осторожно, отвел лиану в сторону. Теперь в проеме листвы стала видна, огромная агава. Она походила на фонтан с зелеными мясистыми струями. За агавой серебрилась вода. Мальчик осторожно двинулся. Он полз как ящерица. Настоящие ящерицы проворно мелькали мимо него. Мальчик рванулся и схватил одну из них, быструю, зеленую, с выпуклыми глазами. Может быть, раньше она жила здесь в песках… Мальчик сунул ее себе за пазуху, рядом с толстой книжкой. Потом он лег на спину и стал смотреть вверх. Растительность, буйная, тропическая, была так густа, что небо виднелось только в просветах — без единого облачка, густо-густо-синее, как пролитые чернила. Мальчик думал о книге, которую прочитал. Небо казалось ему черно-фиолетовым, и рядом с ослепительным солнцем на нем «горели звезды», как в стратосфере. Потом мальчик вертел воображаемые маховички и, сощурив один глаз, смотрел на решетчатую ферму «электрического орудия». Когда орудия строили, здесь вокруг была пустыня. А теперь настоящие джунгли. И он вообразил себя в джунглях. Вокруг него были заросли бамбука. Если захотеть, можно сделать из него хижину. Настоящую хижину, на сваях. Но без дверей. Внизу, в полу, будет люк, под который можно подплыть на лодке. Он привезет добычу: плетеную корзину рыбы, шкуру убитого тигра, тушу злого и глупого кабана. Мама спустит сверху веревку, и он, ничего не говоря, привяжет свои охотничьи трофеи и прислушается. Мама вскрикнет, потому что в корзине окажется целый тигр… или чучело тигра, которое он успеет сделать в лесу. Мама подойдет к передатчику «обратной волны», чтобы радировать папе на ракетодром. А потом на хижину нападут дикари… нет, не дикари! Дикарей не бывает. Нападут крокодилы. Это будут очень умные и хитрые крокодилы. Они станут грызть бамбуковые сваи и сломают свои острые зубы, потому что сваи будут сделаны не из бамбука, а из самой лучшей авиационной стали… Есть такие стальные трубы. У него дома, в Москве, запрятана одна папина труба. Вот это труба! Ее невозможно согнуть, сколько ни бей молотком. Крокодилы сломают свои проклятые зубы, и из глаз у них будут катиться слезы. Слезы из глаз крокодила катятся не потому, что он добрый. Чует запах мяса — вот и выделяется слюна. Только слюна у него течет и из глаз тоже… Потому крокодил и «плачет», когда пожирает свою добычу. Всех напавших на хижину крокодилов он бы перестрелял из сверхаккумуляторного ружья, целясь из люка в их выпуклые глаза. Мальчик достал из кармана увеличительное стекло и вытащил из-за пазухи ящерицу. Он стал рассматривать ее, увеличенную, огромную, воображая ее крокодилом. Через морду тянулся шрам, и один выпуклый глаз был сощурен. «Ах, вот это кто! Проклятый хищник! Не выплачешь пощады! Беги, спасайся! Все равно тебя догонит „видящая стрела“. И мальчик выпустил ящерицу. Она шмыгнула, вильнув хвостом. А мальчик натянул воображаемую тетиву… «Стрела нагнала хищника, и он упал меж камней… И от его скрюченной руки с отвращением отпрянула морская волна, успев лизнуть коробочку с самым тяжелым в мире металлом». «Тысяча три морских черта. Пусть кошка научится плавать!» Мальчик смотрел сквозь листву на озеро, противоположный берег которого едва был виден. Оно казалось ему морем. «Якорь мне в глотку! Пусть не зайду я ни в один кабак! Брам-стеньги! Кливера! Фок-мачта! Гитовы!» Он управляет парусами. Босиком стоит на палубе. Доски так накалились, что сейчас задымятся. Брызги попадают в лицо. На губах соль. Ветер рвет паруса. Шхуна, накренившись и черпая воду бортом, с тихим шипением летит по волнам. Он сделает такое судно, которое будет совсем бесшумно скользить по воде, лодку с электрическим насосом и сверхаккумулятором. Насос будет отбрасывать назад струю, а реактивная сила — толкать лодку. И она беззвучно станет скользить… Ну прямо вот так… И мальчик, лежа на животе, показал сам себе, как будет скользить его лодка. Он выполз из зарослей, но продолжал двигаться к берегу по-пластунскн. Над водой с веточкой в руке задумчиво склонилась женщина. Она была молода или казалась молодой, несмотря на седую прядь в волосах. Мальчик тихо подкрадывался к ней. Вот если бы мама упала в воду. Он бы нырнул и вытащил ее на берег. Но мама сидела спокойно, погруженная в свои мысли. «Неслышно подползти и положить ей на колени цветок, который сорвал по пути! Это замечательно красивый цветок, как бабочка, только не летает». Цветок был положен на колени, и мама ничего не заметила — ни цветка, ни сына. Тогда он положил в рот четыре пальца и свистнул так, как папа учил, а сам папа научился свистеть у американских индейцев, с которыми жил маленьким. Мама вздрогнула, испугалась. Но мальчик уже повис у нее на шее и целовал ее в ухо, в щеку, в волосы… — Смотри, какой я тебе принес цветочек! — сказал он, и она рассмеялась. — А ящерицу я отпустил. У нее тоже дети есть. — Где же ты пропадал, Андрюша?.. Спасибо за цветок. Идем. Папа ждет. У мальчика забилось сердце. Вчера, когда они прилетели с мамой, он видел отца лишь мельком, не успел с ним поговорить. Он был для него высшим авторитетом, героем, товарищем и другом… Если бы можно было, Андрюша помчался бы сейчас бегом. Но мамы бегом, не бегают, а бросить маму нельзя. Они пошли по берегу озера. Здесь был чудесный пляж. На песке оставались мамины следы. Андрюша отстал и крался по этим следам, воображая, что он кого-то выслеживает. И вокруг — тоже песок… Нет ни зеленых зарослей, ни бамбука. И конечно, никакого белого города, только песок, барханы, как раньше, когда здесь строили электрические пушки… Потом он стал ставить ноги в мамины следы. Никто не догадается, что здесь проходили двое! Наконец он догнал маму, но не в пустыне, а на красивой набережной молодого города с домами — высокими и легкими, улицами — прямыми и тенистыми. У воды росли стройные кипарисики. Мама сказала, что кипарисикам столько же лет, сколько Андрюше. — Почему столько же лет? Почему построили здесь, в пустыне, город? Почему?.. Мама терпеливо отвечала, что город построили потому, что Великий канал прошел здесь через пустыню, наполнил водой озеро, оживил пески. Но еще раньше проведены были сюда шоссе и железная дорога, водопровод и высоковольтная линия. А кипарисики посадили позже. — А почему здесь построили ракетодром? А почему… — начал было мальчик, но мама сказала: — Не приставай. Они дошли до центральной площади города. Высоко над кронами деревьев поднималась ажурная ферма. Казалось, в небо нацелен фантастический мост, продолжением, которого могла быть радуга. Мальчик застыл в восхищении. Он крепко прижал к себе хранившуюся за пазухой книжку, в которой он прочитал обо всем, в память чего было оставлено на городской площади это сооружение. В следующее мгновение мальчик вместе с книжкой взлетел на воздух. Папа, огромный и сильный, держал сына на вытянутых руках. Растопырив руки, сын превратился в самолет. Книжка и увеличительное стекло вывалились на землю. Мама подобрала их. Оказывается, папа ждал их здесь в машине, чтобы отвезти на ракетодром. Мама должна будет проверить сверхаккумуляторы, которые будут нагревать вылетающие назад газы реактивного двигателя. Мама еще вчера объяснила сыну, что это выгоднее, чем даже использовать атомную энергию, потому что нет опасной радиации. А потом все вместе с генералом Молнией поедут к нему и к тете Наде пить чай. Мама села за руль, а Андрюша с папой уселись на заднем сиденье. Мама вернула сыну книжку и лупу. Машина помчалась по глазурному шоссе, которое было проложено еще перед строительством пушек. — Папа, правда, это про тебя написано? — спросил Андрюша, показывая книжку. — И про маму? Правда, ты видел Вельта? Отец усмехнулся: — Вельт — это капитализм. Только таким его и можно увидеть. — Значит, его догонит стрела? — Очень может быть, что ее выпустят гансы и джимсы, недавно служившие ему. — Так и будет. Во время катастрофы всем стало ясно, какие они есть, эти капиталисты, — сказал Андрюша, а потом спросил: — А разве могла быть мировая катастрофа? — Могла. Угроза катастрофы долгое время висела над головами людей. Грозило страшное бедствие… — Капиталисты все равно бы погибли. Отец рассмеялся, взял книжку и показал ее мальчику через увеличительное стекло. — Эта книга — памфлет, — объяснил он. — Он вроде этого увеличительного стекла. Все в нем немножко не по-настоящему, чуть увеличено: и лысая голова, и шрам на лице, и атлетические плечи, и преступления перед миром, и подвиг… Но через такое стекло отчетливо виден мир, разделенный на две части, видны и стремления людей, и заблуждения ученых. — Бернштейн, Кленов, Марина… — перечислил мальчик. — Бернштейн напоминает тех ученых, которые создали в Америке атомное оружие и не хотели думать, что оно грозит существованию человечества. А ведь и они могли стать виновниками мировой катастрофы. — А можно было ее остановить? — Только не отходя в сторону, не сидя сложа руки, как Кленов. Требовалось искать, как Марина… Напрячь все силы страны, как не раз делал наш народ, примером чего была защита Брестской крепости. Наконец, построить «для тушения мирового пожара» пушки… Мальчик оглянулся на все еще видимую, устремленную в небо ферму. Отец, сощурясь, продолжал: — Сначала построили пушки, а потом мост между нашей страной и Америкой… — Арктический мост! Плавающий туннель через Северный полюс! Я знаю, меня назвали в честь строителя моста Андреем! — Если бы ты родился девочкой, тебя назвали бы Аней. — В честь замечательной строительницы межпланетного корабля! — Когда пушки потушили пожар и между народами проложены были мосты, тогда можно было строить и межпланетные корабли. — И ты полетишь теперь на Марс? — Скоро. — А правда, Таимба была марсианкой? Если есть одна марсианка — есть сто! Ты встретишься с ними на Марсе. — Вполне возможно, — согласился отец. — Ты им расскажи, как взорвался их корабль в тунгусской тайге. Но только он, наверное, сначала опустился на Землю, высадил своих в тайге, а потом подскочил и взорвался. — Может быть, и так, — улыбнулся отец, — если марсиане не погибли еще в пути, столкнувшись с метеоритом. — А почему, когда вы летели на Луну, не столкнулись? — Надо много раз слетать на Луну, чтобы непременно встретиться с метеоритом. Но если летишь на Марс или к другой звезде — это далеко. С каким-нибудь метеоритом, наверное, придется встретиться. — А как же вы? — забеспокоился мальчик. — Метеориты большие? — Большей частью песчинки. Но даже и ее достаточно, чтобы пробить в толстой стальной броне дыру с мой кулак. — Значит, две толстые брони надо делать, — решил мальчик. — Нет. Такой корабль будет слишком тяжел, не поднимется. Мы сделали кабину резиновой… — Резиновой? — опешил мальчик. — Да, вроде бескамерных автомобильных шин, которые не боятся вражеских пуль. Они наполнены густой массой. Она устремляется в пробитую дырку, заполняет ее, быстро густеет и заклеивает ее. Так и у нас. Пусть через нашу кабину с двойными резиновыми стенками, между которыми находится густая масса, пролетит маленький метеорит. Отверстия тотчас же затянутся, и мы будем продолжать полет. — Здорово! — сказал мальчик и задумался. — Папа, ты узнай на Марсе: наверно, их корабль тоже был резиновый, иначе как же Таимба могла долететь до Земли? Отец рассмеялся. Машина подъезжала к ракетодрому. К своему удивлению, Андрюша увидел знакомую ферму электрического орудия. — Это уже не памятник, — объяснил отец. — Это мы построили недавно. Электрическая пушка с помощью сверхаккумулятора выбросит в небо стратоплан, от которого на высоте двадцати пяти километров отделится наш межпланетный корабль. Это удобнее ракетного взлета — это как бы первая ступень, остающаяся на Земле. «Космическая катапульта».
Машина проехала мимо огромных ангаров, мастерских, домов исследовательского института. Ферма устремленного в небо моста, как и в городе, занимала центральную площадь. В нижней части взлетной эстакады лежало огромное цилиндрические тело размером с электрический поезд. Ближе к хвосту виднелись короткие, отогнутые назад крылья, часть «стрелы» была красной. — Красная резина? — деловито осведомился мальчик. — Нет. Резина прикрыта металлической оболочкой. Металл покрашен в такой цвет, чтобы отражать тепловые солнечные лучи во избежание перегрева. — Теперь я знаю, какой был корабль у марсиан, — проговорил Андрюша. 30 июня 19… года в 7 часов утра в далекой сибирской тайге произошло необыкновенное событие. Около тысячи очевидцев сообщили Иркутской обсерватории, что они видели в небе сверкающий метеор, оставивший за собой яркий след. Однако нигде в тайге метеорит не упал на Землю. Как стало известно из официального сообщения, над тунгусской тайгой на высоте двадцати пяти километров в указанное время от стартового стратоплана отделился межпланетный корабль, который взял курс на Марс. 1935-1941-1955-1975 гг. Москва
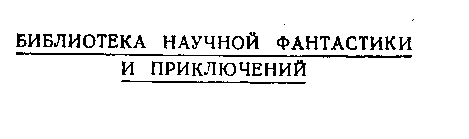
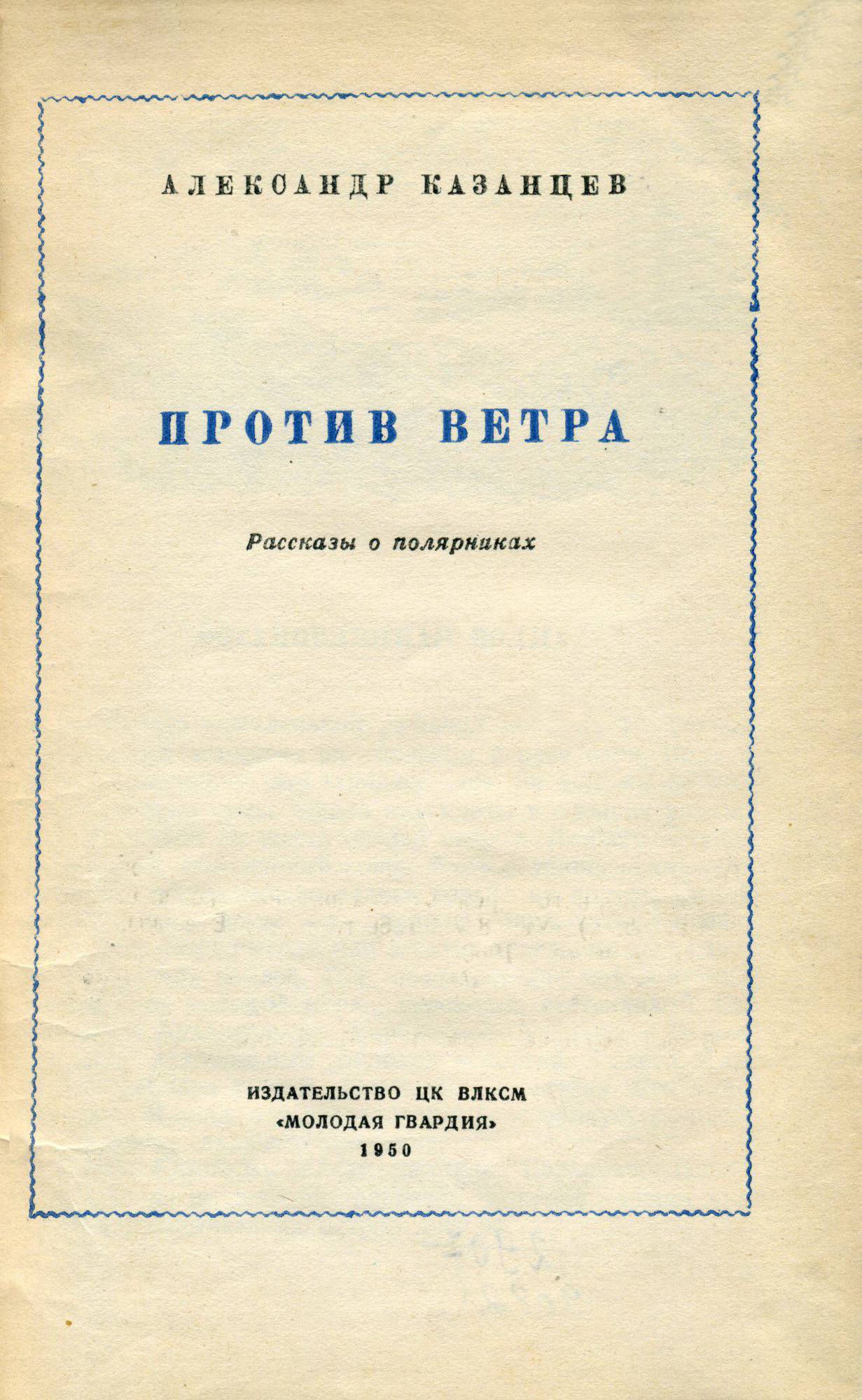
Против ветра (ПОЛЯРНЫЕ НОВЕЛЛЫ)

ПОМОЩЬ

Усть-Камень — маленький рыбачий поселок. Несколько бревенчатых домиков на пологом берегу широкой, словно разлившейся в половодье реки. За домами — островерхие ненецкие чумы. Около чумов нарты в оленьих упряжках. В каждой по шесть оленей веером. Дальше тундра — зеленый обманчивый ковер. Если ступишь — хлюпает вода. Прежде по тундре ездили только на нартах. Зимой в упряжке четыре оленя — по снегу ехать легче, так объяснил мне мой попутчик, с которым мы прилетели сюда на сухопутном самолете. Когда мы приземлились, он пошел за новостями к начальнику аэропорта. Летающая лодка, возвращаясь с ледовой разведки, должна была зайти в Усть-Камень и захватить нас на остров Дикий. Издалека донесся шум мотора. Через тундру шел крытый вездеход. Он медленно взбирался на пологий холм, потом опустился в низину. Вездеход был похож на крохотный катерок, плывущий в мертвую зыбь по зеленому морю. Вот он снова появился на гребне. Машина приблизилась к оленьим упряжкам. Теперь было видно, как врезались колеса в сочный травянистый покров. Гусеницы оставляли за собой широкий мокрый след. Олени к урчащему чудищу относились спокойно: как видно, привыкли. Около крайнего домика вездеход остановился. Первым сошел юноша и куда-то скрылся. У машины, подняв капот и то и дело заглядывая в мотор, возился плотный мужчина в комбинезоне и мятой кожаной фуражке. Он что-то мурлыкал себе в усы. — Кузьма Андреевич! Поезжайте заправиться в аэропорт, потом вернетесь за мнойсюда! — неожиданно услышал я знакомый женский голос. На крыльце рыбачьего домика стояла женщина. Даже в ватной куртке и штанах она была стройной. Я сразу узнал ее. Вспомнился фронт и группа военных топографов, повстречавшаяся мне близ Петсамо. Галина Николаевна тоже узнала меня: — Вы?! Откуда? Куда? — Что здесь делает топограф? — спрашивал я, пожимая протянутую руку и вглядываясь в красивое лицо с мягко очерченным подбородком и строгими серыми глазами, под которыми появились морщинки. — Теперь я геолог, — отвечала Галина Николаевна. — А где муж? — Убит… там же… вскоре после вашего отъезда, — сказала Галя и отвернулась. Механик с грохотом закрыл капот. Он смотрел на меня укоризненно. — Куда же вы? — уже спокойно спросила Галя, снова поворачиваясь ко мне. Я рассказал, что лечу на остров Дикий, чтобы сесть там на корабль, который доставит меня на "Георгия Седова". — Я буду на «Седове» до конца навигации, побываю на многих островах, даже самых северных. Галя оживилась. — Какая удачная встреча! Непременно передайте привет одному радисту Ване. Он раньше работал со мной в тундре. Потом решил уйти на острова. На самые северные… Мы сидели с Галей на косых деревянных ступеньках и смотрели на разгоравшуюся оранжевую зарю. Я расспрашивал и слушал Галю, поглядывая на ее тонкий профиль, ватник, резиновые сапоги. Она рассказала мне о своем первом самостоятельном рейсе в качестве начальника геологоразведочной группы. Вездеход шел через тундру. Далеко впереди, справа от машины, бежала длинная тень от крытого кузова. Обгоняя вездеход, она заползала на пологую гряду и, переваливая через нее, растворялась в темном пятне за бугром. Галя сидела рядом с водителем-механиком Добровым. Добров не скрывал своих мыслей: "Отдали под начальство!.. Дожил, доработался, заслужил механик, товарищ Добров!.. Теперь тебя будут учить, как ездить по тундре!.. А потом и горшки в печь будешь ставить…" Галина Николаевна действительно объявила, что готовить обед будут все по очереди. Пришлось готовить и Доброву. Выполнял приказание он молча, ни на кого не глядя, словно ему было совестно. Усевшись в кабине, Галя сказала механику: — Я буду, Кузьма Андреевич, давать вам только общее направление по компасу, а как проехать по тундре, вы лучше меня знаете. Добров тогда бросил на начальника быстрый взгляд. Шли против солнца, и приходилось щуриться. "Вот оно как! Значит, все-таки понимают, что такое водитель-механик!" Третьим членом группы был Ваня-радист. Для него-то, как и для Гали, этот рейс тоже был первым серьезным испытанием. В отличие от Доброва Ваня сразу же признал начальство. Пожалуй, даже отнесся к нему слишком внимательно. Невысокий, с веснушчатым лицом, с едва пробивающимся пушком на подбородке, он старался окружить Галину Николаевну заботой, предложил даже готовить вместо нее и искренне обиделся, когда Галя не захотела об этом и слышать. Все же ей не удалось избежать его мелких услуг. Ваня открывал банки консервов, прежде чем Галя успевала об этом подумать. Ее спальный мешок оказывался развернутым раньше, чем они останавливались на привал. Однажды Ваня прочел Галине Николаевне стихи о богине Диане. Диана, обгоняя оленей, носилась по тундре в поисках чудесных кладов, которые она видела на сотни метров под землей. Галя спросила Ваню, видел ли он когда-нибудь статую богини Дианы. Тот признался, что нет. Потом Галя сказала Ване, что у нее был сын, который мог бы быть почти ровесником Вани. На самом деле у Галины Николаевны детей никогда не было, и уж, во всяком случае, не могло быть взрослого сына. Эти слова произвели на Ваню огромное впечатление, тем более что были сказаны в тот день, когда рация группы выбыла из строя. Забыв обо всем на свете, Ваня тщетно пытался наладить аппаратуру: что-то разбирал и собирал, перепаивая провода, вертел ручки… Механик Добров ворчал: — В Арктике каждый должен уметь при случае заменить другого. А у нас что? Только стряпать и можем по очереди. — Это верно, — глядя прямо в глаза Доброву, сказала Галя. — Вы непременно должны научить меня водить машину, я вас буду учить геологии. А радиотехнике будем учиться вместе. Добров покрутил усы и ничего не ответил. — Так что, Галина Николаевна, — сказал он на следующий день, — рация накрылась. Надо нам поворачивать домой. Галя нахмурилась. — Мы еще не выполнили задание. Вы говорите, нас потеряют на базе? Последние дни рация работала с перебоями. На базе поймут, что она вышла из строя, а мы продолжаем выполнять задание. Так и будет. Добров пожал плечами. Но решение начальника ему понравилось. Чувствуя себя неравноправным членом группы, Ваня был в таком отчаянии от своего бессилия, что Галя стала обращаться с ним ласковее. Поручала ему собирать образцы пород в тех местах, где они останавливались. Уже два месяца колесила геологическая группа по тундре, лишь изредка встречая оленьи стада и оленеводов, перекочевывавших ближе к морю, дальше от гнуса, летевшего из тайги. Находки, сделанные группой в последние дни, требовали широкого фронта работ. Может быть, удастся начать работы еще до снега. Будь у нее радио, Галя вызвала бы усиленный отряд с нужным оборудованием; теперь приходилось самой спешить на базу. Солнце низко висело над горизонтом. Длинная тень вездехода, забегая вперед, словно нащупывала дорогу. Галя думала о маме, о Хибинах, о рыбачьем поселке, в котором родилась. Говорят, когда на это место впервые пришли геологи, там не было ничего, кроме тундры и гор. А потом вырос замечательный город. Геологи показались тогда Гале людьми, прокладывающими путь в «завтра». Она решила стать геологом. В войну пошла защищать родные места. Потом, уже геологом, пришла сюда, в северные пустыни, где тоже вырастут когда-нибудь города. Было трудно… Хорошо, что выросла на Севере, хорошо, что мать воспитала в труде: это во многом помогло. Кузов мерно раскачивался, наклоняясь на буграх. Галя то прижималась к дверце, то приваливалась к плечу Кузьмы Андреевича. Он с заботой поглядывал на начальника. В уголках губ усталые складки. Что-то ей снится? Может быть, видит во сне асфальтовое шоссе, про которое недавно говорила Доброву, видит заводы и города, что вырастут здесь, подле их находок? Как она обрадовалась, когда осмотрела последнюю вырытую ими яму! Кузьма Андреевич спрыгнул тогда к ней вниз. Галя рассказывала ему, он слушал, не все понимая… Эх, непременно будет он учиться на геолога! Сорок лет не так уж много. А то что он механик, так это только на пользу будет. В Арктике люди непременно должны друг друга заменять. Вот Ваня, он еще зеленый, а помочь сейчас некому… Галя привалилась плечом к Кузьме Андреевичу. Машина накренилась влево. Добров быстро вывернул руль, перехватывая баранку. Но кузов кренился все больше, машина остановилась, забуксовала. Галя проснулась. — Замечтался! — в сердцах воскликнул Кузьма Андреевич. Ваня забарабанил в стенку кабины. Галя распахнула дверцу и легко выпрыгнула на траву. Под ногами захлюпало. Левое переднее колесо по самую ось ушло в топь. Галя забежала за кузов, столкнулась с Ваней. Он стоял над левой гусеницей, почти по колено в воде. — Не газуй, не газуй! — кричал Ваня. — Еще глубже гусеница уходит… С трудом вытаскивая сапоги, Галя обошла машину. Добров выглянул из кабины. — Назад, полегоньку, — спокойно скомандовала Галя. — Вы бы сели в кабину, Галина Николаевна, — предложил Ваня, — а то вода зальет еще в голенища… Галя улыбнулась. — Берите лопату, Ваня. Трещал мотор, крутились колеса, летели комья липкой грязи. Забрызганные, измазанные, Галя и Ваня тщетно старались помочь мотору. Машина ушла в топь по самый кузов. — Вот ведь какое дело, — сокрушенно говорил Добров, осматривая увязшие гусеницы, — а ведь когда-нибудь будут здесь асфальтовые дороги, непременно будут… — Не вовремя о мостовых вспомнили, Кузьма Андреевич, — вздохнул Ваня. Галя нахмурилась: — Неужели придется ждать, когда подмерзнет? Мы не можем терять времени. — А вот и вовремя о мостовых вспомнил, — резонно возразил Ване Добров и обернулся к Гале: — Вскроем верхний слой с бугра. До мерзлоты и полуметра не будет. Начнем мостить мерзлыми «кирпичами»… Ваня покраснел и полез в кузов за ломом и второй лопатой. — Галина Николаевна! Мы сами… Зачем вы лопату берете? — протестовал он. Галя работала упорно, наравне с мужчинами. На северном склоне бугра сняли оттаявший слой земли, докопались до вечной мерзлоты и, с трудом вырубая куски грунта, стали переносить их в вырытую гусеницами колею. Через три часа Добров снова сел за руль, включил мотор. Кузов затрясся, машина дрогнула. Завертелись колеса сначала в одну, потом в другую сторону. Полетели мерзлые комья. И вдруг что-то хряснуло, мотор завыл, как от боли. Колеса остановились. Побледневший Добров выскочил из кабины. Лопатой прорыв себе ход, полез под кузов. Галя и Ваня молча стояли, наблюдая за ним. Весь мокрый, перепачканный, он наконец выбрался из-под кузова и поднялся на ноги. — Так что, Галина Николаевна, — сказал он, — плохое дело… Карданный вал полетел… Теперь все. Галя отвернулась, чтобы спутники не видели ее лица. Положение казалось ей отчаянным. Что скажет она подчиненным, которые ждут ее решения? Во всем виновата она. Надо было возвращаться, как только рация выбыла из строя. Но это значило бы на год отложить завершение поисковых работ. Имела ли она право рисковать? Но разве это был уж такой большой риск? Разве на фронте они посчитали бы такую поездку за риск? На фронте они и пешком… Галя быстро повернулась к Доброву. — Как вы думаете, Кузьма Андреевич, — спросила она спокойным голосом, — сколько километров осталось до базы? Добров не смел смотреть в глаза начальнику. — Больше двухсот, Галина Николаевна, — сказал он, понуря голову. — Ваня, готовьте продукты в дорогу. Пойдем пешком, — решительно заявила Галя. — Пешком? — оторопело переспросил Ваня. Они пошли. Застрявшая машина с крытым кузовом, беспомощно накренившаяся, долго была видна путникам. Ваня часто оглядывался. Галя не оглянулась ни разу. Она шла первой. У нее был такой же рюкзак, как и у мужчин. Поникший Добров шагал за ней. Идти было трудно. Обманчивый зеленый ковер местами был непроходим. Бесконечные речушки, озерки и болотца встречались на пути. Галя неутомимо шла вперед. У нее был мужской, упругий шаг. Высокая, в ватных штанах, она походила на тонкого юношу. Привалы были короткими. Отдыхали на вершинах бугров, где было не так сыро. На следующий день солнце скрылось. По небу поползли размочаленные тучи. Тундра стала серой. Путники не останавливаясь шли вперед. Повалил снег. Он таял на земле, но порошил глаза, заползал за ворот. Поднялся сильный ветер. "Больше двухсот километров! — с ужасом думала Галя. — За первые сутки мы едва прошли пятнадцать. Ведь все время приходилось вытаскивать увязшие ноги. Что ждет нас впереди? Труднее всего держать себя в руках, подавать пример. Хватит ли у меня сил? Главное, чтобы шаг был спокойным, уверенным. Не показывать усталости!.." Вдруг Галя радостно вскрикнула. Обернувшись к спутникам, она указала рукой на ближайшую гряду. Олень! Животное стояло, как бы всматриваясь в приближающихся людей. Через мгновение оно помчалось вниз по склону. На гряде появлялись все новые и новые олени и скатывались следом за первым. Они мчались вскачь, а их рога, параллельные земле, словно плыли над ней. Оленье стадо! Близко люди! Путники прибавили шагу. Олени проносились мимо них. Это были небольшие животные, ростом едва по грудь человеку. Галя остановилась. — Нарты! — крикнул Ваня. С гряды быстро спускалась оленья упряжка — шесть оленей веером. Сидевший на нартах ненец правил длинным шестом. Путники замахали руками. Нарты остановились. Ненец в оленьей кухлянке сошел на землю. — Очень здравствуй, — сказал он, обращаясь к Доброву. — Почему пешком тундра ходить? Узкие глаза на морщинистом лице приветливо щурились. — Машина поломалась, — ответил Добров. — Ай-ай-ай! — закачал головой ненец. — Плохой дела… Поедем наш чум. Угощать будем. Скажи жена, пусть мешок кладет. — Это не жена, — сказал Добров. — Это начальник. — Начальник? — удивился ненец, недоверчиво оглядывая Галину Николаевну. Оленям трудно было везти четверых. Старый ненец решил идти пешком и передал длинный шест Доброву. Тот отрицательно покачал головой. — Рулевое управление не по мне. — Я умею, — сказала Галя. — Давайте сюда хорей. Ненец взглянул на нее с уважением. Через час путники сидели в чуме у председателя оленеводческого колхоза. — Ай-ай-ай! — сокрушенно качал головой старик, слушая гостей. — Радио поломал, машина поломал… — Мы очень просим, — говорила Галя, — доставить нас до ближайшего места, где есть радио. Мы дадим о себе знать, вызовем помощь… — Ай-ай-ай! Очень много километров… Однако ваш радио совсем плохой? — Совсем плохой, — подтвердил Ваня. — Вот я — радист, а ничего поправить не мог. — Ты поправить не мог? — переспросил старик. Откинув меховой полог чума, вошла женщина. Старик засуетился. — Оленя резал, — говорил он. — Мясо кушать будем. Сырой мясо будешь кушать? Обратившись к женщине, старик сказал ей несколько слов и пояснил гостям: сейчас она один нужный человек звать будет. — Позвольте мне сварить оленину, — попросила Галя. — Я очень хорошо умею готовить. — Зачем портить хороший мясо? Как хочешь… Ты мой гость, — пожал плечами старик. Галина Николаевна вышла следом за женщиной. — Не жена? — недоверчиво переспросил старик. — Один женщина тундра ходит… Начальник? Почему стряпать хочет?.. В чум входили все новые и новые ненцы. Здоровались с гостями за руку и садились подле них на разостланные оленьи шкуры. Все пришедшие, несмотря на теплую погоду, сидели в меховых кухлянках. Только один был в солдатской шинели. Верно, недавно вернулся из армии. Галина Николаевна принесла вареную оленину. Началось угощение. Из уважения к гостям ненцы ели приготовленное Галей кушанье. — Мы не так кушаем, — объяснял старик. — Вареный мясо — порченый. Мы вот так кушаем. Достав острый нож, он взял кусок сырой оленины, поднес его ко рту и, схватив зубами, отрезал ножом кусок у самых губ. — У нас нет овощей и витаминов, — сказал ненец в шинели. — Сырое мясо предохраняет наш народ от цинги. Ваня удивленно смотрел на говорившего. — Это правда, — подтвердила Галя. — Мне пришлось однажды проверить это на себе. Я поборола цингу сырым мясом. Старик одобрительно посмотрел на Галю. — Хорей в руке держишь… тундра ходишь… мясо понимаешь… настоящий человек… Галя посадила к себе на колени маленького мальчонку с блестящими, как бусинки, глазами и черными жесткими волосами. — Почему я не вижу у вас ребят постарше? — спросила она. — Школа уехал, — ответил старик. — У нас в тундре теперь организованы школы с интернатами. Ребята уже съезжаются, — пояснил ненец в шинели. — Вылка там учить будет, — старик указал на говорившего. Вылка смутился: — Я еще не знаю. Не решил, где буду работать. — После армии? — спросила Галя. — Да, после армии. — Шесть лет дома не был. Отец ушел, брат ушел, — заметил старик. — Куда ушли? — Отец — исполком председатель. Брат картинки рисует. — Мой брат художник и резчик по кости, — пояснил Вылка. — Я думал, ты жена, — снова обратился к Гале старик. — Раньше тундра русский женщина не ходил. Купец ездил без жена. Приедет в стойбище. Кушает, пьет, торгует… Потом жена давай! — Правда, что у вас такой обычай был — давать гостю жен? — спросил Добров. — Не было такого обычая! — горячо возразил Вылка. — Это купцы пустили легенду. Они заставляли бедных людей отдавать им своих жен и клеветали, что такой обычай… — Купца нет… — сказал старик, — богатей-оленевод больше нет… колхоз есть… олени общий, а жена у каждого ненца свой… Вот так теперь живем… — А мы хотели просить у вас помощи, — обратилась ко всем присутствующим Галя. — Нам нужно дать знать о себе по радио. Скажите, какой самый ближний пункт, где есть рация? — Далеко, ой, далеко будет! — закачал головой старик. — Оленям долго бежать придется… Шибко далеко, однако… — Я думаю, что самый ближний пункт — это ваш вездеход, где осталась рация, — неожиданно сказал Вылка. — Так ведь рация испорчена! — вырвалось у Вани. — Я тоже так думал. Вездеход близко, полярная станция далеко… Я Вылку просил… — указал старик на демобилизованного. — Ты, что ж… проводить нас сможешь? — спросил Вылку Добров. Вылка, коренастый, неторопливый в словах и движениях, переждал минуту, а потом сказал: — Провожу вас… постараюсь помочь… Провожу до вездехода. — До вездехода? Вы что, смеетесь? — вскричал Ваня. Галя успокаивающе подняла руку. Через тундру один за другим шли четыре крытых вездехода. Каждый шел своей дорогой, вернее без дороги, оставляя за собой мокрую колею. Длинные тени машин ползли по земле, забираясь на пологие бугры. Тундра походила на зеленое море, то вскидывающее автомашину на гребень волны, то опускающее ее в болотистую низину. На очередной гряде с первого вездехода заметили далекую накренившуюся машину с крытым верхом. — Наконец-то! Это они! — воскликнул начальник партии, сидевший в первой машине. Навстречу вездеходам мчались оленьи нарты. Галя правила хореем. Вездеход и олени встретились в низине. Галя соскочила на мокрую траву, подбежала к автомашине и крепко, по-мужски, пожала протянутую из кабины руку. У накренившегося вездехода стояли Добров, смущенный Ваня и ненец Вылка в солдатской распахнутой шинели. На гимнастерке виднелась колодка орденов. — Здравствуйте, товарищ Вылка! — первым поздоровался с ним начальник партии. — Спасибо, что выручили наших. Вылка улыбнулся: — Не за что, товарищ начальник. Один конденсатор пробило, другой утечку давал. Я только немного изменил схему. Вот рация и заработала. — Спасибо, Вылка! — сказала Галя. — Я благодарю вас уже, наверное, в тысячный раз. — Галя неожиданно обняла и поцеловала ненца. — Подумайте только, Георгий Ильич, — обратилась она к начальнику партии. — Кто мог ожидать, что в стойбище мы найдем такого радиста! — Армейский радист! — многозначительно заметил начальник партии. — А на вас уже покушаются, — повернулся он к Вылке, — зовут работать на ближайший радиоцентр. — Спасибо, — с достоинством ответил Вылка. Он стоял перед приехавшими спокойный, коренастый, неторопливый. — Спасибо. Может быть, я подожду. Я хочу, чтобы в каждом стойбище, в каждом чуме было радио. Это непременно надо сделать. — Будет сделано… многое будет сделано! Вы свяжитесь со всеми, кто из армии вернулся, — посоветовал начальник. Ване наконец удалось отвести начальника партии в сторону. — Я на курсы попрошусь… — горячо, но шепотом говорил он. — А потом на зимовку… на самую дальнюю зимовку! Я теперь понял, каким должен быть полярный радист, — и он посмотрел на ненца в солдатской шинели. Мы сидели с Галей на крыльце рыбачьего домика. Со стороны аэропорта шел заправившийся бензином вездеход. — Вылка научил не только Ваню, — рассказывала Галя, — он научил меня умению владеть собой, умению так просто и радушно предлагать и оказывать помощь. А вы знаете, он действительно провел радио в чумы, а теперь работает начальником смены радиоцентра. До армии он едва знал грамоту. Теперь он мечтает о дальнейшей учебе. Если вы увидитесь с ним, пожмите ему руку. Может быть, вы увидите и радиста Ваню. Передайте ему, что мы с Кузьмой Андреевичем вспоминаем о нем. А теперь прощайте, — сказала Галя, вставя. — Добров уже ждет меня. — Она пожала мне руку. — Смотрите, рыбаки заводят сети. Я глядел вслед удалявшемуся вездеходу. Он то появлялся на бугре, то исчезал в низине. Геологи отправлялись прокладывать дороги в "завтрашний день". На горизонте горела оранжевая заря, заменявшая в этих широтах ночь.
ОСТАНОВЛЕННАЯ ВОЛНА
 Занявшаяся заря отражалась в реке, и вода казалась оранжевой.
На берегу несколько человек заводили сети.
Мой попутчик Нетаев, молодой штурман дальнего плавания, направлявшийся, как и я, на "Георгия Седова", должен был сменить на корабле заболевшего помощника капитана. Нетаев ушел к начальнику аэропорта и долго не возвращался.
Я решил посмотреть на рыбаков и спустился к ним.
Несколько человек тянули сеть по берегу, а их товарищи в брезентовых робах, зайдя в реку по грудь, медленно шли в ледяной воде.
Сеть вытянули на песок. Рыба шевелилась в ней, как живое серебро. Я никогда не предполагал, что на Дальнем Севере ловится столько разной рыбы. Тут и корюшка, и навага, и даже камбала, которая, как мне казалось, живет только в южных морях. Иногда попадалась небольшая безобразная рыбешка. Ее с отвращением выбрасывали обратно в воду. Это морской черт. Он похож на сказочного лешего, только маленький.
Наконец вернулся Нетаев. Лицо его было спокойно, но голубые глаза выдавали волнение.
— Несчастье на острове Угаданном! — явно сдерживаясь, ровным голосом проговорил он.
Рыбаки подошли к нам. Несколько проворных рыбешек выскочили из сетей и, судорожно подпрыгивая, добрались до воды.
— Пропали зимовщики — механик Гордеев и второй радист Панов, — сказал Нетаев.
— Как пропали? — забеспокоился старый рыбак с серо-желтыми усами.
— Пошли охотиться на нерпу, и со вчерашнего дня нет…
— Беда-то какая! А искали? — послышались голоса.
— Искали. Шли по лыжне. Лыжня обрывается у кромки льда.
— Стало быть, остались на льдине, — сказал старик и снял шапку. Голова у него была изжелта-седой.
— А погода там какая? — спросил молодой рыбак в солдатской шинели.
— Шторм.
— Значит, шторм и отломил льдину.
— Только двое их?
— Двое. Собака еще с ними. Продовольствия нет.
— Горе-то какое!.. Арктика — она лютая да поворотная. Погибли ребята беспременно. Поди, молодые? — сокрушался старик.
— Молодые.
— Вы Баранова ждете? — спросил нас демобилизованный.
— Баранова.
— Вот если бы Баранов…
— Да, если бы Баранов! — согласились окружающие.
Мы шли к аэропорту. Я думал о пропавших зимовщиках. До острова Угаданного тысяча километров. Рыбаки отнеслись к несчастью на далеком острове так, словно оно произошло в крайнем доме поселка.
В аэропорте мы узнали от радиста последнюю новость. На остров Угаданный только что вернулась мокрая собака… одна, без охотников. На шее у нее ножевая рана.
Что же произошло на льдине, когда штормовой ветер тащил ее вдоль острова? Кто скажет?..
В небе показался самолет. Сначала он походил на черточку. Потом превратился в красавицу-птицу с застывшими в полете крыльями.
Птица скользнула по воде, грудью разрезая оранжевую гладь. Появились два буруна с седыми гребнями.
Два вращающихся с ревом винта казались блестящими дисками. Линия крыльев была много выше корпуса лодки, напоминавшего тело чайки. На концах крыльев появилось по поплавку, один из которых уже касался воды, вздымая пену, а другой еще шел над гладью реки.
Летающая лодка развернулась и стала приближаться. С берега от бензиновых цистерн шли мостки. Работники аэропорта, в керзовых сапогах и ватниках, уже тянули шланг.
— Почему здесь заправляемся, а не на Диком? — спросил плечистый пилот, выходя из шлюпки на берег.
Мы уже знали его. Это Матвей Баранов.
Вместо ответа начальник аэропорта протянул пилоту радиограмму. Летчик взглянул на нас, кивнул и углубился в чтение.
У Баранова были крупные черты лица, глубокие складки у губ, мохнатые брови. Лицо его могло показаться суровым, если бы не ямка на подбородке, как-то смягчавшая его. Как всем пилотам, ему приходилось часто прищуриваться, напрягая зрение, и от уголков глаз к вискам разбегались веером мелкие морщинки.
— А я хотел заночевать, влажность в твоем буфете убавить, — сказал он начальнику аэропорта и улыбнулся.
— Думаю о другом, — покачал головой начальник, старый пилот, давно переставший летать. — Ведь ты четырнадцать часов в воздухе.
— Надо осмотреть и проверить моторы, — сказал Баранов и обернулся к своему спутнику. Тот вытаскивал из шлюпки какие-то мешки. — Костя, грузи обратно. Сразу полетим!
— Полетим? А заправка?
— Не видишь? Цистерны…
— Это посуда не для той заправки! — озорно блеснул глазами Костя.
Рядом с командиром корабля Костя казался маленьким, шустрым. Это про него рассказывал нам начальник порта.
Во время войны Костя был военным летчиком. Не раз имел взыскания за авиалихачество и попал на исправление в железные руки Баранова. Они сдружились. Однажды, когда Костя вернулся с задания, он лег спать, и Баранов, отправляясь на вечеринку, не мог его разбудить. Костя проснулся и, обнаружив, что Баранов, оставил его, отправился в один из кабинетов школы, в которой стояла часть, принес человеческий скелет и положил его под одеяло приятелю. Вернувшийся Баранов в ярости стащил Костю с кровати. Конечно, это не нарушило их дружбы.
Баранову как-то пришлось спрыгнуть с подбитого самолета на парашюте; Костя, чтобы помочь другу, сел на своей машине на болотистую тундру "на брюхо". Рация была повреждена, и летчики не могли дать о себе знать. Неделю они делали взлетную площадку, выправляли поврежденный винт и все-таки прилетели на свой аэродром, где их считали погибшими…
Шлюпка направилась к летающей лодке. Механики занялись моторами. Баранов подошел к нам, поздоровался, предложил закурить. Вокруг нас собрались ребятишки из рыбачьего поселка. Один из них — черненький ненец был в крохотной настоящей кухлянке, в которой ему, верно, было очень жарко.
Я догадывался о содержании радиограммы и с интересом наблюдал за Барановым. Летчик часто поглядывал на готовящуюся к полету лодку, но лицо его было непроницаемо. Он шутил с ребятишками, потом протянул им кожаный портсигар. Ребята ахнули от изумления и отрицательно замотали головами. Баранов рассмеялся.
— Вот всегда так. Папиросы интересны, если их прячут. Ладно, возьмите… на память!
Ребята так и не взяли папирос. Баранов обернулся к нам:
— У меня двое таких же сорванцов. Я им каждому по серебряному портсигару подарил. Наверняка курить не будут. Только запретный плод сладок. Вчера получил от них радиограмму. Ждут живого медвежонка. А я им кусок диковинного угля привезу. На острове одном нашли. Уголь как будто бы и каменный, а легкий. Почему вы стоите? — вдруг переменил он тон. — Где же ваши вещи? Задерживаться нельзя…
Мы пошли за вещами. По пути нам удалось кое-что узнать о Баранове.
Почти пятнадцать лет он летает в Арктике. Зиму живет с семьей в Москве, испытывает там самолеты, но как только начинается арктическая навигация, летит на Север и возвращается только по окончании навигации. Мечтал о зимних полетах в полярную ночь, помогал сделать их регулярными.
Когда мы вернулись, в баки заливали горючее. Баранов, высокий, грузный, разговаривал с синоптиком аэропорта.
— Значит, дня на три зарядил? Волнение крепкое? — услышали мы его голос.
— Счастливых посадок, — прощаясь, сказал синоптик.
Баранов скрылся в летающей лодке. Скоро и мы с Нетаевым полезли туда и очутились в просторной кабине со стеклянным полукруглым верхом.
Подошел катер с начальником аэропорта, который решил сам отбуксировать лодку на старт.
Из кабины летчиков выглянул Костя, подмигнул нам и снова исчез.
Летающая лодка медленно плыла вслед за катером. Река была удивительно спокойна. В ее водах все еще отражалась золотистая заря.
Через стеклянный верх кабины было видно, как отбуксировавший нас катер быстро уходил к берегу.
Заревели моторы. Казалось, сейчас летающая лодка рванется вперед и пойдет в воздух. Наконец-то!
Через мгновение мы потеряли катер из виду. Мимо быстро плыли домики рыбачьего поселка, крохотные фигурки рыбаков на берегу. Потом перед нами открылась водная гладь, вдалеке появился едва видимый противоположный берег реки.
Лодка поворачивалась. Может быть, Баранов выбирал направление для взлета? Снова в поле зрения домики рыбачьего поселка, дом аэропорта, катер, направляющийся к берегу.
Лодка крутилась на месте. Зачем это? Что-нибудь не в порядке?
Появился Костя.
— Вальс танцуем, — объяснил он. — Моторы прогреваем. Сухопутный самолет, пока моторы прогреваются, стоит как вкопанный, а нам плясать приходится. Оно и веселее!
Мы сделали еще много оборотов в этом своеобразном танце. Могучая машина проверялась в последний раз. Пропеллеры ровно ревели.
И вдруг лодка рванулась вперед. Домики поселка остались позади. Вода от бурунов поднялась и закрыла стекла кабины. Казалось, мы погрузились в воду. Белая пена стремительно проносилась мимо окон.
Неожиданно волны исчезли. Лодка быстро набирала высоту, направляясь к открытому морю.
— "Сухуми", — сказал Нетаев.
Я посмотрел вниз. Там виднелся игрушечный пароходик. Он стоял на рейде.
Было приятно рассматривать землю. Когда мы летели сюда, самолет все время шел над облаками.
Скоро и поселок, и устье реки, и пароходик скрылись.
— Горы! — крикнул Нетаев.
Я обернулся. Позади нас из-за горизонта поднимались туманные очертания гор, похожих скорее на тучи.
— Урал, — сказал мне в самое ухо моряк.
— Урал? — поразился я. — Сколько километров?
— Сто.
Видеть за сто километров? Это казалось неправдоподобным.
Морская губа осталась позади. Внизу виднелся странный ландшафт. Не море ли это с плавающими на нем льдинами?
На зеленоватом фоне были разбросаны тысячи круглых и продолговатых разноцветных пятен — темно-зеленых, голубых, коричневых и белых. Некоторые из них извивались, как цветные ленты.
— Тундра, — бросил Нетаев.
Вот оно что! Значит, цветные пятна — это вода: бесчисленные лужи, озера, ручейки и реки. От почвы и глубины водоемов зависел их цвет.
Полуостров остался позади. Мы шли над полярным морем.
Вот они, льдины. Маленькие белые пятнышки, рассеянные по водному простору. Поразила странная геометрическая сетка, как бы своеобразная штриховка, нанесенная на воду.
Вышел Матвей Баранов и пригласил нас в жилую кабину — закусить.
— Это волны, — сказал он нам про загадочную сетку.
По стенам кабины были койки в два этажа. Мы уселись на нижние. Сверху опустили доску, подвешенную к потолку. Она заменяла стол.
Копченый омуль поразительно вкусная, нежная рыба.
— Получил задание лететь на Угаданный, — говорил Баранов. — Надо найти льдину с людьми.
— Почему же мы идем не на север? — спросил моряк.
Баранов вскинул глаза на Нетаева.
— У острова Угаданного шторм, — сказал он. — Высажу вас на остров Дикий.
Мы с Нетаевым переглянулись. Почему нас надо высаживать? Разве не проще вместе с нами лететь на остров Угаданный?
Баранов, ничего не объяснив, ушел сменить Костю, который очень беспокоился, что омуля съедят без него.
— На льдину с людьми мы только сверху посмотрим. На море шторм. Не сядешь, — рассказывал нам Костя, уплетая рыбу. — На бухте Дикого и то сесть трудно. Волнение, чтоб ему…
Показался остров Дикий. Мы сделали над ним круг. В бухте, отделявшей остров от материка, стояло на рейде несколько кораблей. На серо-голубоватых скалах приютились домики и мачта радиостанции. На противоположной стороне бухты виднелся порт.
Мы быстро снижались. На волнах белые гребешки. Костя озабоченно смотрел в окно.
И вдруг толчок. Нетаев полетел назад, ударился о переборку. Мимо окна пронеслась волна с седым гребнем, в следующее мгновение она куда-то провалилась. И опять удар…
— Вот это тряхануло! — неизвестно чему обрадовался Костя и скрылся в кабине летчиков.
В приоткрытой двери мелькнули лица бортмеханика и радиста.
Пол кабины уходил из-под ног…
— Нормальная морская качка, — удовлетворенно сказал Нетаев.
Я посмотрел в окно. Мы плыли по неспокойной бухте. Впереди вверх и вниз качались базальтовые скалы, два двухэтажных дома, высокая радиомачта, ветряк…
— Волнение балла три, — отметил Нетаев.
Я подумал об острове Угаданном.
— А там каково? — словно подслушав мои мысли, проговорил моряк.
К летающей лодке подошел и запрыгал на волнах катер. Нетаев передавал мне чемоданы.
Катер шел к берегу, зарываясь носом в волну. Брызги окатывали нас с головы до ног. Мы не спустились в каюту и наблюдали, как, выходя на старт, разворачивается летающая лодка.
Вот, прыгая на волнах, птица с распростертыми крыльями понеслась вперед. Сквозь вой ветра и шум моря мы услышали рев моторов. Могучая машина, перепрыгивая с гребня на гребень, уходила от нас. Еще несколько секунд, и между ней и волнами я заметил полоску серого неба.
Запрокинув головы, мы провожали глазами самолет.
Где-то там шторм. Оторванная от острова льдина плывет в туманном море. А на ней два человека…
— Баранов сбросит продовольствие, укажет, где они, — сказали нам на берегу. — На выручку пойдет "Георгий Седов", но…
— Трудно будет найти их в открытом море?
— Очень трудно. Почти невозможно…
"Георгий Седов" находился на севере моря. Нам с Нетаевым еще предстояло добираться до него с попутным пароходом. Если «Седов» уйдет к острову Угаданному, мы на него не попадем.
Мы бродили по острову Дикому. Кое-где у подножия скал лежал снег. Между камнями зеленели мох и низкая полярная трава. Я нашел несколько крохотных, сильно пахнущих цветочков. Под ногами шныряли лемминги зверьки, похожие на крыс, только пестрые. Между их норками были протоптаны аккуратные дорожки.
Мы прошли в радиоцентр. Большой зал был наполнен стрекотом аппаратов. Радисты и радистки в наушниках сидели над ключами и пишущими машинками. Принимая на слух, они сразу печатали текст.
Нам показали радиста Грачева, поставившего рекорд на состязаниях полярных радистов. Он успевал принять на слух запись специального аппарата и напечатать на машинке невероятное количество слов в минуту, чуть ли не вдвое больше обычной машинистки.
Сейчас Грачев держал связь с островом Угаданным. Его крупное лицо с выдающимися скулами было нахмурено.
— Баранов прошел над островом. Идет, — бросил он через плечо подошедшему к нему начальнику смены, ненцу Вылке.
Вылка пошел к телефону… Глядя на него, я вспомнил рассказ Гали.
В Усть-Камне нам с Нетаевым поспать не удалось. Со времени вылета из Архангельска мы не ложились уже больше суток, но сейчас было не до сна. Каждая радиограмма Баранова тотчас передавалась по всему острову.
Через два часа после нашего прибытия все население острова Дикого собралось на берегу. Так бывает только во время авралов, когда приходят грузы.
Запрокинув головы, люди смотрели в небо.
Раздавались голоса:
— Только Матвей Баранов мог это сделать!
— Не поверю, пока сам не увижу.
— А видели, как он ударился, когда давеча садился на бухту?
— Вот потому и поверить не могу…
— Я сам принял радиограмму, — веско сказал Грачев.
— Летит! Летит!
— Сможет ли сесть? Не поломалось ли у него там что-нибудь?
— У Баранова-то?
— Все-таки… нет ли повреждений?
У Нетаева был морской бинокль. Я увидел летающую лодку. Она снижалась торопливо, без традиционного круга.
Скоро лодка пошла над верхушками волн. Вот она коснулась их, подскочила, словно подброшенная вверх, опять опустилась и понеслась по волнам, вздымая брызги.
— Сел! Сел! — закричали в толпе.
Летающая лодка с ревом пошла в маленькую бухту.
Увязая ногами в топкой почве, люди бежали к мосткам.
Навстречу плывущему самолету несся катер.
На мостки причала поднялось несколько человек. Среди них был Костя. Он усердно размахивал руками.
— Который тут радист Панов? Механик Гордеев кто? — спрашивали в толпе.
— А вон в меховой куртке, высокий, с ружьем. Это и есть Гордеев. Мы с ним на острове Русском зимовали.
— Он оттуда и перебрался на остров Угаданный?
— Оттуда.
— А теперь сразу на Дикий попал. Два дня назад, наверное, и не думал об этом.
— Два часа назад не надеялся…
Взволнованные люди расступились.
Два полярника, в меховых куртках, с ружьями за плечами, попали в объятия встречающих. Мы с Нетаевым тоже подошли пожать им руки.
У спасенных были изнуренные, растерянно-радостные лица. Панов, маленький, курносый паренек, видимо впервые попавший на зимовку, был даже смущен таким сердечным приемом. Гордеев, костлявый, высокий, сконфуженно разматывал красный шерстяной шарф.
— Да мы за нерпой… собак кормить… Мы ненадолго… — отвечал он кому-то. — Как же нам теперь обратно, на Угаданный?
Обоих потащили в буфет — угощать.
— Мы омуля копченого наелись, — отнекивались они.
Сквозь толпу мы пробились к Косте. Блестя глазами, он в десятый раз рассказывал:
— Увидели их, когда облетали район острова. Баранов так рассчитал: если собака три часа назад вернулась — значит, они где-то тут, подле острова. Далеко их не унесло.
Подошел Грачев:
— А вы знаете, зачем они собаку ранили?
Все обернулись к нему.
— Хотели, чтобы она на станцию прибежала, дала бы знать, что они тут, близко. Нужно было переплыть полынью до берега. Собака не хотела уходить. Вот ее и ранили, чтобы убежала.
— Я сам об этом хотел рассказать, — перебил Костя. — Они ее пырнули ножом, вроде письмо послали: дескать, живы, близко. Вот их Баранов и нашел по обратному адресу.
— Но как вы сумели взять их на борт? — спросил Нетаев.
Костя посмотрел на него насмешливо.
— Помнишь, как нас навернуло в бухте при трех баллах?
Нетаев потер затылок.
— Потому Баранов вас и высадил. Не хотел с вами рисковать. Он уже решил садиться на воду в шторм.
— Вот этого я никак не пойму, — вставил Грачев. — Надо Баранова расспросить.
— Он и разговаривать об этом не станет. Не знаешь его? — возмутился Костя. — Я сам расскажу, как он это сделал. Видели сверху море, когда шторм? Оно все будто заштриховано.
— Да, да… я заметил, — вспомнил я.
— Это волны. Они бегут рядами. Каждая линия — гребень волны. Если такой гребень ударит лодку — гроб. При посадочной скорости — ей каюк.
— Как же Баранов?
— Сначала я сам ничего не понимал. Вижу, над самыми волнами идем. Пена на них такая… лохматая, серая. А Баранов выруливает, чтобы вдоль гребня идти. Ну и вырулил. Тут и я понял, что он делать хочет. Вижу, словно застыли под нами волны, остановились. По морю мы с ними с одной скоростью движемся… ну и перемещаемся, летим вдоль волны. Вот представьте, что вы вкось по перрону бежите, все время находясь против дверцы движущегося вагона. Так же и мы… Летим по морю вкось и все время над одной и той же волной. А волна здоровая, прямо как железнодорожная насыпь… Было бы волнение меньше — ни за что не сесть! А тут он сел прямо на гребень. Было где поместиться!
— Артист!
— Опустились мы на гребень без удара. Бить нас потом начало, когда мы потеряли скорость, с волны сошли. Ох, и било, ох, и качало… елки-палки! Думал, разобьет машину… Нет, ничего, сняли мы их с льдины. Крепко ребятки натерпелись. Глазам не верили, что мы сели… А в воздух поднялись вот как: подрулил Баранов севернее острова к двум ледяным полям. Между ними волнение уж не то было. Вот мы и взлетели.
— Теперь догоним "Седова"! — обрадовался Нетаев.
Потом мы увидели Баранова. Высокий, широкоплечий, прикрываясь полой куртки, он закуривал. Бросив спичку, обернулся и протянул знакомый кожаный портсигар.
— Закурим, — сказал он улыбаясь.
Папиросы брали все, даже я, никогда не куривший.
Кстати сказать, из-за ветра или от чего другого, но никто не закурил.
Папироса летчика Баранова до сих пор хранится у меня в память об Арктике.
Занявшаяся заря отражалась в реке, и вода казалась оранжевой.
На берегу несколько человек заводили сети.
Мой попутчик Нетаев, молодой штурман дальнего плавания, направлявшийся, как и я, на "Георгия Седова", должен был сменить на корабле заболевшего помощника капитана. Нетаев ушел к начальнику аэропорта и долго не возвращался.
Я решил посмотреть на рыбаков и спустился к ним.
Несколько человек тянули сеть по берегу, а их товарищи в брезентовых робах, зайдя в реку по грудь, медленно шли в ледяной воде.
Сеть вытянули на песок. Рыба шевелилась в ней, как живое серебро. Я никогда не предполагал, что на Дальнем Севере ловится столько разной рыбы. Тут и корюшка, и навага, и даже камбала, которая, как мне казалось, живет только в южных морях. Иногда попадалась небольшая безобразная рыбешка. Ее с отвращением выбрасывали обратно в воду. Это морской черт. Он похож на сказочного лешего, только маленький.
Наконец вернулся Нетаев. Лицо его было спокойно, но голубые глаза выдавали волнение.
— Несчастье на острове Угаданном! — явно сдерживаясь, ровным голосом проговорил он.
Рыбаки подошли к нам. Несколько проворных рыбешек выскочили из сетей и, судорожно подпрыгивая, добрались до воды.
— Пропали зимовщики — механик Гордеев и второй радист Панов, — сказал Нетаев.
— Как пропали? — забеспокоился старый рыбак с серо-желтыми усами.
— Пошли охотиться на нерпу, и со вчерашнего дня нет…
— Беда-то какая! А искали? — послышались голоса.
— Искали. Шли по лыжне. Лыжня обрывается у кромки льда.
— Стало быть, остались на льдине, — сказал старик и снял шапку. Голова у него была изжелта-седой.
— А погода там какая? — спросил молодой рыбак в солдатской шинели.
— Шторм.
— Значит, шторм и отломил льдину.
— Только двое их?
— Двое. Собака еще с ними. Продовольствия нет.
— Горе-то какое!.. Арктика — она лютая да поворотная. Погибли ребята беспременно. Поди, молодые? — сокрушался старик.
— Молодые.
— Вы Баранова ждете? — спросил нас демобилизованный.
— Баранова.
— Вот если бы Баранов…
— Да, если бы Баранов! — согласились окружающие.
Мы шли к аэропорту. Я думал о пропавших зимовщиках. До острова Угаданного тысяча километров. Рыбаки отнеслись к несчастью на далеком острове так, словно оно произошло в крайнем доме поселка.
В аэропорте мы узнали от радиста последнюю новость. На остров Угаданный только что вернулась мокрая собака… одна, без охотников. На шее у нее ножевая рана.
Что же произошло на льдине, когда штормовой ветер тащил ее вдоль острова? Кто скажет?..
В небе показался самолет. Сначала он походил на черточку. Потом превратился в красавицу-птицу с застывшими в полете крыльями.
Птица скользнула по воде, грудью разрезая оранжевую гладь. Появились два буруна с седыми гребнями.
Два вращающихся с ревом винта казались блестящими дисками. Линия крыльев была много выше корпуса лодки, напоминавшего тело чайки. На концах крыльев появилось по поплавку, один из которых уже касался воды, вздымая пену, а другой еще шел над гладью реки.
Летающая лодка развернулась и стала приближаться. С берега от бензиновых цистерн шли мостки. Работники аэропорта, в керзовых сапогах и ватниках, уже тянули шланг.
— Почему здесь заправляемся, а не на Диком? — спросил плечистый пилот, выходя из шлюпки на берег.
Мы уже знали его. Это Матвей Баранов.
Вместо ответа начальник аэропорта протянул пилоту радиограмму. Летчик взглянул на нас, кивнул и углубился в чтение.
У Баранова были крупные черты лица, глубокие складки у губ, мохнатые брови. Лицо его могло показаться суровым, если бы не ямка на подбородке, как-то смягчавшая его. Как всем пилотам, ему приходилось часто прищуриваться, напрягая зрение, и от уголков глаз к вискам разбегались веером мелкие морщинки.
— А я хотел заночевать, влажность в твоем буфете убавить, — сказал он начальнику аэропорта и улыбнулся.
— Думаю о другом, — покачал головой начальник, старый пилот, давно переставший летать. — Ведь ты четырнадцать часов в воздухе.
— Надо осмотреть и проверить моторы, — сказал Баранов и обернулся к своему спутнику. Тот вытаскивал из шлюпки какие-то мешки. — Костя, грузи обратно. Сразу полетим!
— Полетим? А заправка?
— Не видишь? Цистерны…
— Это посуда не для той заправки! — озорно блеснул глазами Костя.
Рядом с командиром корабля Костя казался маленьким, шустрым. Это про него рассказывал нам начальник порта.
Во время войны Костя был военным летчиком. Не раз имел взыскания за авиалихачество и попал на исправление в железные руки Баранова. Они сдружились. Однажды, когда Костя вернулся с задания, он лег спать, и Баранов, отправляясь на вечеринку, не мог его разбудить. Костя проснулся и, обнаружив, что Баранов, оставил его, отправился в один из кабинетов школы, в которой стояла часть, принес человеческий скелет и положил его под одеяло приятелю. Вернувшийся Баранов в ярости стащил Костю с кровати. Конечно, это не нарушило их дружбы.
Баранову как-то пришлось спрыгнуть с подбитого самолета на парашюте; Костя, чтобы помочь другу, сел на своей машине на болотистую тундру "на брюхо". Рация была повреждена, и летчики не могли дать о себе знать. Неделю они делали взлетную площадку, выправляли поврежденный винт и все-таки прилетели на свой аэродром, где их считали погибшими…
Шлюпка направилась к летающей лодке. Механики занялись моторами. Баранов подошел к нам, поздоровался, предложил закурить. Вокруг нас собрались ребятишки из рыбачьего поселка. Один из них — черненький ненец был в крохотной настоящей кухлянке, в которой ему, верно, было очень жарко.
Я догадывался о содержании радиограммы и с интересом наблюдал за Барановым. Летчик часто поглядывал на готовящуюся к полету лодку, но лицо его было непроницаемо. Он шутил с ребятишками, потом протянул им кожаный портсигар. Ребята ахнули от изумления и отрицательно замотали головами. Баранов рассмеялся.
— Вот всегда так. Папиросы интересны, если их прячут. Ладно, возьмите… на память!
Ребята так и не взяли папирос. Баранов обернулся к нам:
— У меня двое таких же сорванцов. Я им каждому по серебряному портсигару подарил. Наверняка курить не будут. Только запретный плод сладок. Вчера получил от них радиограмму. Ждут живого медвежонка. А я им кусок диковинного угля привезу. На острове одном нашли. Уголь как будто бы и каменный, а легкий. Почему вы стоите? — вдруг переменил он тон. — Где же ваши вещи? Задерживаться нельзя…
Мы пошли за вещами. По пути нам удалось кое-что узнать о Баранове.
Почти пятнадцать лет он летает в Арктике. Зиму живет с семьей в Москве, испытывает там самолеты, но как только начинается арктическая навигация, летит на Север и возвращается только по окончании навигации. Мечтал о зимних полетах в полярную ночь, помогал сделать их регулярными.
Когда мы вернулись, в баки заливали горючее. Баранов, высокий, грузный, разговаривал с синоптиком аэропорта.
— Значит, дня на три зарядил? Волнение крепкое? — услышали мы его голос.
— Счастливых посадок, — прощаясь, сказал синоптик.
Баранов скрылся в летающей лодке. Скоро и мы с Нетаевым полезли туда и очутились в просторной кабине со стеклянным полукруглым верхом.
Подошел катер с начальником аэропорта, который решил сам отбуксировать лодку на старт.
Из кабины летчиков выглянул Костя, подмигнул нам и снова исчез.
Летающая лодка медленно плыла вслед за катером. Река была удивительно спокойна. В ее водах все еще отражалась золотистая заря.
Через стеклянный верх кабины было видно, как отбуксировавший нас катер быстро уходил к берегу.
Заревели моторы. Казалось, сейчас летающая лодка рванется вперед и пойдет в воздух. Наконец-то!
Через мгновение мы потеряли катер из виду. Мимо быстро плыли домики рыбачьего поселка, крохотные фигурки рыбаков на берегу. Потом перед нами открылась водная гладь, вдалеке появился едва видимый противоположный берег реки.
Лодка поворачивалась. Может быть, Баранов выбирал направление для взлета? Снова в поле зрения домики рыбачьего поселка, дом аэропорта, катер, направляющийся к берегу.
Лодка крутилась на месте. Зачем это? Что-нибудь не в порядке?
Появился Костя.
— Вальс танцуем, — объяснил он. — Моторы прогреваем. Сухопутный самолет, пока моторы прогреваются, стоит как вкопанный, а нам плясать приходится. Оно и веселее!
Мы сделали еще много оборотов в этом своеобразном танце. Могучая машина проверялась в последний раз. Пропеллеры ровно ревели.
И вдруг лодка рванулась вперед. Домики поселка остались позади. Вода от бурунов поднялась и закрыла стекла кабины. Казалось, мы погрузились в воду. Белая пена стремительно проносилась мимо окон.
Неожиданно волны исчезли. Лодка быстро набирала высоту, направляясь к открытому морю.
— "Сухуми", — сказал Нетаев.
Я посмотрел вниз. Там виднелся игрушечный пароходик. Он стоял на рейде.
Было приятно рассматривать землю. Когда мы летели сюда, самолет все время шел над облаками.
Скоро и поселок, и устье реки, и пароходик скрылись.
— Горы! — крикнул Нетаев.
Я обернулся. Позади нас из-за горизонта поднимались туманные очертания гор, похожих скорее на тучи.
— Урал, — сказал мне в самое ухо моряк.
— Урал? — поразился я. — Сколько километров?
— Сто.
Видеть за сто километров? Это казалось неправдоподобным.
Морская губа осталась позади. Внизу виднелся странный ландшафт. Не море ли это с плавающими на нем льдинами?
На зеленоватом фоне были разбросаны тысячи круглых и продолговатых разноцветных пятен — темно-зеленых, голубых, коричневых и белых. Некоторые из них извивались, как цветные ленты.
— Тундра, — бросил Нетаев.
Вот оно что! Значит, цветные пятна — это вода: бесчисленные лужи, озера, ручейки и реки. От почвы и глубины водоемов зависел их цвет.
Полуостров остался позади. Мы шли над полярным морем.
Вот они, льдины. Маленькие белые пятнышки, рассеянные по водному простору. Поразила странная геометрическая сетка, как бы своеобразная штриховка, нанесенная на воду.
Вышел Матвей Баранов и пригласил нас в жилую кабину — закусить.
— Это волны, — сказал он нам про загадочную сетку.
По стенам кабины были койки в два этажа. Мы уселись на нижние. Сверху опустили доску, подвешенную к потолку. Она заменяла стол.
Копченый омуль поразительно вкусная, нежная рыба.
— Получил задание лететь на Угаданный, — говорил Баранов. — Надо найти льдину с людьми.
— Почему же мы идем не на север? — спросил моряк.
Баранов вскинул глаза на Нетаева.
— У острова Угаданного шторм, — сказал он. — Высажу вас на остров Дикий.
Мы с Нетаевым переглянулись. Почему нас надо высаживать? Разве не проще вместе с нами лететь на остров Угаданный?
Баранов, ничего не объяснив, ушел сменить Костю, который очень беспокоился, что омуля съедят без него.
— На льдину с людьми мы только сверху посмотрим. На море шторм. Не сядешь, — рассказывал нам Костя, уплетая рыбу. — На бухте Дикого и то сесть трудно. Волнение, чтоб ему…
Показался остров Дикий. Мы сделали над ним круг. В бухте, отделявшей остров от материка, стояло на рейде несколько кораблей. На серо-голубоватых скалах приютились домики и мачта радиостанции. На противоположной стороне бухты виднелся порт.
Мы быстро снижались. На волнах белые гребешки. Костя озабоченно смотрел в окно.
И вдруг толчок. Нетаев полетел назад, ударился о переборку. Мимо окна пронеслась волна с седым гребнем, в следующее мгновение она куда-то провалилась. И опять удар…
— Вот это тряхануло! — неизвестно чему обрадовался Костя и скрылся в кабине летчиков.
В приоткрытой двери мелькнули лица бортмеханика и радиста.
Пол кабины уходил из-под ног…
— Нормальная морская качка, — удовлетворенно сказал Нетаев.
Я посмотрел в окно. Мы плыли по неспокойной бухте. Впереди вверх и вниз качались базальтовые скалы, два двухэтажных дома, высокая радиомачта, ветряк…
— Волнение балла три, — отметил Нетаев.
Я подумал об острове Угаданном.
— А там каково? — словно подслушав мои мысли, проговорил моряк.
К летающей лодке подошел и запрыгал на волнах катер. Нетаев передавал мне чемоданы.
Катер шел к берегу, зарываясь носом в волну. Брызги окатывали нас с головы до ног. Мы не спустились в каюту и наблюдали, как, выходя на старт, разворачивается летающая лодка.
Вот, прыгая на волнах, птица с распростертыми крыльями понеслась вперед. Сквозь вой ветра и шум моря мы услышали рев моторов. Могучая машина, перепрыгивая с гребня на гребень, уходила от нас. Еще несколько секунд, и между ней и волнами я заметил полоску серого неба.
Запрокинув головы, мы провожали глазами самолет.
Где-то там шторм. Оторванная от острова льдина плывет в туманном море. А на ней два человека…
— Баранов сбросит продовольствие, укажет, где они, — сказали нам на берегу. — На выручку пойдет "Георгий Седов", но…
— Трудно будет найти их в открытом море?
— Очень трудно. Почти невозможно…
"Георгий Седов" находился на севере моря. Нам с Нетаевым еще предстояло добираться до него с попутным пароходом. Если «Седов» уйдет к острову Угаданному, мы на него не попадем.
Мы бродили по острову Дикому. Кое-где у подножия скал лежал снег. Между камнями зеленели мох и низкая полярная трава. Я нашел несколько крохотных, сильно пахнущих цветочков. Под ногами шныряли лемминги зверьки, похожие на крыс, только пестрые. Между их норками были протоптаны аккуратные дорожки.
Мы прошли в радиоцентр. Большой зал был наполнен стрекотом аппаратов. Радисты и радистки в наушниках сидели над ключами и пишущими машинками. Принимая на слух, они сразу печатали текст.
Нам показали радиста Грачева, поставившего рекорд на состязаниях полярных радистов. Он успевал принять на слух запись специального аппарата и напечатать на машинке невероятное количество слов в минуту, чуть ли не вдвое больше обычной машинистки.
Сейчас Грачев держал связь с островом Угаданным. Его крупное лицо с выдающимися скулами было нахмурено.
— Баранов прошел над островом. Идет, — бросил он через плечо подошедшему к нему начальнику смены, ненцу Вылке.
Вылка пошел к телефону… Глядя на него, я вспомнил рассказ Гали.
В Усть-Камне нам с Нетаевым поспать не удалось. Со времени вылета из Архангельска мы не ложились уже больше суток, но сейчас было не до сна. Каждая радиограмма Баранова тотчас передавалась по всему острову.
Через два часа после нашего прибытия все население острова Дикого собралось на берегу. Так бывает только во время авралов, когда приходят грузы.
Запрокинув головы, люди смотрели в небо.
Раздавались голоса:
— Только Матвей Баранов мог это сделать!
— Не поверю, пока сам не увижу.
— А видели, как он ударился, когда давеча садился на бухту?
— Вот потому и поверить не могу…
— Я сам принял радиограмму, — веско сказал Грачев.
— Летит! Летит!
— Сможет ли сесть? Не поломалось ли у него там что-нибудь?
— У Баранова-то?
— Все-таки… нет ли повреждений?
У Нетаева был морской бинокль. Я увидел летающую лодку. Она снижалась торопливо, без традиционного круга.
Скоро лодка пошла над верхушками волн. Вот она коснулась их, подскочила, словно подброшенная вверх, опять опустилась и понеслась по волнам, вздымая брызги.
— Сел! Сел! — закричали в толпе.
Летающая лодка с ревом пошла в маленькую бухту.
Увязая ногами в топкой почве, люди бежали к мосткам.
Навстречу плывущему самолету несся катер.
На мостки причала поднялось несколько человек. Среди них был Костя. Он усердно размахивал руками.
— Который тут радист Панов? Механик Гордеев кто? — спрашивали в толпе.
— А вон в меховой куртке, высокий, с ружьем. Это и есть Гордеев. Мы с ним на острове Русском зимовали.
— Он оттуда и перебрался на остров Угаданный?
— Оттуда.
— А теперь сразу на Дикий попал. Два дня назад, наверное, и не думал об этом.
— Два часа назад не надеялся…
Взволнованные люди расступились.
Два полярника, в меховых куртках, с ружьями за плечами, попали в объятия встречающих. Мы с Нетаевым тоже подошли пожать им руки.
У спасенных были изнуренные, растерянно-радостные лица. Панов, маленький, курносый паренек, видимо впервые попавший на зимовку, был даже смущен таким сердечным приемом. Гордеев, костлявый, высокий, сконфуженно разматывал красный шерстяной шарф.
— Да мы за нерпой… собак кормить… Мы ненадолго… — отвечал он кому-то. — Как же нам теперь обратно, на Угаданный?
Обоих потащили в буфет — угощать.
— Мы омуля копченого наелись, — отнекивались они.
Сквозь толпу мы пробились к Косте. Блестя глазами, он в десятый раз рассказывал:
— Увидели их, когда облетали район острова. Баранов так рассчитал: если собака три часа назад вернулась — значит, они где-то тут, подле острова. Далеко их не унесло.
Подошел Грачев:
— А вы знаете, зачем они собаку ранили?
Все обернулись к нему.
— Хотели, чтобы она на станцию прибежала, дала бы знать, что они тут, близко. Нужно было переплыть полынью до берега. Собака не хотела уходить. Вот ее и ранили, чтобы убежала.
— Я сам об этом хотел рассказать, — перебил Костя. — Они ее пырнули ножом, вроде письмо послали: дескать, живы, близко. Вот их Баранов и нашел по обратному адресу.
— Но как вы сумели взять их на борт? — спросил Нетаев.
Костя посмотрел на него насмешливо.
— Помнишь, как нас навернуло в бухте при трех баллах?
Нетаев потер затылок.
— Потому Баранов вас и высадил. Не хотел с вами рисковать. Он уже решил садиться на воду в шторм.
— Вот этого я никак не пойму, — вставил Грачев. — Надо Баранова расспросить.
— Он и разговаривать об этом не станет. Не знаешь его? — возмутился Костя. — Я сам расскажу, как он это сделал. Видели сверху море, когда шторм? Оно все будто заштриховано.
— Да, да… я заметил, — вспомнил я.
— Это волны. Они бегут рядами. Каждая линия — гребень волны. Если такой гребень ударит лодку — гроб. При посадочной скорости — ей каюк.
— Как же Баранов?
— Сначала я сам ничего не понимал. Вижу, над самыми волнами идем. Пена на них такая… лохматая, серая. А Баранов выруливает, чтобы вдоль гребня идти. Ну и вырулил. Тут и я понял, что он делать хочет. Вижу, словно застыли под нами волны, остановились. По морю мы с ними с одной скоростью движемся… ну и перемещаемся, летим вдоль волны. Вот представьте, что вы вкось по перрону бежите, все время находясь против дверцы движущегося вагона. Так же и мы… Летим по морю вкось и все время над одной и той же волной. А волна здоровая, прямо как железнодорожная насыпь… Было бы волнение меньше — ни за что не сесть! А тут он сел прямо на гребень. Было где поместиться!
— Артист!
— Опустились мы на гребень без удара. Бить нас потом начало, когда мы потеряли скорость, с волны сошли. Ох, и било, ох, и качало… елки-палки! Думал, разобьет машину… Нет, ничего, сняли мы их с льдины. Крепко ребятки натерпелись. Глазам не верили, что мы сели… А в воздух поднялись вот как: подрулил Баранов севернее острова к двум ледяным полям. Между ними волнение уж не то было. Вот мы и взлетели.
— Теперь догоним "Седова"! — обрадовался Нетаев.
Потом мы увидели Баранова. Высокий, широкоплечий, прикрываясь полой куртки, он закуривал. Бросив спичку, обернулся и протянул знакомый кожаный портсигар.
— Закурим, — сказал он улыбаясь.
Папиросы брали все, даже я, никогда не куривший.
Кстати сказать, из-за ветра или от чего другого, но никто не закурил.
Папироса летчика Баранова до сих пор хранится у меня в память об Арктике.
"ПОЛЯРНЫЙ ВАРЯГ"
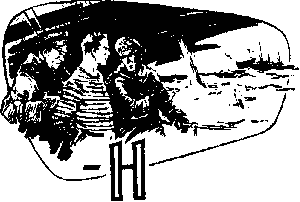 — На память об Арктике я подарю вам фотографию корабля, — сказал мне радист Грачев.
Я взял переданный мне снимок. Небольшой торговый пароход. На борту можно разобрать: «Дежнев».
Я знал, что Грачев побывал едва ли не на всех полярных кораблях.
— Вы плавали на "Дежневе"? — спросил я.
— Нет. Радистом на нем я не плавал. Но этот корабль мне особенно дорог.
— Почему?
— Это "Полярный Варяг".
— "Варяг"?
— Разве вы не слышали о знаменитом бое между торговым пароходом «Дежнев» и немецким бронированным военным кораблем?
Мне даже неловко стало — как мог я забыть! Я ведь даже видел картину какого-то художника, где нарисован этот бой с борта «Дежнева».
— Я мог бы нарисовать этот бой с борта немецкого рейдера, — сказал Грачев.
— С борта рейдера? — изумился я, поглядев на Грачева, но лицо его было серьезно.
— Всему миру известен этот случай у полярного острова, но никто, кроме меня да гитлеровцев, не испытал на себе силу дежневских снарядов.
— Об этом можно рассказать? — нерешительно спросил я.
— Отчего же… Об этом много писали. В "Двух капитанах" про рейдер этот тоже упоминается. А если хотите послушать очевидца, послушайте.
Время было напряженное, военное. Ходил я на небольшом кораблике, старом, заслуженном. Нет полярника, который не знал бы его имени. И я его любил, как родной дом любил. Мы обходили полярные станции, завозили полярникам продовольствие, оборудование, топливо… Вот как сейчас "Георгий Седов" делает, на который вы попасть должны…
Про рейдер германский мы ничего не знали. Слышали только, что иногда он пробирается на наши коммуникации. Встретились с ним, подлым, случайно, в таком месте, где корабли никогда и не плавают. Только наш кораблик и могло туда занести.
Туман как раз раздернуло. Видимость двадцать миль. На горизонте дымок. Что за чертовщина? Какой корабль мог тут оказаться? Запрашиваем по радио. Ответа нет!
Подошли немного ближе, смотрим… Вот те штука! Да это немецкий военный корабль. Вот он где крадется!.. Воспользовался, что в этом месяце в море льдов на редкость мало.
Расстроили мы подлецу всю его операцию. По радио о нем сообщили и стали удирать. Он за нами. Лед бы нас спас, да между льдом и нами рейдер. Несемся на всех парах. Рейдер по радио велит нам лечь на дрейф. Ну, я бандиту этому по приказу капитана такое отстучал, чтоне знаю, как уж они там на свой язык перевели…
Гонка, сами понимаете, неравная. Стал рейдер нас снарядами накрывать. То перелет, то недолет. Потом ближе стали ложиться снаряды. Впереди "белое небо". Это лед на облаках отражается. Значит, близко льды.
Спешим мы ко льдам, а рейдер от нас уже милях в десяти. Вдруг меня в радиорубке так тряхнуло, что чуть зубы о приемник не вышибло. В корму прямое попадание. Надстройка вспыхнула. Стали тушить, а корабль ходу не сбавляет. Кочегары пар нагнали выше нормы.
Наконец лед показался. Никогда мы его с такой надеждой не ждали. Второе попадание в борт. Все!
Дым повалил, у меня в рубке дышать нечем. Капитан приказал шлюпки спускать. А лед близко, рукой подать. Ну хоть люди до него доберутся. У нас на борту женщины и дети были.
В рубке я один сижу… Капитан последние донесения в штаб передал, потом моряки радиограммы стали отправлять. Нельзя не передать. А дымище в рубке — слезы из глаз.
Всякие радиограммы мне давали. В общем правильные радиограммы. Только один морячок у нас не выдержал. Велел жене передать, что погибает и пусть, мол, она сына в море не пускает. Я передал… да не очень точно.
Паренек у него хороший. Он в мореходном училище теперь в Архангельске учится.
Смотрю, наш старик пароходик крениться стал. Не разберешь, где в рубке стена, где палуба. Решил я, что пора давать: "Кончаю передачу"…
Налил себе стакан спирта и стучу ключом: пью, дескать, последний стакан и тот за победу… Выпить только полстакана удалось: соленой водой спирт разбавило, через иллюминатор вода полилась. Я к двери. Оглянулся аппаратуру водой заливает. Еще подумал: "Эх, изоляцию испортит". Совсем голову потерял.
Корабль уже на борт лег. Я по палубе, как по стене, лезу. Вижу, капитан стоит, за реллинги держится. Заметил меня, на море рукой показывает — прыгай! Больше я его не видел. С корабля меня волной смыло.
Ох, вода холодная! Плыть невозможно. Трепыхаюсь, как щенок. Дух захватило…
И вдруг заметил… Совсем недалеко шлюпка перевернутая. Вмиг до нее доплыл. Ухватился за киль, а выбраться из воды не могу: сил нет. Понимаю, что закоченею в воде — тогда конец. Начал подтягиваться на руках. Дерево скользкое, грудью на него лягу, а удержаться не могу, сползаю. Еще и еще раз подтянулся, все локти пытался за киль забросить.
Не знаю как, но все-таки влез на шлюпку, на киль верхом сел. Перед глазами круги мелькают, сам весь мокрый, в горле пересохло.
Оглянулся — старика нашего нет, потонул. Меня замутило сразу. До того никогда морской болезнью не страдал… А рейдер совсем близко подошел, катер спускает. В другую сторону посмотрел — вижу: шлюпки к льдинам пристали, народ на лед выбрался. Я маленьких пересчитал — детишек с корабля. Помню, четверо их было. Живы, ну счастье!
Катер прямо к льдине идет. По дороге одну шлюпку нагнал и людей забрал. Потом к льдине направился. Думаю, сейчас и детей с льдины снимут.
А фашист к льдине не пошел. Из пулемета очередь дал. Упали наши люди на льдине. Не знаю, кто убит был, кто так упал… Бандит еще по лежачим стрелял. Такая меня ненависть взяла. Сижу я на киле шлюпки и ругаюсь.
Не знаю, за кого они меня приняли. Может быть, за капитана… Они видели, как я последним с корабля сошел. Направили ко мне катер.
Внутри во мне все напряглось, и про холод позабыл.
Документы у меня в бумажнике лежали. Вынул я бумажник, сунул в него набор радиоинструмента, отверточки всякие — для веса. Потом выбросил бумажник в воду. Партбилет отдельно был… на тельняшке, в специальном карманчике. Вслед за бумажником сам прыгнул в воду. Нырнул, как нерпа, под лодку. Там вынырнул, дышу. Может, бандиты подумают, что утонул.
Но бандиты к шлюпке подошли вплотную, ухватили ее за борт и приподняли. Ну, я как муха в блюдечке. Наверно, оглушили меня прикладом по голове. Не помню. Должно быть, я не давался, потому что били меня сапогами, когда я на дне катера лежал.
На рейдер меня подняли на веревке. Под мышками здорово резало…
Палуба на корабле блестит, все выкрашено, надраено. Матросы с любопытством поглядывают, «капитаном» называют. Ладно, думаю.
Сунули меня в железный шкаф. В нем можно только стоять. Внизу в двери дырки сделаны, для дыхания, — и больше ничего. Хотел я на пол сесть никак колени не согнешь. Стою, вздрагиваю. Сначала думал, что от холода. Но потом согрелся, одежда подсохла, а я все вздрагиваю. Почувствовал я, стенки карцера содрогаются. Понял, что это орудия немецкие бьют.
Во мне словно что-то оборвалось. Так и представилась бухта, а в ней корабли на рейде. Неужели к острову рейдер подкрался?
Еще залп и еще… После каждого залпа все вокруг гудит. Уперся я локтями в стенки, напрягаюсь, да разве раздвинешь железо?
И вдруг особенно сильно тряхнуло. Я от радости даже подпрыгнул. В рейдер попадание! Неужто бой? Значит, получили наше сообщение. Приготовили гостю подарок. Эх, увидеть бы, что наверху творится!
Еще раза два крепко тряхнуло. Три прямых попадания! Вот это прицел! Кто же мог задать такую трепку рейдеру?
Вдруг открывается дверь моего шкафа и на ломаном русском языке говорят: "Гер капитан, вам приказать явиться на капитанский мостик".
Так бы и побежал наверх, чтобы скорей все своими глазами увидеть, но иду спокойно, будто не тороплюсь.
Взошел на палубу. И как раз четвертое попадание. Осколки по броне застрекотали. Дым поднялся, что-то загорелось. Провожатые меня поторапливают.
Передо мной остров. Остров мой! Корабли в бухте вижу. И кто-то лупит по рейдеру из тяжелых орудий. Поднялся я на мостик. Там офицеры немецкие. Один, старший, в бинокль смотрит. Меня к нему подвели.
"Гер капитан, — говорит он, — вам надлежит отвечать точно и кратко. Как называется тот крейсер, который вступил с нами в бой? На его борту написано «Дежнев». «Дежнев» — это есть торговый пароход и есть маскировка. Вы были недавно на острове и должны знать о военных кораблях". — "Не знаю", — отвечаю я и сам удивляюсь: откуда крейсер взялся? "Это не береговая артиллерия, — говорит фашист. — Тяжелые снаряды направлены с корабля. Мы вычислили направление их полета".
"Не ты вычислил, — думаю про себя, — а они братишки, вычислили, да еще как славно вычислили!"
Дали мне бинокль. Смотрю, стеклам не верю! Не крейсер идет на сближение с рейдером, а «Дежнев» мой старый знакомый, не раз я на нем бывал. Не может на нем быть тяжелых орудий…
Вспомнил я тогда о славном «Варяге», который один на сближение с целой японской эскадрой шел.
"Ну?" — торопят меня. "Что вы меня спрашиваете, когда уже получили визитные карточки!" — ответил я.
И словно мне в подтверждение, взорвался на палубе тяжелый снаряд. Меня воздушной волной с ног сбило. Кто-то закричал, застонал.
"Поставить дымовую завесу!" — приказал немецкий офицер.
Видно, не было записано в их морских уставах, что торговый пароход может стрелять тяжелыми снарядами по военному кораблю.
Поставили немцы дымовую завесу. На палубе и на мостике суматоха. Рейдер стал уходить от своего странного противника.
Тут переменился ветер. Сама Арктика ополчилась на незваного гостя. Погнал ветер косматый грязный дым. Рейдер бежит от него, а дым за рейдером гонится. А в море белые льдины прыгают, как будто радуются, что рейдеру досталось.
Дым все-таки догнал немца. Рейдер вошел как бы в плотный туман, ближней стальной башни не видно. На мостике суетятся серые тени.
Я нагнулся через реллинги. Вижу — льдина за бортом. Оттолкнул я приставленного ко мне матроса — и через борт. О воду сильно расшибся. Снова дух от холода захватило. Вынырнул — льдина рядом. Стал я на нее выбираться, а рейдера уж нет, дым кругом. Меня с борта, конечно, не видно.
Выбрался на льдину. Упал на лед, воздух глотаю.
Потом пронесло дымовую завесу. И вдруг вижу — в небе самолет. Сразу его узнал. Баранов! Он тогда военным летчиком был. Пролетел он над завесой. Слышу взрыв бомб… Ох, не поздоровится теперь рейдеру! Не удалось ему втихомолку подползти к нам.
Дымовую завесу пронесло. Показался остров.
Остров мой! Смотрю на него, так бы и притянул к себе глазами. Но остров не приближался, а через час и совсем скрылся из виду.
Тут радость моя, по правде сказать, сразу омрачилась.
Удивительное у человека устройство. Обречен ведь я был, а на лед упал — и уснул мертвецким сном. Сколько спал — не определишь… Солнце все так же было в небе — полярный день.
Проснулся от лютого голода и холода. Одежда моя обледенела, зуб на зуб не попадает. Огляделся — кругом море… Льдина моя была предрянная, уже изрядно источенная водой. Тут меня злость взяла. Злость, наверно, меня и спасла.
Неважные были трое суток. Льдиной я потом и в госпитале бредил, после того как меня все тот же «Дежнев» с льдины снял. Воспаление легких и десяток других болезней, едва жив остался… С тех пор больше не плаваю. А вот, кстати, посмотрите на «Дежнева», он на рейде стоит.
Грачев показал в окно на небольшой чистенький торговый пароход. Одна из его стрел поднимала из трюма большие ящики. Лебедка деловито пыхтела.
— Как же стрелял «Дежнев» из тяжелых орудий? — спросил я.
Грачев усмехнулся, сощурил глаза.
— Видите ли, какое дело. Конечно, немцы правильно высчитали. Дело не в береговой артиллерии было. Перевозил «Дежнев» в район военных действий дивизион тяжелых орудий. Командир дивизиона — фронтовик. Как заметил противника, развернул орудия прямо на палубе и открыл по рейдеру прицельный огонь. А капитан снялся с якоря и бесстрашно с рейдером на сближение пошел. Хоть на воде, а удачно стреляли наши артиллеристы… Пустился рейдер наутек. Вот. А дальше уж его погнала наша авиация. Разделала как следует. Баранов и другие…
— На память об Арктике я подарю вам фотографию корабля, — сказал мне радист Грачев.
Я взял переданный мне снимок. Небольшой торговый пароход. На борту можно разобрать: «Дежнев».
Я знал, что Грачев побывал едва ли не на всех полярных кораблях.
— Вы плавали на "Дежневе"? — спросил я.
— Нет. Радистом на нем я не плавал. Но этот корабль мне особенно дорог.
— Почему?
— Это "Полярный Варяг".
— "Варяг"?
— Разве вы не слышали о знаменитом бое между торговым пароходом «Дежнев» и немецким бронированным военным кораблем?
Мне даже неловко стало — как мог я забыть! Я ведь даже видел картину какого-то художника, где нарисован этот бой с борта «Дежнева».
— Я мог бы нарисовать этот бой с борта немецкого рейдера, — сказал Грачев.
— С борта рейдера? — изумился я, поглядев на Грачева, но лицо его было серьезно.
— Всему миру известен этот случай у полярного острова, но никто, кроме меня да гитлеровцев, не испытал на себе силу дежневских снарядов.
— Об этом можно рассказать? — нерешительно спросил я.
— Отчего же… Об этом много писали. В "Двух капитанах" про рейдер этот тоже упоминается. А если хотите послушать очевидца, послушайте.
Время было напряженное, военное. Ходил я на небольшом кораблике, старом, заслуженном. Нет полярника, который не знал бы его имени. И я его любил, как родной дом любил. Мы обходили полярные станции, завозили полярникам продовольствие, оборудование, топливо… Вот как сейчас "Георгий Седов" делает, на который вы попасть должны…
Про рейдер германский мы ничего не знали. Слышали только, что иногда он пробирается на наши коммуникации. Встретились с ним, подлым, случайно, в таком месте, где корабли никогда и не плавают. Только наш кораблик и могло туда занести.
Туман как раз раздернуло. Видимость двадцать миль. На горизонте дымок. Что за чертовщина? Какой корабль мог тут оказаться? Запрашиваем по радио. Ответа нет!
Подошли немного ближе, смотрим… Вот те штука! Да это немецкий военный корабль. Вот он где крадется!.. Воспользовался, что в этом месяце в море льдов на редкость мало.
Расстроили мы подлецу всю его операцию. По радио о нем сообщили и стали удирать. Он за нами. Лед бы нас спас, да между льдом и нами рейдер. Несемся на всех парах. Рейдер по радио велит нам лечь на дрейф. Ну, я бандиту этому по приказу капитана такое отстучал, чтоне знаю, как уж они там на свой язык перевели…
Гонка, сами понимаете, неравная. Стал рейдер нас снарядами накрывать. То перелет, то недолет. Потом ближе стали ложиться снаряды. Впереди "белое небо". Это лед на облаках отражается. Значит, близко льды.
Спешим мы ко льдам, а рейдер от нас уже милях в десяти. Вдруг меня в радиорубке так тряхнуло, что чуть зубы о приемник не вышибло. В корму прямое попадание. Надстройка вспыхнула. Стали тушить, а корабль ходу не сбавляет. Кочегары пар нагнали выше нормы.
Наконец лед показался. Никогда мы его с такой надеждой не ждали. Второе попадание в борт. Все!
Дым повалил, у меня в рубке дышать нечем. Капитан приказал шлюпки спускать. А лед близко, рукой подать. Ну хоть люди до него доберутся. У нас на борту женщины и дети были.
В рубке я один сижу… Капитан последние донесения в штаб передал, потом моряки радиограммы стали отправлять. Нельзя не передать. А дымище в рубке — слезы из глаз.
Всякие радиограммы мне давали. В общем правильные радиограммы. Только один морячок у нас не выдержал. Велел жене передать, что погибает и пусть, мол, она сына в море не пускает. Я передал… да не очень точно.
Паренек у него хороший. Он в мореходном училище теперь в Архангельске учится.
Смотрю, наш старик пароходик крениться стал. Не разберешь, где в рубке стена, где палуба. Решил я, что пора давать: "Кончаю передачу"…
Налил себе стакан спирта и стучу ключом: пью, дескать, последний стакан и тот за победу… Выпить только полстакана удалось: соленой водой спирт разбавило, через иллюминатор вода полилась. Я к двери. Оглянулся аппаратуру водой заливает. Еще подумал: "Эх, изоляцию испортит". Совсем голову потерял.
Корабль уже на борт лег. Я по палубе, как по стене, лезу. Вижу, капитан стоит, за реллинги держится. Заметил меня, на море рукой показывает — прыгай! Больше я его не видел. С корабля меня волной смыло.
Ох, вода холодная! Плыть невозможно. Трепыхаюсь, как щенок. Дух захватило…
И вдруг заметил… Совсем недалеко шлюпка перевернутая. Вмиг до нее доплыл. Ухватился за киль, а выбраться из воды не могу: сил нет. Понимаю, что закоченею в воде — тогда конец. Начал подтягиваться на руках. Дерево скользкое, грудью на него лягу, а удержаться не могу, сползаю. Еще и еще раз подтянулся, все локти пытался за киль забросить.
Не знаю как, но все-таки влез на шлюпку, на киль верхом сел. Перед глазами круги мелькают, сам весь мокрый, в горле пересохло.
Оглянулся — старика нашего нет, потонул. Меня замутило сразу. До того никогда морской болезнью не страдал… А рейдер совсем близко подошел, катер спускает. В другую сторону посмотрел — вижу: шлюпки к льдинам пристали, народ на лед выбрался. Я маленьких пересчитал — детишек с корабля. Помню, четверо их было. Живы, ну счастье!
Катер прямо к льдине идет. По дороге одну шлюпку нагнал и людей забрал. Потом к льдине направился. Думаю, сейчас и детей с льдины снимут.
А фашист к льдине не пошел. Из пулемета очередь дал. Упали наши люди на льдине. Не знаю, кто убит был, кто так упал… Бандит еще по лежачим стрелял. Такая меня ненависть взяла. Сижу я на киле шлюпки и ругаюсь.
Не знаю, за кого они меня приняли. Может быть, за капитана… Они видели, как я последним с корабля сошел. Направили ко мне катер.
Внутри во мне все напряглось, и про холод позабыл.
Документы у меня в бумажнике лежали. Вынул я бумажник, сунул в него набор радиоинструмента, отверточки всякие — для веса. Потом выбросил бумажник в воду. Партбилет отдельно был… на тельняшке, в специальном карманчике. Вслед за бумажником сам прыгнул в воду. Нырнул, как нерпа, под лодку. Там вынырнул, дышу. Может, бандиты подумают, что утонул.
Но бандиты к шлюпке подошли вплотную, ухватили ее за борт и приподняли. Ну, я как муха в блюдечке. Наверно, оглушили меня прикладом по голове. Не помню. Должно быть, я не давался, потому что били меня сапогами, когда я на дне катера лежал.
На рейдер меня подняли на веревке. Под мышками здорово резало…
Палуба на корабле блестит, все выкрашено, надраено. Матросы с любопытством поглядывают, «капитаном» называют. Ладно, думаю.
Сунули меня в железный шкаф. В нем можно только стоять. Внизу в двери дырки сделаны, для дыхания, — и больше ничего. Хотел я на пол сесть никак колени не согнешь. Стою, вздрагиваю. Сначала думал, что от холода. Но потом согрелся, одежда подсохла, а я все вздрагиваю. Почувствовал я, стенки карцера содрогаются. Понял, что это орудия немецкие бьют.
Во мне словно что-то оборвалось. Так и представилась бухта, а в ней корабли на рейде. Неужели к острову рейдер подкрался?
Еще залп и еще… После каждого залпа все вокруг гудит. Уперся я локтями в стенки, напрягаюсь, да разве раздвинешь железо?
И вдруг особенно сильно тряхнуло. Я от радости даже подпрыгнул. В рейдер попадание! Неужто бой? Значит, получили наше сообщение. Приготовили гостю подарок. Эх, увидеть бы, что наверху творится!
Еще раза два крепко тряхнуло. Три прямых попадания! Вот это прицел! Кто же мог задать такую трепку рейдеру?
Вдруг открывается дверь моего шкафа и на ломаном русском языке говорят: "Гер капитан, вам приказать явиться на капитанский мостик".
Так бы и побежал наверх, чтобы скорей все своими глазами увидеть, но иду спокойно, будто не тороплюсь.
Взошел на палубу. И как раз четвертое попадание. Осколки по броне застрекотали. Дым поднялся, что-то загорелось. Провожатые меня поторапливают.
Передо мной остров. Остров мой! Корабли в бухте вижу. И кто-то лупит по рейдеру из тяжелых орудий. Поднялся я на мостик. Там офицеры немецкие. Один, старший, в бинокль смотрит. Меня к нему подвели.
"Гер капитан, — говорит он, — вам надлежит отвечать точно и кратко. Как называется тот крейсер, который вступил с нами в бой? На его борту написано «Дежнев». «Дежнев» — это есть торговый пароход и есть маскировка. Вы были недавно на острове и должны знать о военных кораблях". — "Не знаю", — отвечаю я и сам удивляюсь: откуда крейсер взялся? "Это не береговая артиллерия, — говорит фашист. — Тяжелые снаряды направлены с корабля. Мы вычислили направление их полета".
"Не ты вычислил, — думаю про себя, — а они братишки, вычислили, да еще как славно вычислили!"
Дали мне бинокль. Смотрю, стеклам не верю! Не крейсер идет на сближение с рейдером, а «Дежнев» мой старый знакомый, не раз я на нем бывал. Не может на нем быть тяжелых орудий…
Вспомнил я тогда о славном «Варяге», который один на сближение с целой японской эскадрой шел.
"Ну?" — торопят меня. "Что вы меня спрашиваете, когда уже получили визитные карточки!" — ответил я.
И словно мне в подтверждение, взорвался на палубе тяжелый снаряд. Меня воздушной волной с ног сбило. Кто-то закричал, застонал.
"Поставить дымовую завесу!" — приказал немецкий офицер.
Видно, не было записано в их морских уставах, что торговый пароход может стрелять тяжелыми снарядами по военному кораблю.
Поставили немцы дымовую завесу. На палубе и на мостике суматоха. Рейдер стал уходить от своего странного противника.
Тут переменился ветер. Сама Арктика ополчилась на незваного гостя. Погнал ветер косматый грязный дым. Рейдер бежит от него, а дым за рейдером гонится. А в море белые льдины прыгают, как будто радуются, что рейдеру досталось.
Дым все-таки догнал немца. Рейдер вошел как бы в плотный туман, ближней стальной башни не видно. На мостике суетятся серые тени.
Я нагнулся через реллинги. Вижу — льдина за бортом. Оттолкнул я приставленного ко мне матроса — и через борт. О воду сильно расшибся. Снова дух от холода захватило. Вынырнул — льдина рядом. Стал я на нее выбираться, а рейдера уж нет, дым кругом. Меня с борта, конечно, не видно.
Выбрался на льдину. Упал на лед, воздух глотаю.
Потом пронесло дымовую завесу. И вдруг вижу — в небе самолет. Сразу его узнал. Баранов! Он тогда военным летчиком был. Пролетел он над завесой. Слышу взрыв бомб… Ох, не поздоровится теперь рейдеру! Не удалось ему втихомолку подползти к нам.
Дымовую завесу пронесло. Показался остров.
Остров мой! Смотрю на него, так бы и притянул к себе глазами. Но остров не приближался, а через час и совсем скрылся из виду.
Тут радость моя, по правде сказать, сразу омрачилась.
Удивительное у человека устройство. Обречен ведь я был, а на лед упал — и уснул мертвецким сном. Сколько спал — не определишь… Солнце все так же было в небе — полярный день.
Проснулся от лютого голода и холода. Одежда моя обледенела, зуб на зуб не попадает. Огляделся — кругом море… Льдина моя была предрянная, уже изрядно источенная водой. Тут меня злость взяла. Злость, наверно, меня и спасла.
Неважные были трое суток. Льдиной я потом и в госпитале бредил, после того как меня все тот же «Дежнев» с льдины снял. Воспаление легких и десяток других болезней, едва жив остался… С тех пор больше не плаваю. А вот, кстати, посмотрите на «Дежнева», он на рейде стоит.
Грачев показал в окно на небольшой чистенький торговый пароход. Одна из его стрел поднимала из трюма большие ящики. Лебедка деловито пыхтела.
— Как же стрелял «Дежнев» из тяжелых орудий? — спросил я.
Грачев усмехнулся, сощурил глаза.
— Видите ли, какое дело. Конечно, немцы правильно высчитали. Дело не в береговой артиллерии было. Перевозил «Дежнев» в район военных действий дивизион тяжелых орудий. Командир дивизиона — фронтовик. Как заметил противника, развернул орудия прямо на палубе и открыл по рейдеру прицельный огонь. А капитан снялся с якоря и бесстрашно с рейдером на сближение пошел. Хоть на воде, а удачно стреляли наши артиллеристы… Пустился рейдер наутек. Вот. А дальше уж его погнала наша авиация. Разделала как следует. Баранов и другие…
ОСТРОВ ИСЧЕЗАЮЩИЙ
 Среди арктических реликвий у меня есть кусок угля, того самого, о котором как-то говорил летчик Баранов. Я сам выковырял его из черного пласта, обнажившегося при обвале берега. Полярники называют этот уголь каменным, но он очень легок. На его черной поверхности можно различить строение древесины. Это, несомненно, уголь, однако происхождение его загадочно. Остров, где он найден, намыт из песка морскими волнами и сравнительно недавно поднялся над поверхностью моря. На нем никогда ничего не росло и расти не могло. А между тем я держу кусок этого странного угля в руке.
Впервые я услышал о нем на пароходе «Беломорканал». Мы с Нетаевым перебрались на корабль, когда — он ходил взад и вперед по бухте острова Дикого. Капитан словно не решался выйти в море.
Нетаев объяснил мне, что на корабле проверяют работу магнитных навигационных приборов.
— Боюсь, что это дело затянется, — вздохнул штурман. — Догоним ли мы «Седова»?
Но «Беломорканал» без задержки вышел в море двадцать шестого августа, в понедельник.
За обедом мы познакомились с капитаном. Бритый, с тонкими чертами лица и решительными складками у губ, он был по-морскому элегантно одет, вежлив и предупредителен.
— Думаю, — сказал он, — что "Георгия Седова" мы еще застанем за выгрузкой около острова Исчезающего. Там вы и пересядете на него. Волнение не слишком сильное.
— Интересное судно "Георгий Седов", — вставил старший помощник капитана, или первый штурман, как его называют. Это был невысокий малоразговорчивый человек с внимательными глазами и обветренным лицом.
— Еще бы! — сказал я. — Легендарное судно! Продрейфовало через весь Полярный бассейн, севернее «Фрама» прославленного Нансена.
Старпом улыбнулся.
— Это, конечно, эпизод значительный, заметный. Но «Седов» делает и много незаметных дел. Вот поплаваете на нем, сами увидите. Он для Арктики вроде внутризаводского транспорта. Бегает себе и бегает между островами. Его никто как будто и не замечает, а он втихомолку не один рекорд поставил.
— Вы плавали на «Седове»?
— Плавал. Морскую школу на нем прошел. Много открытий «Седов» сделал. А с виду невзрачный. Да вот подойдем к Исчезающему, сами увидите.
— Почему вы так зовете этот остров? Ведь у него другое название.
— А мы его так после одного рейса прозвали. Я тогда на «Седове» плавал. Могу вам рассказать про этот остров. И про уголь, который на нем нашли…
Мы услышали от первого штурмана о моряках «Седова», о профессоре, интересовавшемся странным углем, и о романтической Земле Санникова.
…Были тогда на борту «Седова» полярники, которые направлялись на зимовки, и один московский профессор. Старик живой, подвижной, со всеми знакомился, заговаривал, спорил, все хотел знать. Его полюбили на корабле. Все знали, что он плывет на остров, чтобы изучить найденный там уголь.
Одетый совсем не по-северному, он расхаживал по палубе и заговаривал то с одним, то с другим из молодых ребят, комсомольцев, направлявшихся на остров.
— Скажите, молодой человек, вы довольны, что попали в Арктику? допрашивал он веснушчатого паренька, жадно смотревшего на море.
— Ничего. Доволен, — нехотя отвечал тот.
— А кем работать будете, позвольте узнать?
— Метеорологом. Курсы окончил.
— Работа метеоролога — это работа ученого! — заявил профессор.
Паренек вскинул на него удивленные глаза и покраснел.
— А пейзаж? Как вам нравится пейзаж? — продолжал спрашивать старик.
— Пейзаж ничего… Льдов что-то маловато, да и медведей не видно, важно ответил паренек, глядя на редкие, освещенные солнцем, источенные водой льдины.
— Маловато? Но ведь для вас это первые льдины. Они не могут не волновать! По лицу вашему вижу, что это так. А вот скоро подойдем к вашему острову. Каков-то он окажется?
— Да ничего особенного. Мне бы на другой хотелось.
— Как же ничего особенного? Ваш остров у нас первый на очереди. Полярникам там надо помочь.
— Это я знаю… Только я на Ново-Сибирские острова хотел.
— Почему?
Паренек, его звали Гриша, оживился.
— Вы слышали о Земле Санникова? — спросил он.
— Далекие горы севернее Ново-Сибирских островов? Их видел в тысяча восемьсот десятом году с острова Котельного промышленник Санников? Фантазия! Такой земли нет. Это неоднократно подтверждалось летчиками.
Гриша преобразился. Глаза заблестели, румянец сразу скрыл веснушки.
— Неправда! Уже после Санникова люди замечали, что птицы летят на север от Ново-Сибирских островов. Зачем им лететь в открытое море? И вот еще: онкилоны — народ такой был — всем племенем куда-то ушли. И будто бы в направлении Земли Санникова. Для меня лично ясно, что там земля.
Профессор улыбнулся.
— Но ведь для науки одного такого убеждения еще недостаточно.
Гриша не сдавался:
— И вот Обручев. Он — академик, а целую книгу написал о Земле Санникова! И будто на Земле Санникова из-за вулканов особые климатические условия, тепло там…
— Тепло? — переспросил профессор.
— …звери доисторические, — продолжал Гриша увлеченно. — Может быть, живые петикантропы…
— Друг мой, ведь Владимир Афанасьевич научно-фантастический роман написал. Это же только фантазия.
— Я на будущую зимовку попрошусь "а Ново-Сибирские острова.
— Землю Санникова открыть хотите?
— И открою. Хоть тайну ее, а открою.
— Люблю дерзания! И завидую вам, завидую искренне. Я бы не рискнул!
— А сами в Арктику прилетели.
— Да ведь я же, дружок, геолог. На каждый день моей жизни приходится в среднем пять тысяч шагов, сделанных вот этими ревматическими ногами, профессор спрятал в усах улыбку.
— А правда, Сергей Никанорович, что вы уголь на острове нашли? спросил Гриша.
— Ну, голубчик мой, это уже сказки. Уголь на острове нашли полярники. А я, напротив, доказывал, что этого не может быть. Ведь остров-то волнами намыло. Из песка. На нем никогда ничего не росло. Откуда же каменному углю взяться? Но уголь, оказывается, все-таки есть! Я потому и в Арктику прилетел, чтобы понять, в чем мое заблуждение.
— Теперь скоро узнаете.
— Скоро, — согласился старик.
Остров показался на следующий день утром. От него по направлению к кораблю двигался огромный серый столб — снежный «заряд», как зовут здесь это явление. Снежный заряд — это молниеносная метель.
Заряд налетел на «Седова», и остров исчез. Все кругом стало тусклым, словно корабль очутился в гигантском мешке. Но вот метель пронеслась. На палубе появился капитан. Он показал профессору только что полученную с берега радиограмму о бедствии:
"Сильнейший прибой. Высадка невозможна. Берег обваливается. Дому грозит гибель. Продолжаем действовать сами".
— Прибой? — удивился профессор. — И это остановит нас?
— Для моряков добраться до какого-нибудь отдаленного острова четверть дела. Вот высадиться…
Парторг собрал в кают-компании всех находившихся на судне. Люди были кто в спортивной майке, кто в ватнике, кто в парадном кителе. Мест не хватало. Опоздавшие стояли вдоль стен или примостились на полу. Здесь были и моряки и пассажиры — зимовщики полярных станций. Профессор уселся на лавке у стены и обводил всех живыми, нетерпеливыми глазами.
После собрания он сказал, потирая руки:
— Люблю краткие прения: "Прибой? Выгружаться нельзя? Ладно. Выгрузимся".
Люди натянули брезентовые робы. Стали готовить к спуску катерок «Петушок». Он повис на канатах, охвативших его "под брюхо", и через минуту заплясал на волнах. Следом за ним плюхнулся в воду плоскодонный кунгас, вместительный, но тяжелый и неуклюжий.
Люди спускались по веревочному трапу. Это было трудно. Волны кидали кунгас то вверх, то вниз. Профессора не хотели пускать к трапу.
— Я не могу остаться! — горячился он. — Моя цель — побывать на острове. Подвешивайте меня на канатах в конце концов!
Его спустили при помощи подъемной стрелы.
Через минуту «Петушок», ведя на буксире кунгас, побежал к острову. Берег, высокий и обрывистый, приближался. На нем, как осажденная средневековая крепость, высился дом полярной станции. Его будто нарочно выстроили на обрыве. Под отвесным берегом вздымались клубы пены.
Катер спешил. Волны подгоняли его. Второй штурман, управляющий катером, знал, что морю ничего не стоит разбить о берег легкую скорлупу, разнести ее в мелкие щепки. Но вдруг перед самым берегом он круто развернулся. «Петушок» неожиданно стал к волнам не кормой, а носом и ринулся на них с мальчишеской удалью.
Пока тяжелый кунгас разворачивался вслед за катером, волны безостановочно били его своими косматыми лапами. Соленые валы разлетались тучами брызг, слепили, валили людей с ног.
Катерок натянул буксир — кунгас стоял теперь между катером и берегом, кормой к берегу. Штурман отступал шаг за шагом, кунгас незаметно приближался к берегу. Уловив момент, матрос с кунгаса бросил на берег конец линя. Полярники поймали его, затянули, не давая кунгасу повернуть к волнам бортом. Но волны подбросили кунгас и со всего размаху ударили дном о камни.
Профессор и Гриша едва удержались за столбик на носу кунгаса. Лица у обоих были растерянные. Люди на берегу и команда катера тянули канаты, тщетно стараясь удержать кунгас. Но он все-таки развернулся вдоль волны, наклонился… вода ринулась через борт.
Пассажиры прыгали прямо в воду и бежали к берегу. Волны настигали их и били в спины.
Гриша, стоя в воде, тащил профессора за рукав. Наконец и профессор спрыгнул. У него захватило дыхание. Вода была ледяной. Ничего не помня, не в силах вздохнуть, профессор вылетел на шуршащую гальку.
Волны бросили ему вслед кунгас.
Полузадохнувшийся профессор с остервенением отплевывался. Около него прыгали огромные мохнатые псы. Они старались лизнуть профессора в лицо. Полярники радостно встречали прибывших. Все стояли под самым обрывом, на узкой полоске суши.
Здесь было видно, как море наступало на остров. Оно точило берег, состоявший из смерзшегося и оттаивавшего сейчас песка, вгрызалось в него, растворяло, как сахар. И берег висел над водой тяжелой громадой, каждую секунду готовый рухнуть вниз.
Профессор ходил по вымытой волнами гальке, рассматривал глыбы обвалившегося песка, потирая руки. Потом он посмотрел вверх, запрокинув голову. На обрыве виднелся дом.
— Только вчера здесь обвалился край берега, — юношеским тенорком сказал обросший бородой полярник. — Теперь обрыв начинается прямо от крыльца. Однако всем вам надо обсохнуть.
— Как обсохнуть? А дом? — спросил Гриша.
— Слышите грохот? Здесь каждую минуту что-нибудь обваливается.
— Так надо спасти дом! — заволновался Гриша. — В работе и обсохнем.
Прибывшие уже поднимались в гору. Они спешили, как по боевой тревоге.
Перед ними был прекрасный дом, построенный лет десять назад. Каждый полярник имел здесь отдельную комнату. И вот дом висел над морем, готовый сорваться вниз.
Раньше дом находился более чем в ста метрах от берега. Теперь берег вплотную придвинулся к дому. Это обнаружили вернувшиеся на остров в прошлом году полярники. Зиму они жили спокойно, а с началом оттепели море снова двинулось на них. Они отступили, покинули свое жилище, вынесли из него все, что могли… По земле тянулась извилистая трещина. Она подползала под дом и выходила с другой его стороны.
— Стойте! Стойте! — кричал профессор, держась рукой за сердце. — Что вы хотите делать, безумцы? Не смейте переходить трещину!
Люди на мгновение остановились.
— Весь остров состоит из песка, скрепленного льдом! — кричал профессор. — Все это было намыто морем и держалось только холодом. Слой мерзлоты теперь оттаивает, море подымает остров… берег обваливается… Не смейте ступать за трещину!
— Так ведь дом погибнет! — сказал Гриша.
— Надо его спасти. Давайте сюда трактор. Зацепим канатом!
Гриша посмотрел на профессора.
— Простите, Сергей Никанорович, как бы не зашибло… Трактора здесь нет…
Сверху упало бревно. Поднялся столб пыли. Профессор растерянно смотрел то на дом, то на бревно.
Гриша уже был на крыше и отдирал от кровли доски. Каждая доска, каждое бревно были заранее помечены полярниками, чтобы удобнее было вновь собрать дом на другом месте.
Работа кипела.
С грохотом падали доски. Скрипели стропила. Сверкали топоры. Пошли в ход тяжелые ломы.
— Дружно, ребятки! Берем, берем!
Эх, и была же это работа! Как на пожаре!
Люди ворочали огромные бревна, бросали их вниз. Пыль оседала на мокрых лицах.
— Вира! Вира! Веселей!
Поднялся ветер, визгливый, яростный. Он хлестал людей по лицам, срывал их с оголившегося сруба. Внизу ревело море, но люди ничего не замечали. Они отдирали бревно за бревном и отбрасывали их от берега.
— Берегись!
Профессор помогал тащить бревна через трещину.
Вот с дома уже слетела крыша. Разобрали потолок. Дом обнажился, показывая свои комнаты, недавно еще такие уютные.
Наконец работа была закончена. Усталых, донельзя грязных гостей полярники привели к себе в птичник, превращенный в жилое помещение.
Профессор, в кителе с чужого плеча, веселый и разговорчивый, уже сидел за столом и подтрунивал над Гришей, уверяя, что на его лице татуировка онкилонского воина. Жена начальника полярной станции, местный повар, тихая, но расторопная молодая женщина, подвела Гришу к зеркалу, а потом молча вручила ему ведро горячей воды и отправила в баню. Правда, и другие в этом нуждались, но Гриша оставался на острове и как бы поступил уже в ее распоряжение.
Ничего не поделаешь. Грише пришлось подчиниться.
Радушная хозяйка без конца подливала в тарелки дымящийся борщ и все говорила:
— Кушайте, кушайте, спасибо вам!
— Ох, и вкусный же борщ на этом острове!
После обеда профессор в полушубке и валенках сидел на завалинке. К нему ласкались две огромные собаки: Лохтак, вожак, и Белуха, признанная предводительница собачьей стаи. Бородатый полярник рассказывал:
— Лохтак — медвежатник. Он выходит на медведя один или с Белухой. Они нападают на зверя одновременно с двух сторон, поочередно отвлекают его на себя, пока не подойдешь с ружьем. Лохтак уже пострадал однажды. Пуля прошла через медведя навылет и задела псу лопатку. Лохтак долго болел. Но к медвежьей охоте пристрастия не потерял.
Профессор удивился, почему эти страшные псы так ласковы даже с незнакомыми людьми. Полярник объяснил, что собаки Севера всех людей считают друзьями. Враги — это звери: медведь, нерпа.
Лохтак отбежал от дома и лег у обрыва, недалеко от бани.
— Караулит нерпу. Когда нерпа высунет голову, Лохтак поднимет лай будет звать охотника.
— Вы напомнили мне о другой охоте… охоте за углем! Ведите меня к вашим залежам… Я так увлекся бревнами, что забыл, для чего проделал несколько тысяч километров.
— Пойдемте вниз, Сергей Никанорович, посмотрим на свежий обрыв. Наверное, там есть что-нибудь новое.
— Извольте! Любопытно посмотреть остатки никогда не существовавшей здесь растительности.
— Мы всю зиму углем топили, — скромно заметил полярник.
Вдруг Лохтак залаял.
— Что это? Нерпа? — забеспокоился профессор.
Лохтак с тревожным лаем носился около бани, стоящей неподалеку от снесенного дома. Вдруг он бросился прочь. Раздался глухой рокот.
— Обвал! — тонко крикнул бородач.
Часть берега, где еще недавно стоял дом, исчезла, отвалилась, видимо как раз по трещине.
Качнулась маленькая избушка — баня. Профессор так и сел на завалинку.
Ухнуло с раскатами, словно артиллерийский залп.
Дверь распахнулась. Из нее вылетел голый, намыленный Гриша. От него валил пар. На снегу оставались следы босых ног. В мгновение ока Гриша пролетел расстояние от бани до птичника и скрылся в нем. Лохтак гнался за ним, удивленно лая. Он никогда раньше не видел голых людей.
Профессор хохотал, слезы текли у него из глаз.
— Этот откроет! Этот непременно откроет новую землю, — задыхаясь, говорил он.
Через несколько минут вместе с бородатым полярником профессор спустился вниз. Там, где недавно берег нависал над морем, теперь лежала громадная куча смерзшегося песка. Через несколько часов волны снова начнут подтачивать берег. Сейчас они еще не доставали до нового обрыва, только слизывали обвалившиеся песчаные глыбы.
Полярник показал на черные полосы в отвесной стене.
— Уголь? — недоверчиво проговорил профессор. — Не может быть! Не верю.
Он подошел к стене, стал выковыривать черные куски. Полосы, отделенные песчаными прослойками, шли параллельно друг другу.
Профессор взвесил на руке черный кусок и стал подбрасывать его. Кусок оказался легче сухого дерева. Профессор заулыбался.
— Для самоваров, для самоваров, голубчик мой, такой уголь хорош.
Полярник непонимающе смотрел на профессора.
— У нас в Сибири самовары древесным углем ставят, — сказал полрник.
— Вот именно, многозначительно заметил профессор. — А ну-ка пойдемте по бережку…
Некоторое время профессор и полярник шли молча.
— Ага! — закричал профессор. — Вот она, тайна вашего угля! — и тронул ногой гладкое, отшлифованное морем бревно с обтолканными, закругленными концами. Оно лежало у самой воды.
— Плавник? — удивился полярник.
— Ну да! — улыбнулся профессор. — Действительно, на нашем острове скопились остатки растительности, никогда здесь не росшей. Я ломал себе голову, откуда взялся на наносном острове уголь. Теперь я знаю. Он приплыл!
— Как приплыл?
— В течение столетий великие сибирские реки выбрасывали в море стволы упавших в воду деревьев. Стволы выносились сюда, в эти широты. Волны выбрасывали бревна на берег, их засыпало песком. Занесенная песком древесина обугливалась. Правда, обугливание происходило не в таких условиях, как на материке. Потому и уголь здесь скорее похож на древесный, чем на каменный. Проходили столетия. Под давлением волн остров поднимался, поднимая и пласты угля.
— Надо собрать уголь лопатами, а то волны унесут.
— Правильно! Не давайте им уносить то, что они когда-то принесли. Прекрасное топливо, но это не каменный уголь. Если хотите знать, то это… как бы сказать… это «плавниковый» уголь! Конечно, это не «залежи». Его здесь ничтожное количество, да и не может быть больше. Но для зимовки хватит. А в общем любопытно.
Профессор присел на корточки и стал копаться в обнаженном пласте, напевая в седоватые усы. Он был в чудесном настроении.
— Сергей Никанорович! — Гриша в большом не по росту полушубке присел на корточки рядом с профессором и заговорил взволнованным шепотом: Открытие, Сергей Никанорович!
— Да, если хотите, открытие. «Плавниковый» уголь нигде не описан. Открытие сделано здесь на берегу.
— А я в бане сделал…
— В бане? Открытие? — удивился профессор.
— Я, может быть, Сергей Никанорович, ошибаюсь, только не думаю. Когда баню тряхнуло, я сразу себе представил, как берег словно ножом срезается. Ведь остров каждый год со всех сторон уменьшается метров на двадцать, на тридцать?
— Уменьшается, — согласился профессор.
— Что же через несколько десятков лет будет? Остров исчезнет.
— Исчезнет. Но ты не огорчайся. В другом месте море новый остров намоет. Не так давно в море Лаптевых такой остров появился…
— Но если острова исчезают, значит могла быть и Земля Санникова. И Санников ее видел, и гуси на нее летели, и онкилоны на нее переселялись. Она существовала, а потом ее не стало. Она была исчезающим островом, как этот!
Юноша взволнованно смотрел на профессора.
— Это интересно… «плавниковый» уголь на исчезающем острове, — после долгого молчания сказал профессор. — А ты молодец, Гриша!
Профессор вскоре уехал в Москву, обещав написать в своей новой книге про гипотезу Гриши о Земле Санникова…
Старший помощник капитана, который рассказал нам эту историю, стоял на капитанском мостике.
— Вот он, остров Исчезающий, — сказал он, передавая мне бинокль. — На фоне берега можно различить "Георгия Седова".
Я рассматривал загадочную сушу, когда-то поднявшуюся над поверхностью моря и теперь снова растворяющуюся в нем.
Это был продолговатый остров в несколько километров длиной и километра в три шириной. Я побывал на нем. Он покрыт кое-где бедными травами. Когда идешь, ноги вязнут в песке.
Я видел, как обрушивается в море берег. На срезе виднеются черные полосы. Это «плавниковый» уголь. Кусок его мне удалось привезти с собой в Москву.
Бродя по берегу, я думал о Земле Санникова и о том, сколько еще десятилетий просуществует этот остров.
Гриша — метеоролог полярной станции — увлеченно говорил мне:
— Можно укрепить берег, не дать ему оттаять. Пусть Земля Санникова исчезла, но теперь ни одна, даже самая малая пядь советской земли, если мы захотим, не исчезнет. Ведь тут уголь… — добавил он.
Гриша проводил меня на берег, где нас ожидал катер «Петушок».
Среди арктических реликвий у меня есть кусок угля, того самого, о котором как-то говорил летчик Баранов. Я сам выковырял его из черного пласта, обнажившегося при обвале берега. Полярники называют этот уголь каменным, но он очень легок. На его черной поверхности можно различить строение древесины. Это, несомненно, уголь, однако происхождение его загадочно. Остров, где он найден, намыт из песка морскими волнами и сравнительно недавно поднялся над поверхностью моря. На нем никогда ничего не росло и расти не могло. А между тем я держу кусок этого странного угля в руке.
Впервые я услышал о нем на пароходе «Беломорканал». Мы с Нетаевым перебрались на корабль, когда — он ходил взад и вперед по бухте острова Дикого. Капитан словно не решался выйти в море.
Нетаев объяснил мне, что на корабле проверяют работу магнитных навигационных приборов.
— Боюсь, что это дело затянется, — вздохнул штурман. — Догоним ли мы «Седова»?
Но «Беломорканал» без задержки вышел в море двадцать шестого августа, в понедельник.
За обедом мы познакомились с капитаном. Бритый, с тонкими чертами лица и решительными складками у губ, он был по-морскому элегантно одет, вежлив и предупредителен.
— Думаю, — сказал он, — что "Георгия Седова" мы еще застанем за выгрузкой около острова Исчезающего. Там вы и пересядете на него. Волнение не слишком сильное.
— Интересное судно "Георгий Седов", — вставил старший помощник капитана, или первый штурман, как его называют. Это был невысокий малоразговорчивый человек с внимательными глазами и обветренным лицом.
— Еще бы! — сказал я. — Легендарное судно! Продрейфовало через весь Полярный бассейн, севернее «Фрама» прославленного Нансена.
Старпом улыбнулся.
— Это, конечно, эпизод значительный, заметный. Но «Седов» делает и много незаметных дел. Вот поплаваете на нем, сами увидите. Он для Арктики вроде внутризаводского транспорта. Бегает себе и бегает между островами. Его никто как будто и не замечает, а он втихомолку не один рекорд поставил.
— Вы плавали на «Седове»?
— Плавал. Морскую школу на нем прошел. Много открытий «Седов» сделал. А с виду невзрачный. Да вот подойдем к Исчезающему, сами увидите.
— Почему вы так зовете этот остров? Ведь у него другое название.
— А мы его так после одного рейса прозвали. Я тогда на «Седове» плавал. Могу вам рассказать про этот остров. И про уголь, который на нем нашли…
Мы услышали от первого штурмана о моряках «Седова», о профессоре, интересовавшемся странным углем, и о романтической Земле Санникова.
…Были тогда на борту «Седова» полярники, которые направлялись на зимовки, и один московский профессор. Старик живой, подвижной, со всеми знакомился, заговаривал, спорил, все хотел знать. Его полюбили на корабле. Все знали, что он плывет на остров, чтобы изучить найденный там уголь.
Одетый совсем не по-северному, он расхаживал по палубе и заговаривал то с одним, то с другим из молодых ребят, комсомольцев, направлявшихся на остров.
— Скажите, молодой человек, вы довольны, что попали в Арктику? допрашивал он веснушчатого паренька, жадно смотревшего на море.
— Ничего. Доволен, — нехотя отвечал тот.
— А кем работать будете, позвольте узнать?
— Метеорологом. Курсы окончил.
— Работа метеоролога — это работа ученого! — заявил профессор.
Паренек вскинул на него удивленные глаза и покраснел.
— А пейзаж? Как вам нравится пейзаж? — продолжал спрашивать старик.
— Пейзаж ничего… Льдов что-то маловато, да и медведей не видно, важно ответил паренек, глядя на редкие, освещенные солнцем, источенные водой льдины.
— Маловато? Но ведь для вас это первые льдины. Они не могут не волновать! По лицу вашему вижу, что это так. А вот скоро подойдем к вашему острову. Каков-то он окажется?
— Да ничего особенного. Мне бы на другой хотелось.
— Как же ничего особенного? Ваш остров у нас первый на очереди. Полярникам там надо помочь.
— Это я знаю… Только я на Ново-Сибирские острова хотел.
— Почему?
Паренек, его звали Гриша, оживился.
— Вы слышали о Земле Санникова? — спросил он.
— Далекие горы севернее Ново-Сибирских островов? Их видел в тысяча восемьсот десятом году с острова Котельного промышленник Санников? Фантазия! Такой земли нет. Это неоднократно подтверждалось летчиками.
Гриша преобразился. Глаза заблестели, румянец сразу скрыл веснушки.
— Неправда! Уже после Санникова люди замечали, что птицы летят на север от Ново-Сибирских островов. Зачем им лететь в открытое море? И вот еще: онкилоны — народ такой был — всем племенем куда-то ушли. И будто бы в направлении Земли Санникова. Для меня лично ясно, что там земля.
Профессор улыбнулся.
— Но ведь для науки одного такого убеждения еще недостаточно.
Гриша не сдавался:
— И вот Обручев. Он — академик, а целую книгу написал о Земле Санникова! И будто на Земле Санникова из-за вулканов особые климатические условия, тепло там…
— Тепло? — переспросил профессор.
— …звери доисторические, — продолжал Гриша увлеченно. — Может быть, живые петикантропы…
— Друг мой, ведь Владимир Афанасьевич научно-фантастический роман написал. Это же только фантазия.
— Я на будущую зимовку попрошусь "а Ново-Сибирские острова.
— Землю Санникова открыть хотите?
— И открою. Хоть тайну ее, а открою.
— Люблю дерзания! И завидую вам, завидую искренне. Я бы не рискнул!
— А сами в Арктику прилетели.
— Да ведь я же, дружок, геолог. На каждый день моей жизни приходится в среднем пять тысяч шагов, сделанных вот этими ревматическими ногами, профессор спрятал в усах улыбку.
— А правда, Сергей Никанорович, что вы уголь на острове нашли? спросил Гриша.
— Ну, голубчик мой, это уже сказки. Уголь на острове нашли полярники. А я, напротив, доказывал, что этого не может быть. Ведь остров-то волнами намыло. Из песка. На нем никогда ничего не росло. Откуда же каменному углю взяться? Но уголь, оказывается, все-таки есть! Я потому и в Арктику прилетел, чтобы понять, в чем мое заблуждение.
— Теперь скоро узнаете.
— Скоро, — согласился старик.
Остров показался на следующий день утром. От него по направлению к кораблю двигался огромный серый столб — снежный «заряд», как зовут здесь это явление. Снежный заряд — это молниеносная метель.
Заряд налетел на «Седова», и остров исчез. Все кругом стало тусклым, словно корабль очутился в гигантском мешке. Но вот метель пронеслась. На палубе появился капитан. Он показал профессору только что полученную с берега радиограмму о бедствии:
"Сильнейший прибой. Высадка невозможна. Берег обваливается. Дому грозит гибель. Продолжаем действовать сами".
— Прибой? — удивился профессор. — И это остановит нас?
— Для моряков добраться до какого-нибудь отдаленного острова четверть дела. Вот высадиться…
Парторг собрал в кают-компании всех находившихся на судне. Люди были кто в спортивной майке, кто в ватнике, кто в парадном кителе. Мест не хватало. Опоздавшие стояли вдоль стен или примостились на полу. Здесь были и моряки и пассажиры — зимовщики полярных станций. Профессор уселся на лавке у стены и обводил всех живыми, нетерпеливыми глазами.
После собрания он сказал, потирая руки:
— Люблю краткие прения: "Прибой? Выгружаться нельзя? Ладно. Выгрузимся".
Люди натянули брезентовые робы. Стали готовить к спуску катерок «Петушок». Он повис на канатах, охвативших его "под брюхо", и через минуту заплясал на волнах. Следом за ним плюхнулся в воду плоскодонный кунгас, вместительный, но тяжелый и неуклюжий.
Люди спускались по веревочному трапу. Это было трудно. Волны кидали кунгас то вверх, то вниз. Профессора не хотели пускать к трапу.
— Я не могу остаться! — горячился он. — Моя цель — побывать на острове. Подвешивайте меня на канатах в конце концов!
Его спустили при помощи подъемной стрелы.
Через минуту «Петушок», ведя на буксире кунгас, побежал к острову. Берег, высокий и обрывистый, приближался. На нем, как осажденная средневековая крепость, высился дом полярной станции. Его будто нарочно выстроили на обрыве. Под отвесным берегом вздымались клубы пены.
Катер спешил. Волны подгоняли его. Второй штурман, управляющий катером, знал, что морю ничего не стоит разбить о берег легкую скорлупу, разнести ее в мелкие щепки. Но вдруг перед самым берегом он круто развернулся. «Петушок» неожиданно стал к волнам не кормой, а носом и ринулся на них с мальчишеской удалью.
Пока тяжелый кунгас разворачивался вслед за катером, волны безостановочно били его своими косматыми лапами. Соленые валы разлетались тучами брызг, слепили, валили людей с ног.
Катерок натянул буксир — кунгас стоял теперь между катером и берегом, кормой к берегу. Штурман отступал шаг за шагом, кунгас незаметно приближался к берегу. Уловив момент, матрос с кунгаса бросил на берег конец линя. Полярники поймали его, затянули, не давая кунгасу повернуть к волнам бортом. Но волны подбросили кунгас и со всего размаху ударили дном о камни.
Профессор и Гриша едва удержались за столбик на носу кунгаса. Лица у обоих были растерянные. Люди на берегу и команда катера тянули канаты, тщетно стараясь удержать кунгас. Но он все-таки развернулся вдоль волны, наклонился… вода ринулась через борт.
Пассажиры прыгали прямо в воду и бежали к берегу. Волны настигали их и били в спины.
Гриша, стоя в воде, тащил профессора за рукав. Наконец и профессор спрыгнул. У него захватило дыхание. Вода была ледяной. Ничего не помня, не в силах вздохнуть, профессор вылетел на шуршащую гальку.
Волны бросили ему вслед кунгас.
Полузадохнувшийся профессор с остервенением отплевывался. Около него прыгали огромные мохнатые псы. Они старались лизнуть профессора в лицо. Полярники радостно встречали прибывших. Все стояли под самым обрывом, на узкой полоске суши.
Здесь было видно, как море наступало на остров. Оно точило берег, состоявший из смерзшегося и оттаивавшего сейчас песка, вгрызалось в него, растворяло, как сахар. И берег висел над водой тяжелой громадой, каждую секунду готовый рухнуть вниз.
Профессор ходил по вымытой волнами гальке, рассматривал глыбы обвалившегося песка, потирая руки. Потом он посмотрел вверх, запрокинув голову. На обрыве виднелся дом.
— Только вчера здесь обвалился край берега, — юношеским тенорком сказал обросший бородой полярник. — Теперь обрыв начинается прямо от крыльца. Однако всем вам надо обсохнуть.
— Как обсохнуть? А дом? — спросил Гриша.
— Слышите грохот? Здесь каждую минуту что-нибудь обваливается.
— Так надо спасти дом! — заволновался Гриша. — В работе и обсохнем.
Прибывшие уже поднимались в гору. Они спешили, как по боевой тревоге.
Перед ними был прекрасный дом, построенный лет десять назад. Каждый полярник имел здесь отдельную комнату. И вот дом висел над морем, готовый сорваться вниз.
Раньше дом находился более чем в ста метрах от берега. Теперь берег вплотную придвинулся к дому. Это обнаружили вернувшиеся на остров в прошлом году полярники. Зиму они жили спокойно, а с началом оттепели море снова двинулось на них. Они отступили, покинули свое жилище, вынесли из него все, что могли… По земле тянулась извилистая трещина. Она подползала под дом и выходила с другой его стороны.
— Стойте! Стойте! — кричал профессор, держась рукой за сердце. — Что вы хотите делать, безумцы? Не смейте переходить трещину!
Люди на мгновение остановились.
— Весь остров состоит из песка, скрепленного льдом! — кричал профессор. — Все это было намыто морем и держалось только холодом. Слой мерзлоты теперь оттаивает, море подымает остров… берег обваливается… Не смейте ступать за трещину!
— Так ведь дом погибнет! — сказал Гриша.
— Надо его спасти. Давайте сюда трактор. Зацепим канатом!
Гриша посмотрел на профессора.
— Простите, Сергей Никанорович, как бы не зашибло… Трактора здесь нет…
Сверху упало бревно. Поднялся столб пыли. Профессор растерянно смотрел то на дом, то на бревно.
Гриша уже был на крыше и отдирал от кровли доски. Каждая доска, каждое бревно были заранее помечены полярниками, чтобы удобнее было вновь собрать дом на другом месте.
Работа кипела.
С грохотом падали доски. Скрипели стропила. Сверкали топоры. Пошли в ход тяжелые ломы.
— Дружно, ребятки! Берем, берем!
Эх, и была же это работа! Как на пожаре!
Люди ворочали огромные бревна, бросали их вниз. Пыль оседала на мокрых лицах.
— Вира! Вира! Веселей!
Поднялся ветер, визгливый, яростный. Он хлестал людей по лицам, срывал их с оголившегося сруба. Внизу ревело море, но люди ничего не замечали. Они отдирали бревно за бревном и отбрасывали их от берега.
— Берегись!
Профессор помогал тащить бревна через трещину.
Вот с дома уже слетела крыша. Разобрали потолок. Дом обнажился, показывая свои комнаты, недавно еще такие уютные.
Наконец работа была закончена. Усталых, донельзя грязных гостей полярники привели к себе в птичник, превращенный в жилое помещение.
Профессор, в кителе с чужого плеча, веселый и разговорчивый, уже сидел за столом и подтрунивал над Гришей, уверяя, что на его лице татуировка онкилонского воина. Жена начальника полярной станции, местный повар, тихая, но расторопная молодая женщина, подвела Гришу к зеркалу, а потом молча вручила ему ведро горячей воды и отправила в баню. Правда, и другие в этом нуждались, но Гриша оставался на острове и как бы поступил уже в ее распоряжение.
Ничего не поделаешь. Грише пришлось подчиниться.
Радушная хозяйка без конца подливала в тарелки дымящийся борщ и все говорила:
— Кушайте, кушайте, спасибо вам!
— Ох, и вкусный же борщ на этом острове!
После обеда профессор в полушубке и валенках сидел на завалинке. К нему ласкались две огромные собаки: Лохтак, вожак, и Белуха, признанная предводительница собачьей стаи. Бородатый полярник рассказывал:
— Лохтак — медвежатник. Он выходит на медведя один или с Белухой. Они нападают на зверя одновременно с двух сторон, поочередно отвлекают его на себя, пока не подойдешь с ружьем. Лохтак уже пострадал однажды. Пуля прошла через медведя навылет и задела псу лопатку. Лохтак долго болел. Но к медвежьей охоте пристрастия не потерял.
Профессор удивился, почему эти страшные псы так ласковы даже с незнакомыми людьми. Полярник объяснил, что собаки Севера всех людей считают друзьями. Враги — это звери: медведь, нерпа.
Лохтак отбежал от дома и лег у обрыва, недалеко от бани.
— Караулит нерпу. Когда нерпа высунет голову, Лохтак поднимет лай будет звать охотника.
— Вы напомнили мне о другой охоте… охоте за углем! Ведите меня к вашим залежам… Я так увлекся бревнами, что забыл, для чего проделал несколько тысяч километров.
— Пойдемте вниз, Сергей Никанорович, посмотрим на свежий обрыв. Наверное, там есть что-нибудь новое.
— Извольте! Любопытно посмотреть остатки никогда не существовавшей здесь растительности.
— Мы всю зиму углем топили, — скромно заметил полярник.
Вдруг Лохтак залаял.
— Что это? Нерпа? — забеспокоился профессор.
Лохтак с тревожным лаем носился около бани, стоящей неподалеку от снесенного дома. Вдруг он бросился прочь. Раздался глухой рокот.
— Обвал! — тонко крикнул бородач.
Часть берега, где еще недавно стоял дом, исчезла, отвалилась, видимо как раз по трещине.
Качнулась маленькая избушка — баня. Профессор так и сел на завалинку.
Ухнуло с раскатами, словно артиллерийский залп.
Дверь распахнулась. Из нее вылетел голый, намыленный Гриша. От него валил пар. На снегу оставались следы босых ног. В мгновение ока Гриша пролетел расстояние от бани до птичника и скрылся в нем. Лохтак гнался за ним, удивленно лая. Он никогда раньше не видел голых людей.
Профессор хохотал, слезы текли у него из глаз.
— Этот откроет! Этот непременно откроет новую землю, — задыхаясь, говорил он.
Через несколько минут вместе с бородатым полярником профессор спустился вниз. Там, где недавно берег нависал над морем, теперь лежала громадная куча смерзшегося песка. Через несколько часов волны снова начнут подтачивать берег. Сейчас они еще не доставали до нового обрыва, только слизывали обвалившиеся песчаные глыбы.
Полярник показал на черные полосы в отвесной стене.
— Уголь? — недоверчиво проговорил профессор. — Не может быть! Не верю.
Он подошел к стене, стал выковыривать черные куски. Полосы, отделенные песчаными прослойками, шли параллельно друг другу.
Профессор взвесил на руке черный кусок и стал подбрасывать его. Кусок оказался легче сухого дерева. Профессор заулыбался.
— Для самоваров, для самоваров, голубчик мой, такой уголь хорош.
Полярник непонимающе смотрел на профессора.
— У нас в Сибири самовары древесным углем ставят, — сказал полрник.
— Вот именно, многозначительно заметил профессор. — А ну-ка пойдемте по бережку…
Некоторое время профессор и полярник шли молча.
— Ага! — закричал профессор. — Вот она, тайна вашего угля! — и тронул ногой гладкое, отшлифованное морем бревно с обтолканными, закругленными концами. Оно лежало у самой воды.
— Плавник? — удивился полярник.
— Ну да! — улыбнулся профессор. — Действительно, на нашем острове скопились остатки растительности, никогда здесь не росшей. Я ломал себе голову, откуда взялся на наносном острове уголь. Теперь я знаю. Он приплыл!
— Как приплыл?
— В течение столетий великие сибирские реки выбрасывали в море стволы упавших в воду деревьев. Стволы выносились сюда, в эти широты. Волны выбрасывали бревна на берег, их засыпало песком. Занесенная песком древесина обугливалась. Правда, обугливание происходило не в таких условиях, как на материке. Потому и уголь здесь скорее похож на древесный, чем на каменный. Проходили столетия. Под давлением волн остров поднимался, поднимая и пласты угля.
— Надо собрать уголь лопатами, а то волны унесут.
— Правильно! Не давайте им уносить то, что они когда-то принесли. Прекрасное топливо, но это не каменный уголь. Если хотите знать, то это… как бы сказать… это «плавниковый» уголь! Конечно, это не «залежи». Его здесь ничтожное количество, да и не может быть больше. Но для зимовки хватит. А в общем любопытно.
Профессор присел на корточки и стал копаться в обнаженном пласте, напевая в седоватые усы. Он был в чудесном настроении.
— Сергей Никанорович! — Гриша в большом не по росту полушубке присел на корточки рядом с профессором и заговорил взволнованным шепотом: Открытие, Сергей Никанорович!
— Да, если хотите, открытие. «Плавниковый» уголь нигде не описан. Открытие сделано здесь на берегу.
— А я в бане сделал…
— В бане? Открытие? — удивился профессор.
— Я, может быть, Сергей Никанорович, ошибаюсь, только не думаю. Когда баню тряхнуло, я сразу себе представил, как берег словно ножом срезается. Ведь остров каждый год со всех сторон уменьшается метров на двадцать, на тридцать?
— Уменьшается, — согласился профессор.
— Что же через несколько десятков лет будет? Остров исчезнет.
— Исчезнет. Но ты не огорчайся. В другом месте море новый остров намоет. Не так давно в море Лаптевых такой остров появился…
— Но если острова исчезают, значит могла быть и Земля Санникова. И Санников ее видел, и гуси на нее летели, и онкилоны на нее переселялись. Она существовала, а потом ее не стало. Она была исчезающим островом, как этот!
Юноша взволнованно смотрел на профессора.
— Это интересно… «плавниковый» уголь на исчезающем острове, — после долгого молчания сказал профессор. — А ты молодец, Гриша!
Профессор вскоре уехал в Москву, обещав написать в своей новой книге про гипотезу Гриши о Земле Санникова…
Старший помощник капитана, который рассказал нам эту историю, стоял на капитанском мостике.
— Вот он, остров Исчезающий, — сказал он, передавая мне бинокль. — На фоне берега можно различить "Георгия Седова".
Я рассматривал загадочную сушу, когда-то поднявшуюся над поверхностью моря и теперь снова растворяющуюся в нем.
Это был продолговатый остров в несколько километров длиной и километра в три шириной. Я побывал на нем. Он покрыт кое-где бедными травами. Когда идешь, ноги вязнут в песке.
Я видел, как обрушивается в море берег. На срезе виднеются черные полосы. Это «плавниковый» уголь. Кусок его мне удалось привезти с собой в Москву.
Бродя по берегу, я думал о Земле Санникова и о том, сколько еще десятилетий просуществует этот остров.
Гриша — метеоролог полярной станции — увлеченно говорил мне:
— Можно укрепить берег, не дать ему оттаять. Пусть Земля Санникова исчезла, но теперь ни одна, даже самая малая пядь советской земли, если мы захотим, не исчезнет. Ведь тут уголь… — добавил он.
Гриша проводил меня на берег, где нас ожидал катер «Петушок».
ЛЬДЫ И ЛОДКА
 Впервые на катер «Петушок», известный мне по рассказам штурмана, я вступил с парадного трапа «Беломорканала».
Парадный трап — это наклонная лестница со ступеньками и перилами. «Петушок» должен был доставить нас на ледокольный пароход "Георгий Седов".
Но вот передо мной шторм-трап «Седова». Это веревочная лестница, опускающаяся прямо по борту.
Стоя на палубе катера, я выжидал момент, когда волна подбросит катер вверх и можно будет ухватиться за перекладину.
По сравнению с гигантом «Беломорканалом» «Седов» казался совсем маленьким.
Вслед за Нетаевым я все-таки ухитрился подняться на борт корабля. Здесь все было просто и не так блестело, как на «Беломорканале», но выглядело по-домашнему уютно.
Встретил нас пожилой моряк в брезентовом плаще, сухощавый, плотный, с поседевшими висками.
— Можно пройти к капитану? Меня назначили его третьим помощником, обратился к нему Нетаев.
— Я и есть капитан, — тихим голосом сказал моряк. — Зовут меня Борис Ефимович. — Он мягко улыбнулся.
Каюта третьего помощника уже ждала Нетаева. Я хотел разместиться у него, но Борис Ефимович слышать об этом не хотел и поселил меня в салоне, смежном с его каютой.
Несколько месяцев я прожил рядом с капитаном «Седова».
Он никогда не затворял дверь в свою каюту. Часто я видел, как он ночью или днем на короткое время ложился отдохнуть, но никогда этот человек, всегда бывший начеку, не позволял себе раздеться. Большую часть времени он проводил на мостике. Это был искуснейший полярный навигатор. Он знал повадки льдов и ветров. Иногда, сидя над картами ледовой разведки, он выбирал кружной путь, чтобы миновать льды, иногда же устремлялся к ним, как к друзьям. Это бывало, когда море разгуливалось и наш корабль начинало валить с боку на бок, чего Борис Ефимович терпеть не мог. Он очень боялся за свои плавсредства: кунгасы и катер «Петушок». Потерять их — означало сорвать весь полярный рейс: ни на один остров не попадешь.
Мы направлялись к Дальней Земле, к острову Домовитому.
Борис Ефимович тонкий музыкант. Он чудесно играл на аккордеоне. Однажды я заслушался его, совершенно забыв, где мы находимся. Вдруг корпус судна содрогнулся. Капитан отбросил аккордеон.
— Что он делает? Что он делает? — гневно закричал он и побежал на капитанский мостик.
Я поднялся следом за ним. Вокруг были сплоченные льды. Корабль только что вошел в них.
Впервые я видел столько льдов. Гигантское взломанное ветром и волнами поле уходило за горизонт.
Так вот куда отступили льды, которые некогда, в давние ледниковые времена, властвовали над землей, спускались на равнины Европы! Вот они где, оттесненные солнечным теплом, но не уничтоженные, не расплавленные!
Могучие, тяжелые льдины мерно поднимались и опускались. Казалось, ледяное поле дышит, давя волны своей тяжестью.
— Разве можно ударять так форштевнем? — отчитывал капитан штурмана Нетаева. — Раз навсегда запомните: не бейте сами льдин, вызывайте меня. Ведь корабль старенький… Теперь вот проверяй заклепки во всех швах!
— Это же ледокольный пароход. Льдина легко раскололась, оправдывался смущенный Нетаев, не зная, куда деть глаза.
— Ледокольный корабль! Да он почти мой ровесник! Его беречь надо… Путь надо выбирать между льдинами. Вот смотрите. Право на борт. Вот так, оттесняйте ее бортом, толкайте. Лево на борт! Стоп. Назад. Отступите. Вперед до полного. Теперь ударим легонько…
За кормой вскипала вода. Мелкие разбитые льдины ныряли и ошалело выскакивали из воды. Корабль, сотрясаясь всем корпусом, прорывался вперед. Льдина, расколотая форштевнем, трескалась, перевертывалась, уходила вниз под воду.
— Лево на борт! — командовал капитан. Голос его был резок, звучен.
Рулевой перебирал ручки штурвала.
— Не спите! — кричал на него капитан. — Быстрее. Еще лево!
Послушный корабль ловко уклонялся от встречи с льдиной и входил в проход, который угадывал Борис Ефимович.
Льды с хрустом и шорохом терлись о борта.
Остров Домовитый. Трудно себе представить более ироническое название. К вечеру мы добрались до него. Пустынный островок, на котором не растет даже мох, — одни камни. На пятачке каменистой отмели домик, тот самый, в котором жил со своими товарищами полярник Кушаков, впервые обследовавший и нанесший на карту Дальнюю Землю.
На острове Домовитом «Седов» менял полярников. Я побывал в домике станции. Меня сопровождал Степан Федорович Зимин, начальник зимовки, снова остающийся на острове. Показывал он мне свое хозяйство с некоторой гордостью.
— Вот форточка, — говорил он. — Из нее за одну зиму убито одиннадцать белых медведей. — До чего беспокойные звери. Прямо в окна лезут.
В большой комнате было не слишком уютно. Здесь жили одни мужчины. Но все было устроено рационально, разумно. На стенных полках разместилась чудесная библиотека.
Начальник полярной станции был высокого роста. Он дотянулся до самой верхней полки и подал мне книгу Гончарова "Фрегат «Паллада».
— Собственноручная надпись автора, — показал он первую страницу.
Оказывается, библиотека была подарена полярникам одним советским ученым — страстным библиофилом.
Степан Федорович Зимин повел меня по своим "производственным цехам", как называл он площадку с метеобудками, похожими на пчелиные улья, ветряк, антенну, машинное отделение с бензиновыми движками, аккумуляторную, радиорубку.
— Замечательное место, — говорил он про остров Домовитый. — Живем весело. Кругом красота, — он сделал широкий жест.
Я с недоверием взглянул на каменистую гряду острова.
— Сомневаетесь? — усмехнулся полярник. — Пойдемте, покажу, — и он повел меня на гряду.
Камни хрустели под ногами. Я рассматривал своего спутника. Ему стало жарко, и он снял шапку. У него были коротко стриженные волосы, прямоугольный лоб над лохматыми бровями, чуть прищуренные, веселые глаза, выступающие скулы и тяжеловатый подбородок. Движения его были подчеркнуто спокойны. Верно, он никогда не торопился.
Я знал, что Зимин лет пятнадцать прожил в Арктике, побывал едва ли не на всех островах.
— Первый месяц отпуска, — говорил он мне по дороге, — по театрам хожу, никак насмотреться не могу. Второй месяц — на юг. Лежу под пальмами — от жары пропадаю. Терплю — тепла набираюсь. А третий месяц — уж и не знаю, куда себя деть. Такая тоска возьмет, что хоть вой… За пригоршню снега годовую бы надбавку отдал… Однажды даже с альпинистами увязался, только бы льды повидать… А когда доберешься снова до Арктики, увидишь свои просторы… сердце замрет, — и Зимин опять по-хозяйски повел вокруг рукой.
Мы с ним стояли на гряде, откуда открывался вид на взломанное ледяное поле.
Освещенное солнцем, оно поразило меня. Изломы льда сверкали, переливаясь голубым, зеленоватым, ослепительно белым цветом. До самого горизонта виднелись следы борьбы титанических сил, которые взломали белую равнину, раскололи ее, подняв там и тут бесформенные торосы со сверкающими алмазными гранями.
— Какая сила… какая сила! — невольно вырвалось у меня.
Зимин задумался, потом сказал:
— Смотрел я, как ваш корабль через льды к нам пробивался. Корабль у вас знаменитый. И борта у "Георгия Седова" крепкие, железные, и форштевень стальной. Машина могучая, в два раза мощнее, чем у такого большого корабля, как «Беломорканал». А вот представьте себе, как среди льдов на резиновой лодке плыть.
Я искренне удивился:
— Как это на резиновой лодке?
— Да… на резиновой лодке. Был такой случай. Хотите, расскажу?
— Конечно.
Мы сели на камни. Видя перед собой поле сверкающих льдов, я живо представил себе все, о чем рассказывал Степан Федорович.
"На острове нас было четверо. Остров был так же гол и скалист, как этот. Только лед да снег. Мы сообщали по радио сведения о погоде и льдах. В "бюро погоды" на картах появлялись цифры, позволяющие делать прогнозы. По ним капитаны кораблей знали, как движутся льды, и верно выбирали путь. Летчики решали, можно ли вылететь.
Во время Отечественной войны наши сведения стали особенно ценными.
Мы с Иваном Григорьевичем Тереховым, начальником полярной станции, просились на фронт. Нам сказали коротко — надо нести военную вахту на нашем острове. Мы и остались. С нами была жена начальника Мария Семеновна, радистка, и десятилетний Федя, сын Тереховых.
Федя хотел стать моряком. Мы с ним дружили и вместе изучали морские лоции, найденные в книжном шкафу.
Паренек он был немногословный и серьезный, такой же приземистый и широкоплечий, как отец. Над кроватью Феди висел портрет знаменитого капитана Воронина. На тумбочке всегда лежали книги об Арктике.
Мы не чувствовали себя оторванными от родной страны. Утром и вечером слушали сводки Совинформбюро, перекалывали на карте флажки, горевали или радовались.
Был вечер. Я только что вернулся в дом после зарядки аккумуляторов.
Иван Григорьевич переписывал чернилами показания своих приборов — на воздухе он писал простым карандашом, чтобы буквы не расплывались. Мария Семеновна чинила мои носки. Она была не только радисткой, но и заботливой хозяйкой: готовила вкусные обеды, шила рубашки, стирала белье.
— Чайку попьем, — певуче сказала Мария Семеновна и пошла на кухню.
В окно было видно море с редкими льдинами. Далеко на горизонте виднелся один из ближайших островов, издали напоминающий грозовую тучу.
Здесь постоянно дымили пароходы. Наш остров был одним из самых ближних к водам, где шла война.
Я сел рядом с Федей.
Вдруг под окном что-то ухнуло, пол под ногами вздрогнул, загремела посуда на кухне, звякнуло стекло. Черный едкий дым ворвался в комнату.
Отбросив стул, начальник кинулся в сени. Там висели винтовки, приготовленные на случай медвежьих или других неожиданных визитов.
Я подбежал к окну. Немного левее льдин, на которые я только что смотрел, всплыло огромное серое бревно с седлом-башенкой — подводная лодка. Я слышал, что она прорвалась на наши коммуникации, была обнаружена и теперь, загнанная, обреченная, металась между островами. Вот она где!..
— Фашисты, — прошептал Федя, сжимая мою руку.
— Дядя Степа, фашисты!
— Скорее из дома! — крикнул я.
Второй снаряд попал в дом, когда мы уже были в сенях. Воздушная волна сорвала дверь. Федя мячиком вылетел на улицу.
Мария Семеновна упала на камни, держась за правый бок. В ее руке была винтовка. По белому оренбургскому платку растекались яркие алые пятна.
— В скалы! — крикнул нам Терехов, а сам поднял раненую жену на руки. Он хотел низко пригнуться, но ноша мешала ему. И он, тяжело ступая, пошел во весь рост.
С моря затрещал пулемет. Нас заметили.
Мы залегли в камнях. Федя перевязывал мать. Она сама говорила, как и что делать! Но голос ее заметно слабел.
Мальчик не плакал.
Со стороны дома несло жаром. Дом наш пылал. Гитлеровцы подожгли его зажигательными снарядами.
— Рация-то… рация… — Мария Семеновна почти беззвучно шевелила губами. — Хлопчик мой… хлопчик. — Глаза ее были полны слез, лицо посерело, а губы стали совсем синими.
На мостике подводной лодки копошились черные фигуры.
— Они спускают лодку, не смейте стрелять! — сказал Терехов.
Я удивленно глянул на него.
Иван Григорьевич стал переползать к прибрежным камням и знаками позвал меня за собой. Я понял план Терехова — он хотел подпустить десант поближе.
Гитлеровцы плыли в резиновой лодке.
Иван Григорьевич стрелял замечательно. Стоило нерпе высунуть из воды голову — он с одного выстрела попадал в нее.
Терехов выстрелил, но никто из сидевших в лодке не упал. В ответ затрещали автоматы.
Пахло гарью. Ветер понес на нас дым от горящего дома. Глаза слезились. Душил кашель.
— В лодку цель, в лодку! — командовал Терехов. — Дырявь ее, проклятую!
После одного из выстрелов лодка стала тонуть. Гитлеровцы просчитались. Они, наверное, думали, что полярники сдадутся без боя.
— Тоните, проклятые! — Терехов даже приподнялся.
Раздался взрыв, нас обдало камнями и кусками льда. С подводной лодки били из пушки.
Резиновая лодка стала погружаться. Четыре гитлеровца барахтались в воде. Я злорадствовал. Пусть узнают, что такое вода полярного моря. Ее температура ниже нуля! Прошлой осенью у нас прибоем угнало единственную нашу шлюпку. Я бросился ее догонять, но меня так ошпарило, словно я в кипяток попал. Лодку унесло.
Я видел, как фашисты один за другим исчезли. С подводной лодки им даже не успели оказать помощь, так быстро они скрылись под водой. Тут я потерял сознание…
Когда я пришел в себя, подводной лодки уже не было. На том месте, где лежал Терехов, в развороченных камнях чернела воронка.
Сколько я так пролежал — не знаю. Очнувшись, пополз к камням, где остались Федя и Мария Семеновна. Левая нога и рука плохо слушались. В ушах гудело, перед глазами шли круги.
Я напрасно полз. Можно было идти: гитлеровцы ушли. Не решились высадить десант.
Я нашел Федю. Он скорчившись сидел возле матери и молча смотрел на нее. Он не плакал. Когда я подошел, мальчик бросился ко мне, вцепился в меня. Оказывается, он думал, что и я убит. Отца он не нашел. Даже не понял, куда тот исчез…
Мария Семеновна лежала на спине, словно вглядывалась в нависшие над островом тучи.
Дом наш догорал. Дым низко стелился над запорошенной снегом землей.
По морю плыли одинокие льдины. Вода потемнела. Пронесся короткий снежный заряд. Дым пожарища смешался со снегом.
Мы с Федей рыли могилу. Это было трудно. Приходилось вырубать слой вечной мерзлоты.
Работая, я думал, что нас хватятся, когда перестанут получать наши сводки. Прикажут попутному кораблю зайти на остров. Может быть, пришлют самолет. Однако раньше, чем дней через десять, помощи ждать нельзя.
Проживем… Склад сохранился, продукты в нем есть. Но как быть со сводками? Именно сейчас наши сводки особенно нужны.
В вырытую яму мы положили Марию Семеновну. Потом, отослав Федю, я перенес в могилу то, что осталось от его отца…
Когда Федя вернулся, я уже насыпал небольшой холмик. Вместо памятника мы укрепили на холмике винтовку Ивана Григорьевича с изогнутым стволом.
Я посмотрел на дымящиеся развалины… и сообразил: могилу можно было рыть на месте пожарища — там земля оттаяла. Но об этом надо было подумать раньше.
Подавленные, мы поплелись к складу. Пока я приспосабливал его под жилье, Федя ушел на пожарище. Прибежал он взволнованный.
— Дядя Степа, на берег выбросило лодку!
Я выбежал из сарая. Снежная пелена скрывала горизонт.
Волны то выбрасывали резиновую лодку на берег, то снова стаскивали ее в воду. Без людей она не тонула. В каком-то ее отсеке оставался воздух. Я смотрел на море. Где-то на соседнем острове помещалась база военных моряков. У них есть рация. А что если… Ведь все наши метеоприборы уцелели!
До соседнего острова не так далеко.
Я решил посоветоваться с Федей, а главное — загрузить его работой, отвлечь, занять… Я ни минуты не давал ему быть без дела.
Мы принялись за починку лодки. Растворив в бензине кусочек каучука, который я отодрал от своей подошвы, мы сделали резиновый клей. Наложили четыре заплаты.
На лодке были повреждены и переборки между отсеками, но я решил их пока не чинить.
Потом я послал Федю на метеоплощадку. Он снял самописцы, термометры и другие приборы, залез на столб и снял флюгарку. Все это мы решили взять с собой, чтобы оборудовать метеоплощадку около базы военных моряков.
Спустя сутки я испробовал лодку у ледяного припая.
Измученный, Федя спал.
На рассвете, если в море будет достаточно льдин, чтобы хоть немного унялись волны… и если их будет не слишком много, мы тронемся в путь.
Уснуть я не мог, все думал, имею ли я право рисковать жизнью мальчика? Не лучше ли сидеть на острове и ждать помощи?
Потом бродил по пожарищу. Вот кухонная плита. Около нее, напевая, бывало, украинские песни, хлопотала Мария Семеновна. Вспомнился Иван Григорьевич. Как поступил бы он на моем месте? Конечно, решился бы плыть.
Надо известить штаб навигации о том, что произошло. И главное, надо немедленно возобновить работу метеостанции в этом районе. Это нужно летчикам, морякам.
Дул резкий ветер. Разгулялся сильный прибой. В редкие минуты, когда выглядывало солнце, над камнями в мельчайшей водяной пыли загоралась радуга.
Я разбудил Федю. Он жмурился и ничего не мог понять.
— Собирайся, поплывем.
Федя вышел из сарая. Пусть выплачется.
Прощаться с могилой мы ходили вместе. Стояли молча без шапок и оба клялись отомстить врагу. Федя нарвал мху, карликовых цветочков и положил их на холмик…
Весла у нас сохранились от старой шлюпки. Мы приспособили их к трофейной лодке и отплыли.
Лодка была изрядно нагружена нашим багажом.
Кроме метеоприборов, мы взяли провизию и оружие.
Федя сидел на руле, а я греб. Самое трудное было — отплыть от берега. Лодочка наша то проваливалась вниз, то взлетала на гребень волны.
— Как на качелях! — крикнул я. Хотелось мне подбодрить мальчика.
Федя даже не отозвался на шутку. Бедняга! Держался он молодцом.
Все же мы отгребли от берега. Качка стала меньше, а может быть, мы просто привыкли к ней… Этот мальчишка был прирожденным моряком. Я не знаю, кто из его сверстников выдержал бы такую качку. У меня и то помутилось бы в голове, если бы я не сидел за веслами. Ничто так не помогает при качке, как работа.
Выйдя из полосы прибоя, я стал грести медленнее, чтобы сохранить силы на весь переход.
Некоторое время около лодки плыла нерпа. Она высунула голову из воды и смотрела на нас. Стрелять я не стал: все равно мы не смогли бы взять ее с собой.
Островок удалялся. Тоненькая радиомачта то появлялась, то исчезала. Шел мелкий снег. Льдины стали попадаться чаще. Мы легко огибали их, и я начал думать, что все это не так уж страшно. К тому же ветер переменился и стал попутным. Я рассчитывал еще засветло добраться до острова, переночевать на берегу, а назавтра обогнуть остров и дойти до базы.
К полудню начала сказываться усталость. На руках появились мозоли, скоро они превратились в кровавые. Однако нужно было грести.
Ветер снова переменился и стал дуть нам в бок. Я предпочел бы даже встречный ветер. Боковой был особенно неприятен. Волны били в низкий борт. Лодку заливало, и Феде все время приходилось откачивать воду. Против волн идти было невозможно. Мы сбились бы с курса. К тому же нас могло пронести мимо острова, к которому мы направлялись.
Небо опустилось почти к самой воде. То и дело налетали снежные заряды. Издали они казались огромными косыми столбами и походили на сказочных великанов, которые, нагнувшись вперед, вброд переходили море.
Когда налетал заряд, серая мгла скрывала все вокруг. Каждое мгновение на нас могла наскочить блуждающая льдина и распороть лодчонку.
С болезненной остротой чувствовал я свою ответственность за жизнь мальчика. Чтобы отвлечься, я стал расспрашивать его о родственниках на Большой Земле.
Федя вдруг заявил, что останется со мной в Арктике до тех пор, пока не вырастет и не сделается моряком.
Оттого, что мы так уверенно говорили о нашем будущем, нам было легче плыть. Развлекая мальчика, я фантазировал:
— Вот если бы отгородиться как-нибудь от идущих с севера льдов! Если бы льды не попадали на судоходную трассу, вот здорово было бы! Молодой годовалый лед, который появляется здесь каждую зиму, нашим ледоколам не страшен. Они могли бы плавать круглый год. Беда в тяжелом паковом льду, который пригоняют ветры.
Мальчик слушал меня внимательно, но недоверчиво.
— Я, дядя Степа, когда вырасту, стану капитаном. Мне на льды наплевать, — сказал он низким голосом и сплюнул.
Льды не заставили себя ждать.
Когда льдины проплывали совсем близко, был слышен плеск воды. Это волны разбивались о лед.
Льдин становилось все больше и больше.
Покачиваясь, проплывали они мимо, грозя задеть нас.
Пришлось бросить весла. Я стоял на коленях и веслом отталкивался от напиравших льдин. Лодочка медленно поднималась вверх вместе со всей громадой окружавших нас льдов. Потом так же медленно опускалась…
Я заботился лишь о том, чтобы льды не раздавили нас. О выборе направления теперь нечего было и думать.
Вдруг показался остров. Нас проносило мимо него.
Я стал отчаянно прорываться к берегу. Но льдины были сильнее нас… Я не смел взглянуть на мальчика, но все же пересилил себя. Федя стоял в лодке и, так же упорно как я, отталкивался от льдин веслом.
Вокруг все было бело от льдин… Откуда их принесло столько? Они уже распороли в одном месте обшивку нашей лодочки. Лодка дала течь. Счастье наше, что водой заполнился только один отсек и как раз тот, который не был пробит пулей.
Лодка глубоко осела. Федя вычерпывал воду.
Я уже решил выбираться на ближайшую льдину. Лодочка каждую минуту могла затонуть.
Резина омерзительно скрипела, как мяч, по которому проводят ладонью. Льдины терлись о борта.
Мы видели мыс острова. За этим мысом база. Виднелись даже домики. Они удалялись…
— Дядя Степа, что это стучит? — вдруг спросил мальчик.
Я ничего не слышал, у меня стучало в висках от усталости.
— Стучит, стучит, — настаивал мальчик.
Я прислушался. Да, над водой разносился ровный стук мотора.
— Катер.
Неужели это катер? Я не знал, что он есть на военной базе! Неужели нас заметили? Ну, конечно, заметили! Ведь моряки непрерывно наблюдают за морем. У них сильные бинокли.
Я сбросил с себя ватную куртку, прикрепил ее к веслу и стал размахивать над головой. Стало жарко, лоб покрылся потом, бороду запорошило снегом.
Катер! Катер! Мы еще не видели его, но слышали, определенно слышали!
Федя верил в помощь. И он был прав.
Скоро мы увидели катер. Он дошел до сплоченного льда и стал пробираться между льдинами. Остров удалялся, но теперь это не пугало.
Катер подошел к нам. Моряки спрыгнули на льдину… Побежали.
Я долго не мог говорить от усталости. А Федя мужественно рассказывал, что произошло. Только о родителях он ничего не сказал… Моряки и так все поняли.
Матросы бережно перенесли на катер наши метеоприборы, забрали и трофейную лодку, критически рассматривая ее.
Метеоплощадку мы с помощью моряков разбили на новом месте, невдалеке от жилого дома. Старший лейтенант выделил мне в помощь старшину. Федя стал моим неизменным помощником, и мы втроем в течение нескольких месяцев несли регулярную метеовахту".
Степан Федорович кончил свой рассказ. Мы смотрели на сверкающие льды. Я старался представить себе между ними крохотную резиновую лодочку.
— А как же подводная лодка? — спросил я.
Степан Федорович оживился.
— Попалась… Попалась в архипелаге, как в сети. С севера подошли льды. Немцы их боятся. На восток идти, еще дальше от баз, — гибель. А назад прорваться не могут: наши катера-охотники путь отрезали. Неделю метались. Не рады, наверно, были гитлеровцы, что забрались в полярные воды… Тут еще проливы между островами льдом забивать стало. Побоялись фашисты подо льдом остаться. Всплыли. Тут их наши морячки с наблюдательного пункта заметили, как недавно нас с Федей. Послали несколько хороших снарядов. Больше не понадобилось.
Пора было идти на полярную станцию. Выгрузка кончилась. Мы возвращались со Степаном Федоровичем, и мне казалось, что я знаю его давно, давно.
— Вот и покидаете вы нас, — сказал он. — Скоро Борис Ефимович поведет своего «Седова» через сплоченные льды.
Впервые на катер «Петушок», известный мне по рассказам штурмана, я вступил с парадного трапа «Беломорканала».
Парадный трап — это наклонная лестница со ступеньками и перилами. «Петушок» должен был доставить нас на ледокольный пароход "Георгий Седов".
Но вот передо мной шторм-трап «Седова». Это веревочная лестница, опускающаяся прямо по борту.
Стоя на палубе катера, я выжидал момент, когда волна подбросит катер вверх и можно будет ухватиться за перекладину.
По сравнению с гигантом «Беломорканалом» «Седов» казался совсем маленьким.
Вслед за Нетаевым я все-таки ухитрился подняться на борт корабля. Здесь все было просто и не так блестело, как на «Беломорканале», но выглядело по-домашнему уютно.
Встретил нас пожилой моряк в брезентовом плаще, сухощавый, плотный, с поседевшими висками.
— Можно пройти к капитану? Меня назначили его третьим помощником, обратился к нему Нетаев.
— Я и есть капитан, — тихим голосом сказал моряк. — Зовут меня Борис Ефимович. — Он мягко улыбнулся.
Каюта третьего помощника уже ждала Нетаева. Я хотел разместиться у него, но Борис Ефимович слышать об этом не хотел и поселил меня в салоне, смежном с его каютой.
Несколько месяцев я прожил рядом с капитаном «Седова».
Он никогда не затворял дверь в свою каюту. Часто я видел, как он ночью или днем на короткое время ложился отдохнуть, но никогда этот человек, всегда бывший начеку, не позволял себе раздеться. Большую часть времени он проводил на мостике. Это был искуснейший полярный навигатор. Он знал повадки льдов и ветров. Иногда, сидя над картами ледовой разведки, он выбирал кружной путь, чтобы миновать льды, иногда же устремлялся к ним, как к друзьям. Это бывало, когда море разгуливалось и наш корабль начинало валить с боку на бок, чего Борис Ефимович терпеть не мог. Он очень боялся за свои плавсредства: кунгасы и катер «Петушок». Потерять их — означало сорвать весь полярный рейс: ни на один остров не попадешь.
Мы направлялись к Дальней Земле, к острову Домовитому.
Борис Ефимович тонкий музыкант. Он чудесно играл на аккордеоне. Однажды я заслушался его, совершенно забыв, где мы находимся. Вдруг корпус судна содрогнулся. Капитан отбросил аккордеон.
— Что он делает? Что он делает? — гневно закричал он и побежал на капитанский мостик.
Я поднялся следом за ним. Вокруг были сплоченные льды. Корабль только что вошел в них.
Впервые я видел столько льдов. Гигантское взломанное ветром и волнами поле уходило за горизонт.
Так вот куда отступили льды, которые некогда, в давние ледниковые времена, властвовали над землей, спускались на равнины Европы! Вот они где, оттесненные солнечным теплом, но не уничтоженные, не расплавленные!
Могучие, тяжелые льдины мерно поднимались и опускались. Казалось, ледяное поле дышит, давя волны своей тяжестью.
— Разве можно ударять так форштевнем? — отчитывал капитан штурмана Нетаева. — Раз навсегда запомните: не бейте сами льдин, вызывайте меня. Ведь корабль старенький… Теперь вот проверяй заклепки во всех швах!
— Это же ледокольный пароход. Льдина легко раскололась, оправдывался смущенный Нетаев, не зная, куда деть глаза.
— Ледокольный корабль! Да он почти мой ровесник! Его беречь надо… Путь надо выбирать между льдинами. Вот смотрите. Право на борт. Вот так, оттесняйте ее бортом, толкайте. Лево на борт! Стоп. Назад. Отступите. Вперед до полного. Теперь ударим легонько…
За кормой вскипала вода. Мелкие разбитые льдины ныряли и ошалело выскакивали из воды. Корабль, сотрясаясь всем корпусом, прорывался вперед. Льдина, расколотая форштевнем, трескалась, перевертывалась, уходила вниз под воду.
— Лево на борт! — командовал капитан. Голос его был резок, звучен.
Рулевой перебирал ручки штурвала.
— Не спите! — кричал на него капитан. — Быстрее. Еще лево!
Послушный корабль ловко уклонялся от встречи с льдиной и входил в проход, который угадывал Борис Ефимович.
Льды с хрустом и шорохом терлись о борта.
Остров Домовитый. Трудно себе представить более ироническое название. К вечеру мы добрались до него. Пустынный островок, на котором не растет даже мох, — одни камни. На пятачке каменистой отмели домик, тот самый, в котором жил со своими товарищами полярник Кушаков, впервые обследовавший и нанесший на карту Дальнюю Землю.
На острове Домовитом «Седов» менял полярников. Я побывал в домике станции. Меня сопровождал Степан Федорович Зимин, начальник зимовки, снова остающийся на острове. Показывал он мне свое хозяйство с некоторой гордостью.
— Вот форточка, — говорил он. — Из нее за одну зиму убито одиннадцать белых медведей. — До чего беспокойные звери. Прямо в окна лезут.
В большой комнате было не слишком уютно. Здесь жили одни мужчины. Но все было устроено рационально, разумно. На стенных полках разместилась чудесная библиотека.
Начальник полярной станции был высокого роста. Он дотянулся до самой верхней полки и подал мне книгу Гончарова "Фрегат «Паллада».
— Собственноручная надпись автора, — показал он первую страницу.
Оказывается, библиотека была подарена полярникам одним советским ученым — страстным библиофилом.
Степан Федорович Зимин повел меня по своим "производственным цехам", как называл он площадку с метеобудками, похожими на пчелиные улья, ветряк, антенну, машинное отделение с бензиновыми движками, аккумуляторную, радиорубку.
— Замечательное место, — говорил он про остров Домовитый. — Живем весело. Кругом красота, — он сделал широкий жест.
Я с недоверием взглянул на каменистую гряду острова.
— Сомневаетесь? — усмехнулся полярник. — Пойдемте, покажу, — и он повел меня на гряду.
Камни хрустели под ногами. Я рассматривал своего спутника. Ему стало жарко, и он снял шапку. У него были коротко стриженные волосы, прямоугольный лоб над лохматыми бровями, чуть прищуренные, веселые глаза, выступающие скулы и тяжеловатый подбородок. Движения его были подчеркнуто спокойны. Верно, он никогда не торопился.
Я знал, что Зимин лет пятнадцать прожил в Арктике, побывал едва ли не на всех островах.
— Первый месяц отпуска, — говорил он мне по дороге, — по театрам хожу, никак насмотреться не могу. Второй месяц — на юг. Лежу под пальмами — от жары пропадаю. Терплю — тепла набираюсь. А третий месяц — уж и не знаю, куда себя деть. Такая тоска возьмет, что хоть вой… За пригоршню снега годовую бы надбавку отдал… Однажды даже с альпинистами увязался, только бы льды повидать… А когда доберешься снова до Арктики, увидишь свои просторы… сердце замрет, — и Зимин опять по-хозяйски повел вокруг рукой.
Мы с ним стояли на гряде, откуда открывался вид на взломанное ледяное поле.
Освещенное солнцем, оно поразило меня. Изломы льда сверкали, переливаясь голубым, зеленоватым, ослепительно белым цветом. До самого горизонта виднелись следы борьбы титанических сил, которые взломали белую равнину, раскололи ее, подняв там и тут бесформенные торосы со сверкающими алмазными гранями.
— Какая сила… какая сила! — невольно вырвалось у меня.
Зимин задумался, потом сказал:
— Смотрел я, как ваш корабль через льды к нам пробивался. Корабль у вас знаменитый. И борта у "Георгия Седова" крепкие, железные, и форштевень стальной. Машина могучая, в два раза мощнее, чем у такого большого корабля, как «Беломорканал». А вот представьте себе, как среди льдов на резиновой лодке плыть.
Я искренне удивился:
— Как это на резиновой лодке?
— Да… на резиновой лодке. Был такой случай. Хотите, расскажу?
— Конечно.
Мы сели на камни. Видя перед собой поле сверкающих льдов, я живо представил себе все, о чем рассказывал Степан Федорович.
"На острове нас было четверо. Остров был так же гол и скалист, как этот. Только лед да снег. Мы сообщали по радио сведения о погоде и льдах. В "бюро погоды" на картах появлялись цифры, позволяющие делать прогнозы. По ним капитаны кораблей знали, как движутся льды, и верно выбирали путь. Летчики решали, можно ли вылететь.
Во время Отечественной войны наши сведения стали особенно ценными.
Мы с Иваном Григорьевичем Тереховым, начальником полярной станции, просились на фронт. Нам сказали коротко — надо нести военную вахту на нашем острове. Мы и остались. С нами была жена начальника Мария Семеновна, радистка, и десятилетний Федя, сын Тереховых.
Федя хотел стать моряком. Мы с ним дружили и вместе изучали морские лоции, найденные в книжном шкафу.
Паренек он был немногословный и серьезный, такой же приземистый и широкоплечий, как отец. Над кроватью Феди висел портрет знаменитого капитана Воронина. На тумбочке всегда лежали книги об Арктике.
Мы не чувствовали себя оторванными от родной страны. Утром и вечером слушали сводки Совинформбюро, перекалывали на карте флажки, горевали или радовались.
Был вечер. Я только что вернулся в дом после зарядки аккумуляторов.
Иван Григорьевич переписывал чернилами показания своих приборов — на воздухе он писал простым карандашом, чтобы буквы не расплывались. Мария Семеновна чинила мои носки. Она была не только радисткой, но и заботливой хозяйкой: готовила вкусные обеды, шила рубашки, стирала белье.
— Чайку попьем, — певуче сказала Мария Семеновна и пошла на кухню.
В окно было видно море с редкими льдинами. Далеко на горизонте виднелся один из ближайших островов, издали напоминающий грозовую тучу.
Здесь постоянно дымили пароходы. Наш остров был одним из самых ближних к водам, где шла война.
Я сел рядом с Федей.
Вдруг под окном что-то ухнуло, пол под ногами вздрогнул, загремела посуда на кухне, звякнуло стекло. Черный едкий дым ворвался в комнату.
Отбросив стул, начальник кинулся в сени. Там висели винтовки, приготовленные на случай медвежьих или других неожиданных визитов.
Я подбежал к окну. Немного левее льдин, на которые я только что смотрел, всплыло огромное серое бревно с седлом-башенкой — подводная лодка. Я слышал, что она прорвалась на наши коммуникации, была обнаружена и теперь, загнанная, обреченная, металась между островами. Вот она где!..
— Фашисты, — прошептал Федя, сжимая мою руку.
— Дядя Степа, фашисты!
— Скорее из дома! — крикнул я.
Второй снаряд попал в дом, когда мы уже были в сенях. Воздушная волна сорвала дверь. Федя мячиком вылетел на улицу.
Мария Семеновна упала на камни, держась за правый бок. В ее руке была винтовка. По белому оренбургскому платку растекались яркие алые пятна.
— В скалы! — крикнул нам Терехов, а сам поднял раненую жену на руки. Он хотел низко пригнуться, но ноша мешала ему. И он, тяжело ступая, пошел во весь рост.
С моря затрещал пулемет. Нас заметили.
Мы залегли в камнях. Федя перевязывал мать. Она сама говорила, как и что делать! Но голос ее заметно слабел.
Мальчик не плакал.
Со стороны дома несло жаром. Дом наш пылал. Гитлеровцы подожгли его зажигательными снарядами.
— Рация-то… рация… — Мария Семеновна почти беззвучно шевелила губами. — Хлопчик мой… хлопчик. — Глаза ее были полны слез, лицо посерело, а губы стали совсем синими.
На мостике подводной лодки копошились черные фигуры.
— Они спускают лодку, не смейте стрелять! — сказал Терехов.
Я удивленно глянул на него.
Иван Григорьевич стал переползать к прибрежным камням и знаками позвал меня за собой. Я понял план Терехова — он хотел подпустить десант поближе.
Гитлеровцы плыли в резиновой лодке.
Иван Григорьевич стрелял замечательно. Стоило нерпе высунуть из воды голову — он с одного выстрела попадал в нее.
Терехов выстрелил, но никто из сидевших в лодке не упал. В ответ затрещали автоматы.
Пахло гарью. Ветер понес на нас дым от горящего дома. Глаза слезились. Душил кашель.
— В лодку цель, в лодку! — командовал Терехов. — Дырявь ее, проклятую!
После одного из выстрелов лодка стала тонуть. Гитлеровцы просчитались. Они, наверное, думали, что полярники сдадутся без боя.
— Тоните, проклятые! — Терехов даже приподнялся.
Раздался взрыв, нас обдало камнями и кусками льда. С подводной лодки били из пушки.
Резиновая лодка стала погружаться. Четыре гитлеровца барахтались в воде. Я злорадствовал. Пусть узнают, что такое вода полярного моря. Ее температура ниже нуля! Прошлой осенью у нас прибоем угнало единственную нашу шлюпку. Я бросился ее догонять, но меня так ошпарило, словно я в кипяток попал. Лодку унесло.
Я видел, как фашисты один за другим исчезли. С подводной лодки им даже не успели оказать помощь, так быстро они скрылись под водой. Тут я потерял сознание…
Когда я пришел в себя, подводной лодки уже не было. На том месте, где лежал Терехов, в развороченных камнях чернела воронка.
Сколько я так пролежал — не знаю. Очнувшись, пополз к камням, где остались Федя и Мария Семеновна. Левая нога и рука плохо слушались. В ушах гудело, перед глазами шли круги.
Я напрасно полз. Можно было идти: гитлеровцы ушли. Не решились высадить десант.
Я нашел Федю. Он скорчившись сидел возле матери и молча смотрел на нее. Он не плакал. Когда я подошел, мальчик бросился ко мне, вцепился в меня. Оказывается, он думал, что и я убит. Отца он не нашел. Даже не понял, куда тот исчез…
Мария Семеновна лежала на спине, словно вглядывалась в нависшие над островом тучи.
Дом наш догорал. Дым низко стелился над запорошенной снегом землей.
По морю плыли одинокие льдины. Вода потемнела. Пронесся короткий снежный заряд. Дым пожарища смешался со снегом.
Мы с Федей рыли могилу. Это было трудно. Приходилось вырубать слой вечной мерзлоты.
Работая, я думал, что нас хватятся, когда перестанут получать наши сводки. Прикажут попутному кораблю зайти на остров. Может быть, пришлют самолет. Однако раньше, чем дней через десять, помощи ждать нельзя.
Проживем… Склад сохранился, продукты в нем есть. Но как быть со сводками? Именно сейчас наши сводки особенно нужны.
В вырытую яму мы положили Марию Семеновну. Потом, отослав Федю, я перенес в могилу то, что осталось от его отца…
Когда Федя вернулся, я уже насыпал небольшой холмик. Вместо памятника мы укрепили на холмике винтовку Ивана Григорьевича с изогнутым стволом.
Я посмотрел на дымящиеся развалины… и сообразил: могилу можно было рыть на месте пожарища — там земля оттаяла. Но об этом надо было подумать раньше.
Подавленные, мы поплелись к складу. Пока я приспосабливал его под жилье, Федя ушел на пожарище. Прибежал он взволнованный.
— Дядя Степа, на берег выбросило лодку!
Я выбежал из сарая. Снежная пелена скрывала горизонт.
Волны то выбрасывали резиновую лодку на берег, то снова стаскивали ее в воду. Без людей она не тонула. В каком-то ее отсеке оставался воздух. Я смотрел на море. Где-то на соседнем острове помещалась база военных моряков. У них есть рация. А что если… Ведь все наши метеоприборы уцелели!
До соседнего острова не так далеко.
Я решил посоветоваться с Федей, а главное — загрузить его работой, отвлечь, занять… Я ни минуты не давал ему быть без дела.
Мы принялись за починку лодки. Растворив в бензине кусочек каучука, который я отодрал от своей подошвы, мы сделали резиновый клей. Наложили четыре заплаты.
На лодке были повреждены и переборки между отсеками, но я решил их пока не чинить.
Потом я послал Федю на метеоплощадку. Он снял самописцы, термометры и другие приборы, залез на столб и снял флюгарку. Все это мы решили взять с собой, чтобы оборудовать метеоплощадку около базы военных моряков.
Спустя сутки я испробовал лодку у ледяного припая.
Измученный, Федя спал.
На рассвете, если в море будет достаточно льдин, чтобы хоть немного унялись волны… и если их будет не слишком много, мы тронемся в путь.
Уснуть я не мог, все думал, имею ли я право рисковать жизнью мальчика? Не лучше ли сидеть на острове и ждать помощи?
Потом бродил по пожарищу. Вот кухонная плита. Около нее, напевая, бывало, украинские песни, хлопотала Мария Семеновна. Вспомнился Иван Григорьевич. Как поступил бы он на моем месте? Конечно, решился бы плыть.
Надо известить штаб навигации о том, что произошло. И главное, надо немедленно возобновить работу метеостанции в этом районе. Это нужно летчикам, морякам.
Дул резкий ветер. Разгулялся сильный прибой. В редкие минуты, когда выглядывало солнце, над камнями в мельчайшей водяной пыли загоралась радуга.
Я разбудил Федю. Он жмурился и ничего не мог понять.
— Собирайся, поплывем.
Федя вышел из сарая. Пусть выплачется.
Прощаться с могилой мы ходили вместе. Стояли молча без шапок и оба клялись отомстить врагу. Федя нарвал мху, карликовых цветочков и положил их на холмик…
Весла у нас сохранились от старой шлюпки. Мы приспособили их к трофейной лодке и отплыли.
Лодка была изрядно нагружена нашим багажом.
Кроме метеоприборов, мы взяли провизию и оружие.
Федя сидел на руле, а я греб. Самое трудное было — отплыть от берега. Лодочка наша то проваливалась вниз, то взлетала на гребень волны.
— Как на качелях! — крикнул я. Хотелось мне подбодрить мальчика.
Федя даже не отозвался на шутку. Бедняга! Держался он молодцом.
Все же мы отгребли от берега. Качка стала меньше, а может быть, мы просто привыкли к ней… Этот мальчишка был прирожденным моряком. Я не знаю, кто из его сверстников выдержал бы такую качку. У меня и то помутилось бы в голове, если бы я не сидел за веслами. Ничто так не помогает при качке, как работа.
Выйдя из полосы прибоя, я стал грести медленнее, чтобы сохранить силы на весь переход.
Некоторое время около лодки плыла нерпа. Она высунула голову из воды и смотрела на нас. Стрелять я не стал: все равно мы не смогли бы взять ее с собой.
Островок удалялся. Тоненькая радиомачта то появлялась, то исчезала. Шел мелкий снег. Льдины стали попадаться чаще. Мы легко огибали их, и я начал думать, что все это не так уж страшно. К тому же ветер переменился и стал попутным. Я рассчитывал еще засветло добраться до острова, переночевать на берегу, а назавтра обогнуть остров и дойти до базы.
К полудню начала сказываться усталость. На руках появились мозоли, скоро они превратились в кровавые. Однако нужно было грести.
Ветер снова переменился и стал дуть нам в бок. Я предпочел бы даже встречный ветер. Боковой был особенно неприятен. Волны били в низкий борт. Лодку заливало, и Феде все время приходилось откачивать воду. Против волн идти было невозможно. Мы сбились бы с курса. К тому же нас могло пронести мимо острова, к которому мы направлялись.
Небо опустилось почти к самой воде. То и дело налетали снежные заряды. Издали они казались огромными косыми столбами и походили на сказочных великанов, которые, нагнувшись вперед, вброд переходили море.
Когда налетал заряд, серая мгла скрывала все вокруг. Каждое мгновение на нас могла наскочить блуждающая льдина и распороть лодчонку.
С болезненной остротой чувствовал я свою ответственность за жизнь мальчика. Чтобы отвлечься, я стал расспрашивать его о родственниках на Большой Земле.
Федя вдруг заявил, что останется со мной в Арктике до тех пор, пока не вырастет и не сделается моряком.
Оттого, что мы так уверенно говорили о нашем будущем, нам было легче плыть. Развлекая мальчика, я фантазировал:
— Вот если бы отгородиться как-нибудь от идущих с севера льдов! Если бы льды не попадали на судоходную трассу, вот здорово было бы! Молодой годовалый лед, который появляется здесь каждую зиму, нашим ледоколам не страшен. Они могли бы плавать круглый год. Беда в тяжелом паковом льду, который пригоняют ветры.
Мальчик слушал меня внимательно, но недоверчиво.
— Я, дядя Степа, когда вырасту, стану капитаном. Мне на льды наплевать, — сказал он низким голосом и сплюнул.
Льды не заставили себя ждать.
Когда льдины проплывали совсем близко, был слышен плеск воды. Это волны разбивались о лед.
Льдин становилось все больше и больше.
Покачиваясь, проплывали они мимо, грозя задеть нас.
Пришлось бросить весла. Я стоял на коленях и веслом отталкивался от напиравших льдин. Лодочка медленно поднималась вверх вместе со всей громадой окружавших нас льдов. Потом так же медленно опускалась…
Я заботился лишь о том, чтобы льды не раздавили нас. О выборе направления теперь нечего было и думать.
Вдруг показался остров. Нас проносило мимо него.
Я стал отчаянно прорываться к берегу. Но льдины были сильнее нас… Я не смел взглянуть на мальчика, но все же пересилил себя. Федя стоял в лодке и, так же упорно как я, отталкивался от льдин веслом.
Вокруг все было бело от льдин… Откуда их принесло столько? Они уже распороли в одном месте обшивку нашей лодочки. Лодка дала течь. Счастье наше, что водой заполнился только один отсек и как раз тот, который не был пробит пулей.
Лодка глубоко осела. Федя вычерпывал воду.
Я уже решил выбираться на ближайшую льдину. Лодочка каждую минуту могла затонуть.
Резина омерзительно скрипела, как мяч, по которому проводят ладонью. Льдины терлись о борта.
Мы видели мыс острова. За этим мысом база. Виднелись даже домики. Они удалялись…
— Дядя Степа, что это стучит? — вдруг спросил мальчик.
Я ничего не слышал, у меня стучало в висках от усталости.
— Стучит, стучит, — настаивал мальчик.
Я прислушался. Да, над водой разносился ровный стук мотора.
— Катер.
Неужели это катер? Я не знал, что он есть на военной базе! Неужели нас заметили? Ну, конечно, заметили! Ведь моряки непрерывно наблюдают за морем. У них сильные бинокли.
Я сбросил с себя ватную куртку, прикрепил ее к веслу и стал размахивать над головой. Стало жарко, лоб покрылся потом, бороду запорошило снегом.
Катер! Катер! Мы еще не видели его, но слышали, определенно слышали!
Федя верил в помощь. И он был прав.
Скоро мы увидели катер. Он дошел до сплоченного льда и стал пробираться между льдинами. Остров удалялся, но теперь это не пугало.
Катер подошел к нам. Моряки спрыгнули на льдину… Побежали.
Я долго не мог говорить от усталости. А Федя мужественно рассказывал, что произошло. Только о родителях он ничего не сказал… Моряки и так все поняли.
Матросы бережно перенесли на катер наши метеоприборы, забрали и трофейную лодку, критически рассматривая ее.
Метеоплощадку мы с помощью моряков разбили на новом месте, невдалеке от жилого дома. Старший лейтенант выделил мне в помощь старшину. Федя стал моим неизменным помощником, и мы втроем в течение нескольких месяцев несли регулярную метеовахту".
Степан Федорович кончил свой рассказ. Мы смотрели на сверкающие льды. Я старался представить себе между ними крохотную резиновую лодочку.
— А как же подводная лодка? — спросил я.
Степан Федорович оживился.
— Попалась… Попалась в архипелаге, как в сети. С севера подошли льды. Немцы их боятся. На восток идти, еще дальше от баз, — гибель. А назад прорваться не могут: наши катера-охотники путь отрезали. Неделю метались. Не рады, наверно, были гитлеровцы, что забрались в полярные воды… Тут еще проливы между островами льдом забивать стало. Побоялись фашисты подо льдом остаться. Всплыли. Тут их наши морячки с наблюдательного пункта заметили, как недавно нас с Федей. Послали несколько хороших снарядов. Больше не понадобилось.
Пора было идти на полярную станцию. Выгрузка кончилась. Мы возвращались со Степаном Федоровичем, и мне казалось, что я знаю его давно, давно.
— Вот и покидаете вы нас, — сказал он. — Скоро Борис Ефимович поведет своего «Седова» через сплоченные льды.
ЛЮБОВЬ
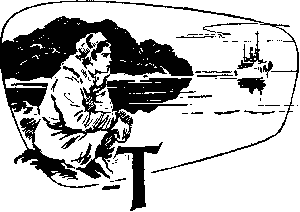 — Только на "Георгии Седове" возможно такое необычайное положение, когда на одном пароходе люди едут в разные стороны, — говорил капитан Борис Ефимович. — Вас интересует, как это может быть? Очень просто. Бегает наш корабль без устали от одного острова к другому, доставляет продовольствие, уголь, оборудование, заменяет зимовщиков. Вот и получается, что одних полярников он с острова снял и везет на Большую Землю, а других еще только доставляет с Большой Земли на острова. Так и путешествуют на нем пассажиры: одни в Арктику, другие из Арктики… А живут в соседних каютах. Порой из-за этого получаются запутанные положения.
Мы поняли, что Борису Ефимовичу хочется что-то рассказать, и стали просить его об этом.
Капитан охотно согласился. На его обветренном морщинистом лице появилась хорошая, чуть лукавая улыбка.
— Шли мы на "Георгии Седове" в обычный рейс по островам. И на борту была у нас девчушка лет двадцати. Впервые в Арктику попала, договор на три года заключила. В колхозном селе семилетку окончила, мечтала о далеких путешествиях, о северной романтике, пошла на московские курсы метеорологов… Маленькая такая, крепкая, кровь с молоком. Стриженная под машинку, как после болезни. Это она нарочно остриглась: дескать, ничем таким не интересуется на Крайнем Севере. Ну и встретилась на корабле с одним полярником. Знаменитый радист. Кто его в Арктике не знает! Грачев.
— Грачев? — переспросил я. — Радист, бежавший с немецкого рейдера? Он рассказывал мне про "Полярного Варяга".
— Вы слышали от него про «Варяга»? Вот с этого рассказа все дело и пошло.
Услышала Маша про историю с рейдером от самого Грачева, который после нескольких лет зимовки на Большую Землю возвращался, и увидела в Грачеве полярного героя. Сам он себя героем, конечно, не считал, человек был солидный, тихий, но…
Мне вспомнилась рослая фигура радиста, его спокойное лицо с глубокими морщинами, ровный, неторопливый голос.
— …но кого из нас не подкупит женское внимание?
Разгуливали они вдвоем по палубе и всем обязательно на глаза попадались. Им-то самим это, по-видимому, было невдомек, а над ними посмеивались.
А влюбленным моим, кстати сказать, было совсем не до смеху. Ехали они на одном пароходе, но… в разные стороны.
Машенька должна была остаться на три года на острове Диком, а Грачев отправлялся на отдых. Кто знает, когда еще свидятся?
Смотрел я на этих своих пассажиров и головой качал.
Однажды приходит ко мне в каюту Грачев. Лицо серьезное, губы решительно сжаты.
"Позвольте обеспокоить, Борис Ефимович". — "Чем полезен могу быть, Григорий Иванович?" — спрашиваю. — "Не можете ли вы сказать мне, Борис Ефимович, сколько стоит один день питания на "Георгии Седове"?"
Отчего же не сказать? Позвал я второго помощника, он у нас на корабле всю отчетность ведет. Высчитал он, что надо, и назвал Грачеву сумму. Тот записал аккуратно.
"Скажите теперь, Борис Ефимович, сколько стоит проезд на "Георгии Седове"?"
Удивился я. Никак не пойму, к чему он клонит. Но человек солидный, зря интересоваться не будет. Вычислил ему второй помощник стоимость проезда. Полярники-то никогда ни проезд, ни питание не оплачивают. Все это им по договору бесплатно полагается.
"А не знаете ли вы случайно, сколько стоит перелет на самолете от Москвы, через Архангельск, до острова Дикого?" — "Это очень дорого стоит", — говорю я.
Я случайно знал эту сумму и назвал ее Грачеву. Тот опять все аккуратно записал, поблагодарил нас со штурманом и ушел.
На следующий день снова приходит ко мне. Вижу, смущен чем-то. Я его хотел коньяком угостить, но он отказался.
"Борис Ефимович, именно к вам хочу обратиться. Не сможете ли вы дать мне взаймы двести шестьдесят рублей? Через месяц после приезда на Большую Землю я вам по телеграфу переведу".
Удивился я очень. Знаю, что за несколько лет зимовки у Грачева должна порядочная сумма скопиться. Тратить-то ведь на острове некуда. Но отказать такому человеку в просьбе нельзя.
"Почему двести шестьдесят? Возьмите триста". "Нет, — говорит, — мне достаточно двухсот шестидесяти".
Взял деньги, поблагодарил и ушел.
Подошли мы к острову Хмурому, где Маше сойти предстояло. Начальником на этом острове был Василий Васильевич Сходов. Известный полярник, суровый человек, но хозяин хороший, правильный. К нему на станцию и была назначена наша героиня.
Съехал я на берег — Василия Васильевича проведать. Со мной вместе на катере и Машенька была. Грачев тоже на берег отправился. Я решил, что он хочет девушку проводить. Ну, думаю, крепко серьезного человека защемило.
Надо сказать, что начальник полярной станции на острове обязан многие функции выполнять. Об этом Грачев, конечно, знал.
Вскоре, после того как я вошел к Василию Васильевичу Сходову, приходят туда Маша и Грачев.
Грачев объявляет, зачем он на остров съехал. Оказывается, решили они с Машей свой брак законным образом зарегистрировать, и начальник полярной станции товарищ Сходов должен выполнить обязанности загса.
Похвалил я в душе Грачева. Только Машеньку жаль мне стало. Предстоит ей сразу долгая разлука.
Василий Васильевич человек сухой, строгий, улыбается редко.
Достал он свои книги, потребовал с «брачующихся», как он выразился, документы, все досконально проверил, ну… и поженил, заставил расписаться, потом крепко молодым руки пожал, и глаза у него сразу потеплели.
Про Василия Васильевича я все знал. Похоронил он на далеком острове всю свою семью: и жену и сына десяти лет. Давно это было. Тяжелые тогда условия в Арктике были, не все могли их перенести. С тех пор Василий Васильевич помрачнел. Похоже, он себя виновным в гибели близких считал. Но Арктику все же не покинул. Любит он наши края…
Сходов поздравил молодых и сразу сказал Маше, что кончит сейчас разговор со мной и покажет ей ее комнату.
Маша к столу Сходова подходит, глаза в землю смотрят.
"Товарищ Сходов, — говорит. — Я теперь законная жена товарища Грачева и по семейным обстоятельствам на острове остаться не могу".
Сходов откинулся на спинку стула, руки, сжатые в кулаки, на столе лежат. Смотрит хмуро.
Тут вперед выступает Григорий Иванович Грачев.
"Василий Васильевич, вы о нас худо не думайте. Вы же знаете, я последние шесть лет безвыездно в Арктике живу. А теперь вот в первый раз в жизни полюбил… Будьте другом, отпустите мою жену со мной! Мы потом вернемся, отработаем перед государством… Что касается расходов на Машу: подъемные там, стоимость билета на самолете Москва — Архангельск — Дикий, проезд на пароходе "Георгий Седов", опять же питание за все время пути… Так я эту сумму полностью вам возвращаю. В основном — перечислением со своей сберегательной книжки, а что не хватит там — наличными… двести шестьдесят рублей".
Грачев положил на стол Сходову деньги и телеграфное распоряжение своей сберкассе.
Маша стоит, глаз не подымает. Грачев покраснел весь от волнения. А Сходов словно окаменел.
Наконец Василий Васильевич говорит глухим отрывистым голосом: "Это что же значит? Вы что? За жену мне выкуп предлагаете?"
Лицо Грачева стало багровым, но он сдержался и говорит спокойно, раздельно: "Не выкуп, товарищ Сходов. Я государству возмещаю все понесенные расходы и прошу вас договор с женой моей аннулировать, потому что…" — и замолчал.
"Вы что же, товарищ Грачев, думаете, что только в деньгах дело? ледяными словами так и хлещет Сходов. — Разве вы, опытный полярник, не знаете, что если ваша жена на острове не останется, то на полярной станции метеоролога не будет? Полярная станция ответственные задания выполняет, а вы ее разоружить собираетесь".
"Будьте же человеком, Василий Васильевич! — взмолился Грачев. — Ведь речь идет о счастье человеческом… Я ведь себя никогда не жалел, всего себя Арктике отдавал. Да и Машенька не пожалеет. Только дайте нам совместную жизнь начать, не разлучайте!"
Так искренне слова Грачева прозвучали, что мне его и Машу от всей души жалко стало.
"Полярная станция острова Хмурого не может остаться без метеоролога", — отрезал Василий Васильевич.
Тут Маша к столу подошла. Улыбается, и лицо у нее от этой улыбки даже красивым сделалось.
"Так мы попросим вашего старого метеоролога еще на год остаться. Ну, неужели он нам откажет?"
Столько эгоизма и наивности было в Машиных словах, что нельзя было их без улыбки слышать.
Сходов смешался, нахмурился еще больше и пробурчал: "Это его дело. Попробуйте договориться".
Грачевы тотчас же ушли. А Сходов раздраженно спрятал в стол деньги и телеграмму, которую сам же должен был передать в сберкассу, запер ящик на ключ и говорит мне: "Метеоролог Юровский перенес тяжелую болезнь. Он слаб. Врача у меня на острове нет, и метеоролог еще на год не останется".
Я вообразил себе этого метеоролога, сидящего на чемоданах, у него карманы уже набиты письмами на Большую Землю, а к нему вдруг обращаются с неожиданной просьбой люди, которым кажется, что, кроме их счастья, на всем свете ничего не существует.
"Ни за что Юровский не согласится, уж я это знаю, — повторил Сходов. — Из-за его болезни я ведь и смену ему вызвал".
Мне, капитану, часто в дела своих пассажиров вникать приходится, но тут… что я мог сделать? Наблюдаю жизнь, как она есть!
И вдруг возвращаются к нам молодожены Грачевы, сияя, как арктическое солнце в апреле.
"Согласился Юровский!" — возвещает Грачев.
"Такой милый молодой человек… такой чудесный товарищ! — говорит Маша. — Я его расцеловала. Женя его зовут".
Сходов позеленел, но ничего не возразил, а когда «счастливцы» вышли, сказал мне: "Капитан! Вы должны мне помочь. Я понимаю, что такое человеческое счастье, но я знаю также, что такое человеческая жизнь! Юровский погибнет, если останется… Это только я знаю. Сердечнее он оказался, чем я думал, но он не имеет права остаться на острове!"
Посоветовались мы со Сходовым. У меня кое-какой план появился. На том и порешили.
Вышел я от Сходова, а Маша с Грачевым ко мне: "Поздравьте нас, говорит Маша. — Мы так счастливы, Борис Ефимович!"
Я холодно отвечаю: "Не могу поздравить вас, Мария Федоровна, потому что вы полярный дезертир".
Грачев нахмурился, исподлобья на меня смотрит. Маша побледнела.
"Вы в Арктику ехали работать, а сами устройством семейных дел занялись".
"Да разве я… — вмешался Грачев. — Столько лет… разве мне нельзя подумать о личном?.."
"Вам, Григорий Иванович, можно, вы человек заслуженный. А вот молодой женщине, которая себе еще ни разу щеки не поморозила, ей-то, может быть, и рановато!"
Грачевы что-то хотели мне объяснить, но я сказал только Маше: "Теперь вы, гражданка Грачева, не полярница, а пассажирка". Она обиделась.
Я вернулся на корабль, нашел парторга и предложил ему устроить аврал по выгрузке.
Мой помполит искренне удивился: "Чтоб все моряки и все пассажиры участвовали?" — "Все полярники", — подчеркнул я. — "Ведь станция небольшая, грузов немного… И так бы справились", — все возражал он.
Я ему объяснил свой замысел.
Начался аврал. Все мои пассажиры — зимовщики, возвращающиеся после зимовки, и те, кто направлялся к месту работы, с охотой согласились помочь морякам.
У причала закипела работа. Работали все без исключения. Мы со Сходовым тоже взялись таскать мешки и ящики.
Такая уж у нас в Арктике традиция. Даже наш корабельный кок со шкиперской бородкой — и тот сбежал из камбуза, чтобы «подкинуть» пару мешков угля.
Люди шли вереницей, у кунгаса им на спину клали тяжелые мешки, которые в другое время многих придавили бы к земле. Полярники хватали мешок за петли и спешили наверх. Там они высыпали уголь. Черная пирамида росла на глазах. А люди спускались к воде, с азартом хватали новые мешки и снова спешили наверх.
Работали весело, перекидываясь словами, посмеивались.
"А ну, валяй, валяй!" — "Бегом, бегом!" — "Ты который? Одиннадцатый мешок? А я уже двенадцатый!" — "Полярники, от моряков не отставай!" "Сами, братишки, подтягивайтесь!"
Спускаюсь я за мешком к кунгасу и встречаю Грачева. Несет мешок. Лицо все в черной пыли. Только белки глаз сверкают. Обгоняет меня маленькая фигурка… Узнаю — Маша!
"Бросай мне на спину мешок! — кричит. — Не гляди, что я маленькая! Мешки с зерном в колхозе таскала".
Два моряка мешок схватили, раскачали, но я их остановил и к Маше обращаюсь: "Простите, гражданка Грачева, здесь у нас работают только полярники. Посторонним принимать участие в аврале не разрешается".
Маша опешила. Смотрит на меня непонимающе, а морячки посмеиваются. Мешок, ей предназначенный, кому-то другому на спину бросили.
"Как так посторонним? — спрашивает Маша. — Я ведь помочь хочу". "Пожалуйте на корабль, в каюту. Вы платный пассажир. Не имеем права вас нагружать".
Маша повернулась, чтобы слезы скрыть. Отошла. Моряки со мной переглянулись.
Грачев за новым мешком возвращается.
"Маша! Ты чего?" — обращается к ней.
Она только рукой махнула и побежала.
Видел я потом, как она на скале сидела и на морской прибой смотрела. Не знаю уж, о чем думала.
Вечером мой помполит собрал в кают-компании моряков и полярников. Объявил вечер воспоминаний. Каждый мог рассказать о полярной жизни что-нибудь интересное. Вот в такой же вечер и услышала Маша о "Полярном Варяге".
Я в своей каюте сижу. Вдруг стук. Я уж знаю — кто.
Так и есть — Маша. Лицо заплаканное.
"Борис Ефимович! Меня не пускают…" — "Куда вас не пускают?" — "На вечер не пускают. Разве я прокаженная какая, что и послушать не могу!" "Вот это уже зря", — сказал я, сдерживая улыбку, и повел ее в кают-компанию.
В кают-компании тесно, сесть некуда. Но Маше нашей место нашлось. Вижу — в дверях появился и сам Грачев, мрачный, насупленный.
Помполит спрашивает: "Ну, кто про что рассказывать будет?" — а сам смотрит на Екатерину Алексеевну, Катю, знатную нашу полярницу.
— Только на "Георгии Седове" возможно такое необычайное положение, когда на одном пароходе люди едут в разные стороны, — говорил капитан Борис Ефимович. — Вас интересует, как это может быть? Очень просто. Бегает наш корабль без устали от одного острова к другому, доставляет продовольствие, уголь, оборудование, заменяет зимовщиков. Вот и получается, что одних полярников он с острова снял и везет на Большую Землю, а других еще только доставляет с Большой Земли на острова. Так и путешествуют на нем пассажиры: одни в Арктику, другие из Арктики… А живут в соседних каютах. Порой из-за этого получаются запутанные положения.
Мы поняли, что Борису Ефимовичу хочется что-то рассказать, и стали просить его об этом.
Капитан охотно согласился. На его обветренном морщинистом лице появилась хорошая, чуть лукавая улыбка.
— Шли мы на "Георгии Седове" в обычный рейс по островам. И на борту была у нас девчушка лет двадцати. Впервые в Арктику попала, договор на три года заключила. В колхозном селе семилетку окончила, мечтала о далеких путешествиях, о северной романтике, пошла на московские курсы метеорологов… Маленькая такая, крепкая, кровь с молоком. Стриженная под машинку, как после болезни. Это она нарочно остриглась: дескать, ничем таким не интересуется на Крайнем Севере. Ну и встретилась на корабле с одним полярником. Знаменитый радист. Кто его в Арктике не знает! Грачев.
— Грачев? — переспросил я. — Радист, бежавший с немецкого рейдера? Он рассказывал мне про "Полярного Варяга".
— Вы слышали от него про «Варяга»? Вот с этого рассказа все дело и пошло.
Услышала Маша про историю с рейдером от самого Грачева, который после нескольких лет зимовки на Большую Землю возвращался, и увидела в Грачеве полярного героя. Сам он себя героем, конечно, не считал, человек был солидный, тихий, но…
Мне вспомнилась рослая фигура радиста, его спокойное лицо с глубокими морщинами, ровный, неторопливый голос.
— …но кого из нас не подкупит женское внимание?
Разгуливали они вдвоем по палубе и всем обязательно на глаза попадались. Им-то самим это, по-видимому, было невдомек, а над ними посмеивались.
А влюбленным моим, кстати сказать, было совсем не до смеху. Ехали они на одном пароходе, но… в разные стороны.
Машенька должна была остаться на три года на острове Диком, а Грачев отправлялся на отдых. Кто знает, когда еще свидятся?
Смотрел я на этих своих пассажиров и головой качал.
Однажды приходит ко мне в каюту Грачев. Лицо серьезное, губы решительно сжаты.
"Позвольте обеспокоить, Борис Ефимович". — "Чем полезен могу быть, Григорий Иванович?" — спрашиваю. — "Не можете ли вы сказать мне, Борис Ефимович, сколько стоит один день питания на "Георгии Седове"?"
Отчего же не сказать? Позвал я второго помощника, он у нас на корабле всю отчетность ведет. Высчитал он, что надо, и назвал Грачеву сумму. Тот записал аккуратно.
"Скажите теперь, Борис Ефимович, сколько стоит проезд на "Георгии Седове"?"
Удивился я. Никак не пойму, к чему он клонит. Но человек солидный, зря интересоваться не будет. Вычислил ему второй помощник стоимость проезда. Полярники-то никогда ни проезд, ни питание не оплачивают. Все это им по договору бесплатно полагается.
"А не знаете ли вы случайно, сколько стоит перелет на самолете от Москвы, через Архангельск, до острова Дикого?" — "Это очень дорого стоит", — говорю я.
Я случайно знал эту сумму и назвал ее Грачеву. Тот опять все аккуратно записал, поблагодарил нас со штурманом и ушел.
На следующий день снова приходит ко мне. Вижу, смущен чем-то. Я его хотел коньяком угостить, но он отказался.
"Борис Ефимович, именно к вам хочу обратиться. Не сможете ли вы дать мне взаймы двести шестьдесят рублей? Через месяц после приезда на Большую Землю я вам по телеграфу переведу".
Удивился я очень. Знаю, что за несколько лет зимовки у Грачева должна порядочная сумма скопиться. Тратить-то ведь на острове некуда. Но отказать такому человеку в просьбе нельзя.
"Почему двести шестьдесят? Возьмите триста". "Нет, — говорит, — мне достаточно двухсот шестидесяти".
Взял деньги, поблагодарил и ушел.
Подошли мы к острову Хмурому, где Маше сойти предстояло. Начальником на этом острове был Василий Васильевич Сходов. Известный полярник, суровый человек, но хозяин хороший, правильный. К нему на станцию и была назначена наша героиня.
Съехал я на берег — Василия Васильевича проведать. Со мной вместе на катере и Машенька была. Грачев тоже на берег отправился. Я решил, что он хочет девушку проводить. Ну, думаю, крепко серьезного человека защемило.
Надо сказать, что начальник полярной станции на острове обязан многие функции выполнять. Об этом Грачев, конечно, знал.
Вскоре, после того как я вошел к Василию Васильевичу Сходову, приходят туда Маша и Грачев.
Грачев объявляет, зачем он на остров съехал. Оказывается, решили они с Машей свой брак законным образом зарегистрировать, и начальник полярной станции товарищ Сходов должен выполнить обязанности загса.
Похвалил я в душе Грачева. Только Машеньку жаль мне стало. Предстоит ей сразу долгая разлука.
Василий Васильевич человек сухой, строгий, улыбается редко.
Достал он свои книги, потребовал с «брачующихся», как он выразился, документы, все досконально проверил, ну… и поженил, заставил расписаться, потом крепко молодым руки пожал, и глаза у него сразу потеплели.
Про Василия Васильевича я все знал. Похоронил он на далеком острове всю свою семью: и жену и сына десяти лет. Давно это было. Тяжелые тогда условия в Арктике были, не все могли их перенести. С тех пор Василий Васильевич помрачнел. Похоже, он себя виновным в гибели близких считал. Но Арктику все же не покинул. Любит он наши края…
Сходов поздравил молодых и сразу сказал Маше, что кончит сейчас разговор со мной и покажет ей ее комнату.
Маша к столу Сходова подходит, глаза в землю смотрят.
"Товарищ Сходов, — говорит. — Я теперь законная жена товарища Грачева и по семейным обстоятельствам на острове остаться не могу".
Сходов откинулся на спинку стула, руки, сжатые в кулаки, на столе лежат. Смотрит хмуро.
Тут вперед выступает Григорий Иванович Грачев.
"Василий Васильевич, вы о нас худо не думайте. Вы же знаете, я последние шесть лет безвыездно в Арктике живу. А теперь вот в первый раз в жизни полюбил… Будьте другом, отпустите мою жену со мной! Мы потом вернемся, отработаем перед государством… Что касается расходов на Машу: подъемные там, стоимость билета на самолете Москва — Архангельск — Дикий, проезд на пароходе "Георгий Седов", опять же питание за все время пути… Так я эту сумму полностью вам возвращаю. В основном — перечислением со своей сберегательной книжки, а что не хватит там — наличными… двести шестьдесят рублей".
Грачев положил на стол Сходову деньги и телеграфное распоряжение своей сберкассе.
Маша стоит, глаз не подымает. Грачев покраснел весь от волнения. А Сходов словно окаменел.
Наконец Василий Васильевич говорит глухим отрывистым голосом: "Это что же значит? Вы что? За жену мне выкуп предлагаете?"
Лицо Грачева стало багровым, но он сдержался и говорит спокойно, раздельно: "Не выкуп, товарищ Сходов. Я государству возмещаю все понесенные расходы и прошу вас договор с женой моей аннулировать, потому что…" — и замолчал.
"Вы что же, товарищ Грачев, думаете, что только в деньгах дело? ледяными словами так и хлещет Сходов. — Разве вы, опытный полярник, не знаете, что если ваша жена на острове не останется, то на полярной станции метеоролога не будет? Полярная станция ответственные задания выполняет, а вы ее разоружить собираетесь".
"Будьте же человеком, Василий Васильевич! — взмолился Грачев. — Ведь речь идет о счастье человеческом… Я ведь себя никогда не жалел, всего себя Арктике отдавал. Да и Машенька не пожалеет. Только дайте нам совместную жизнь начать, не разлучайте!"
Так искренне слова Грачева прозвучали, что мне его и Машу от всей души жалко стало.
"Полярная станция острова Хмурого не может остаться без метеоролога", — отрезал Василий Васильевич.
Тут Маша к столу подошла. Улыбается, и лицо у нее от этой улыбки даже красивым сделалось.
"Так мы попросим вашего старого метеоролога еще на год остаться. Ну, неужели он нам откажет?"
Столько эгоизма и наивности было в Машиных словах, что нельзя было их без улыбки слышать.
Сходов смешался, нахмурился еще больше и пробурчал: "Это его дело. Попробуйте договориться".
Грачевы тотчас же ушли. А Сходов раздраженно спрятал в стол деньги и телеграмму, которую сам же должен был передать в сберкассу, запер ящик на ключ и говорит мне: "Метеоролог Юровский перенес тяжелую болезнь. Он слаб. Врача у меня на острове нет, и метеоролог еще на год не останется".
Я вообразил себе этого метеоролога, сидящего на чемоданах, у него карманы уже набиты письмами на Большую Землю, а к нему вдруг обращаются с неожиданной просьбой люди, которым кажется, что, кроме их счастья, на всем свете ничего не существует.
"Ни за что Юровский не согласится, уж я это знаю, — повторил Сходов. — Из-за его болезни я ведь и смену ему вызвал".
Мне, капитану, часто в дела своих пассажиров вникать приходится, но тут… что я мог сделать? Наблюдаю жизнь, как она есть!
И вдруг возвращаются к нам молодожены Грачевы, сияя, как арктическое солнце в апреле.
"Согласился Юровский!" — возвещает Грачев.
"Такой милый молодой человек… такой чудесный товарищ! — говорит Маша. — Я его расцеловала. Женя его зовут".
Сходов позеленел, но ничего не возразил, а когда «счастливцы» вышли, сказал мне: "Капитан! Вы должны мне помочь. Я понимаю, что такое человеческое счастье, но я знаю также, что такое человеческая жизнь! Юровский погибнет, если останется… Это только я знаю. Сердечнее он оказался, чем я думал, но он не имеет права остаться на острове!"
Посоветовались мы со Сходовым. У меня кое-какой план появился. На том и порешили.
Вышел я от Сходова, а Маша с Грачевым ко мне: "Поздравьте нас, говорит Маша. — Мы так счастливы, Борис Ефимович!"
Я холодно отвечаю: "Не могу поздравить вас, Мария Федоровна, потому что вы полярный дезертир".
Грачев нахмурился, исподлобья на меня смотрит. Маша побледнела.
"Вы в Арктику ехали работать, а сами устройством семейных дел занялись".
"Да разве я… — вмешался Грачев. — Столько лет… разве мне нельзя подумать о личном?.."
"Вам, Григорий Иванович, можно, вы человек заслуженный. А вот молодой женщине, которая себе еще ни разу щеки не поморозила, ей-то, может быть, и рановато!"
Грачевы что-то хотели мне объяснить, но я сказал только Маше: "Теперь вы, гражданка Грачева, не полярница, а пассажирка". Она обиделась.
Я вернулся на корабль, нашел парторга и предложил ему устроить аврал по выгрузке.
Мой помполит искренне удивился: "Чтоб все моряки и все пассажиры участвовали?" — "Все полярники", — подчеркнул я. — "Ведь станция небольшая, грузов немного… И так бы справились", — все возражал он.
Я ему объяснил свой замысел.
Начался аврал. Все мои пассажиры — зимовщики, возвращающиеся после зимовки, и те, кто направлялся к месту работы, с охотой согласились помочь морякам.
У причала закипела работа. Работали все без исключения. Мы со Сходовым тоже взялись таскать мешки и ящики.
Такая уж у нас в Арктике традиция. Даже наш корабельный кок со шкиперской бородкой — и тот сбежал из камбуза, чтобы «подкинуть» пару мешков угля.
Люди шли вереницей, у кунгаса им на спину клали тяжелые мешки, которые в другое время многих придавили бы к земле. Полярники хватали мешок за петли и спешили наверх. Там они высыпали уголь. Черная пирамида росла на глазах. А люди спускались к воде, с азартом хватали новые мешки и снова спешили наверх.
Работали весело, перекидываясь словами, посмеивались.
"А ну, валяй, валяй!" — "Бегом, бегом!" — "Ты который? Одиннадцатый мешок? А я уже двенадцатый!" — "Полярники, от моряков не отставай!" "Сами, братишки, подтягивайтесь!"
Спускаюсь я за мешком к кунгасу и встречаю Грачева. Несет мешок. Лицо все в черной пыли. Только белки глаз сверкают. Обгоняет меня маленькая фигурка… Узнаю — Маша!
"Бросай мне на спину мешок! — кричит. — Не гляди, что я маленькая! Мешки с зерном в колхозе таскала".
Два моряка мешок схватили, раскачали, но я их остановил и к Маше обращаюсь: "Простите, гражданка Грачева, здесь у нас работают только полярники. Посторонним принимать участие в аврале не разрешается".
Маша опешила. Смотрит на меня непонимающе, а морячки посмеиваются. Мешок, ей предназначенный, кому-то другому на спину бросили.
"Как так посторонним? — спрашивает Маша. — Я ведь помочь хочу". "Пожалуйте на корабль, в каюту. Вы платный пассажир. Не имеем права вас нагружать".
Маша повернулась, чтобы слезы скрыть. Отошла. Моряки со мной переглянулись.
Грачев за новым мешком возвращается.
"Маша! Ты чего?" — обращается к ней.
Она только рукой махнула и побежала.
Видел я потом, как она на скале сидела и на морской прибой смотрела. Не знаю уж, о чем думала.
Вечером мой помполит собрал в кают-компании моряков и полярников. Объявил вечер воспоминаний. Каждый мог рассказать о полярной жизни что-нибудь интересное. Вот в такой же вечер и услышала Маша о "Полярном Варяге".
Я в своей каюте сижу. Вдруг стук. Я уж знаю — кто.
Так и есть — Маша. Лицо заплаканное.
"Борис Ефимович! Меня не пускают…" — "Куда вас не пускают?" — "На вечер не пускают. Разве я прокаженная какая, что и послушать не могу!" "Вот это уже зря", — сказал я, сдерживая улыбку, и повел ее в кают-компанию.
В кают-компании тесно, сесть некуда. Но Маше нашей место нашлось. Вижу — в дверях появился и сам Грачев, мрачный, насупленный.
Помполит спрашивает: "Ну, кто про что рассказывать будет?" — а сам смотрит на Екатерину Алексеевну, Катю, знатную нашу полярницу.
ПОЕДИНОК
 Катерина Алексеевна, или Катя, как звали ее все на корабле, была еще молода, хотя и считалась "старой полярницей". Как и мужчины, она носила темный китель со светлыми пуговицами и меховую шапку, из-под которой выбивались туго заплетенные косы.
Брови у нее были прямые с вертикальной складкой, которая делала бы широкое Катино лицо суровым, если бы не ямочки на щеках.
Помполит, не обращаясь ни к кому из сидевших в кают-компании, сказал:
— Екатерина Алексеевна, наша Катя, и радистка и метеоролог, она же и механик и повар. В Арктике, когда живешь на маленькой полярной станции, нужно быть мастером на все руки. Катя у нас и охотник неплохой. Катя, на вашем счету сколько медвежьих шкур? Одиннадцать? Ну вот видите… На медведя один на один выходит. Ей наверняка есть что вспомнить.
Катя улыбнулась.
— Уж не знаю, о чем вам рассказать, — начала она. — Подвигов я не совершила никаких, а вот если интересно вам послушать про обыкновенный бабий страх, могу рассказать.
Полярники переглянулись.
— Вам, мужчинам, может быть и смешно будет, а все-таки послушайте. Каждый о чем-нибудь вспомнит…
Катя пересела к нам поближе. Говорила она уверенно, как человек, много узнавший и перенесший. Роста была она небольшого, но сложения крепкого. Видно, выпекли ее из круто замешанного теста.
— Попала я в Арктику совсем еще девчонкой. Окончила семилетку на селе, год в колхозе проработала. И все тянуло меня неведомо куда… под полярное сияние. А какое оно, не представляла. У нас, под Рязанью, в одну зимнюю ночь видно было это полярное сияние да и то я его просмотрела. Никак я этого простить не могла себе и вбила в голову — поехать на Север.
Родители сначала противились, а потом рукой махнули. Упрямой меня считали. А я в жизни не такая уж упрямая, просто настойчивая.
Словом, поступила я на метеорологические курсы. Помню, как-то объясняла своим девчатам, что такое метеоролог: наблюдать, мол, надо за погодой по флюгаркам да по градусникам. Ребята нашлись, которые посмеиваться стали над такой легкой работой. Не могли представить себе, как через каждые четыре часа, днем и ночью, в мороз и в пургу на метеоплощадку ходить, фонариком светить, замерзшими пальцами показания приборов записывать. И чтобы никогда времени не пропустить!
После окончания курсов попала я в Арктику, на мыс Окаянный, на небольшую зимовку.
Было нас на мысу четверо. Три парня и я. Все комсомольцы, все мечтали о подвигах, а насчет любви сразу же запрет объявили. Не для того мы в Арктику пошли. Словом, ребята подобрались хорошие.
Правда, через год я все-таки за Алешу замуж вышла, но целый год он даже пикнуть об этом не смел. Он сейчас в бухте Темной на радиоцентре работает. Мы с сынишкой к нему из отпуска возвращаемся.
Энергии у наших ребят хоть отбавляй, да и я от них отставать не хотела. Мы организовали у себя кружки разные. Кружок английского языка, музыкальный, физкультурный. В каждый кружок записывались вчетвером. Только вот в шахматный я не записалась. У женщин насчет шахмат все-таки слабовато дело обстоит.
За жизнью на Большой Земле мы следили внимательно. Тогда как раз начало развиваться движение ударников. Мы все стали думать, как на нашей полярной станции ударниками стать. Больше, чем надо, метеосводок не передашь, больше, чем требуется, радиограмм не отправить. Коля посоветовал мне по два обеда в день готовить (я у них за метеоролога и за повара была), а он, дескать, берется в день по два обеда съедать.
Однако Миша, как начальник станции, заявил, что ударниками все-таки стать можно и должно.
Он предложил устроить на льду пролива гидрологическую станцию, чтобы брать регулярно пробы морской воды с разных глубин и определять ее соленость, температуру. Таких исследований в нашем районе не велось, а они были очень нужны.
Мы сразу согласились. Решили пробить на льду, подальше от берега прорубь, построить над ней будку и жить там по очереди. Оставшиеся на зимовке должны были сверх своих обязанностей выполнять работу отсутствующего дежурного.
Сказано — сделано.
Выбрали ребята место километрах в пятнадцати от берега, чтобы поглубже было, продолбили там прорубь. Я тоже вместе с ними ходила, лед рубила. Соорудили мы над прорубью будку из льда и снега, ни дать ни взять — избушка. Работали по двое, а двое на зимовке отдувались.
Когда все было готово, мы сообщили о своем предложении по радио начальнику, получили разрешение.
И сразу же спор у нас вышел: кому первому на дежурство идти. Миша хотел идти первым, как начальник станции, но остальные воспротивились: это, мол, сверхплановая работа, и пусть Миша, как начальник, помолчит. Алеша предложил шахматный турнир разыграть. Кто выиграет, тот первый и пойдет. Я, конечно, нашумела тут как следует. Если я в шахматы не играю, так это не значит, что я первая не могу самой трудной работы выполнять?
Коля предложил жребий бросить. И выпало по жребию идти на первое дежурство мне.
Алеша хотел заменить меня. Я отказалась. Просил разрешения хотя бы проводить. Я сказала, что не с вечеринки домой иду, и стала собираться.
Оделась потеплее, взяла ружье, простилась с ребятами. Алеше вместо меня пришлось у плиты возиться, он меня заменял и на кухне и на метеоплощадке.
Все-таки до метеоплощадки он меня проводил. Как раз срок наблюдения подошел, не могла я его прогнать.
И увязались за нами собаки.
Были они для нас и радостью и горем. Любили мы их, сильных, лохматых, а с кормежкой плохо было. Продукты у нас на строгом учете, не имеем права их на собак расходовать. Полагалось для них нерп набить и мяса впрок заготовить еще летом. А мы только осенью приехали, да и охотиться как следует не умели. Собаки прожорливы были до ужаса. А ребятам удалось только две нерпы подстрелить, из моря же достали только одну… Вот и приходилось собакам из своего пайка уделять, да разве их прокормишь? Вечно смотрели они на нас голодными глазами. Ребята мечтали медведя подстрелить, да белые медведи к нам не показывались, а зимой о нерпах нечего было и думать.
Увязались за мной собаки. Алеша их еле-еле отозвал и с собой на полярную станцию увел.
Я долго смотрела ему вслед. Было полнолуние. Далеко видно. Алеша мне все шапкой махал. Я ему крикнула, что он уши поморозит.
Спустилась я с берега на лед и направилась по ледяному полю к нашей снежной избушке. Дорогу я знала, но на всякий случай по звездам курс держу, чтобы не сбиться с пути.
Отошла я от берега, скрылся он вдали, вокруг простор, залитый лунным светом. Остановилась, я смотрю на льды и словно впервые их вижу.
Одна я в пустыне. Тишина мертвая. Хоть бы в ушах зазвенело, и то бы обрадовалась. А тут словно оглохла. Страшно мне стало. Как будто на Луне или на какой-нибудь другой мертвой планете очутилась. Тихо… Мертвый блеск…
И такой я себе слабой, маленькой показалась, что хоть реви. Первым делом, конечно, про Алешу вспомнила. Ведь когда с ним последний раз на зимовку возвращались, ничего такого не чувствовала. Что значит одиночество!
Крикнула я для храбрости. А голос мой, как в вате, пропал…
Меня ужас взял. Теперь уж и крикнуть рада, а горло перехватило. Звука нет. Так во сне бывает. Все тихо вокруг, и мрачно так блестит. Хоть бы тень какая-нибудь пробежала, что ли…
Чувствую — не могу идти. Хоть назад поворачивай и беги, спасайся. А от чего, сама не знаю. В детстве из темной избы или из сарая вот так же в холодном поту выскакиваешь… И вдруг слышу треск… Раньше тишина, будто слух от тебя отняли, а теперь треск. Легкий такой, словно искрит что-то вдали.
Ну, думаю, с ума схожу, мерещится. И гордость сразу свою потеряла. Алешу бы позвать, так ведь далеко уже отошла.
А что-то трещит себе да трещит… Скорее даже поет на одной ноте… Прислушиваешься, словно и нет ничего, а перестанешь слушать — снова не то звон, не то стон…
От этого звука я совсем потерялась, повернула назад и бегу.
Остановилась все-таки… Стараюсь себя в руки взять. Что ребятам скажу? Засмеют!
Стала заставлять себя о задании думать. Нам нужно было узнать, пресная или соленая вода идет у самого дна и куда направляются воды великих сибирских рек, которые впадают в полярное море. Воды эти более теплые, чем соленые, идущие из-под полюса… Вот если бы эти теплые воды как-нибудь использовать, чтобы полярные моря не замерзали… Ведь Баренцово море так и не замерзает из-за Гольфстрима.
Думаю обо всем этом и на льды смотрю. Растопить бы все эти льды, чтобы советские корабли и зимой здесь плавали. Непременно сделают это советские люди… Переделают и северную природу.
Думаю обо всем этом и на льды смотрю. Потом заставила себя снова лицом к морю повернуться, глаза зажмурила, чтобы не видеть лунного света. Про лунатиков вспомнила. Действует же лунный свет на нервных людей…
И решила не отступать, хоть с закрытыми глазами, а вперед идти. Шагаю, как слепая, руки вперед протянула, а глаза открыть боюсь…
Вдруг споткнулась и упала. Коленку больно зашибла, и сразу слезы из глаз. Спасительная вещь эти слезы!..
Вытираю я слезы, а ресницы уже слиплись, смерзлись. Пальцами оттаивать приходится. За делом я и успокоилась немного.
Вперед уже с открытыми глазами шагаю, но по сторонам смотреть еще боюсь. И корю себя всячески — какой же, думаю, я переделыватель природы, если этой природы и испугалась.
Только эта мысль и повела меня вперед. Заставила я себя идти.
Много лет я потом в Арктике прожила. И пурга меня настигала в тундре, и шторм лютый я переносила, но такого чувства, как тогда в лунных льдах, никогда больше не испытывала.
Пожалуй, легче было бы мне на себе тушу белого медведя волочить, чем самое себя до снежной избушки довести.
Вошла я наконец в избушку, засветила коптилку, села на снежную табуретку и немножко всплакнула… Потом самой смешно стало.
В избушке у меня все из снега сделано. И лежанка — на ней спальный мешок, это мы с Алешей оставили, — и стол, и снежный табурет около него.
Сняла я с плеч мешочек, стала располагаться, ружье рядом с коптилкой положила. О том, как обратно пойду, и думать не хочется.
Решила сразу же работой заняться, первую пробу воды со дна взять.
Прорубь наша тонким слоем льда подернулась. Сняла я этот ледок, готовлю свой немудреный инструмент.
Подошла к проруби, нагибаюсь над ней и… назад!
Глазам не верю. Смотрит на меня из-под воды человеческое лицо… Различаю даже его черты: нос, рот, глаза большие, внимательные такие. И все приближается ко мне это лицо. Я закричать была готова. Смотрю не отрываясь. Значит, мерещится мне, так решила.
А человеческое лицо поднимается все выше и выше. Я только зубы сжимаю, чтобы не стучали. Кажется мне, что усатый мужчина с огромными глазищами ко мне из воды поднимается…
Лицо в воде становилось все яснее и яснее, словно выступало из тумана. Два почти круглых глаза, усы… действительно усы! Все ближе эти глазищи, широко раскрытые и как будто любопытные. Смотрят на меня не мигая.
Я потянулась за ружьем и тут только сообразила: нерпа! Фу, ты, неладная!..
И сразу я на чудище морское по-иному взглянула.
Это же нерпа! Тюленье мясо… Будь здесь ребята, да разве они ее упустили бы? Собаки-то голодные…
Выстрелить? Но она утонет, не достать… Как же ее выманить?
От многих полярников я слышала, что любопытнее нерпы нет животного. Говорят, где-то заводили возле проруби патефон, и нерпа вылезала на лед, интересовалась. Но как же мне быть? Патефона у меня нет. Как заинтересовать животное?
Стала я то приближать к воде лицо, то удалять. Пусть заинтересуется мной лично… Косы развязала, стала ими трясти над прорубью.
Но нерпа голову не высовывала и все смотрела на меня из-под воды. Тогда я опять про патефон вспомнила. Стала я нерпе насвистывать: "Скажите, девушки, подружке вашей". Она слушает, но не шевелится. Тогда я решила ее на голос взять. В деревне я певуньей считалась. Ну и стала я нерпе петь. Сначала потихоньку, чтобы не испугать, потом громче. Наконец полным голосом.
Нерпа слушает меня, подлая, не уплывает и не вылезает.
"Ну, подожди, — думаю, — усатая. Неужели тебя баба не перехитрит, если по тебе мои собаки скучают?"
Морду зверя я бы пальцем достать могла… Вспомнила я тут, как чукчи на нерпу зимой охотятся. Нерпы, которые непременно должны выбираться на лед, чтобы подышать, протаивают себе дыханием небольшие проруби. Чукчи находят эти проруби и укрепляют над прорубью шалашиком острые рыбьи кости. Нерпа, выбираясь из воды, раздвигает эти кости, кости впиваются в ее шкуру, и нерпа никуда деться не может: ни вылезти, ни обратно в прорубь опуститься.
С собой нож у меня был. Думаю: если опустить руки по плечи в воду, можно нерпу под ласты ухватить, а чтобы не выскользнула, нож ей всадить в бок, как рыбью кость…
Прорубь узкая, зверю в стороны не податься, а вниз уйти нож не пустит. Ухвачусь крепко за нож и вытащу зверя на лед, а потом из ружья пристрелю. Вмиг я это решение приняла. Выхватила нож, бросилась на прорубь. Круглые, преломленные в воде глаза совсем близко мне в лицо заглянули. Да я уж не боялась!
Не успела нерпа пошевельнуться, как я ей нож ниже ласт всадила. Обняла ее руками и вверх тащу.
Забилась нерпа. Я изо всех сил напрягаюсь, но ведь сила-то у меня все-таки не мужская, женская… Не держись я за нож, выскользнула бы нерпа, уплыла. Нож ее вниз не пускает. Она бьется. Прорубь узкая. Повернуться нерпе негде, она вырваться не может. Но и я ее вытянуть не могу.
Лежу у проруби, напрягаюсь до боли в суставах. Бьется зверюга. Кожу у меня на руках о лед ободрало. Вода ледяная… Пальцы неметь стали. Обидно мне, прямо до слез. Упущу сейчас добычу, а все от женской своей слабости. Напрягаюсь изо всех сил… И удалось мне, обнявшись с нерпой, на колени встать.
Голова нерпы из воды показалась. И сразу всякое сходство с человеческим лицом исчезло. Одну ногу я на лед ступней поставила… Еще одно усилие… Стала я приподымать тушу из воды…
"Врешь, не вырвешься, — шепчу, — не на такую напала!"
Приподнялась я на обе ноги и, чтобы скорее зверя из воды вытащить, повалилась на бок и ее рядом с собой повалила. Она оказалась почти со мной одного роста.
Нерпа начала биться, извиваться. Выскользнула. Нож у меня в руке остался, порезала я о него другую руку. Нерпа хвостом ударила и смахнула со стола коптилку. Загремело ружье. Остались мы в полной темноте.
Только бы в прорубь зверя не упустить!
Кинулась я на прорубь и закрыла ее своим телом. Нерпа сама на меня бросилась. В воду пролезть хочет. От нее рыбой и ворванью воняет…
Темно, до ружья не дотянешься, да и где теперь оно — неизвестно…
Продолжался наш бой во мраке. Хлестнуло меня чем-то тяжелым и мокрым по лицу так, что в голове загудело. Верно, она хвостом меня… А я размахиваю руками, норовлю ножом ее ударить.
Врут все, которые говорят, что тюлень на льду беспомощен. Я потом слышала, что морж с белым медведем драться может. Ну и нерпа со мной дралась. Дралась на равных. Дорого дался мне этой бой. Впервые в жизни у меня рукопашная такая вышла. Но все-таки я не упустила ее в воду… не упустила!
Шкуру нерпы мне потом пришлось зашивать местах в двадцати. Я требовала, чтобы Алеша зашивал, а он уверял, что это женское дело. Ну, я зашила. Всем ребятам шапки сделала. Красивые вышли.
А я с синяками ходила… Тело ныло, словно меня дубинами били.
Но обратно я шла уже без всякого страха, хоть и луна и льды прежние были.
— Катя умолкла, — продолжал свой рассказ Борис Ефимович. — Маша смотрела на нее, не спуская глаз. — Помню, в мою сторону она оглянуться боялась.
Я выбил трубку и сказал: "Славный у вас, Катя, поединок был… с самой собой! Потому и полярницей настоящей стали".
Один из слушателей заметил: "А верно Катерина Алексеевна сказала: каждый из нас о таком пережитом страхе может вспомнить. Без того полярником не становишься".
Я ответил: "Это, конечно, верно. Каждый мужчина тоже такие страхи переживал. Только вот, пожалуй, мужчина об этом никогда бы не рассказал".
Тут все рассмеялись, но со мной согласились.
Потом попросили меня что-нибудь рассказать.
Что ж, у капитанов всегда найдется, что вспомнить. Откашлялся я, затянулся трубкой и говорю: "Сегодня мы крепко поработали, сразу весь уголь на берег перетаскали".
Вижу — Маша моя краской наливается. А я продолжаю: "Не всегда так удачно получается. Бывает, что к острову и не подойдешь, выгрузку ведешь на ледяной припай. А уйти порой приходится раньше, чем успевают полярники уголь на берег перетаскать. Подует ветер, шторм начнется — отломит льдинку вместе с топливом и… поминай, как звали!"
"Неужели были такие случаи?" — спросил кто-то.
"Бывали", — ответил я.
"И полярники зимовали без топлива?"
"Всякое случалось. Например, на острове Врангеля… Не могли туда пройти корабли. Вот полярники и прозимовали две зимы без топлива. Могли улететь, да не захотели. А в другом месте, отсюда неподалеку, так там ветром весь уголь унесло вместе с береговым припаем".
"Без топлива зимой… да разве можно?" — спросила Маша. Невольно это у нее вырвалось.
"Смотря кому, — смеюсь я. — Вот я вам расскажу сейчас про полярников, которым и это оказалось под силу. Одного из них вы всезнаете… Они зимой ветром грелись".
"Теплым ветром? Разве такие тут бывают?" — удивился кто-то.
"Зачем теплым? Умеючи и холодным можно погреться".
И я рассказал про остров и его самоотверженных обитателей.
Катерина Алексеевна, или Катя, как звали ее все на корабле, была еще молода, хотя и считалась "старой полярницей". Как и мужчины, она носила темный китель со светлыми пуговицами и меховую шапку, из-под которой выбивались туго заплетенные косы.
Брови у нее были прямые с вертикальной складкой, которая делала бы широкое Катино лицо суровым, если бы не ямочки на щеках.
Помполит, не обращаясь ни к кому из сидевших в кают-компании, сказал:
— Екатерина Алексеевна, наша Катя, и радистка и метеоролог, она же и механик и повар. В Арктике, когда живешь на маленькой полярной станции, нужно быть мастером на все руки. Катя у нас и охотник неплохой. Катя, на вашем счету сколько медвежьих шкур? Одиннадцать? Ну вот видите… На медведя один на один выходит. Ей наверняка есть что вспомнить.
Катя улыбнулась.
— Уж не знаю, о чем вам рассказать, — начала она. — Подвигов я не совершила никаких, а вот если интересно вам послушать про обыкновенный бабий страх, могу рассказать.
Полярники переглянулись.
— Вам, мужчинам, может быть и смешно будет, а все-таки послушайте. Каждый о чем-нибудь вспомнит…
Катя пересела к нам поближе. Говорила она уверенно, как человек, много узнавший и перенесший. Роста была она небольшого, но сложения крепкого. Видно, выпекли ее из круто замешанного теста.
— Попала я в Арктику совсем еще девчонкой. Окончила семилетку на селе, год в колхозе проработала. И все тянуло меня неведомо куда… под полярное сияние. А какое оно, не представляла. У нас, под Рязанью, в одну зимнюю ночь видно было это полярное сияние да и то я его просмотрела. Никак я этого простить не могла себе и вбила в голову — поехать на Север.
Родители сначала противились, а потом рукой махнули. Упрямой меня считали. А я в жизни не такая уж упрямая, просто настойчивая.
Словом, поступила я на метеорологические курсы. Помню, как-то объясняла своим девчатам, что такое метеоролог: наблюдать, мол, надо за погодой по флюгаркам да по градусникам. Ребята нашлись, которые посмеиваться стали над такой легкой работой. Не могли представить себе, как через каждые четыре часа, днем и ночью, в мороз и в пургу на метеоплощадку ходить, фонариком светить, замерзшими пальцами показания приборов записывать. И чтобы никогда времени не пропустить!
После окончания курсов попала я в Арктику, на мыс Окаянный, на небольшую зимовку.
Было нас на мысу четверо. Три парня и я. Все комсомольцы, все мечтали о подвигах, а насчет любви сразу же запрет объявили. Не для того мы в Арктику пошли. Словом, ребята подобрались хорошие.
Правда, через год я все-таки за Алешу замуж вышла, но целый год он даже пикнуть об этом не смел. Он сейчас в бухте Темной на радиоцентре работает. Мы с сынишкой к нему из отпуска возвращаемся.
Энергии у наших ребят хоть отбавляй, да и я от них отставать не хотела. Мы организовали у себя кружки разные. Кружок английского языка, музыкальный, физкультурный. В каждый кружок записывались вчетвером. Только вот в шахматный я не записалась. У женщин насчет шахмат все-таки слабовато дело обстоит.
За жизнью на Большой Земле мы следили внимательно. Тогда как раз начало развиваться движение ударников. Мы все стали думать, как на нашей полярной станции ударниками стать. Больше, чем надо, метеосводок не передашь, больше, чем требуется, радиограмм не отправить. Коля посоветовал мне по два обеда в день готовить (я у них за метеоролога и за повара была), а он, дескать, берется в день по два обеда съедать.
Однако Миша, как начальник станции, заявил, что ударниками все-таки стать можно и должно.
Он предложил устроить на льду пролива гидрологическую станцию, чтобы брать регулярно пробы морской воды с разных глубин и определять ее соленость, температуру. Таких исследований в нашем районе не велось, а они были очень нужны.
Мы сразу согласились. Решили пробить на льду, подальше от берега прорубь, построить над ней будку и жить там по очереди. Оставшиеся на зимовке должны были сверх своих обязанностей выполнять работу отсутствующего дежурного.
Сказано — сделано.
Выбрали ребята место километрах в пятнадцати от берега, чтобы поглубже было, продолбили там прорубь. Я тоже вместе с ними ходила, лед рубила. Соорудили мы над прорубью будку из льда и снега, ни дать ни взять — избушка. Работали по двое, а двое на зимовке отдувались.
Когда все было готово, мы сообщили о своем предложении по радио начальнику, получили разрешение.
И сразу же спор у нас вышел: кому первому на дежурство идти. Миша хотел идти первым, как начальник станции, но остальные воспротивились: это, мол, сверхплановая работа, и пусть Миша, как начальник, помолчит. Алеша предложил шахматный турнир разыграть. Кто выиграет, тот первый и пойдет. Я, конечно, нашумела тут как следует. Если я в шахматы не играю, так это не значит, что я первая не могу самой трудной работы выполнять?
Коля предложил жребий бросить. И выпало по жребию идти на первое дежурство мне.
Алеша хотел заменить меня. Я отказалась. Просил разрешения хотя бы проводить. Я сказала, что не с вечеринки домой иду, и стала собираться.
Оделась потеплее, взяла ружье, простилась с ребятами. Алеше вместо меня пришлось у плиты возиться, он меня заменял и на кухне и на метеоплощадке.
Все-таки до метеоплощадки он меня проводил. Как раз срок наблюдения подошел, не могла я его прогнать.
И увязались за нами собаки.
Были они для нас и радостью и горем. Любили мы их, сильных, лохматых, а с кормежкой плохо было. Продукты у нас на строгом учете, не имеем права их на собак расходовать. Полагалось для них нерп набить и мяса впрок заготовить еще летом. А мы только осенью приехали, да и охотиться как следует не умели. Собаки прожорливы были до ужаса. А ребятам удалось только две нерпы подстрелить, из моря же достали только одну… Вот и приходилось собакам из своего пайка уделять, да разве их прокормишь? Вечно смотрели они на нас голодными глазами. Ребята мечтали медведя подстрелить, да белые медведи к нам не показывались, а зимой о нерпах нечего было и думать.
Увязались за мной собаки. Алеша их еле-еле отозвал и с собой на полярную станцию увел.
Я долго смотрела ему вслед. Было полнолуние. Далеко видно. Алеша мне все шапкой махал. Я ему крикнула, что он уши поморозит.
Спустилась я с берега на лед и направилась по ледяному полю к нашей снежной избушке. Дорогу я знала, но на всякий случай по звездам курс держу, чтобы не сбиться с пути.
Отошла я от берега, скрылся он вдали, вокруг простор, залитый лунным светом. Остановилась, я смотрю на льды и словно впервые их вижу.
Одна я в пустыне. Тишина мертвая. Хоть бы в ушах зазвенело, и то бы обрадовалась. А тут словно оглохла. Страшно мне стало. Как будто на Луне или на какой-нибудь другой мертвой планете очутилась. Тихо… Мертвый блеск…
И такой я себе слабой, маленькой показалась, что хоть реви. Первым делом, конечно, про Алешу вспомнила. Ведь когда с ним последний раз на зимовку возвращались, ничего такого не чувствовала. Что значит одиночество!
Крикнула я для храбрости. А голос мой, как в вате, пропал…
Меня ужас взял. Теперь уж и крикнуть рада, а горло перехватило. Звука нет. Так во сне бывает. Все тихо вокруг, и мрачно так блестит. Хоть бы тень какая-нибудь пробежала, что ли…
Чувствую — не могу идти. Хоть назад поворачивай и беги, спасайся. А от чего, сама не знаю. В детстве из темной избы или из сарая вот так же в холодном поту выскакиваешь… И вдруг слышу треск… Раньше тишина, будто слух от тебя отняли, а теперь треск. Легкий такой, словно искрит что-то вдали.
Ну, думаю, с ума схожу, мерещится. И гордость сразу свою потеряла. Алешу бы позвать, так ведь далеко уже отошла.
А что-то трещит себе да трещит… Скорее даже поет на одной ноте… Прислушиваешься, словно и нет ничего, а перестанешь слушать — снова не то звон, не то стон…
От этого звука я совсем потерялась, повернула назад и бегу.
Остановилась все-таки… Стараюсь себя в руки взять. Что ребятам скажу? Засмеют!
Стала заставлять себя о задании думать. Нам нужно было узнать, пресная или соленая вода идет у самого дна и куда направляются воды великих сибирских рек, которые впадают в полярное море. Воды эти более теплые, чем соленые, идущие из-под полюса… Вот если бы эти теплые воды как-нибудь использовать, чтобы полярные моря не замерзали… Ведь Баренцово море так и не замерзает из-за Гольфстрима.
Думаю обо всем этом и на льды смотрю. Растопить бы все эти льды, чтобы советские корабли и зимой здесь плавали. Непременно сделают это советские люди… Переделают и северную природу.
Думаю обо всем этом и на льды смотрю. Потом заставила себя снова лицом к морю повернуться, глаза зажмурила, чтобы не видеть лунного света. Про лунатиков вспомнила. Действует же лунный свет на нервных людей…
И решила не отступать, хоть с закрытыми глазами, а вперед идти. Шагаю, как слепая, руки вперед протянула, а глаза открыть боюсь…
Вдруг споткнулась и упала. Коленку больно зашибла, и сразу слезы из глаз. Спасительная вещь эти слезы!..
Вытираю я слезы, а ресницы уже слиплись, смерзлись. Пальцами оттаивать приходится. За делом я и успокоилась немного.
Вперед уже с открытыми глазами шагаю, но по сторонам смотреть еще боюсь. И корю себя всячески — какой же, думаю, я переделыватель природы, если этой природы и испугалась.
Только эта мысль и повела меня вперед. Заставила я себя идти.
Много лет я потом в Арктике прожила. И пурга меня настигала в тундре, и шторм лютый я переносила, но такого чувства, как тогда в лунных льдах, никогда больше не испытывала.
Пожалуй, легче было бы мне на себе тушу белого медведя волочить, чем самое себя до снежной избушки довести.
Вошла я наконец в избушку, засветила коптилку, села на снежную табуретку и немножко всплакнула… Потом самой смешно стало.
В избушке у меня все из снега сделано. И лежанка — на ней спальный мешок, это мы с Алешей оставили, — и стол, и снежный табурет около него.
Сняла я с плеч мешочек, стала располагаться, ружье рядом с коптилкой положила. О том, как обратно пойду, и думать не хочется.
Решила сразу же работой заняться, первую пробу воды со дна взять.
Прорубь наша тонким слоем льда подернулась. Сняла я этот ледок, готовлю свой немудреный инструмент.
Подошла к проруби, нагибаюсь над ней и… назад!
Глазам не верю. Смотрит на меня из-под воды человеческое лицо… Различаю даже его черты: нос, рот, глаза большие, внимательные такие. И все приближается ко мне это лицо. Я закричать была готова. Смотрю не отрываясь. Значит, мерещится мне, так решила.
А человеческое лицо поднимается все выше и выше. Я только зубы сжимаю, чтобы не стучали. Кажется мне, что усатый мужчина с огромными глазищами ко мне из воды поднимается…
Лицо в воде становилось все яснее и яснее, словно выступало из тумана. Два почти круглых глаза, усы… действительно усы! Все ближе эти глазищи, широко раскрытые и как будто любопытные. Смотрят на меня не мигая.
Я потянулась за ружьем и тут только сообразила: нерпа! Фу, ты, неладная!..
И сразу я на чудище морское по-иному взглянула.
Это же нерпа! Тюленье мясо… Будь здесь ребята, да разве они ее упустили бы? Собаки-то голодные…
Выстрелить? Но она утонет, не достать… Как же ее выманить?
От многих полярников я слышала, что любопытнее нерпы нет животного. Говорят, где-то заводили возле проруби патефон, и нерпа вылезала на лед, интересовалась. Но как же мне быть? Патефона у меня нет. Как заинтересовать животное?
Стала я то приближать к воде лицо, то удалять. Пусть заинтересуется мной лично… Косы развязала, стала ими трясти над прорубью.
Но нерпа голову не высовывала и все смотрела на меня из-под воды. Тогда я опять про патефон вспомнила. Стала я нерпе насвистывать: "Скажите, девушки, подружке вашей". Она слушает, но не шевелится. Тогда я решила ее на голос взять. В деревне я певуньей считалась. Ну и стала я нерпе петь. Сначала потихоньку, чтобы не испугать, потом громче. Наконец полным голосом.
Нерпа слушает меня, подлая, не уплывает и не вылезает.
"Ну, подожди, — думаю, — усатая. Неужели тебя баба не перехитрит, если по тебе мои собаки скучают?"
Морду зверя я бы пальцем достать могла… Вспомнила я тут, как чукчи на нерпу зимой охотятся. Нерпы, которые непременно должны выбираться на лед, чтобы подышать, протаивают себе дыханием небольшие проруби. Чукчи находят эти проруби и укрепляют над прорубью шалашиком острые рыбьи кости. Нерпа, выбираясь из воды, раздвигает эти кости, кости впиваются в ее шкуру, и нерпа никуда деться не может: ни вылезти, ни обратно в прорубь опуститься.
С собой нож у меня был. Думаю: если опустить руки по плечи в воду, можно нерпу под ласты ухватить, а чтобы не выскользнула, нож ей всадить в бок, как рыбью кость…
Прорубь узкая, зверю в стороны не податься, а вниз уйти нож не пустит. Ухвачусь крепко за нож и вытащу зверя на лед, а потом из ружья пристрелю. Вмиг я это решение приняла. Выхватила нож, бросилась на прорубь. Круглые, преломленные в воде глаза совсем близко мне в лицо заглянули. Да я уж не боялась!
Не успела нерпа пошевельнуться, как я ей нож ниже ласт всадила. Обняла ее руками и вверх тащу.
Забилась нерпа. Я изо всех сил напрягаюсь, но ведь сила-то у меня все-таки не мужская, женская… Не держись я за нож, выскользнула бы нерпа, уплыла. Нож ее вниз не пускает. Она бьется. Прорубь узкая. Повернуться нерпе негде, она вырваться не может. Но и я ее вытянуть не могу.
Лежу у проруби, напрягаюсь до боли в суставах. Бьется зверюга. Кожу у меня на руках о лед ободрало. Вода ледяная… Пальцы неметь стали. Обидно мне, прямо до слез. Упущу сейчас добычу, а все от женской своей слабости. Напрягаюсь изо всех сил… И удалось мне, обнявшись с нерпой, на колени встать.
Голова нерпы из воды показалась. И сразу всякое сходство с человеческим лицом исчезло. Одну ногу я на лед ступней поставила… Еще одно усилие… Стала я приподымать тушу из воды…
"Врешь, не вырвешься, — шепчу, — не на такую напала!"
Приподнялась я на обе ноги и, чтобы скорее зверя из воды вытащить, повалилась на бок и ее рядом с собой повалила. Она оказалась почти со мной одного роста.
Нерпа начала биться, извиваться. Выскользнула. Нож у меня в руке остался, порезала я о него другую руку. Нерпа хвостом ударила и смахнула со стола коптилку. Загремело ружье. Остались мы в полной темноте.
Только бы в прорубь зверя не упустить!
Кинулась я на прорубь и закрыла ее своим телом. Нерпа сама на меня бросилась. В воду пролезть хочет. От нее рыбой и ворванью воняет…
Темно, до ружья не дотянешься, да и где теперь оно — неизвестно…
Продолжался наш бой во мраке. Хлестнуло меня чем-то тяжелым и мокрым по лицу так, что в голове загудело. Верно, она хвостом меня… А я размахиваю руками, норовлю ножом ее ударить.
Врут все, которые говорят, что тюлень на льду беспомощен. Я потом слышала, что морж с белым медведем драться может. Ну и нерпа со мной дралась. Дралась на равных. Дорого дался мне этой бой. Впервые в жизни у меня рукопашная такая вышла. Но все-таки я не упустила ее в воду… не упустила!
Шкуру нерпы мне потом пришлось зашивать местах в двадцати. Я требовала, чтобы Алеша зашивал, а он уверял, что это женское дело. Ну, я зашила. Всем ребятам шапки сделала. Красивые вышли.
А я с синяками ходила… Тело ныло, словно меня дубинами били.
Но обратно я шла уже без всякого страха, хоть и луна и льды прежние были.
— Катя умолкла, — продолжал свой рассказ Борис Ефимович. — Маша смотрела на нее, не спуская глаз. — Помню, в мою сторону она оглянуться боялась.
Я выбил трубку и сказал: "Славный у вас, Катя, поединок был… с самой собой! Потому и полярницей настоящей стали".
Один из слушателей заметил: "А верно Катерина Алексеевна сказала: каждый из нас о таком пережитом страхе может вспомнить. Без того полярником не становишься".
Я ответил: "Это, конечно, верно. Каждый мужчина тоже такие страхи переживал. Только вот, пожалуй, мужчина об этом никогда бы не рассказал".
Тут все рассмеялись, но со мной согласились.
Потом попросили меня что-нибудь рассказать.
Что ж, у капитанов всегда найдется, что вспомнить. Откашлялся я, затянулся трубкой и говорю: "Сегодня мы крепко поработали, сразу весь уголь на берег перетаскали".
Вижу — Маша моя краской наливается. А я продолжаю: "Не всегда так удачно получается. Бывает, что к острову и не подойдешь, выгрузку ведешь на ледяной припай. А уйти порой приходится раньше, чем успевают полярники уголь на берег перетаскать. Подует ветер, шторм начнется — отломит льдинку вместе с топливом и… поминай, как звали!"
"Неужели были такие случаи?" — спросил кто-то.
"Бывали", — ответил я.
"И полярники зимовали без топлива?"
"Всякое случалось. Например, на острове Врангеля… Не могли туда пройти корабли. Вот полярники и прозимовали две зимы без топлива. Могли улететь, да не захотели. А в другом месте, отсюда неподалеку, так там ветром весь уголь унесло вместе с береговым припаем".
"Без топлива зимой… да разве можно?" — спросила Маша. Невольно это у нее вырвалось.
"Смотря кому, — смеюсь я. — Вот я вам расскажу сейчас про полярников, которым и это оказалось под силу. Одного из них вы всезнаете… Они зимой ветром грелись".
"Теплым ветром? Разве такие тут бывают?" — удивился кто-то.
"Зачем теплым? Умеючи и холодным можно погреться".
И я рассказал про остров и его самоотверженных обитателей.
ПРОТИВ ВЕТРА
 Остров был открыт всем ветрам. Чуть приподнявшийся над ледяными полями, он был затерян среди моря, пустынный, плоский, выметенный метелями.
Солнце на многие месяцы исчезало за горизонтом. В редкие дни, когда не было туч, над островом светили звезды и полыхало сияние. Потом солнце возвращалось. Изо дня в день оно поднималось все выше и выше, освещая базальтовые скалы и снежные морщины на обрывах берега. Тогда просыпалось море и гнало льдины одна на другую, сталкивало их, ломало.
Но ветер дул не переставая. Он не стихал. Он лишь менял направление, уходил куда-то и возвращался, чтобы снова пронестись над островом, завыть по-волчьи в скалах, пролететь по гладкому прибрежному леднику, закружиться на его куполе.
В морозную звездную ночь человек шел против ветра.
Ветер рвал на нем полы полушубка, залеплял снегом глаза, старался потушить фонарик, наметал на пути сугробы.
Человек остановился.
Он заглянул в маленькую будочку. В светлом пятне фонарика виднелся метеорологический прибор. Закоченевшими пальцами человек записывал в тетрадь показания прибора. На ветер он не обращал внимания. Для него это была обычная погода, к которой он привык за пятнадцать лет, проведенных в Арктике.
Ветер иссушил его лицо, да и всю фигуру, жилистую и упругую, фигуру человека, привыкшего к лишениям и суровой жизни.
Вдоль натянутого каната Сходов — так звали этого человека — шел к дому. Он совершал этот путь к метеоплощадке и обратно через каждые четыре часа и днем и ночью, в любую погоду.
У Сходова, метеоролога и начальника полярной станции, не было сменщиков, как не было их и у его товарищей — метеоролога Юровского и механика Анисимова. Еще по пути на остров, на корабле, они отказались от сменщиков, так как на другом острове надо было заменить больных полярников.
Сходов подошел к станции. Ветер бил в спину. Он ворвался в сени, едва метеоролог открыл дверь.
В темном, холодном коридоре в свете фонарика заискрился снег на дверях и стенах.
Сходов вошел в освещенную коптилкой радиорубку со стенами, покрытыми инеем. Она казалась оклеенной лохматыми, изодранными обоями.
Сходов хмурился. Метеоролог Юровский лежал в спальном мешке.
— Как дела, Женя? — спросил Сходов.
В ответ Юровский закашлялся, сухо, с натугой.
Сходов подошел к юноше, положил ему на лоб руку. Определить, есть ли у него жар, он не мог. В комнате температура была намного ниже нуля.
Молчаливый, сосредоточенный, Сходов сел за рацию и связался с островом Диким. Он отстучал ключом очередные радиограммы, полученные от соседей, для которых он был посредником, передал метеосводку, а потом вызвал к микрофону врача.
Вошел механик Анисимов, кряжистый, широкоплечий, в заснеженной кухлянке. Он начал приплясывать, отряхивая снег.
— Здесь больной, — напомнил ему Сходов.
Анисимов скинул капюшон.
В руке он держал котелок с теплой похлебкой. Он умудрялся готовить ее в радиаторе бензинового движка, пока тот работал, заряжая аккумуляторы. Это был единственный источник тепла, каким располагали полярники.
— Женя, хочешь горяченького? — ласково спросил механик.
— Холодно, очень холодно… — прошептал больной.
К микрофону подошел врач. Сходов сообщил ему о состоянии Юровского. Врач расспрашивал о симптомах, температуре, пульсе. Потом потребовал, чтобы к груди больного приложили микрофон.
Сходов держал провод, Анисимов — микрофон. Хрипы в груди больного стали слышны за сотни километров.
У радиста начиналось воспаление легких.
Врач предупредил полярников, что заболевание серьезное.
— Главное, держите больного в тепле, — сказал он в заключение. Бойтесь открытых форточек.
— Открытых форточек… — медленно повторил Сходов и сел около больного.
Дом давно уже не отапливался. У зимовщиков не было ни горсти топлива. Еще осенью его унесло в море…
Сходов вспомнил, каким восторженным и впечатлительным прибыл Женя Юровский на остров. Все его поражало и восхищало: и то, что корабль подошел к леднику, как к причалу, и то, что моряки поздней осенью через сплошной лед с таким риском пробились к острову и должны были теперь спешить обратно, не теряя ни минуты.
После ухода корабля поднялся штормовой ветер. Сходов торопился, не давая передышки ни себе, ни своим товарищам. Вскоре большая часть ящиков с оборудованием и продовольствием, выгруженных на ледник, была на скале.
На леднике, у самого его края, оставались лишь бочки с бензином и черная пирамида на снегу — запас угля на два года. Кто знает, пробьется ли корабль сюда в будущем году?
На берег успели выкатить только две бочки. И тогда случилось то, чего так боялся Сходов, — часть ледника отломилась, образовав айсберг. На нем остались драгоценный уголь и бензин…
Люди стояли на краю ледника. Ветер сталкивал их вниз, туда, где бушевало море, откуда взлетали брызги и пена, холодная, как снег.
Сходов помнил лицо Жени в тот момент. Оно было растерянным, почти испуганным. Его чуть расширенные глаза провожали айсберг, который уплыл к двум другим ледяным горам, стоявшим вдалеке, как на рейде.
Темное в наступивших сумерках море угоняло ледяную глыбу все дальше и дальше, отнимая у людей последнюю надежду на возвращение топлива…
На горизонте показалась нежная и грустная заря, напоминавшая о том, что где-то в мире есть солнце.
— Как же будем жить? — наивно спросил Женя.
— О печке, брат, теперь забудь, — сказал Анисимов и улыбнулся. Потом сдвинул шапку на лоб и почесал затылок.
— "Седова" надо вернуть. Пошлите ему радиограмму, — взволнованно проговорил Женя.
Сходов сухо оборвал его:
— Мы не можем рисковать кораблем… Анисимов, — повернулся он к механику, — хватит на зиму двух бочек бензина, чтобы заряжать аккумуляторы для рации?
— Я и то прикидываю, Василь Васильевич. Должно хватить… если на голодной норме.
Женя, пряча от ветра лицо, пошел к дому. Дом был просторный, с большой комнатой, где стояли пианино и шкаф с книгами, из которых Женя отобрал все томики стихов. Под окнами укреплены батареи центрального отопления. Сюда когда-то поступала теплая вода из бака, вмазанного в кухонную плиту.
Когда в кухню вошли Сходов и Анисимов, Женя стоял около плиты. Он не мог примириться с мыслью, что целый год не увидит огня.
— Василий Васильевич, — сказал он. — Я сейчас слушал музыку из Москвы. Все не верится, что это так далеко… Может быть, попросить самолет? Он сбросит топливо.
— Слушай, Юровский, — холодно сказал Сходов, — советские полярники не раз оказывались в таком же положении, как мы. На острове Врангеля наши зимовщики пожелали остаться зимовать, хотя топлива там не было. Вспомните папанинцев, седовцев. У нас есть спальные мешки. Мы, советские полярники, не станем вызывать целую эскадрилью самолетов, чтобы они доставили нам уголь…
Женя, опустив голову, слушал начальника. Он безгранично верил в могущество советской страны и не понимал, почему надо отказаться от посылки самолета.
Анисимов вполголоса объяснил Жене:
— Слушай, ты пойми… Я во время войны бортмехаником на самолете был. Я знаю, что значит летать в полярную ночь по необорудованной трассе. Это огромный риск, геройство. Самолет нужно направлять радиопеленгом. А у нас пеленгатора нет. Твоя «радюшка» для этого дела не годится.
Женя больше не говорил о самолетах. Он изо всех сил старался переносить лишения так же стойко, как это делали его товарищи. Сходов молча наблюдал за ним. Он видел, как юноша самоотверженно днем и ночью в положенный срок в любой мороз шел на метеоплощадку и, возвращаясь оттуда, безропотно мерз в холодной рубке.
И вот теперь Женя лежал перед Сходовым в промерзшей комнате и надрывно кашлял. Тепло могло спасти ему жизнь, а тепла не было! Сходов думал о том, как помочь товарищу.
Анисимов посмотрел на Сходова, на Женю, потоптался на месте, потом, как был в полушубке, вышел из дому.
Дверь из сеней едва открылась — на нее навалился ветер:
"Экая силища", — подумал Анисимов.
Колючий снег ударил в лицо. Пришлось встать к ветру спиной. И почему-то вспомнилось, как дует ветер от пропеллера, когда запускают мотор самолета.
Сколько миллионов, миллиардов пропеллеров должны были бы работать, чтобы создать этот несущийся с дикой силой поток воздуха? Или сколько пропеллеров закрутилось бы, если поставить их на пути ветра?
— Эге… — сказал сам себе Анисимов и пошел в машинное отделение.
Он долго смотрел на бочку с бензином, к чему-то примеряясь, прищуря глаз.
— Помрет ведь Женька-то… — сказал он и снова пошел в дом.
— Эх, ветрище на улице… — неопределенно начал он, вернувшись в радиорубку.
— Восемь баллов, — кратко ответил Сходов.
— Да… то пять, то восемь. Меньше не бывает. — Анисимов сел на табуретку. — Силища какая… А что, Василь Васильевич, если хоть крошечную часть этой силы в тепло превратить? — и, рассмеявшись, механик пнул носком валенка батарею отопления.
— Оставьте праздные разговоры. Ветряные двигатели делают на хорошо оборудованных заводах, — сказал Сходов и поправил на больном кухлянку.
Анисимов заерзал на табурете.
— Во время войны мне довелось на парашюте с подбитого самолета спрыгнуть. Я тогда ногу сломал, меня партизаны подобрали. Я у них потом сапером был.
— Ну и что же?
— Научили меня насчет… подручного материала. Я и думаю, из бензиновой бочки можно сделать ветряк.
Сходов раздраженно встал, подошел к столу и достал свою метеорологическую ведомость.
— Понимаете, Василь Васильевич, — не унимался Анисимов, — мы возьмем железную бочку и разрежем ее вдоль. Потом из двух полубочек сделаем этакую карусель, прикрепим их краями к вертикальной оси. Вот так. — Анисимов подошел к окну и нарисовал на замерзшем стекле латинскую букву «S». Ветер дует сбоку. Одна полубочка повернута к нему вогнутостью, а другая горбом. Понимаете?
— Понимаю.
— В вогнутой — ветер встречает сопротивление, давит на нее и поворачивает всю карусель. Тем временем другая полубочка подставит ветру свою вогнутость. И пошла писать губерния! Завертится вертушка, откуда бы ветер ни дул.
— Это фантазия, — сказал Сходов. — Нельзя портить бочки, они у нас с бензином. Нам все равно нечем превратить энергию вращения в тепло. Для этого нужны электрические машины и печки. Нашу динамо-машинку для такой нагрузки я не дам. Она для зарядки аккумуляторов.
Сказав это, Сходов принялся переписывать в ведомость цифры из тетради. Озябшие пальцы плохо слушались.
Анисимов, кряхтя, забирался в спальный мешок. Сходов не ложился. За окном стонала буря. Ветер словно издевался над старым полярником, кричал ему, что вот угнал он уголь, теперь отнимет одного из товарищей.
Сходов мучительно думал: как же не уберег он Юровского? В чем он неправ? Разве не должен он был приучать молодежь к суровой жизни, разве не должен был взять тяжесть положения на себя и товарищей, а не перекладывать ее на плечи летчиков? Лететь сюда в позднее время было очень опасно, а теперь, при полном отсутствии видимости, почти невозможно.
Женя умирает в холоде, а он, Сходов, ничего не может сделать для него. Вот Анисимов, тот что-то предлагает, думает, изобретает. Славный он парень, веселый, с русской смекалкой…
Русская смекалка! Русские всегда удивляли иностранцев простотой технических решений. Кулибин арочный мост строил без всяких подпорок. Гигантский колокол, превращенный в огромное колесо, был доставлен за сотни километров.
Простой русский мужичок поразил заморских инженеров, поставив колоссальную колонну перед Зимним дворцом. Он построил спиральный помост и закатил по нему верхушку "александрийского столпа".
Вот и теперь Анисимов предлагает… простое решение. Подумать над этим надо. Ведь существуют же роторные ветряные двигатели!
С койки донесся сухой, рвущийся из груди кашель.
Жизнь Жени зависит от тепла… Но как перевести силу вращения в тепло? Электрическую машину использовать нельзя. Нельзя рисковать оборудованием, оно ведь обеспечивает работу рации!
Неожиданно подошел механик и сел на койку начальника.
— Почему не спите? Потом будете клевать носом на вахте, — сказал Сходов.
— Василь Васильевич, понимаете… все думаю, как без электрических машин обойтись.
Сходов сел, потянулся к столу и зажег коптилку.
Осветились белые мохнатые стены комнаты.
— Что же можно сделать? — спросил Сходов не то механика, не то самого себя.
Анисимов заговорил горячо, убежденно.
— Василь Васильевич! Вот поезд… когда его тормозят… Вся его энергия переходит в тепло. Тормозные колодки трутся о колеса и греются!
— Ну и что же? — недоверчиво спросил Сходов.
— Вот подождите!
Анисимов взял электрический фонарик и побежал в сарай. Долго откапывал заваленную снегом дверь, наконец открыл ее и принялс рыться в старых частях машин.
Вернулся он радостный.
— Там есть чугунный шкив, — объявил он Сходову, — а тормозные колодки сделаем из камня и будем их прижимать вот этими винтами. — Он показал найденные детали.
Женя метался по койке и дрожал от озноба.
— Подожди, Женька… будет тепло! — обернулся к нему Анисимов. — Мы вот как сделаем, Василь Васильевич. Через крышу пропустим вертикальную стальную трубу. Она будет вроде оси. Вверху закрепим ее в подшипник, а для подшипника деревянную треногу сделаем. К трубе приклепаем две полубочки вот и готова карусель. А внизу наденем на ось чугунный шкив и будем его тормозить.
— Как же мы используем тепло трения? Шкив перегреется.
— А мы его спустим в воду, прямо в бак центрального отопления. Все тепло трения перейдет в воду, как в обычном калорифере. Вода в баке нагреется, и мы, Василь Васильевич, пустим центральное отопление!
— Уж очень это необычно. Плохо я в это верю, но помогать вам буду, сказал Сходов.
И началась лихорадочная работа. Сходов и Анисимов вовсе перестали спать. От успеха задуманного зависела жизнь Жени. Но нельзя было работать только над "ветряным отоплением". Нужно было по-прежнему наблюдать за погодой, передавать сводки, принимать радиограммы, готовить обед и ухаживать за больным.
Пурга сменилась невиданными морозами. В сводках Сходов сообщал: "Минус пятьдесят градусов".
Анисимов работал около сарая. Он прыгал то на одной, то на другой ноге, хлопал руками по бедрам, стараясь согреться. При этом он напевал и поглядывал на небо. Над его головой горела Полярная звезда.
"Если земной шар вообразить роторным ветродвигателем, — подумал Анисимов, — то конец оси как раз упирался бы в Полярную звезду".
Анисимов засмеялся своей мысли и снова принялся за бочку. Он разрубил ее пополам. Бензин перелил в ледяную кадушку, которую сделал Василий Васильевич.
Работал Анисимов ловко, с привычной сноровкой, без промаха бил молотком по зубилу. Последний удар был прямо-таки ухарским. На снегу лежали две полубочки.
Анисимов вздохнул, выпрямился, посмотрел на небосвод, на Полярную звезду, в которую «упирается» земная «ось», и… изумился.
Вокруг стало светло, как перед восходом солнца. Из-за горизонта поднимались лучи… прожекторов. В первое мгновение Анисимову показалось, что к острову идет сказочный ледокол. Но лучи поднимались из-за горизонта со всех сторон, куда ни посмотреть. Неяркие, серебристые, они тихо и трепетно двигались по небу, словно ощупывая бесконечность вселенной. Наконец лучи скрестились у самой Полярной звезды. Они составили световой шатер, живой, движущийся и величественный. Анисимов никогда не видел прежде подобного северного сияния. Но где он видел такую же картину? Где?
Вдруг Анисимов радостно рассмеялся. Он вспомнил. Бросив инструменты, он побежал в дом.
— Василь Васильевич! Женя! — кричал он еще из коридора. — В небе "салют Победы!" Арктика капитулирует! Безоговорочно!
На следующий день механик полез на крышу, чтобы установить там ротор. Ветер обрушился на маленькую человеческую фигурку, силясь сбросить ее наземь. Анисимов возился около стальной трубы, которую вместе со Сходовым просунул наружу из кухни, и бормотал:
— Дуй, дуй крепче! Злись! Силища бестолковая! Подожди, мы тебя запряжем! Будешь крутить нашу вертушку.
Неожиданно пришла смелая мысль. А что если заставить арктические ветры крутить огромные ветряки по всему побережью? Тогда электрический ток можно было бы послать на юг, на заводы, заменить им работу десятков тепловых станций, потребляющих уголь.
"Ох, здорово!" — обрадовался своей мысли Анисимов и, забыв осторожность, выпустил дымовую трубу, за которую все время держался. Ветер сразу ударил по нему. Анисимов судорожно ухватился за деревяшку, заклинивающую самодельный ротор. Клин выбило, и полубочки завертелись! Человек потерял опору и полетел вниз.
Лежа в сугробе, он с радостью слушал, как грохотал его ветродвигатель.
Выбежал из дома Сходов.
— Шкив завертелся, — сказал он.
Возбужденный, счастливый Анисимов вошел в дом. Он тотчас стал прилаживать к вращающемуся шкиву тормозные колодки. Они не походили на те колодки, которыми тормозят вагоны. Он просто прижимал к шкиву винтами два больших камня.
Однако с торможением ничего не получилось. Анисимов рассчитывал, что его камни приработаются и постепенно примут форму поверхности шкива. Но для этого, вероятно, требовалось много времени. Пока же от каменных колодок было мало толку. Они или совсем останавливали шкив, или позволяли ему вращаться свободно.
Сходов с горечью смотрел на старания Анисимова. Им с новой силой овладела тревога. Больной был совсем плох. Сходов подолгу простаивал около его койки.
Идя на метеоплощадку, Василий Васильевич твердо решил, что не имеет больше права полагаться на сомнительное изобретение Анисимова и рисковать жизнью товарища. Придется все же попробовать вызвать самолет. Вернувшись в дом, Сходов прошел на кухню.
Около котла центрального отопления возился механик. Лицо Анисимова осунулось, покрылось пылью, щеки провалились, глаза походили на две темные ямы. Руки были изранены и обморожены, кожа на них потрескалась, из трещин сочилась кровь.
Сходов некоторое время молча смотрел на него, потом пошел в радиорубку. Женя лежал неподвижно, закрыв глаза, в груди его хрипело. Он был в беспамятстве. На столе, перед ключом, лежала горка снега, насыпавшегося с потолка. Сходов подержал руку на лбу больного и сел за ключ.
Анисимов уже несколько суток не спал. Сходов молча помогал ему в работе, но теперь он надеялся на другое. Однако из этого «другого» могло ничего не получиться. Не желая разочаровывать Анисимова, Василий Васильевич ничего не говорил ему.
И наконец то, чего ждал Сходов, случилось.
Анисимов разогнул спину, выпрямился, посмотрел на начальника.
— Самолет? — вне себя от изумления спросил он.
— Да, — ответил Сходов. — Надо спасать Женю.
— Как же он прилетел без пеленга?
— Может быть, с материка приборы укажут летчику точку, где надо сбросить груз, — сказал Сходов.
Гул самолета стал отчетливее. Летчик делал круг над островом.
— Как же он нас увидит в пургу?
— Эх, ты, бортмеханик! — укоризненно сказал Сходов. — А радиолокация? На вашем самолете еще ее не было? Теперь другое время. Летчик на экране сейчас видит нашу железную вертушку.
— Верно! — и Анисимов, хлопнув себя ладонью по лбу, отбросил молоток.
Оба полярника выбежали на крыльцо. Они прислушивались к реву пропеллера.
Пурга усиливалась. Ветер гнал на домик тучи снега.
Звук пропеллера удалялся.
— Сбросил, — облегченно сказал Сходов. — Теперь надо найти мешки с углем, пока их не замело.
— Идем, идем скорее! — заторопился Анисимов.
— Нет, — остановил его Сходов. — Мы не имеем права уходить оба. Вы останетесь. Мешки буду искать я. Около каждого я воткну веху. Один мешок притащу сюда.
Анисимов нехотя подчинился. Сходов ушел. Пурга выла за стенами домика.
Анисимов прошел на кухню. Скоро здесь загорится огонь. Механик со злостью посмотрел на вращающийся шкив. Ему захотелось остановить это бесполезное колесо.
С раздражением он стал заворачивать винты, прижимая к шкиву свои новые каменные колодки, уже не просто камни, а каменные скобы, с двух сторон плотно облегавшие шкив. Из-под обода посыпались искры, Анисимов подставил руку. Искры жгли. Это было тепло. Тепло, принесенное холодным ветром! Черт возьми! Ведь это же тепло, которое во что бы то ни стало надо использовать…
Сходов шел по снегу, вокруг бушевала пурга. Сразу же, метрах в трехстах от станции, ему удалось найти несколько сброшенных мешков. Он поставил возле них вехи. Но он допустил ошибку, решив сейчас же найти и остальные. Пурга усиливалась. Снег крутился, плясал в воздухе, валил с ног. Он обрушивался на Сходова сбоку, сверху, забивал глаза, перехватывал дыхание, сухой и нетающий, забивался под капюшон.
Сходов рассчитывал найти дом по грохоту вертушки, однако, решив возвращаться, он с тревогой обнаружил, что не слышит ее шума. Неужели вой пурги заглушает вертушку?
Ориентироваться по направлению ветра невозможно: ветер отовсюду. Сходов никогда не был трусом. Теперь угроза быть занесенным снегом здесь, около дома, вместе с мешком угля, испугала Василия Васильевича. Он в изнеможении опустился на снег, не веря сам себе. Неужели такая нелепая гибель?
Во всяком случае идти бесполезно. "Я могу еще дальше отойти от дома", — уже более спокойно рассуждал Сходов, стараясь взять себя в руки.
Сходов знал, как поступают ненцы во время пурги. Он сел в снег, зарылся в мех и весь сжался в комок. Во что бы то ни стало нужно было перебороть холод и самое страшное… сон. Сон, липкий, сладкий, подкрадывался исподволь, мутил сознание. Сходов кусал губы, отгоняя сон.
Чтобы не замерзнуть, Сходов напрягал мышцы. В юности он занимался "волевой гимнастикой" — усилием воли напрягал и расслаблял мышцы. И Сходов заставлял себя мысленно идти, бежать, взбираться на скалы. Ему становилось жарко, силы оставляли его, он изнемогал от усталости, но снова принимался за свой тяжелый и невидимый труд.
Сходов вспомнил об Анисимове. О чем бы он думал в таком тяжелом положении? Наверное, он думал бы о своем ветродвигателе или о грандиозном арктическом ветрокольце, которое посылало бы энергию на южные заводы…
Сходов стал прикидывать, на сколько могло бы хватить сброшенного угля? Получалось, что недели на две.
А как же дальше? Полагаться на Анисимова? Так ведь у него с камнями ничего не получается! Стой! А зачем камни? Зачем тормозить камнями, которые быстро износятся, когда можно тормозить самой водой? Заставить мешалку перемешивать воду. Вода будет затруднять ее вращение, тормозить, и энергия, затраченная на преодоление этого сопротивления, перейдет в тепло. Вода нагреется!
Эх, только бы выбраться теперь! И уголь есть, и вертушка заработает.
Пурга выла, ревела. Отовсюду несся треск, похожий на выстрелы. В море подвижка льдов. Ураганный ветер гнал ледяные поля одно на другое. Если Анисимов и стрелял из ружья. Сходов бы не услышал выстрелов в общем хаосе звуков.
Но что это за грохот, назойливый, несмолкаемый грохот?
Сходов прислушался. Вскочил.
Снег посыпался с него. Как он мог так долго ничего не понимать? Ведь это вертелась вертушка! Значит, пурга не заглушила ее! Она слышна!
Еле волоча ноги, Сходов побрел по направлению к тому месту, откуда слышался грохот. Он попытался тащить за собой мешок, но силы оставили его.
Теперь он знал, где стоит дом. Над домом снова завертелась вертушка.
Согнувшись Сходов брел вперед. Вдруг он отчетливо услышал выстрел. Значит, Анисимов все-таки стреляет! Вот и крыльцо…
Анисимов увидел почти ползущего к дому начальника, вернее мутную тень, на мгновение мелькнувшую в снежном вихре.
Механик втащил Сходова в дом, в коридор, потом прямо на кухню. Здесь в одной рубашке на спальном мешке, разбросавшись, лежал Женя.
— Раздевайтесь, Василь Васильевич! — торопил Анисимов. — Сейчас согреетесь.
Сходов тяжело опустился на скамью, удивленно глядя на плачущие, в потеках, стены.
— Тепло? — как бы не веря себе, выговорил он, потом спросил строго: За углем ходили? Кто вам разрешил покидать станцию в пургу?
— Да никуда я не ходил! — с восторгом перебил его Анисимов. Работает наша карусель… И тормоз работает! Наладил я его! Все дело в обхвате. Надо было, чтобы колодка на большой поверхности к шкиву прижималась. Вот смотрите…
Только теперь Сходов рассмотрел, что уходившая через потолок стальная труба крутилась. Анисимов сунул руку в котел центрального отопления и быстро выдернул ее.
— Кипяток, прямо кипяток! — радостно крикнул он.
— А мешки там… — проговорил Сходов. — Вехи я поставил.
— Это наш резерв, Василь Васильевич! Все-таки ветер не всегда будет!
— Верно, — согласился Сходов. — Он встал, подошел к больному, склонился над ним. — Ну, как, Женюшка? Хорошо в тепле?
— Хорошо, Василий Васильевич! — тихо проговорил метеоролог и улыбнулся.
Сходов подошел к Анисимову, крепко обнял и неожиданно поцеловал.
— Самолетов больше вызывать не будем, — твердо сказал он. — Камни износятся. Вместо диска мешалку поставим. Понял?
Яростный ветер носился по острову, наметая сугробы. Он снова гнал одно на другое ледяные поля, рвал в небе черные тучи и с ревом набрасывался на одинокий дом.
И опять от дома к метеоплощадке шел человек. Ветер хватал его за полы полушубка, вставал перед ним снежной стеной. Но тот же ветер с дикой силой крутил на крыше дома диковинную вертушку, которая громыхала, как танк.
Человек с электрическим фонариком и тетрадкой в руках шел против ветра…
Когда я кончил рассказ, было уже поздно. Пора было расходиться спать.
По своему обыкновению я прошелся по кораблю. Мы стояли на рейде, подниматься на капитанский мостик было не за чем.
Острова в ночной темноте уже видно не было. Только в одном из окошек далекого домика светился огонек. Он походил на самую низкую звезду из всех, что зажглись сейчас в небе.
Старший помощник готовил подъем катера.
Я отменил подъем.
Старпом очень удивился. С выгрузкой было покончено. Зимовщики с острова уже перебрались на корабль.
Я ничего не стал объяснять старпому.
— Подождите до утра, — сказал я ему и пошел спать.
Она, Маша, конечно, ждала меня около моей каюты.
— Ну, как, Маша, — спросил я ее, — по ветру пойдешь или против ветра?
Так закончил Борис Ефимович свой рассказ.
Остров был открыт всем ветрам. Чуть приподнявшийся над ледяными полями, он был затерян среди моря, пустынный, плоский, выметенный метелями.
Солнце на многие месяцы исчезало за горизонтом. В редкие дни, когда не было туч, над островом светили звезды и полыхало сияние. Потом солнце возвращалось. Изо дня в день оно поднималось все выше и выше, освещая базальтовые скалы и снежные морщины на обрывах берега. Тогда просыпалось море и гнало льдины одна на другую, сталкивало их, ломало.
Но ветер дул не переставая. Он не стихал. Он лишь менял направление, уходил куда-то и возвращался, чтобы снова пронестись над островом, завыть по-волчьи в скалах, пролететь по гладкому прибрежному леднику, закружиться на его куполе.
В морозную звездную ночь человек шел против ветра.
Ветер рвал на нем полы полушубка, залеплял снегом глаза, старался потушить фонарик, наметал на пути сугробы.
Человек остановился.
Он заглянул в маленькую будочку. В светлом пятне фонарика виднелся метеорологический прибор. Закоченевшими пальцами человек записывал в тетрадь показания прибора. На ветер он не обращал внимания. Для него это была обычная погода, к которой он привык за пятнадцать лет, проведенных в Арктике.
Ветер иссушил его лицо, да и всю фигуру, жилистую и упругую, фигуру человека, привыкшего к лишениям и суровой жизни.
Вдоль натянутого каната Сходов — так звали этого человека — шел к дому. Он совершал этот путь к метеоплощадке и обратно через каждые четыре часа и днем и ночью, в любую погоду.
У Сходова, метеоролога и начальника полярной станции, не было сменщиков, как не было их и у его товарищей — метеоролога Юровского и механика Анисимова. Еще по пути на остров, на корабле, они отказались от сменщиков, так как на другом острове надо было заменить больных полярников.
Сходов подошел к станции. Ветер бил в спину. Он ворвался в сени, едва метеоролог открыл дверь.
В темном, холодном коридоре в свете фонарика заискрился снег на дверях и стенах.
Сходов вошел в освещенную коптилкой радиорубку со стенами, покрытыми инеем. Она казалась оклеенной лохматыми, изодранными обоями.
Сходов хмурился. Метеоролог Юровский лежал в спальном мешке.
— Как дела, Женя? — спросил Сходов.
В ответ Юровский закашлялся, сухо, с натугой.
Сходов подошел к юноше, положил ему на лоб руку. Определить, есть ли у него жар, он не мог. В комнате температура была намного ниже нуля.
Молчаливый, сосредоточенный, Сходов сел за рацию и связался с островом Диким. Он отстучал ключом очередные радиограммы, полученные от соседей, для которых он был посредником, передал метеосводку, а потом вызвал к микрофону врача.
Вошел механик Анисимов, кряжистый, широкоплечий, в заснеженной кухлянке. Он начал приплясывать, отряхивая снег.
— Здесь больной, — напомнил ему Сходов.
Анисимов скинул капюшон.
В руке он держал котелок с теплой похлебкой. Он умудрялся готовить ее в радиаторе бензинового движка, пока тот работал, заряжая аккумуляторы. Это был единственный источник тепла, каким располагали полярники.
— Женя, хочешь горяченького? — ласково спросил механик.
— Холодно, очень холодно… — прошептал больной.
К микрофону подошел врач. Сходов сообщил ему о состоянии Юровского. Врач расспрашивал о симптомах, температуре, пульсе. Потом потребовал, чтобы к груди больного приложили микрофон.
Сходов держал провод, Анисимов — микрофон. Хрипы в груди больного стали слышны за сотни километров.
У радиста начиналось воспаление легких.
Врач предупредил полярников, что заболевание серьезное.
— Главное, держите больного в тепле, — сказал он в заключение. Бойтесь открытых форточек.
— Открытых форточек… — медленно повторил Сходов и сел около больного.
Дом давно уже не отапливался. У зимовщиков не было ни горсти топлива. Еще осенью его унесло в море…
Сходов вспомнил, каким восторженным и впечатлительным прибыл Женя Юровский на остров. Все его поражало и восхищало: и то, что корабль подошел к леднику, как к причалу, и то, что моряки поздней осенью через сплошной лед с таким риском пробились к острову и должны были теперь спешить обратно, не теряя ни минуты.
После ухода корабля поднялся штормовой ветер. Сходов торопился, не давая передышки ни себе, ни своим товарищам. Вскоре большая часть ящиков с оборудованием и продовольствием, выгруженных на ледник, была на скале.
На леднике, у самого его края, оставались лишь бочки с бензином и черная пирамида на снегу — запас угля на два года. Кто знает, пробьется ли корабль сюда в будущем году?
На берег успели выкатить только две бочки. И тогда случилось то, чего так боялся Сходов, — часть ледника отломилась, образовав айсберг. На нем остались драгоценный уголь и бензин…
Люди стояли на краю ледника. Ветер сталкивал их вниз, туда, где бушевало море, откуда взлетали брызги и пена, холодная, как снег.
Сходов помнил лицо Жени в тот момент. Оно было растерянным, почти испуганным. Его чуть расширенные глаза провожали айсберг, который уплыл к двум другим ледяным горам, стоявшим вдалеке, как на рейде.
Темное в наступивших сумерках море угоняло ледяную глыбу все дальше и дальше, отнимая у людей последнюю надежду на возвращение топлива…
На горизонте показалась нежная и грустная заря, напоминавшая о том, что где-то в мире есть солнце.
— Как же будем жить? — наивно спросил Женя.
— О печке, брат, теперь забудь, — сказал Анисимов и улыбнулся. Потом сдвинул шапку на лоб и почесал затылок.
— "Седова" надо вернуть. Пошлите ему радиограмму, — взволнованно проговорил Женя.
Сходов сухо оборвал его:
— Мы не можем рисковать кораблем… Анисимов, — повернулся он к механику, — хватит на зиму двух бочек бензина, чтобы заряжать аккумуляторы для рации?
— Я и то прикидываю, Василь Васильевич. Должно хватить… если на голодной норме.
Женя, пряча от ветра лицо, пошел к дому. Дом был просторный, с большой комнатой, где стояли пианино и шкаф с книгами, из которых Женя отобрал все томики стихов. Под окнами укреплены батареи центрального отопления. Сюда когда-то поступала теплая вода из бака, вмазанного в кухонную плиту.
Когда в кухню вошли Сходов и Анисимов, Женя стоял около плиты. Он не мог примириться с мыслью, что целый год не увидит огня.
— Василий Васильевич, — сказал он. — Я сейчас слушал музыку из Москвы. Все не верится, что это так далеко… Может быть, попросить самолет? Он сбросит топливо.
— Слушай, Юровский, — холодно сказал Сходов, — советские полярники не раз оказывались в таком же положении, как мы. На острове Врангеля наши зимовщики пожелали остаться зимовать, хотя топлива там не было. Вспомните папанинцев, седовцев. У нас есть спальные мешки. Мы, советские полярники, не станем вызывать целую эскадрилью самолетов, чтобы они доставили нам уголь…
Женя, опустив голову, слушал начальника. Он безгранично верил в могущество советской страны и не понимал, почему надо отказаться от посылки самолета.
Анисимов вполголоса объяснил Жене:
— Слушай, ты пойми… Я во время войны бортмехаником на самолете был. Я знаю, что значит летать в полярную ночь по необорудованной трассе. Это огромный риск, геройство. Самолет нужно направлять радиопеленгом. А у нас пеленгатора нет. Твоя «радюшка» для этого дела не годится.
Женя больше не говорил о самолетах. Он изо всех сил старался переносить лишения так же стойко, как это делали его товарищи. Сходов молча наблюдал за ним. Он видел, как юноша самоотверженно днем и ночью в положенный срок в любой мороз шел на метеоплощадку и, возвращаясь оттуда, безропотно мерз в холодной рубке.
И вот теперь Женя лежал перед Сходовым в промерзшей комнате и надрывно кашлял. Тепло могло спасти ему жизнь, а тепла не было! Сходов думал о том, как помочь товарищу.
Анисимов посмотрел на Сходова, на Женю, потоптался на месте, потом, как был в полушубке, вышел из дому.
Дверь из сеней едва открылась — на нее навалился ветер:
"Экая силища", — подумал Анисимов.
Колючий снег ударил в лицо. Пришлось встать к ветру спиной. И почему-то вспомнилось, как дует ветер от пропеллера, когда запускают мотор самолета.
Сколько миллионов, миллиардов пропеллеров должны были бы работать, чтобы создать этот несущийся с дикой силой поток воздуха? Или сколько пропеллеров закрутилось бы, если поставить их на пути ветра?
— Эге… — сказал сам себе Анисимов и пошел в машинное отделение.
Он долго смотрел на бочку с бензином, к чему-то примеряясь, прищуря глаз.
— Помрет ведь Женька-то… — сказал он и снова пошел в дом.
— Эх, ветрище на улице… — неопределенно начал он, вернувшись в радиорубку.
— Восемь баллов, — кратко ответил Сходов.
— Да… то пять, то восемь. Меньше не бывает. — Анисимов сел на табуретку. — Силища какая… А что, Василь Васильевич, если хоть крошечную часть этой силы в тепло превратить? — и, рассмеявшись, механик пнул носком валенка батарею отопления.
— Оставьте праздные разговоры. Ветряные двигатели делают на хорошо оборудованных заводах, — сказал Сходов и поправил на больном кухлянку.
Анисимов заерзал на табурете.
— Во время войны мне довелось на парашюте с подбитого самолета спрыгнуть. Я тогда ногу сломал, меня партизаны подобрали. Я у них потом сапером был.
— Ну и что же?
— Научили меня насчет… подручного материала. Я и думаю, из бензиновой бочки можно сделать ветряк.
Сходов раздраженно встал, подошел к столу и достал свою метеорологическую ведомость.
— Понимаете, Василь Васильевич, — не унимался Анисимов, — мы возьмем железную бочку и разрежем ее вдоль. Потом из двух полубочек сделаем этакую карусель, прикрепим их краями к вертикальной оси. Вот так. — Анисимов подошел к окну и нарисовал на замерзшем стекле латинскую букву «S». Ветер дует сбоку. Одна полубочка повернута к нему вогнутостью, а другая горбом. Понимаете?
— Понимаю.
— В вогнутой — ветер встречает сопротивление, давит на нее и поворачивает всю карусель. Тем временем другая полубочка подставит ветру свою вогнутость. И пошла писать губерния! Завертится вертушка, откуда бы ветер ни дул.
— Это фантазия, — сказал Сходов. — Нельзя портить бочки, они у нас с бензином. Нам все равно нечем превратить энергию вращения в тепло. Для этого нужны электрические машины и печки. Нашу динамо-машинку для такой нагрузки я не дам. Она для зарядки аккумуляторов.
Сказав это, Сходов принялся переписывать в ведомость цифры из тетради. Озябшие пальцы плохо слушались.
Анисимов, кряхтя, забирался в спальный мешок. Сходов не ложился. За окном стонала буря. Ветер словно издевался над старым полярником, кричал ему, что вот угнал он уголь, теперь отнимет одного из товарищей.
Сходов мучительно думал: как же не уберег он Юровского? В чем он неправ? Разве не должен он был приучать молодежь к суровой жизни, разве не должен был взять тяжесть положения на себя и товарищей, а не перекладывать ее на плечи летчиков? Лететь сюда в позднее время было очень опасно, а теперь, при полном отсутствии видимости, почти невозможно.
Женя умирает в холоде, а он, Сходов, ничего не может сделать для него. Вот Анисимов, тот что-то предлагает, думает, изобретает. Славный он парень, веселый, с русской смекалкой…
Русская смекалка! Русские всегда удивляли иностранцев простотой технических решений. Кулибин арочный мост строил без всяких подпорок. Гигантский колокол, превращенный в огромное колесо, был доставлен за сотни километров.
Простой русский мужичок поразил заморских инженеров, поставив колоссальную колонну перед Зимним дворцом. Он построил спиральный помост и закатил по нему верхушку "александрийского столпа".
Вот и теперь Анисимов предлагает… простое решение. Подумать над этим надо. Ведь существуют же роторные ветряные двигатели!
С койки донесся сухой, рвущийся из груди кашель.
Жизнь Жени зависит от тепла… Но как перевести силу вращения в тепло? Электрическую машину использовать нельзя. Нельзя рисковать оборудованием, оно ведь обеспечивает работу рации!
Неожиданно подошел механик и сел на койку начальника.
— Почему не спите? Потом будете клевать носом на вахте, — сказал Сходов.
— Василь Васильевич, понимаете… все думаю, как без электрических машин обойтись.
Сходов сел, потянулся к столу и зажег коптилку.
Осветились белые мохнатые стены комнаты.
— Что же можно сделать? — спросил Сходов не то механика, не то самого себя.
Анисимов заговорил горячо, убежденно.
— Василь Васильевич! Вот поезд… когда его тормозят… Вся его энергия переходит в тепло. Тормозные колодки трутся о колеса и греются!
— Ну и что же? — недоверчиво спросил Сходов.
— Вот подождите!
Анисимов взял электрический фонарик и побежал в сарай. Долго откапывал заваленную снегом дверь, наконец открыл ее и принялс рыться в старых частях машин.
Вернулся он радостный.
— Там есть чугунный шкив, — объявил он Сходову, — а тормозные колодки сделаем из камня и будем их прижимать вот этими винтами. — Он показал найденные детали.
Женя метался по койке и дрожал от озноба.
— Подожди, Женька… будет тепло! — обернулся к нему Анисимов. — Мы вот как сделаем, Василь Васильевич. Через крышу пропустим вертикальную стальную трубу. Она будет вроде оси. Вверху закрепим ее в подшипник, а для подшипника деревянную треногу сделаем. К трубе приклепаем две полубочки вот и готова карусель. А внизу наденем на ось чугунный шкив и будем его тормозить.
— Как же мы используем тепло трения? Шкив перегреется.
— А мы его спустим в воду, прямо в бак центрального отопления. Все тепло трения перейдет в воду, как в обычном калорифере. Вода в баке нагреется, и мы, Василь Васильевич, пустим центральное отопление!
— Уж очень это необычно. Плохо я в это верю, но помогать вам буду, сказал Сходов.
И началась лихорадочная работа. Сходов и Анисимов вовсе перестали спать. От успеха задуманного зависела жизнь Жени. Но нельзя было работать только над "ветряным отоплением". Нужно было по-прежнему наблюдать за погодой, передавать сводки, принимать радиограммы, готовить обед и ухаживать за больным.
Пурга сменилась невиданными морозами. В сводках Сходов сообщал: "Минус пятьдесят градусов".
Анисимов работал около сарая. Он прыгал то на одной, то на другой ноге, хлопал руками по бедрам, стараясь согреться. При этом он напевал и поглядывал на небо. Над его головой горела Полярная звезда.
"Если земной шар вообразить роторным ветродвигателем, — подумал Анисимов, — то конец оси как раз упирался бы в Полярную звезду".
Анисимов засмеялся своей мысли и снова принялся за бочку. Он разрубил ее пополам. Бензин перелил в ледяную кадушку, которую сделал Василий Васильевич.
Работал Анисимов ловко, с привычной сноровкой, без промаха бил молотком по зубилу. Последний удар был прямо-таки ухарским. На снегу лежали две полубочки.
Анисимов вздохнул, выпрямился, посмотрел на небосвод, на Полярную звезду, в которую «упирается» земная «ось», и… изумился.
Вокруг стало светло, как перед восходом солнца. Из-за горизонта поднимались лучи… прожекторов. В первое мгновение Анисимову показалось, что к острову идет сказочный ледокол. Но лучи поднимались из-за горизонта со всех сторон, куда ни посмотреть. Неяркие, серебристые, они тихо и трепетно двигались по небу, словно ощупывая бесконечность вселенной. Наконец лучи скрестились у самой Полярной звезды. Они составили световой шатер, живой, движущийся и величественный. Анисимов никогда не видел прежде подобного северного сияния. Но где он видел такую же картину? Где?
Вдруг Анисимов радостно рассмеялся. Он вспомнил. Бросив инструменты, он побежал в дом.
— Василь Васильевич! Женя! — кричал он еще из коридора. — В небе "салют Победы!" Арктика капитулирует! Безоговорочно!
На следующий день механик полез на крышу, чтобы установить там ротор. Ветер обрушился на маленькую человеческую фигурку, силясь сбросить ее наземь. Анисимов возился около стальной трубы, которую вместе со Сходовым просунул наружу из кухни, и бормотал:
— Дуй, дуй крепче! Злись! Силища бестолковая! Подожди, мы тебя запряжем! Будешь крутить нашу вертушку.
Неожиданно пришла смелая мысль. А что если заставить арктические ветры крутить огромные ветряки по всему побережью? Тогда электрический ток можно было бы послать на юг, на заводы, заменить им работу десятков тепловых станций, потребляющих уголь.
"Ох, здорово!" — обрадовался своей мысли Анисимов и, забыв осторожность, выпустил дымовую трубу, за которую все время держался. Ветер сразу ударил по нему. Анисимов судорожно ухватился за деревяшку, заклинивающую самодельный ротор. Клин выбило, и полубочки завертелись! Человек потерял опору и полетел вниз.
Лежа в сугробе, он с радостью слушал, как грохотал его ветродвигатель.
Выбежал из дома Сходов.
— Шкив завертелся, — сказал он.
Возбужденный, счастливый Анисимов вошел в дом. Он тотчас стал прилаживать к вращающемуся шкиву тормозные колодки. Они не походили на те колодки, которыми тормозят вагоны. Он просто прижимал к шкиву винтами два больших камня.
Однако с торможением ничего не получилось. Анисимов рассчитывал, что его камни приработаются и постепенно примут форму поверхности шкива. Но для этого, вероятно, требовалось много времени. Пока же от каменных колодок было мало толку. Они или совсем останавливали шкив, или позволяли ему вращаться свободно.
Сходов с горечью смотрел на старания Анисимова. Им с новой силой овладела тревога. Больной был совсем плох. Сходов подолгу простаивал около его койки.
Идя на метеоплощадку, Василий Васильевич твердо решил, что не имеет больше права полагаться на сомнительное изобретение Анисимова и рисковать жизнью товарища. Придется все же попробовать вызвать самолет. Вернувшись в дом, Сходов прошел на кухню.
Около котла центрального отопления возился механик. Лицо Анисимова осунулось, покрылось пылью, щеки провалились, глаза походили на две темные ямы. Руки были изранены и обморожены, кожа на них потрескалась, из трещин сочилась кровь.
Сходов некоторое время молча смотрел на него, потом пошел в радиорубку. Женя лежал неподвижно, закрыв глаза, в груди его хрипело. Он был в беспамятстве. На столе, перед ключом, лежала горка снега, насыпавшегося с потолка. Сходов подержал руку на лбу больного и сел за ключ.
Анисимов уже несколько суток не спал. Сходов молча помогал ему в работе, но теперь он надеялся на другое. Однако из этого «другого» могло ничего не получиться. Не желая разочаровывать Анисимова, Василий Васильевич ничего не говорил ему.
И наконец то, чего ждал Сходов, случилось.
Анисимов разогнул спину, выпрямился, посмотрел на начальника.
— Самолет? — вне себя от изумления спросил он.
— Да, — ответил Сходов. — Надо спасать Женю.
— Как же он прилетел без пеленга?
— Может быть, с материка приборы укажут летчику точку, где надо сбросить груз, — сказал Сходов.
Гул самолета стал отчетливее. Летчик делал круг над островом.
— Как же он нас увидит в пургу?
— Эх, ты, бортмеханик! — укоризненно сказал Сходов. — А радиолокация? На вашем самолете еще ее не было? Теперь другое время. Летчик на экране сейчас видит нашу железную вертушку.
— Верно! — и Анисимов, хлопнув себя ладонью по лбу, отбросил молоток.
Оба полярника выбежали на крыльцо. Они прислушивались к реву пропеллера.
Пурга усиливалась. Ветер гнал на домик тучи снега.
Звук пропеллера удалялся.
— Сбросил, — облегченно сказал Сходов. — Теперь надо найти мешки с углем, пока их не замело.
— Идем, идем скорее! — заторопился Анисимов.
— Нет, — остановил его Сходов. — Мы не имеем права уходить оба. Вы останетесь. Мешки буду искать я. Около каждого я воткну веху. Один мешок притащу сюда.
Анисимов нехотя подчинился. Сходов ушел. Пурга выла за стенами домика.
Анисимов прошел на кухню. Скоро здесь загорится огонь. Механик со злостью посмотрел на вращающийся шкив. Ему захотелось остановить это бесполезное колесо.
С раздражением он стал заворачивать винты, прижимая к шкиву свои новые каменные колодки, уже не просто камни, а каменные скобы, с двух сторон плотно облегавшие шкив. Из-под обода посыпались искры, Анисимов подставил руку. Искры жгли. Это было тепло. Тепло, принесенное холодным ветром! Черт возьми! Ведь это же тепло, которое во что бы то ни стало надо использовать…
Сходов шел по снегу, вокруг бушевала пурга. Сразу же, метрах в трехстах от станции, ему удалось найти несколько сброшенных мешков. Он поставил возле них вехи. Но он допустил ошибку, решив сейчас же найти и остальные. Пурга усиливалась. Снег крутился, плясал в воздухе, валил с ног. Он обрушивался на Сходова сбоку, сверху, забивал глаза, перехватывал дыхание, сухой и нетающий, забивался под капюшон.
Сходов рассчитывал найти дом по грохоту вертушки, однако, решив возвращаться, он с тревогой обнаружил, что не слышит ее шума. Неужели вой пурги заглушает вертушку?
Ориентироваться по направлению ветра невозможно: ветер отовсюду. Сходов никогда не был трусом. Теперь угроза быть занесенным снегом здесь, около дома, вместе с мешком угля, испугала Василия Васильевича. Он в изнеможении опустился на снег, не веря сам себе. Неужели такая нелепая гибель?
Во всяком случае идти бесполезно. "Я могу еще дальше отойти от дома", — уже более спокойно рассуждал Сходов, стараясь взять себя в руки.
Сходов знал, как поступают ненцы во время пурги. Он сел в снег, зарылся в мех и весь сжался в комок. Во что бы то ни стало нужно было перебороть холод и самое страшное… сон. Сон, липкий, сладкий, подкрадывался исподволь, мутил сознание. Сходов кусал губы, отгоняя сон.
Чтобы не замерзнуть, Сходов напрягал мышцы. В юности он занимался "волевой гимнастикой" — усилием воли напрягал и расслаблял мышцы. И Сходов заставлял себя мысленно идти, бежать, взбираться на скалы. Ему становилось жарко, силы оставляли его, он изнемогал от усталости, но снова принимался за свой тяжелый и невидимый труд.
Сходов вспомнил об Анисимове. О чем бы он думал в таком тяжелом положении? Наверное, он думал бы о своем ветродвигателе или о грандиозном арктическом ветрокольце, которое посылало бы энергию на южные заводы…
Сходов стал прикидывать, на сколько могло бы хватить сброшенного угля? Получалось, что недели на две.
А как же дальше? Полагаться на Анисимова? Так ведь у него с камнями ничего не получается! Стой! А зачем камни? Зачем тормозить камнями, которые быстро износятся, когда можно тормозить самой водой? Заставить мешалку перемешивать воду. Вода будет затруднять ее вращение, тормозить, и энергия, затраченная на преодоление этого сопротивления, перейдет в тепло. Вода нагреется!
Эх, только бы выбраться теперь! И уголь есть, и вертушка заработает.
Пурга выла, ревела. Отовсюду несся треск, похожий на выстрелы. В море подвижка льдов. Ураганный ветер гнал ледяные поля одно на другое. Если Анисимов и стрелял из ружья. Сходов бы не услышал выстрелов в общем хаосе звуков.
Но что это за грохот, назойливый, несмолкаемый грохот?
Сходов прислушался. Вскочил.
Снег посыпался с него. Как он мог так долго ничего не понимать? Ведь это вертелась вертушка! Значит, пурга не заглушила ее! Она слышна!
Еле волоча ноги, Сходов побрел по направлению к тому месту, откуда слышался грохот. Он попытался тащить за собой мешок, но силы оставили его.
Теперь он знал, где стоит дом. Над домом снова завертелась вертушка.
Согнувшись Сходов брел вперед. Вдруг он отчетливо услышал выстрел. Значит, Анисимов все-таки стреляет! Вот и крыльцо…
Анисимов увидел почти ползущего к дому начальника, вернее мутную тень, на мгновение мелькнувшую в снежном вихре.
Механик втащил Сходова в дом, в коридор, потом прямо на кухню. Здесь в одной рубашке на спальном мешке, разбросавшись, лежал Женя.
— Раздевайтесь, Василь Васильевич! — торопил Анисимов. — Сейчас согреетесь.
Сходов тяжело опустился на скамью, удивленно глядя на плачущие, в потеках, стены.
— Тепло? — как бы не веря себе, выговорил он, потом спросил строго: За углем ходили? Кто вам разрешил покидать станцию в пургу?
— Да никуда я не ходил! — с восторгом перебил его Анисимов. Работает наша карусель… И тормоз работает! Наладил я его! Все дело в обхвате. Надо было, чтобы колодка на большой поверхности к шкиву прижималась. Вот смотрите…
Только теперь Сходов рассмотрел, что уходившая через потолок стальная труба крутилась. Анисимов сунул руку в котел центрального отопления и быстро выдернул ее.
— Кипяток, прямо кипяток! — радостно крикнул он.
— А мешки там… — проговорил Сходов. — Вехи я поставил.
— Это наш резерв, Василь Васильевич! Все-таки ветер не всегда будет!
— Верно, — согласился Сходов. — Он встал, подошел к больному, склонился над ним. — Ну, как, Женюшка? Хорошо в тепле?
— Хорошо, Василий Васильевич! — тихо проговорил метеоролог и улыбнулся.
Сходов подошел к Анисимову, крепко обнял и неожиданно поцеловал.
— Самолетов больше вызывать не будем, — твердо сказал он. — Камни износятся. Вместо диска мешалку поставим. Понял?
Яростный ветер носился по острову, наметая сугробы. Он снова гнал одно на другое ледяные поля, рвал в небе черные тучи и с ревом набрасывался на одинокий дом.
И опять от дома к метеоплощадке шел человек. Ветер хватал его за полы полушубка, вставал перед ним снежной стеной. Но тот же ветер с дикой силой крутил на крыше дома диковинную вертушку, которая громыхала, как танк.
Человек с электрическим фонариком и тетрадкой в руках шел против ветра…
Когда я кончил рассказ, было уже поздно. Пора было расходиться спать.
По своему обыкновению я прошелся по кораблю. Мы стояли на рейде, подниматься на капитанский мостик было не за чем.
Острова в ночной темноте уже видно не было. Только в одном из окошек далекого домика светился огонек. Он походил на самую низкую звезду из всех, что зажглись сейчас в небе.
Старший помощник готовил подъем катера.
Я отменил подъем.
Старпом очень удивился. С выгрузкой было покончено. Зимовщики с острова уже перебрались на корабль.
Я ничего не стал объяснять старпому.
— Подождите до утра, — сказал я ему и пошел спать.
Она, Маша, конечно, ждала меня около моей каюты.
— Ну, как, Маша, — спросил я ее, — по ветру пойдешь или против ветра?
Так закончил Борис Ефимович свой рассказ.
МЕХАНИК
 Катер развернулся против ветра, чтобы волна не била в борт.
Снег, мешаясь с брызгами, хлестал по лицу. Капитан держался за поручень около машинной надстройки и старался понять, что означала эта личная радиограмма?
"Борис Ефимович, если можете, умоляю, повидайтесь со мной. Маша Грачева".
На этом же катере капитан доставил на остров к Сходову супругов Грачевых, решивших вместе остаться на зимовку. Все было улажено. Радист острова согласился уступить Грачеву свое место. Метеоролог Юровский, которого сменила Маша, мог ехать на курорт. Капитан, давая с мостика последнюю прощальную ракету, считал, что он сделал все так, как надо, и вдруг теперь, когда "Георгий Седов" на обратном пути проходил мимо острова, такая радиограмма!
Конечно, можно было сослаться, что прибой не позволяет сойти на берег, но капитан не мог не проверить, что случилось.
Остров был покрыт снегом. Белый и плоский, он походил на ледяное поле.
Волны с ревом разбивались о базальтовые скалы. Пена взлетала выше этих заснеженных скал и в низких лучах солнца играла радугой.
Капитан спрыгнул в ледяную воду, не давая катеру близко подойти к опасным камням. Вода оказалась по грудь. На скале стояли два человека. Они сбежали к самой воде и помогли капитану выбраться на берег.
Борис Ефимович откинул капюшон и вопросительно взглянул на Машу.
Маша Грачева заплакала и прижалась к мокрой груди моряка.
— Ну, чего ж ты? — сказал Борис Ефимович. — Робу мне промочишь.
Маша откинула голову и посмотрела на капитана мокрыми блестящими глазами.
Грачев стоял в двух шагах. Его лицо было озабочено.
Втроем пошли к полярной станции.
— Вы помните, Борис Ефимович, — говорила Маша, — как я караулила вас у каюты… Стыд меня разобрал. Такие люди в Арктике живут, а я что? Дезертир?
— Помню, помню, Маша. Ну, а теперь-то что? — спрашивал капитан.
— Нет, вы послушайте, Борис Ефимович. Я тогда вас просила, чтобы вы устроили нас обоих на остров…
— Устроил. Велика трудность. Радист с удовольствием уступил свое место такому специалисту, как ваш муж, поехал на другой остров!
— Мы так хорошо работали, Борис Ефимович, — продолжала Маша. — Вы себе представить этого не можете.
— И с Василием Васильевичем сдружились? А я думал, что он трудный человек.
— Василий Васильевич замечательный человек. Только…
— Что только?
— Очень правильный.
— Слишком правильный, — вставил молчавший до того Грачев.
От полярной станции бежали мохнатые собаки.
Они прыгали, пытаясь лизнуть в лицо.
У сарая стоял высокий худощавый человек. Он издали поклонился капитану, не желая, видимо, мешать разговору.
— Так выкладывай, Машенька, что тут у вас стряслось?
Маша потупила глаза.
— Пока еще ничего не стряслось, Борис Ефимович… Я еще не вполне уверена…
— Но может стрястись, — вставил Грачев.
Капитан свистнул.
— Вот оно какое дело? Значит, ребенок у вас может быть? Сами-то рады?
— Еще как рады были бы! — быстро заговорила Маша. — Мы так рады были бы, так рады…
— Ну, так в чем же дело? А как Сходов?
— В том-то и дело, — мрачно сказал Грачев. — О наших подозрениях мы Василию Васильевичу даже сказать боялись.
— Отошлет меня с острова. Не позволит здесь остаться. Врача нет, некому принять ребенка… — взволнованно заговорила Маша.
— Что ж тогда получится? — серьезно рассуждал Грачев. — Предположим, подозрение обоснованное. Уедет тогда Машенька, родит ребенка на острове Диком в больнице. И будет там года два вдали от меня, в трудных условиях, в одиночестве.
— А может быть, все и обойдется. Может быть, тревога напрасная, опять заговорила Маша. — Что ж я уеду и буду одна на острове Диком за тысячу километров жить? — в голосе ее послышались слезы.
— Вот мы и решили, Борис Ефимович, с вами посоветоваться, — закончил Грачев.
— Но только по секрету от Сходова.
— Благодарю за доверие, дорогие мои друзья, — сказал Борис Ефимович немного торжественно. — Но только должен я вас разочаровать. Такие предположения в секрете от начальника острова держать не полагается. Он за жизнь каждого своего полярника отвечает. И за вашу, Машенька, и за ту, что появиться может…
— Как же быть? — протянула Маша. — Ведь Василий Васильевич непременно меня отошлет. Я ведь в Арктику работать ехала, а не без дела на острове Диком сидеть.
Капитан чуть скосил на Машу глаза. Она покраснела.
— Вот обо всем этом мы и должны с Василием Васильевичем поговорить, заключил капитан.
Сходов стоял на крыльце, встречая капитана. Видимо, он знал о телеграмме Маши и нарочно дал ей возможность поговорить с Борисом Ефимовичем.
Молча поздоровались. Сходов провел капитана к себе. Борис Ефимович попросил пригласить и Машу с Грачевым. Сходов не удивился.
— Вот должны мы с вами, товарищ Сходов Василий Васильевич, — начал капитан, — решить судьбу…
Тут Маша вмешалась и рассказала Сходову о своих опасениях.
Сходов сидел молчаливый, нахмуренный.
Машенька расплакалась и выбежала…
Грачев пошел следом за ней.
Сходов встал и принялся расхаживать по комнате. Комната у него была тесная. Стол, стул, кровать. Раньше на кровати шкура белого медведя лежала, теперь ее не было — отдал шкуру молодоженам.
— Я отвечаю за каждого человека, — говорил Сходов. — А в этом случае я должен отвечать за двоих. И за мать и за ребенка.
За пятнадцать лет, проведенных в Арктике, я изучил все специальности полярника. Могу быть радистом, механиком, метеорологом, аэрологом, гидрологом. Могу править собачьей или оленьей упряжкой, один выйду на белого медведя, сотни километров на лыжах пройду. Но акушерства не изучал. Не изучал, капитан. Может быть, в этом моя ошибка. Я могу наложить лубки на сломанную ногу, могу даже ампутировать ее… но принять ребенка! Ну, прямо понятия не имею!
— А Машенькой довольны?
— Она чудесная женщина, прекрасный работник. Отослать ее — это значит принять на себя половину ее обязанностей, другую половину примет на себя ее муж… Что же делать? — И Сходов остановился перед капитаном.
Капитан задумался, неторопливо закурил трубку.
В окно было видно свинцовое море под серыми тучами. Очень далеко от берега, покрытый дымкой, виднелся кораблик. Капитан подумал, что ближе и нельзя было подойти. Здесь мелко. Не подходить же опять к леднику.
— Ну, а если оставить ее? — повернулся к Сходову капитан.
— Кто же примет ребенка? — остановился Сходов.
— Женщина у вас есть на зимовке?
Сходов только махнул рукой.
— Есть девушка… вторая радистка. Нет, нет! Она совсем молоденькая. Она и слышать об этом не захочет. Понятия не имеет о родах.
Капитан снова задымил трубкой.
— Что Маша будет делать там, на Диком? Одна с малышом… В общежитии где-нибудь придется жить. Незавидно. А кроме того, может быть, зря поедет, ложная тревога?
— Я понимаю. Я все отлично понимаю, — ответил Сходов, принимаясь опять ходить по комнате.
— А кто это, высокий такой, около склада стоял? Механик, что ли? спросил Борис Ефимович.
— К сожалению, не врач, только механик. Матвей Сергеевич.
— Женатый?
— Раньше он с женой на зимовке жил. А теперь она с ребенком на Большой Земле.
— Вот-вот, об этом я и вспоминаю. Кажется, она на острове родила?
— Так ведь то было на крупной полярной станции. У них врач был. Если бы врач… разве бы я возражал?
Капитан снова задумался.
— А все-таки, Василий Васильевич, давайте позовем Матвея Сергеевича и радистку.
Сходов пожал плечами и вышел. Вскоре он вернулся в сопровождении механика и девушки.
Капитан поздоровался с ними.
— Садитесь, поговорить бы с вами хотелось.
— Отчего же… — сказал Матвей Сергеевич и уселся, положив огромные ладони на расставленные колени.
Радистка тоже села, не понимая, зачем их позвал капитан. Сходов остановился у двери.
— Вы, говорят, механик замечательный? — начал капитан.
— Да нет… Я не судовой механик, товарищ капитан. На кораблях никогда не плавал.
— Знаю. Я не про то. Рукодел вы, наверное, знаменитый? — продолжал заходить издалека капитан.
— Отчего же… Это можно. Смастерить все что угодно могу. Я вот задумываю новый ветродвигатель построить… из бочек. Не слышали? Тут мой предшественник Анисимов делал.
— Как же, как же… слышал.
— Только нам теперь старого ветряка мощность мала.
— А без жены скучаете? — неожиданно спросил капитан.
— Без жены, конечно, скучновато… Только ведь я, товарищ капитан, старый полярник. Привычно.
— Ребенка-то она у вас в Арктике родила?
— Как же, при мне, на острове Газетном было.
— При вас? — оживился капитан. — Так что же молчите?
— Я ничего… А что? — смутился механик.
— Значит, вы принимали ребенка у своей жены? — продолжал расспрашивать капитан.
— Нет, что вы! Я только присутствовал.
— И это немало! — удовлетворенно заметил моряк и повернулся к удивленно слушавшей разговор радистке. — Ну, а вы? Вы никогда не принимали детей у рожениц?
Девушка покраснела от неожиданности.
— В этом совсем ничего не понимаю… — растерянно сказала она.
— Но ведь вы же женщина и подруга Маши. Неужели бы вы не взялись ей помочь?
— Маше? Я с радостью. А разве надо? Только я не умею…
— А вдвоем с механиком? Он все-таки при родах присутствовал.
— Я — помогать? — поразился Матвей Сергеевич, и его лицо вытянулось.
— Конечно, вы. Вы видели, как принимают ребенка. Девушка вам будет помогать, если Маше рожать придется. Получите по радио консультацию от любого врача или от профессора.
Механик был ошеломлен.
Сходов остановился перед ним и обычным своим сухим жестковатым голосом проговорил:
— Речь идет о человеческом отношении к товарищу. Вы прекрасный механик, мастер на все руки. Если вы не согласитесь, женщину отправят с острова, разлучат с мужем. И, может быть, зря. Ей придется год жить с ребенком одной, в трудных условиях, без работы, ради которой она ехала в Арктику.
— Да я-то тут при чем? — запротестовал Матвей Сергеевич, размахивая длинными руками. — А если вдруг несчастье? Кто будет виноват?
— Конечно, виноват буду я, — твердо сказал Сходов. — Мне спокойнее всего было бы отправить женщину. Формально я имею на это все права.
— Это будет ужасно, если она уедет, — сказала радистка.
— А если случай какой трудный? И в родильных домах умирают, продолжал возражать механик.
— А бывает, что и в поле рожают, — заметил капитан.
— Конечно, может быть, и все хорошо будет, только я не могу на себя ответственность взять. На мужа, хоть и надежный он человек, тут надеяться нечего. По себе знаю. Руки трясутся и все тут. Девушка только таз будет подавать да пеленки развернет.
— Мы не принуждаем вас, Матвей Сергеевич, — сказал Сходов. — Мы хотим выяснить последнюю возможность и решить вопрос об отправке Грачевой на материк.
Механик задумался. Радистка что-то стала говорить ему, склонившись к уху. Тот нетерпеливо отмахнулся.
— Не могу я взяться за такое дело… И вообще… Если случай тяжелый… ножками вперед… Как хотите, но присылайте врача на самолете.
— К сожалению, — сказал Сходов, — далеко не всякий полярный остров может принять самолет. Тем более зимой. Во всяком случае, на посадку у нас самолета мы рассчитывать не можем.
— Механик прав, — вмешался капитан. — В очень трудном случае самолет, конечно, прилетит…
— Но не сядет!
— Не сядет, зато сбросит врача на парашюте.
— Вот это другое дело, — удовлетворенно сказал Матвей Сергеевич.
— Врач не сможет улететь обратно, — возразил Сходов. — Мы вынуждены будем отнять у острова Дикого одного врача, а мы знаем, как он там дорог.
— Да, конечно, на это можно пойти только в крайнем случае, согласился капитан. — Но ведь у нас есть еще один аргумент… Все это только предположение!
— Предположение не предположение, — хмуро сказал механик, — а я должен считать, будто это так и есть. И потом характер у меня тяжелый. Надо сперва спросить, согласятся ли на мой характер супруги Грачевы.
— При чем же тут характер? — осведомился капитан.
— А потому, если я согласие даю, то должна Грачева поступить в мое подчинение. В полное распоряжение.
— Это зачем же? — спросил Сходов.
— Я должен обеспечить благоприятный исход и тут уж, простите, спуску не дам. Зимовка — дело известное. Движения никакого. Я потребую, чтобы все было как следует.
— Он прав, — заметил Сходов. — Сейчас мы позовем Грачевых.
Грачевы, узнав об условиях механика, согласны были на все.
Через час провожали капитана.
Катерок запрыгал на волнах, быстро уменьшаясь.
Все население полярной станции стояло на берегу: Сходов, Матвей Сергеевич, Грачевы, радистка. Около них возбужденно бегали собаки.
Налетели "снежные заряды". Катер скрылся за серой стеной.
Еще через час корабль снялся с якоря, дав прощальную ракету. Последний пароход уходил из Арктики.
Грачевы остались на острове.
Их предположение оправдалось. Механик включил молодую женщину в опекаемое им хозяйство. Он был сурово требователен. Маше пришлось заняться гимнастикой. Что бы ни делала Маша, Матвей Сергеевич всегда следил за ней настороженным взглядом. Когда она шла на метеоплощадку, он непременно шел за ней следом.
— Снегу намело. Вы поглядывайте под ноги, поглядывайте! Не зевайте по сторонам! — ворчал он.
Однажды Маша поскользнулась на крыльце. Муж хотел поддержать ее, но сделал это неловко.
Матвей Сергеевич налетел на него, как буря.
— А еще муж! — кричал он. — Пень ты, а не муж! Жена падает, а он, как табурет, стоит. А если ребенок перевернется, кто отвечать будет? О ребенке своем не думаете? Я вас отставлю от собственной жены и близко подпускать к ней не буду.
Супруги Грачевы постоянно чувствовали на себе гнет механика. Когда встречали Новый год, он не позволил Маше выпить ни капли. Она готова была разреветься, но все же подчинилась.
Ежедневно, в любую погоду, Матвей Сергеевич отправлялся с Машей на прогулку, поддерживая ее под локоть.
Эта пара, гуляющая под руку по снегу и в мороз и в метель, выглядела по меньшей мере странно.
— Гулять обязательно надо, — говорил Матвей Сергеевич, идя рядом с Машей. — Восемь кругов прошли, еще четырнадцать осталось. Ничего, ничего… Шагайте, шагайте, только не вздумайте падать.
Сходов молчаливо поддерживал Матвея Сергеевича.
— Он, право, смотрит на Машу, как на собственную… — иногда не выдерживал Грачев.
Но Маша сама обрывала мужа:
— Гриша! Мы так ему обязаны!
Приближалась весна. В апрельском солнце сверкали снежные просторы.
Теперь во время прогулок Матвей Сергеевич заставлял Машу надевать темные очки.
— Только не споткнитесь, — упрямо твердил он.
Капитан Борис Ефимович на время, пока не откроется арктическая навигация, получил задание перегнать пароход «Казань» из Архангельска во Владивосток. Предстояло пройти южным маршрутом: через Средиземное море, через Суэцкий канал, Индийский океан.
Было так жарко, что спать в каютах казалось невозможным.
На палубе расстилали брезент, и команда спала под едва освежающим тело теплым ветерком.
Капитан устроил себе постель на обзорном мостике. Над головой горели незнакомые южные звезды, каких не увидишь на Севере. Знакомые созвездия ютились на самом горизонте.
Скоро Индия, Калькутта.
Капитан ждал радиограммы.
Однажды он услышал, как на обзорный мостик кто-то поднимается по трапу.
Появился радист Иван Гурьянович, который ни в какую жару не снимал своего щегольского кителя.
— Радиограмма? Давай!
Чиркнув спичкой, капитан прочитал:
"Родился мальчик. Назвали Борисом. Счастливы. Благодарные Грачевы".
— Борис Ефимович, тут еще одна, —улыбающийся радист протянул бланк.
"Механик оказался на все руки. Сходов".
Капитан задумался. Ощущая ласкающее прикосновение теплого ветра, он думал о далеком Севере, о льдах, о заброшенных в ледовитых морях островах.
Скоро начнется навигация, и он вернется на свой корабль.
Катер развернулся против ветра, чтобы волна не била в борт.
Снег, мешаясь с брызгами, хлестал по лицу. Капитан держался за поручень около машинной надстройки и старался понять, что означала эта личная радиограмма?
"Борис Ефимович, если можете, умоляю, повидайтесь со мной. Маша Грачева".
На этом же катере капитан доставил на остров к Сходову супругов Грачевых, решивших вместе остаться на зимовку. Все было улажено. Радист острова согласился уступить Грачеву свое место. Метеоролог Юровский, которого сменила Маша, мог ехать на курорт. Капитан, давая с мостика последнюю прощальную ракету, считал, что он сделал все так, как надо, и вдруг теперь, когда "Георгий Седов" на обратном пути проходил мимо острова, такая радиограмма!
Конечно, можно было сослаться, что прибой не позволяет сойти на берег, но капитан не мог не проверить, что случилось.
Остров был покрыт снегом. Белый и плоский, он походил на ледяное поле.
Волны с ревом разбивались о базальтовые скалы. Пена взлетала выше этих заснеженных скал и в низких лучах солнца играла радугой.
Капитан спрыгнул в ледяную воду, не давая катеру близко подойти к опасным камням. Вода оказалась по грудь. На скале стояли два человека. Они сбежали к самой воде и помогли капитану выбраться на берег.
Борис Ефимович откинул капюшон и вопросительно взглянул на Машу.
Маша Грачева заплакала и прижалась к мокрой груди моряка.
— Ну, чего ж ты? — сказал Борис Ефимович. — Робу мне промочишь.
Маша откинула голову и посмотрела на капитана мокрыми блестящими глазами.
Грачев стоял в двух шагах. Его лицо было озабочено.
Втроем пошли к полярной станции.
— Вы помните, Борис Ефимович, — говорила Маша, — как я караулила вас у каюты… Стыд меня разобрал. Такие люди в Арктике живут, а я что? Дезертир?
— Помню, помню, Маша. Ну, а теперь-то что? — спрашивал капитан.
— Нет, вы послушайте, Борис Ефимович. Я тогда вас просила, чтобы вы устроили нас обоих на остров…
— Устроил. Велика трудность. Радист с удовольствием уступил свое место такому специалисту, как ваш муж, поехал на другой остров!
— Мы так хорошо работали, Борис Ефимович, — продолжала Маша. — Вы себе представить этого не можете.
— И с Василием Васильевичем сдружились? А я думал, что он трудный человек.
— Василий Васильевич замечательный человек. Только…
— Что только?
— Очень правильный.
— Слишком правильный, — вставил молчавший до того Грачев.
От полярной станции бежали мохнатые собаки.
Они прыгали, пытаясь лизнуть в лицо.
У сарая стоял высокий худощавый человек. Он издали поклонился капитану, не желая, видимо, мешать разговору.
— Так выкладывай, Машенька, что тут у вас стряслось?
Маша потупила глаза.
— Пока еще ничего не стряслось, Борис Ефимович… Я еще не вполне уверена…
— Но может стрястись, — вставил Грачев.
Капитан свистнул.
— Вот оно какое дело? Значит, ребенок у вас может быть? Сами-то рады?
— Еще как рады были бы! — быстро заговорила Маша. — Мы так рады были бы, так рады…
— Ну, так в чем же дело? А как Сходов?
— В том-то и дело, — мрачно сказал Грачев. — О наших подозрениях мы Василию Васильевичу даже сказать боялись.
— Отошлет меня с острова. Не позволит здесь остаться. Врача нет, некому принять ребенка… — взволнованно заговорила Маша.
— Что ж тогда получится? — серьезно рассуждал Грачев. — Предположим, подозрение обоснованное. Уедет тогда Машенька, родит ребенка на острове Диком в больнице. И будет там года два вдали от меня, в трудных условиях, в одиночестве.
— А может быть, все и обойдется. Может быть, тревога напрасная, опять заговорила Маша. — Что ж я уеду и буду одна на острове Диком за тысячу километров жить? — в голосе ее послышались слезы.
— Вот мы и решили, Борис Ефимович, с вами посоветоваться, — закончил Грачев.
— Но только по секрету от Сходова.
— Благодарю за доверие, дорогие мои друзья, — сказал Борис Ефимович немного торжественно. — Но только должен я вас разочаровать. Такие предположения в секрете от начальника острова держать не полагается. Он за жизнь каждого своего полярника отвечает. И за вашу, Машенька, и за ту, что появиться может…
— Как же быть? — протянула Маша. — Ведь Василий Васильевич непременно меня отошлет. Я ведь в Арктику работать ехала, а не без дела на острове Диком сидеть.
Капитан чуть скосил на Машу глаза. Она покраснела.
— Вот обо всем этом мы и должны с Василием Васильевичем поговорить, заключил капитан.
Сходов стоял на крыльце, встречая капитана. Видимо, он знал о телеграмме Маши и нарочно дал ей возможность поговорить с Борисом Ефимовичем.
Молча поздоровались. Сходов провел капитана к себе. Борис Ефимович попросил пригласить и Машу с Грачевым. Сходов не удивился.
— Вот должны мы с вами, товарищ Сходов Василий Васильевич, — начал капитан, — решить судьбу…
Тут Маша вмешалась и рассказала Сходову о своих опасениях.
Сходов сидел молчаливый, нахмуренный.
Машенька расплакалась и выбежала…
Грачев пошел следом за ней.
Сходов встал и принялся расхаживать по комнате. Комната у него была тесная. Стол, стул, кровать. Раньше на кровати шкура белого медведя лежала, теперь ее не было — отдал шкуру молодоженам.
— Я отвечаю за каждого человека, — говорил Сходов. — А в этом случае я должен отвечать за двоих. И за мать и за ребенка.
За пятнадцать лет, проведенных в Арктике, я изучил все специальности полярника. Могу быть радистом, механиком, метеорологом, аэрологом, гидрологом. Могу править собачьей или оленьей упряжкой, один выйду на белого медведя, сотни километров на лыжах пройду. Но акушерства не изучал. Не изучал, капитан. Может быть, в этом моя ошибка. Я могу наложить лубки на сломанную ногу, могу даже ампутировать ее… но принять ребенка! Ну, прямо понятия не имею!
— А Машенькой довольны?
— Она чудесная женщина, прекрасный работник. Отослать ее — это значит принять на себя половину ее обязанностей, другую половину примет на себя ее муж… Что же делать? — И Сходов остановился перед капитаном.
Капитан задумался, неторопливо закурил трубку.
В окно было видно свинцовое море под серыми тучами. Очень далеко от берега, покрытый дымкой, виднелся кораблик. Капитан подумал, что ближе и нельзя было подойти. Здесь мелко. Не подходить же опять к леднику.
— Ну, а если оставить ее? — повернулся к Сходову капитан.
— Кто же примет ребенка? — остановился Сходов.
— Женщина у вас есть на зимовке?
Сходов только махнул рукой.
— Есть девушка… вторая радистка. Нет, нет! Она совсем молоденькая. Она и слышать об этом не захочет. Понятия не имеет о родах.
Капитан снова задымил трубкой.
— Что Маша будет делать там, на Диком? Одна с малышом… В общежитии где-нибудь придется жить. Незавидно. А кроме того, может быть, зря поедет, ложная тревога?
— Я понимаю. Я все отлично понимаю, — ответил Сходов, принимаясь опять ходить по комнате.
— А кто это, высокий такой, около склада стоял? Механик, что ли? спросил Борис Ефимович.
— К сожалению, не врач, только механик. Матвей Сергеевич.
— Женатый?
— Раньше он с женой на зимовке жил. А теперь она с ребенком на Большой Земле.
— Вот-вот, об этом я и вспоминаю. Кажется, она на острове родила?
— Так ведь то было на крупной полярной станции. У них врач был. Если бы врач… разве бы я возражал?
Капитан снова задумался.
— А все-таки, Василий Васильевич, давайте позовем Матвея Сергеевича и радистку.
Сходов пожал плечами и вышел. Вскоре он вернулся в сопровождении механика и девушки.
Капитан поздоровался с ними.
— Садитесь, поговорить бы с вами хотелось.
— Отчего же… — сказал Матвей Сергеевич и уселся, положив огромные ладони на расставленные колени.
Радистка тоже села, не понимая, зачем их позвал капитан. Сходов остановился у двери.
— Вы, говорят, механик замечательный? — начал капитан.
— Да нет… Я не судовой механик, товарищ капитан. На кораблях никогда не плавал.
— Знаю. Я не про то. Рукодел вы, наверное, знаменитый? — продолжал заходить издалека капитан.
— Отчего же… Это можно. Смастерить все что угодно могу. Я вот задумываю новый ветродвигатель построить… из бочек. Не слышали? Тут мой предшественник Анисимов делал.
— Как же, как же… слышал.
— Только нам теперь старого ветряка мощность мала.
— А без жены скучаете? — неожиданно спросил капитан.
— Без жены, конечно, скучновато… Только ведь я, товарищ капитан, старый полярник. Привычно.
— Ребенка-то она у вас в Арктике родила?
— Как же, при мне, на острове Газетном было.
— При вас? — оживился капитан. — Так что же молчите?
— Я ничего… А что? — смутился механик.
— Значит, вы принимали ребенка у своей жены? — продолжал расспрашивать капитан.
— Нет, что вы! Я только присутствовал.
— И это немало! — удовлетворенно заметил моряк и повернулся к удивленно слушавшей разговор радистке. — Ну, а вы? Вы никогда не принимали детей у рожениц?
Девушка покраснела от неожиданности.
— В этом совсем ничего не понимаю… — растерянно сказала она.
— Но ведь вы же женщина и подруга Маши. Неужели бы вы не взялись ей помочь?
— Маше? Я с радостью. А разве надо? Только я не умею…
— А вдвоем с механиком? Он все-таки при родах присутствовал.
— Я — помогать? — поразился Матвей Сергеевич, и его лицо вытянулось.
— Конечно, вы. Вы видели, как принимают ребенка. Девушка вам будет помогать, если Маше рожать придется. Получите по радио консультацию от любого врача или от профессора.
Механик был ошеломлен.
Сходов остановился перед ним и обычным своим сухим жестковатым голосом проговорил:
— Речь идет о человеческом отношении к товарищу. Вы прекрасный механик, мастер на все руки. Если вы не согласитесь, женщину отправят с острова, разлучат с мужем. И, может быть, зря. Ей придется год жить с ребенком одной, в трудных условиях, без работы, ради которой она ехала в Арктику.
— Да я-то тут при чем? — запротестовал Матвей Сергеевич, размахивая длинными руками. — А если вдруг несчастье? Кто будет виноват?
— Конечно, виноват буду я, — твердо сказал Сходов. — Мне спокойнее всего было бы отправить женщину. Формально я имею на это все права.
— Это будет ужасно, если она уедет, — сказала радистка.
— А если случай какой трудный? И в родильных домах умирают, продолжал возражать механик.
— А бывает, что и в поле рожают, — заметил капитан.
— Конечно, может быть, и все хорошо будет, только я не могу на себя ответственность взять. На мужа, хоть и надежный он человек, тут надеяться нечего. По себе знаю. Руки трясутся и все тут. Девушка только таз будет подавать да пеленки развернет.
— Мы не принуждаем вас, Матвей Сергеевич, — сказал Сходов. — Мы хотим выяснить последнюю возможность и решить вопрос об отправке Грачевой на материк.
Механик задумался. Радистка что-то стала говорить ему, склонившись к уху. Тот нетерпеливо отмахнулся.
— Не могу я взяться за такое дело… И вообще… Если случай тяжелый… ножками вперед… Как хотите, но присылайте врача на самолете.
— К сожалению, — сказал Сходов, — далеко не всякий полярный остров может принять самолет. Тем более зимой. Во всяком случае, на посадку у нас самолета мы рассчитывать не можем.
— Механик прав, — вмешался капитан. — В очень трудном случае самолет, конечно, прилетит…
— Но не сядет!
— Не сядет, зато сбросит врача на парашюте.
— Вот это другое дело, — удовлетворенно сказал Матвей Сергеевич.
— Врач не сможет улететь обратно, — возразил Сходов. — Мы вынуждены будем отнять у острова Дикого одного врача, а мы знаем, как он там дорог.
— Да, конечно, на это можно пойти только в крайнем случае, согласился капитан. — Но ведь у нас есть еще один аргумент… Все это только предположение!
— Предположение не предположение, — хмуро сказал механик, — а я должен считать, будто это так и есть. И потом характер у меня тяжелый. Надо сперва спросить, согласятся ли на мой характер супруги Грачевы.
— При чем же тут характер? — осведомился капитан.
— А потому, если я согласие даю, то должна Грачева поступить в мое подчинение. В полное распоряжение.
— Это зачем же? — спросил Сходов.
— Я должен обеспечить благоприятный исход и тут уж, простите, спуску не дам. Зимовка — дело известное. Движения никакого. Я потребую, чтобы все было как следует.
— Он прав, — заметил Сходов. — Сейчас мы позовем Грачевых.
Грачевы, узнав об условиях механика, согласны были на все.
Через час провожали капитана.
Катерок запрыгал на волнах, быстро уменьшаясь.
Все население полярной станции стояло на берегу: Сходов, Матвей Сергеевич, Грачевы, радистка. Около них возбужденно бегали собаки.
Налетели "снежные заряды". Катер скрылся за серой стеной.
Еще через час корабль снялся с якоря, дав прощальную ракету. Последний пароход уходил из Арктики.
Грачевы остались на острове.
Их предположение оправдалось. Механик включил молодую женщину в опекаемое им хозяйство. Он был сурово требователен. Маше пришлось заняться гимнастикой. Что бы ни делала Маша, Матвей Сергеевич всегда следил за ней настороженным взглядом. Когда она шла на метеоплощадку, он непременно шел за ней следом.
— Снегу намело. Вы поглядывайте под ноги, поглядывайте! Не зевайте по сторонам! — ворчал он.
Однажды Маша поскользнулась на крыльце. Муж хотел поддержать ее, но сделал это неловко.
Матвей Сергеевич налетел на него, как буря.
— А еще муж! — кричал он. — Пень ты, а не муж! Жена падает, а он, как табурет, стоит. А если ребенок перевернется, кто отвечать будет? О ребенке своем не думаете? Я вас отставлю от собственной жены и близко подпускать к ней не буду.
Супруги Грачевы постоянно чувствовали на себе гнет механика. Когда встречали Новый год, он не позволил Маше выпить ни капли. Она готова была разреветься, но все же подчинилась.
Ежедневно, в любую погоду, Матвей Сергеевич отправлялся с Машей на прогулку, поддерживая ее под локоть.
Эта пара, гуляющая под руку по снегу и в мороз и в метель, выглядела по меньшей мере странно.
— Гулять обязательно надо, — говорил Матвей Сергеевич, идя рядом с Машей. — Восемь кругов прошли, еще четырнадцать осталось. Ничего, ничего… Шагайте, шагайте, только не вздумайте падать.
Сходов молчаливо поддерживал Матвея Сергеевича.
— Он, право, смотрит на Машу, как на собственную… — иногда не выдерживал Грачев.
Но Маша сама обрывала мужа:
— Гриша! Мы так ему обязаны!
Приближалась весна. В апрельском солнце сверкали снежные просторы.
Теперь во время прогулок Матвей Сергеевич заставлял Машу надевать темные очки.
— Только не споткнитесь, — упрямо твердил он.
Капитан Борис Ефимович на время, пока не откроется арктическая навигация, получил задание перегнать пароход «Казань» из Архангельска во Владивосток. Предстояло пройти южным маршрутом: через Средиземное море, через Суэцкий канал, Индийский океан.
Было так жарко, что спать в каютах казалось невозможным.
На палубе расстилали брезент, и команда спала под едва освежающим тело теплым ветерком.
Капитан устроил себе постель на обзорном мостике. Над головой горели незнакомые южные звезды, каких не увидишь на Севере. Знакомые созвездия ютились на самом горизонте.
Скоро Индия, Калькутта.
Капитан ждал радиограммы.
Однажды он услышал, как на обзорный мостик кто-то поднимается по трапу.
Появился радист Иван Гурьянович, который ни в какую жару не снимал своего щегольского кителя.
— Радиограмма? Давай!
Чиркнув спичкой, капитан прочитал:
"Родился мальчик. Назвали Борисом. Счастливы. Благодарные Грачевы".
— Борис Ефимович, тут еще одна, —улыбающийся радист протянул бланк.
"Механик оказался на все руки. Сходов".
Капитан задумался. Ощущая ласкающее прикосновение теплого ветра, он думал о далеком Севере, о льдах, о заброшенных в ледовитых морях островах.
Скоро начнется навигация, и он вернется на свой корабль.
НАХОДКА
 "Георгий Седов" за одну навигацию должен был сделать два рейса, на каждый из которых пятнадцать лет назад требовался не один год.
Первый рейс после посещения многих островов заканчивался на острове Диком. Там корабль должен был запастись углем, принять на борт новых пассажиров, взять грузы.
Капитан Борис Ефимович вздыхал всякий раз, когда вспоминал о неизбежной стоянке в порту, о погрузке, о разговорах с начальством. Лишь выходя на мостик, он снова обретал покой.
Прищурясь, он разглядывал далекий берег очередного острова. Там свирепствовал сильный прибой. Борис Ефимович второй день упрямо выжидал. Он ни за что не соглашался рисковать кунгасами и подвергать опасности моряков.
Так и не дождались мы погоды. Отправились к соседнему архипелагу. Там погрузились и пошли обратно к негостеприимному острову.
Прибой стихал. Капитан все еще выжидал. Нетаев упрашивал, чтобы ему позволили водить катер, доставлять к берегу кунгасы.
Однако катер повел второй штурман. Волнение все еще было слишком сильным. Капитан, не отрываясь, смотрел в бинокль.
— Извозчик он, а не штурман! — закричал вдруг Борис Ефимович.
Мы с Нетаевым взялись за бинокли.
— Не так развернулся! — сердился Борис Ефимович. — Теперь кунгас повалило набок, вот волны и взлетают над ним.
Капитан побежал в радиорубку и вернулся оттуда злой.
— Все промокли до нитки, — сказал он. — Пошли греться на полярную станцию. Катер идет обратно. Ох, и встречу я его! Иван Васильевич, обратился он к Нетаеву, — катер вы поведете. Пойдите переоденьтесь.
Молодой штурман бросился в свою каюту.
Катер повел Нетаев. «Петушок» буксировал второй кунгас с грузом, который ни в коем случае нельзя было подмочить. Там были продукты и радиоаппаратура.
— А молодец этот штурманок, — говорил мне вечером капитан, — не дал кунгасу перевернуться. Нетаеву можно доверять.
Я радовался за своего приятеля.
Капитан стал читать только что полученную радиограмму. Лицо его, обычно мягкое, добродушное, тотчас изменилось.
— Ну, вот… Я их берег всю навигацию. Теперь отдавай!
Оказывается, он получил приказ идти к Устью и передать там кунгасы какому-то незадачливому капитану, растерявшему свои плавсредства во время шторма.
Рейс «Седова» заканчивался. На Диком он должен был получить новые кунгасы.
Ворча и вздыхая, капитан отправился к Устью.
На следующий день ранним утром мы с волнением разглядывали материк.
Состоялась передача кунгасов.
— Скажите им, — приказал капитан Нетаеву, — что мы уходим на север. Второй раз кунгасы оттуда будет трудновато доставить.
Нетаев все это передал в точности. По его словам, старший помощник незадачливого капитана чувствовал себя при этом неважно.
Корабль "Георгий Седов" направился к острову Дикому.
Знакомая нам бухта. Справа скалистый остров, суровый и неприветливый, в россыпи камней. На нем несколько двухэтажных домов, вышка ветряка с хлопотливо вертящимися крыльями и огромная мачта.
На материке — по левую руку — тоже двухэтажные дома, расположенные амфитеатром. У причала корабли. Названий не разберешь.
Борис Ефимович по всем правилам встал на рейд. Причал в порту предназначался «Седову». Однако какой-то пароход совершенно незаконно, как уверял Борис Ефимович, прошмыгнул к причалу и занял наше место.
Борис Ефимович сидел в каюте. В порту, когда прекращалась качка, когда не слышно было шороха трущихся о борт льдин, капитан был неузнаваем. Он растерянно сказал своему старшему помощнику, чтобы тот как-нибудь "уладил портовые дела". Сам он трудился над рейсовым донесением, кряхтел и все советовался со мной, как написать ту или иную фразу.
Потом, нарядившись в парадную форму, Борис Ефимович с мученическим видом съехал на берег. Отправился с официальными визитами к портовому начальству.
Другие капитаны завладели и местами у причалов, и погрузочными средствами. Наш капитан вернулся с берега, ничего не добившись.
— Тут его надо подменять, — шепнул мне старший помощник капитана, молодой человек, еще недавно плававший на военных кораблях.
Старпом вернулся, все уладив. Борис Ефимович был очень доволен и ехать на берег еще раз категорически отказался.
На острове Диком я встретился с местным старожилом Панченко, седым полярником, бывшим матросом. Он провел меня в радиоцентр и показал знаменитую книгу, хранителем которой он здесь считался. В старой конторской книге с толстым переплетом были собраны автографы многих путешественников.
— Тут замечательные записи есть, — с гордостью говорил он мне. — Вот, например, в тысяча девятьсот восемнадцатом году написано по-норвежски: "Уверен, что в этой прекрасной бухте будут стоять на рейде десятки кораблей. Руал Амундсен". Известный полярник был. Он Южный полюс открыл, а через Северный путь ему пройти не удалось. Его «Мод» три года шла по Северному морскому пути. Два раза пришлось зимовать. Радиограммы в ту пору пешком ходили. Чтобы дать о себе знать, пришлось ему послать двух матросов на Дикий. Один из них погиб. Другой совсем немного не дошел до нас, тоже замерз. Его могила в порту, возле новых домов. А вот Нансен — тот прямо говорил: "Северный морской путь — иллюзия, чаровавшая исследователей в течение веков". Ничего себе «иллюзия»! У нас на Диком капитаны из-за причалов дерутся.
Панченко раздраженно указал мне на стенную карту:
— Иллюзии иностранных мореплавателей! Русские здесь не иллюзиями занимались. И совершенно напрасно, по-моему, не стерты до сих пор всякие нерусские названия с этой карты. Вот, например, Земля Франца-Иосифа. Случайно наткнулись на нее австрияки, когда их корабль безнадежно в дрейфующие льды вмерз. А что Земля эта существует, задолго до них знаменитый русский ученый Кропоткин указал. Так же и с многими другими землями. Вот посмотрите. — Панченко подвел меня к окну. — Видите? Это гидрографическое судно «Норд». Я вам расскажу, какое на этом судне открытие сделали.
От радиста я услышал интереснейшую историю.
По тундре шел человек.
Высокий и сильный, он не сгибался под тяжестью заплечного мешка, не чувствовал и ружья, висевшего на правом плече стволом вниз, чтобы легче было вскинуть.
Одет он был в ватную куртку и такие же штаны, заправленные в ичиги, кожа которых ссыхается прямо на ноге, принимая ее форму. В такой обуви можно пройти сотни километров и никогда не сбить ног.
Человек внимательно оглядывал тундру. Привлекали его холмы, северный скат которых был еще покрыт снегом. Подходя к белым пятнам, он внимательно вглядывался в них, иногда раскапывал снег. Засохшая прошлогодняя растительность особенно интересовала его. Однако, убедившись, что это всего лишь трава, он равнодушно отправлялся дальше.
Увидев вдали оленей, он сворачивал к ним. Видимо, искал встречи с людьми.
Ненцы интересовались одиноким путником.
— Золото ищешь? — спрашивали они.
— Нет, не золото, — отвечал человек. — Скажите, не слыхали ли вы… Находили здесь прежде огромных животных, вмерзших в землю? На бугре, скажем, снег подтаял, а под ним — странная такая трава, волокнистая. длинная… Это шерсть тех животных. Они давно на земле жили, все вымерли.
— Зачем тебе старый животный? Возьми у нас оленя.
Молодой ученый качал головой. Сняв шапку, он привычным движением проводил ладонью по длинным светлым волосам и продолжал выспрашивать о загадочных древних животных.
Ненцы удивлялись.
— Странный какой! Не охотник. Нет, не охотник! Не геолог. Нет, не геолог, тот камни ищет… Зачем тебе дохлый животный?
Были старики, которые помнили об огромных тушах, найденных в слое вечной мерзлоты.
— Песцы ели… ничего… У нас голод был… Мы тоже ели. Ничего мясо. Олень лучше.
Но это было давно. Туши найденных мамонтов не сохранились.
Молодой ученый продолжал свой путь по тундре.
Однажды старик ненец, до того морщинистый, что даже узкие глаза его походили на морщины, сказал ему:
— Плыви на остров Ледяной. Тут недалеко бот стоит, он тебя возьмет. Там во льду что-то видно. Какая-то туша. Я сам видел. Не знаю что.
Ученый тотчас отправился в бухту, где стоял гидрографический бот, и представился капитану:
— Аспирант Академии наук Александр Львович Низовский. Поставил себе задачу найти сохранившегося в вечной мерзлоте мамонта… Тушу мамонта, поправился молодой человек.
Капитан погладил свою холеную черную бороду. Ему понравился молодой ученый. Можно будет подойти вместе с ним к Ледяному.
Остров оказался «молодым», был он покрыт льдом, поверх которого образовался земной покров. Острову не было и тысячи лет.
С юга берег оттаивал, там и обнажился старый материковый лед.
Капитан дал ученому шлюпку и нескольких матросов.
Через месяц Александр Львович Низовский появился на острове Диком. Он был необычайно взволнован и предложил прочесть полярникам лекцию о сделанном им на острове Ледяном открытии.
В столовую радиоцентра собрались все свободные от смены полярники. На катере прибыли рабочие из порта. Народу набилось столько, что лектор едва протиснулся к своему месту.
Ученый рассказывал, как подошла их шлюпка к зеленоватой ледяной стене, над которой виднелся песчаный обрыв.
— Это и был обнажившийся лед, — говорил Низовский. — Море вгрызалось в него, подтачивало снизу.
Я первый заметил ледяную пещеру с нависшим сводом, образовавшуюся у самой воды, и указал на нее матросам.
Волны прибоя разбивались в пещере, наполняя ее пеной и брызгами.
Будь прибой сильнее, нам никогда не удалось бы проникнуть в пещеру и увидеть в ней что-нибудь. На наше счастье, было сравнительно тихо. Светило яркое солнце.
Мы осторожно вошли на шлюпке в пещеру. Солнечные лучи проходили через лед, и свод казался светящимся.
Я стал вглядываться. Как и объяснял мне старик ненец, сквозь освещенную солнцем толщу льда действительно можно было заметить какое-то темное пятно. Я попросил подъехать возможно ближе к этому пятну.
"Тут что-то торчит белое…" — указал мне один из матросов.
Мы подгребли к ледяной стене.
Из льда торчал изогнутый белый ствол… может быть вмерзший в лед плавник?
Шлюпка подошла вплотную. Держась за холодную, ледяную стену, я перебирал по ней руками по мере движения шлюпки.
Наконец я ухватился рукой за выступавший изо льда ствол и похолодел от волнения. Сомнений быть не могло: клык!
Из льда торчал желтоватый, изогнутый, покрытый чуть потрескавшейся коркой бивень мамонта!
Вглядываясь в толщу льда, я отчетливо видел темное пятно. Оно не могло быть ничем иным, как сохранившейся тушей мамонта, клык которого я ощущал под своей ладонью.
Мамонт на острове Ледяном, на острове, который образовался лишь несколько столетий назад! Это же опровергает все существовавшие гипотезы о времени вымирания мамонтов!
Я везу теперь это сенсационное сообщение!
Мне трудно сдержать себя и не открыть вам свою заветную мечту! Сейчас я чувствую себя ближе к осуществлению ее, чем когда-либо.
За несколько сот лет в Сибири не произошло каких-либо коренных изменений, которые могли бы вызвать ускоренное вымирание мамонтов. Если мамонт был жив несколько сот лет тому назад, то нет никаких оснований утверждать, что он не может жить и сейчас!..
По залу пронесся общий вздох. Кое-кто поднялся со своего места, чтобы лучше видеть смелого ученого.
— Да, да! — продолжал Низовский. — Север Сибири еще слишком мало исследован. Есть часть тундры, есть горные кряжи, где не бывала нога человека. Именно там и надо искать еще живущих мамонтов. И я уверен, что мы найдем живых мамонтов! Я уже предвижу создание мамонтового заповедника на Севере. Будут приняты меры к увеличению поголовья мамонтового стада…
Лектор был прерван аплодисментами.
Чуть расширив свои светлые глаза, он продолжал:
— Мы увидимся с вами на будущий год. На пароходе-холодильнике, годном для перевозки туши мамонта, я вернусь сюда со специальной экспедицией. Мы извлечем из льда острова Ледяного мамонта и… И отправимся на поиски других мамонтов, живых мамонтов. И мы найдем их!
Лекция имела небывалый успех. Многие полярники изъявили желание сопровождать Низовского в предстоящей экспедиции.
Моряки с одного из стоящих на рейде кораблей, слушавшие лекцию, рассказали о ней всему экипажу, и корабль, сделав небольшой крюк, завернул к острову Ледяному. Моряки побывали в описанной Низовским пещере и своими глазами видели торчащий из льда клык. Темного пятна во льду они увидеть не могли, потому что солнце было скрыто тучами.
Следующим летом в бухте острова Дикого бросил якорь гидрографический бот «Норд». На нем и приплыл аспирант Низовский, мечтавший о корабле-холодильнике для перевозки туши мамонта.
Вместе с Низовским прибыл академик Бондарев.
Афанасий Васильевич Бондарев был низенький старик с седыми волосами и седой короткой, но обнимающей все лицо бородой. Нрава он был ворчливого. Низовский был очень недоволен, потому что старик категорически воспротивился снаряжению парохода-холодильника.
— Вы не доверяете мне! — возмущался Низовский.
Академик возражал:
— Мамонт, если он действительно есть, а я в этом сомневаюсь, пролежит еще год. Надо сначала убедиться, что это мамонт.
Низовский готов был обрушить на старика поток красноречия, а потом повернуться и уйти из кабинета академика, хлопнув дверью. Но вместо всего этого, опустив голову, он тихо проговорил:
— Я буду рад сопутствовать вам, Афанасий Васильевич.
— Да уж, конечно, сопутствовать придется, не отвертитесь, голубчик…
Академик знал еще отца Низовского, который погиб во время ленинградской блокады, и очень уважал его. К Александру Львовичу он относился строго, но внимательно. Его смелых гипотез о живых мамонтах не разделял и, больше того, осуждал его за публичные высказывания.
Гидрографический бот «Норд» получил задание наряду с другими исследованиями посетить остров Ледяной.
"Норд" бросил якорь с юга от острова. Капитан бота долго разглядывал берег в бинокль.
— На шлюпке идти нельзя, — сказал он. — Прибой слишком силен.
Расстроенный Низовский расхаживал по палубе.
Его раздражала медлительная осторожность капитана и ворчливое спокойствие академика, усевшегося играть в шахматы с капитаном. Играть в шахматы, когда корабль стоял в виду острова, сохранившего в толще льда мамонта!
"Несомненно, мамонт попал на остров зимой, когда море было сковано льдом, — размышлял Низовский. — И, не найдя здесь пищи, погиб. Его тушу занесло снегом, который не растаял в холодное лето. В следующую зиму снегу нанесло еще больше. Под давлением верхних слоев и под влиянием летнего оттаивания слежавшийся снег постепенно превращался в лед, слой которого все увеличивался".
Расхаживая по палубе, Низовский уже видел себя докладывающим на сессии Академии наук.
По его мнению, туша мамонта оказалась вмороженной в лед.
В ледовитых морях происходит периодическое опускание и поднимание островов.
Покрытый льдом остров опустился, и морские волны занесли ледяную поверхность песком, который предохранил лед от таяния.
В последние годы остров был снова приподнят над поверхностью моря. Волны смыли с берега прикрывавший лед песок. Под влиянием общего потепления Арктики лед стал оттаивать. Таким образом и обнаружилось место, где когда-то упал погибший мамонт.
Низовский шел в свою тесную каютку и принимался лихорадочно писать. Еще в этом году он защитит диссертацию, получит звание кандидата. В следующих экспедициях он сможет обходиться без опеки ворчливого старика, который не хочет верить очевидности.
Низовский представлял себя исследующим какой-нибудь северный горный хребет. Там, в долине, защищенной со всех сторон от ветров, питаясь скудной северной растительностью, живут гигантские мохнатые животные, напоминающие слонов. На одной из скал будет устроен наблюдательный пункт с телескопами. Туристы, прилетающие на горный аэродром, смогут наблюдать своими глазами жизнь диких доисторических животных. Может быть, удастся перевезти один из экземпляров в Москву в зоопарк…
Низовский мысленно читал дощечку с надписью:
"Мамонт. Считался вымершим доисторическим животным. Привезен в зоопарк из долины… из долины Низовского".
Молодой ученый выходил на палубу и вглядывался в скучные очертания острова. Его освещенная ледяная стена казалась не изумрудно-зеленоватой, как в прошлый раз, а серой. Внизу виднелась белая кромка прибоя.
Низовский проклинал прибой.
Неделю простоял бот вблизи острова Ледяного. Капитан уже поговаривал о необходимости отправиться в другое место и на обратном пути зайти сюда. Низовский был в отчаянии. К счастью, академик заупрямился. Не веря в существование мамонта, он все же не желал отойти от острова Ледяного.
На следующий день прибой утих.
На катере и двух шлюпках ученые, сопровождавшие их рабочие и добровольно вызвавшиеся помогать моряки отправились к ледяной пещере.
Низовский и академик сидели в моторном катере. Они первыми подошли к ледяному обрыву.
— Какая жалость, что нет солнца, — сокрушался Низовский. — Я боюсь, что мы не увидим темного пятна туши мамонта.
— Клык-то, надеюсь, будет виден и без солнца, — проворчал Афанасий Васильевич.
— Конечно! — отозвался Низовский и, обращаясь к второму штурману, сидевшему у руля, скомандовал: — Держите вдоль правой стенки, убавьте ход. Самый тихий! Я буду перебирать руками по стене.
Без солнца в пещере было сумрачно. Низовский с волнением всматривался в полумрак. Вдруг клык исчез? Но этого не может быть. Клык был прочно вморожен в лед. Но вода за год могла растопить лед… Почему он не постарался в прошлый раз вырубить клык из льда? Какая непростительная оплошность… Но ведь он хотел достать непременно всего мамонта, не отделяя от него даже клыка.
— Вот он! Вижу! — крикнул матрос с носа катера.
Мотор звонко постукивал. Низовский готов был поверить, что это стучит его сердце.
— Стоп!
Мотор заглох. Катер, шелестя бортом о лед, едва двигался вперед.
— Бивень! — торжественно воскликнул Низовский.
— Бивень? — переспросил академик, поднимаясь во весь рост.
Он дотянулся до торчащего из льда белого ствола и ощупал его. Потом стал рассматривать со всех сторон.
— И в самом деле, бивень… — озадаченно произнес он. — Это даже странно.
— Я же вам докладывал, Афанасий Васильевич, — начал было Низовский, но старик махнул на него рукой.
Низовский замолчал. В пещере было тихо. Слышалось легкое плескание воды и далекие голоса из подходивших к ледяному гроту шлюпок.
— Мамонтова кость, — заключил академик. — Странно… не может быть!
— Так ведь вот она! Вот! — торжествующе повторял Низовский.
Свод и стены ледяной пещеры засветились.
— Солнце! Солнце! Какое счастье! — крикнул Низовский. — Смотрите… вот сюда смотрите! Вы видите темное пятно?
Моряки, рабочие, ученые — все вперили взоры в ледяной монолит.
Темное расплывчатое пятно было теперь отчетливо видно. Воображение придавало ему самые фантастические формы.
— Он, должно быть, на боку лежит, — заметил матрос.
— Ясно, на боку… Не на спину же лапками кверху ляжет, — сказал рабочий.
— Чего же вы ждете? — заторопился академик. — Скорее обкалывайте лед, освобождайте клык! Где кирка? Где лом? Я тоже помогать буду.
Низовский схватил лом, но не отдал его старику. Он сам обрушивал сокрушительные удары на ледяную стену. Осколки льда стучали по борту катера. Несколько человек с ожесточением рубили многовековой лед.
— Осторожнее, не повредите клыка. Оставляйте на нем слой льда, распоряжался Афанасий Васильевич, толкаясь среди рабочих и мешая им.
— Шевелится… шевелится клык, — сказал один из рабочих.
— Как шевелится? — почти в ужасе переспросил Низовский.
— Если раскачивать, — пояснил рабочий.
Академик ухватился за конец клыка и стал раскачивать. Клык подался. Еще несколько ударов ломом…
— Давай сюда, давай!.. Теперь тяни. Бери на себя! — увлеченно командовал старик.
Через минуту огромный изогнутый клык, едва поместившись в катере, лежал на его дне.
— Как жаль, что его пришлось отделить от туши, — сокрушенно сказал Низовский.
— А вот мы его сейчас рассмотрим. Скалывайте лед, скалывайте!
Подошли две отставшие шлюпки. По указанию Низовского рабочие стали расширять и углублять отверстие, из которого был вынут клык.
— Странно, очень странно, — бормотал академик, рассматривая гигантскую кость. Несомненно, мамонтова кость… Но вот почему она так тщательно опилена?
— Как опилена? — поразился Низовский.
— А вот, не угодно ли?
Молодой ученый склонился над костью, которую постепенно освобождали от льда. Когда лед был удален с конца бивня, все могли убедиться, что кость тщательно опилена каким-то инструментом.
— Ничего не понимаю… — прошептал молодой ученый.
— Любопытно, очень любопытно! — бормотал старик, склоняясь над клыком. — Тем любопытнее, что ваш мамонт, молодой человек, очевидно, был ручным. Он позволял делать резцом изображения на своих клыках. Вот, не угодно ли?
Вне себя от изумления Низовский рассматривал клык, на котором у опиленного основания была резьба. Отчетливо можно было разобрать затейливую вязь.
Тяжело дыша, Низовский встал с колен и сел на скамью.
— Что же это? Что же это такое? — спрашивал он старика.
— Любопытно, очень любопытно, — сказал тот.
— Давайте рубить! Давайте рубить лед! — предложил Низовский. — Мы должны открыть тайну темного пятна… Если это не мамонт, то что же это такое?
— Что ж… это будет любопытно, — согласился академик. Говорил он как бы нехотя, все продолжая разглядывать клык с резьбой. — А ведь он был к чему-то прикреплен. Смотрите, на нем даже канавки сделаны.
— К чему же он мог быть прикреплен? — поразился Низовский.
— Ну, например, к носу ладьи или коча… как еще в древности называли челны.
— К носу челна?
Находку доставили на корабль.
Двое суток во льду прокладывался ход к таинственному темному пятну.
Низовский не выходил из пещеры.
Афанасий Васильевич не съезжал больше на берег, сидел в каюте капитана и играл с ним в шахматы; злополучный клык лежал тут же на полу.
Вахтенный помощник капитана постучал в дверь.
— Войдите, — разрешил капитан, поглаживая свою роскошную бороду.
— Катер идет от берега.
— Не вовремя, — заметил капитан.
— Я потому и доложил.
Бросив незаконченную партию, академик вышел на палубу.
Катер подошел к борту. В нем стоял Низовский. Он что-то кричал академику, но разобрать слов было нельзя.
Наконец он поднялся по штормтрапу.
— Афанасий Васильевич! — закричал он, едва его голова поднялась над палубой. — Это оказалась туша…
— Туша кита? — перегнувшись через реллинги, спросил старик.
— Откуда вы знаете?
— Конечно, туша кита, — сказал старик и пошел в каюту доигрывать партию. — Я так и знал, что это туша кита, — говорил академик капитану. Вам шах… Теперь вашему королю не поздоровится. Думаю, что бот может отправляться в свой дальнейший путь.
— Простите, Афанасий Васильевич, сейчас мой ход, — сказал капитан. Чем же объясняете появление клыка на острове?
— Китобои. Древние китобои! Очевидно, они украсили клыком нос своего корабля или челна…
— Сдаюсь, — сказал капитан. — Я пойду распоряжусь о снятии с якоря.
Проходя мимо Низовского, капитан погладил бороду, улыбнулся и, не удержавшись, сказал:
— Вот тебе и живой мамонт!
Низовский покраснел.
Сославшись на головную боль, он ушел в свою каюту и заперся в ней. Напрасно капитан стучался к нему. Низовский не открывал. Не вышел он на палубу, даже услышав, что на корабле поднялся шум. Низовский подумал: это бот снимается с якоря, покидая остров Ледяной.
Но на самом деле шум поднялся, когда с острова прибыли на шлюпках матросы и рабочие. Они сообщили, что обнаружили за тушей кита… сруб.
Академик забыл обо всем на свете, даже о существовании своего молодого помощника. Он поспешно спустился в моторный катер и потребовал как можно скорее доставить его в пещеру.
Как это часто бывает с молодыми людьми, Низовский от огорчения уснул.
На рассвете кто-то забарабанил в его дверь. Ничего не понимая, он вскочил с койки и открыл каюту.
— Спите, батенька мой, спите? — угрожающе начал академик.
Низовский юркнул на койку и прикрылся одеялом.
— Не угодно ли полюбоваться, что вы нашли, аспирант Низовский? — все так же угрожающе продолжал Афанасий Васильевич.
Встревоженный Низовский смотрел, как академик торжественно положил ему на одеяло колчан и стрелы.
Низовский протер глаза.
— Сруб обнаружили, — улыбнулся академик. — Понимаете, за китом-то сруб оказался, — словно по секрету сказал Афанасий Васильевич и вдруг громко вскрикнул: — А вот это! Вы только поглядите на это! — Старик, прищурившись, уставился на Низовского. Выждав мгновение, он положил ему на ладонь несколько кусочков металла неровной формы. Словно зубилом вырублены, не правда ли? — допрашивал он. — А? Ну, то-то… Именно вырублены! Потому и рубль называется… Это действительно рубленые монеты!
— Монеты? — вскричал Низовский, соскакивая с койки и подхватывая упавшие было колчан и стрелы. — Монеты? Каких же времен?
— Времен Дмитрия Донского, голубчик! Дмитрия Донского… Куликовская битва, батенька!..
— Да это почище живого мамонта! — взволновался молодой человек.
Узнав эту историю, я не удержался и отправился на бот «Норд».
Я видел и академика Бондарева и Низовского. Они показывали мне чудесные находки, я держал в своих руках древние русские монеты, найденные на арктическом острове.
Академик, поглаживая бороду, говорил серьезно, чуть косясь на своего молодого помощника:
— Александр Львович сделал на острове Ледяном открытие особой важности. Его находки доказывают, что русские много сотен лет назад бывали в Арктике, открыли ее, охотились здесь на китов, вели торговлю, имели что-то вроде факторий. Тут исконная наша земля. — И академик посмотрел в круглый иллюминатор, через который виднелся низкий берег и суровое, свинцовое море. — Поднимать буду через Географическое общество вопрос. Давно пора стирать с арктических карт лишние иностранные имена. Не мало полярных земель и в Антарктике и в Арктике открыты нами, русскими… Это исконные наши места.
Я простился с учеными.
— А как же мамонты? — спросил я тихо Низовского.
— Я все равно буду их искать, — также тихо ответил мне Низовский.
Но старик обладал тонким слухом. Он улыбнулся и сказал:
— Он найдет, непременно найдет. Он специально для этого к вам на "Георгия Седова" перебирается. Хочет проверить, не забрался ли какой шалопай мамонт на Холодную Землю.
Мне было приятно, что знакомство с Низовским не кончается.
Ученые проводили меня до трапа.
"Георгий Седов" за одну навигацию должен был сделать два рейса, на каждый из которых пятнадцать лет назад требовался не один год.
Первый рейс после посещения многих островов заканчивался на острове Диком. Там корабль должен был запастись углем, принять на борт новых пассажиров, взять грузы.
Капитан Борис Ефимович вздыхал всякий раз, когда вспоминал о неизбежной стоянке в порту, о погрузке, о разговорах с начальством. Лишь выходя на мостик, он снова обретал покой.
Прищурясь, он разглядывал далекий берег очередного острова. Там свирепствовал сильный прибой. Борис Ефимович второй день упрямо выжидал. Он ни за что не соглашался рисковать кунгасами и подвергать опасности моряков.
Так и не дождались мы погоды. Отправились к соседнему архипелагу. Там погрузились и пошли обратно к негостеприимному острову.
Прибой стихал. Капитан все еще выжидал. Нетаев упрашивал, чтобы ему позволили водить катер, доставлять к берегу кунгасы.
Однако катер повел второй штурман. Волнение все еще было слишком сильным. Капитан, не отрываясь, смотрел в бинокль.
— Извозчик он, а не штурман! — закричал вдруг Борис Ефимович.
Мы с Нетаевым взялись за бинокли.
— Не так развернулся! — сердился Борис Ефимович. — Теперь кунгас повалило набок, вот волны и взлетают над ним.
Капитан побежал в радиорубку и вернулся оттуда злой.
— Все промокли до нитки, — сказал он. — Пошли греться на полярную станцию. Катер идет обратно. Ох, и встречу я его! Иван Васильевич, обратился он к Нетаеву, — катер вы поведете. Пойдите переоденьтесь.
Молодой штурман бросился в свою каюту.
Катер повел Нетаев. «Петушок» буксировал второй кунгас с грузом, который ни в коем случае нельзя было подмочить. Там были продукты и радиоаппаратура.
— А молодец этот штурманок, — говорил мне вечером капитан, — не дал кунгасу перевернуться. Нетаеву можно доверять.
Я радовался за своего приятеля.
Капитан стал читать только что полученную радиограмму. Лицо его, обычно мягкое, добродушное, тотчас изменилось.
— Ну, вот… Я их берег всю навигацию. Теперь отдавай!
Оказывается, он получил приказ идти к Устью и передать там кунгасы какому-то незадачливому капитану, растерявшему свои плавсредства во время шторма.
Рейс «Седова» заканчивался. На Диком он должен был получить новые кунгасы.
Ворча и вздыхая, капитан отправился к Устью.
На следующий день ранним утром мы с волнением разглядывали материк.
Состоялась передача кунгасов.
— Скажите им, — приказал капитан Нетаеву, — что мы уходим на север. Второй раз кунгасы оттуда будет трудновато доставить.
Нетаев все это передал в точности. По его словам, старший помощник незадачливого капитана чувствовал себя при этом неважно.
Корабль "Георгий Седов" направился к острову Дикому.
Знакомая нам бухта. Справа скалистый остров, суровый и неприветливый, в россыпи камней. На нем несколько двухэтажных домов, вышка ветряка с хлопотливо вертящимися крыльями и огромная мачта.
На материке — по левую руку — тоже двухэтажные дома, расположенные амфитеатром. У причала корабли. Названий не разберешь.
Борис Ефимович по всем правилам встал на рейд. Причал в порту предназначался «Седову». Однако какой-то пароход совершенно незаконно, как уверял Борис Ефимович, прошмыгнул к причалу и занял наше место.
Борис Ефимович сидел в каюте. В порту, когда прекращалась качка, когда не слышно было шороха трущихся о борт льдин, капитан был неузнаваем. Он растерянно сказал своему старшему помощнику, чтобы тот как-нибудь "уладил портовые дела". Сам он трудился над рейсовым донесением, кряхтел и все советовался со мной, как написать ту или иную фразу.
Потом, нарядившись в парадную форму, Борис Ефимович с мученическим видом съехал на берег. Отправился с официальными визитами к портовому начальству.
Другие капитаны завладели и местами у причалов, и погрузочными средствами. Наш капитан вернулся с берега, ничего не добившись.
— Тут его надо подменять, — шепнул мне старший помощник капитана, молодой человек, еще недавно плававший на военных кораблях.
Старпом вернулся, все уладив. Борис Ефимович был очень доволен и ехать на берег еще раз категорически отказался.
На острове Диком я встретился с местным старожилом Панченко, седым полярником, бывшим матросом. Он провел меня в радиоцентр и показал знаменитую книгу, хранителем которой он здесь считался. В старой конторской книге с толстым переплетом были собраны автографы многих путешественников.
— Тут замечательные записи есть, — с гордостью говорил он мне. — Вот, например, в тысяча девятьсот восемнадцатом году написано по-норвежски: "Уверен, что в этой прекрасной бухте будут стоять на рейде десятки кораблей. Руал Амундсен". Известный полярник был. Он Южный полюс открыл, а через Северный путь ему пройти не удалось. Его «Мод» три года шла по Северному морскому пути. Два раза пришлось зимовать. Радиограммы в ту пору пешком ходили. Чтобы дать о себе знать, пришлось ему послать двух матросов на Дикий. Один из них погиб. Другой совсем немного не дошел до нас, тоже замерз. Его могила в порту, возле новых домов. А вот Нансен — тот прямо говорил: "Северный морской путь — иллюзия, чаровавшая исследователей в течение веков". Ничего себе «иллюзия»! У нас на Диком капитаны из-за причалов дерутся.
Панченко раздраженно указал мне на стенную карту:
— Иллюзии иностранных мореплавателей! Русские здесь не иллюзиями занимались. И совершенно напрасно, по-моему, не стерты до сих пор всякие нерусские названия с этой карты. Вот, например, Земля Франца-Иосифа. Случайно наткнулись на нее австрияки, когда их корабль безнадежно в дрейфующие льды вмерз. А что Земля эта существует, задолго до них знаменитый русский ученый Кропоткин указал. Так же и с многими другими землями. Вот посмотрите. — Панченко подвел меня к окну. — Видите? Это гидрографическое судно «Норд». Я вам расскажу, какое на этом судне открытие сделали.
От радиста я услышал интереснейшую историю.
По тундре шел человек.
Высокий и сильный, он не сгибался под тяжестью заплечного мешка, не чувствовал и ружья, висевшего на правом плече стволом вниз, чтобы легче было вскинуть.
Одет он был в ватную куртку и такие же штаны, заправленные в ичиги, кожа которых ссыхается прямо на ноге, принимая ее форму. В такой обуви можно пройти сотни километров и никогда не сбить ног.
Человек внимательно оглядывал тундру. Привлекали его холмы, северный скат которых был еще покрыт снегом. Подходя к белым пятнам, он внимательно вглядывался в них, иногда раскапывал снег. Засохшая прошлогодняя растительность особенно интересовала его. Однако, убедившись, что это всего лишь трава, он равнодушно отправлялся дальше.
Увидев вдали оленей, он сворачивал к ним. Видимо, искал встречи с людьми.
Ненцы интересовались одиноким путником.
— Золото ищешь? — спрашивали они.
— Нет, не золото, — отвечал человек. — Скажите, не слыхали ли вы… Находили здесь прежде огромных животных, вмерзших в землю? На бугре, скажем, снег подтаял, а под ним — странная такая трава, волокнистая. длинная… Это шерсть тех животных. Они давно на земле жили, все вымерли.
— Зачем тебе старый животный? Возьми у нас оленя.
Молодой ученый качал головой. Сняв шапку, он привычным движением проводил ладонью по длинным светлым волосам и продолжал выспрашивать о загадочных древних животных.
Ненцы удивлялись.
— Странный какой! Не охотник. Нет, не охотник! Не геолог. Нет, не геолог, тот камни ищет… Зачем тебе дохлый животный?
Были старики, которые помнили об огромных тушах, найденных в слое вечной мерзлоты.
— Песцы ели… ничего… У нас голод был… Мы тоже ели. Ничего мясо. Олень лучше.
Но это было давно. Туши найденных мамонтов не сохранились.
Молодой ученый продолжал свой путь по тундре.
Однажды старик ненец, до того морщинистый, что даже узкие глаза его походили на морщины, сказал ему:
— Плыви на остров Ледяной. Тут недалеко бот стоит, он тебя возьмет. Там во льду что-то видно. Какая-то туша. Я сам видел. Не знаю что.
Ученый тотчас отправился в бухту, где стоял гидрографический бот, и представился капитану:
— Аспирант Академии наук Александр Львович Низовский. Поставил себе задачу найти сохранившегося в вечной мерзлоте мамонта… Тушу мамонта, поправился молодой человек.
Капитан погладил свою холеную черную бороду. Ему понравился молодой ученый. Можно будет подойти вместе с ним к Ледяному.
Остров оказался «молодым», был он покрыт льдом, поверх которого образовался земной покров. Острову не было и тысячи лет.
С юга берег оттаивал, там и обнажился старый материковый лед.
Капитан дал ученому шлюпку и нескольких матросов.
Через месяц Александр Львович Низовский появился на острове Диком. Он был необычайно взволнован и предложил прочесть полярникам лекцию о сделанном им на острове Ледяном открытии.
В столовую радиоцентра собрались все свободные от смены полярники. На катере прибыли рабочие из порта. Народу набилось столько, что лектор едва протиснулся к своему месту.
Ученый рассказывал, как подошла их шлюпка к зеленоватой ледяной стене, над которой виднелся песчаный обрыв.
— Это и был обнажившийся лед, — говорил Низовский. — Море вгрызалось в него, подтачивало снизу.
Я первый заметил ледяную пещеру с нависшим сводом, образовавшуюся у самой воды, и указал на нее матросам.
Волны прибоя разбивались в пещере, наполняя ее пеной и брызгами.
Будь прибой сильнее, нам никогда не удалось бы проникнуть в пещеру и увидеть в ней что-нибудь. На наше счастье, было сравнительно тихо. Светило яркое солнце.
Мы осторожно вошли на шлюпке в пещеру. Солнечные лучи проходили через лед, и свод казался светящимся.
Я стал вглядываться. Как и объяснял мне старик ненец, сквозь освещенную солнцем толщу льда действительно можно было заметить какое-то темное пятно. Я попросил подъехать возможно ближе к этому пятну.
"Тут что-то торчит белое…" — указал мне один из матросов.
Мы подгребли к ледяной стене.
Из льда торчал изогнутый белый ствол… может быть вмерзший в лед плавник?
Шлюпка подошла вплотную. Держась за холодную, ледяную стену, я перебирал по ней руками по мере движения шлюпки.
Наконец я ухватился рукой за выступавший изо льда ствол и похолодел от волнения. Сомнений быть не могло: клык!
Из льда торчал желтоватый, изогнутый, покрытый чуть потрескавшейся коркой бивень мамонта!
Вглядываясь в толщу льда, я отчетливо видел темное пятно. Оно не могло быть ничем иным, как сохранившейся тушей мамонта, клык которого я ощущал под своей ладонью.
Мамонт на острове Ледяном, на острове, который образовался лишь несколько столетий назад! Это же опровергает все существовавшие гипотезы о времени вымирания мамонтов!
Я везу теперь это сенсационное сообщение!
Мне трудно сдержать себя и не открыть вам свою заветную мечту! Сейчас я чувствую себя ближе к осуществлению ее, чем когда-либо.
За несколько сот лет в Сибири не произошло каких-либо коренных изменений, которые могли бы вызвать ускоренное вымирание мамонтов. Если мамонт был жив несколько сот лет тому назад, то нет никаких оснований утверждать, что он не может жить и сейчас!..
По залу пронесся общий вздох. Кое-кто поднялся со своего места, чтобы лучше видеть смелого ученого.
— Да, да! — продолжал Низовский. — Север Сибири еще слишком мало исследован. Есть часть тундры, есть горные кряжи, где не бывала нога человека. Именно там и надо искать еще живущих мамонтов. И я уверен, что мы найдем живых мамонтов! Я уже предвижу создание мамонтового заповедника на Севере. Будут приняты меры к увеличению поголовья мамонтового стада…
Лектор был прерван аплодисментами.
Чуть расширив свои светлые глаза, он продолжал:
— Мы увидимся с вами на будущий год. На пароходе-холодильнике, годном для перевозки туши мамонта, я вернусь сюда со специальной экспедицией. Мы извлечем из льда острова Ледяного мамонта и… И отправимся на поиски других мамонтов, живых мамонтов. И мы найдем их!
Лекция имела небывалый успех. Многие полярники изъявили желание сопровождать Низовского в предстоящей экспедиции.
Моряки с одного из стоящих на рейде кораблей, слушавшие лекцию, рассказали о ней всему экипажу, и корабль, сделав небольшой крюк, завернул к острову Ледяному. Моряки побывали в описанной Низовским пещере и своими глазами видели торчащий из льда клык. Темного пятна во льду они увидеть не могли, потому что солнце было скрыто тучами.
Следующим летом в бухте острова Дикого бросил якорь гидрографический бот «Норд». На нем и приплыл аспирант Низовский, мечтавший о корабле-холодильнике для перевозки туши мамонта.
Вместе с Низовским прибыл академик Бондарев.
Афанасий Васильевич Бондарев был низенький старик с седыми волосами и седой короткой, но обнимающей все лицо бородой. Нрава он был ворчливого. Низовский был очень недоволен, потому что старик категорически воспротивился снаряжению парохода-холодильника.
— Вы не доверяете мне! — возмущался Низовский.
Академик возражал:
— Мамонт, если он действительно есть, а я в этом сомневаюсь, пролежит еще год. Надо сначала убедиться, что это мамонт.
Низовский готов был обрушить на старика поток красноречия, а потом повернуться и уйти из кабинета академика, хлопнув дверью. Но вместо всего этого, опустив голову, он тихо проговорил:
— Я буду рад сопутствовать вам, Афанасий Васильевич.
— Да уж, конечно, сопутствовать придется, не отвертитесь, голубчик…
Академик знал еще отца Низовского, который погиб во время ленинградской блокады, и очень уважал его. К Александру Львовичу он относился строго, но внимательно. Его смелых гипотез о живых мамонтах не разделял и, больше того, осуждал его за публичные высказывания.
Гидрографический бот «Норд» получил задание наряду с другими исследованиями посетить остров Ледяной.
"Норд" бросил якорь с юга от острова. Капитан бота долго разглядывал берег в бинокль.
— На шлюпке идти нельзя, — сказал он. — Прибой слишком силен.
Расстроенный Низовский расхаживал по палубе.
Его раздражала медлительная осторожность капитана и ворчливое спокойствие академика, усевшегося играть в шахматы с капитаном. Играть в шахматы, когда корабль стоял в виду острова, сохранившего в толще льда мамонта!
"Несомненно, мамонт попал на остров зимой, когда море было сковано льдом, — размышлял Низовский. — И, не найдя здесь пищи, погиб. Его тушу занесло снегом, который не растаял в холодное лето. В следующую зиму снегу нанесло еще больше. Под давлением верхних слоев и под влиянием летнего оттаивания слежавшийся снег постепенно превращался в лед, слой которого все увеличивался".
Расхаживая по палубе, Низовский уже видел себя докладывающим на сессии Академии наук.
По его мнению, туша мамонта оказалась вмороженной в лед.
В ледовитых морях происходит периодическое опускание и поднимание островов.
Покрытый льдом остров опустился, и морские волны занесли ледяную поверхность песком, который предохранил лед от таяния.
В последние годы остров был снова приподнят над поверхностью моря. Волны смыли с берега прикрывавший лед песок. Под влиянием общего потепления Арктики лед стал оттаивать. Таким образом и обнаружилось место, где когда-то упал погибший мамонт.
Низовский шел в свою тесную каютку и принимался лихорадочно писать. Еще в этом году он защитит диссертацию, получит звание кандидата. В следующих экспедициях он сможет обходиться без опеки ворчливого старика, который не хочет верить очевидности.
Низовский представлял себя исследующим какой-нибудь северный горный хребет. Там, в долине, защищенной со всех сторон от ветров, питаясь скудной северной растительностью, живут гигантские мохнатые животные, напоминающие слонов. На одной из скал будет устроен наблюдательный пункт с телескопами. Туристы, прилетающие на горный аэродром, смогут наблюдать своими глазами жизнь диких доисторических животных. Может быть, удастся перевезти один из экземпляров в Москву в зоопарк…
Низовский мысленно читал дощечку с надписью:
"Мамонт. Считался вымершим доисторическим животным. Привезен в зоопарк из долины… из долины Низовского".
Молодой ученый выходил на палубу и вглядывался в скучные очертания острова. Его освещенная ледяная стена казалась не изумрудно-зеленоватой, как в прошлый раз, а серой. Внизу виднелась белая кромка прибоя.
Низовский проклинал прибой.
Неделю простоял бот вблизи острова Ледяного. Капитан уже поговаривал о необходимости отправиться в другое место и на обратном пути зайти сюда. Низовский был в отчаянии. К счастью, академик заупрямился. Не веря в существование мамонта, он все же не желал отойти от острова Ледяного.
На следующий день прибой утих.
На катере и двух шлюпках ученые, сопровождавшие их рабочие и добровольно вызвавшиеся помогать моряки отправились к ледяной пещере.
Низовский и академик сидели в моторном катере. Они первыми подошли к ледяному обрыву.
— Какая жалость, что нет солнца, — сокрушался Низовский. — Я боюсь, что мы не увидим темного пятна туши мамонта.
— Клык-то, надеюсь, будет виден и без солнца, — проворчал Афанасий Васильевич.
— Конечно! — отозвался Низовский и, обращаясь к второму штурману, сидевшему у руля, скомандовал: — Держите вдоль правой стенки, убавьте ход. Самый тихий! Я буду перебирать руками по стене.
Без солнца в пещере было сумрачно. Низовский с волнением всматривался в полумрак. Вдруг клык исчез? Но этого не может быть. Клык был прочно вморожен в лед. Но вода за год могла растопить лед… Почему он не постарался в прошлый раз вырубить клык из льда? Какая непростительная оплошность… Но ведь он хотел достать непременно всего мамонта, не отделяя от него даже клыка.
— Вот он! Вижу! — крикнул матрос с носа катера.
Мотор звонко постукивал. Низовский готов был поверить, что это стучит его сердце.
— Стоп!
Мотор заглох. Катер, шелестя бортом о лед, едва двигался вперед.
— Бивень! — торжественно воскликнул Низовский.
— Бивень? — переспросил академик, поднимаясь во весь рост.
Он дотянулся до торчащего из льда белого ствола и ощупал его. Потом стал рассматривать со всех сторон.
— И в самом деле, бивень… — озадаченно произнес он. — Это даже странно.
— Я же вам докладывал, Афанасий Васильевич, — начал было Низовский, но старик махнул на него рукой.
Низовский замолчал. В пещере было тихо. Слышалось легкое плескание воды и далекие голоса из подходивших к ледяному гроту шлюпок.
— Мамонтова кость, — заключил академик. — Странно… не может быть!
— Так ведь вот она! Вот! — торжествующе повторял Низовский.
Свод и стены ледяной пещеры засветились.
— Солнце! Солнце! Какое счастье! — крикнул Низовский. — Смотрите… вот сюда смотрите! Вы видите темное пятно?
Моряки, рабочие, ученые — все вперили взоры в ледяной монолит.
Темное расплывчатое пятно было теперь отчетливо видно. Воображение придавало ему самые фантастические формы.
— Он, должно быть, на боку лежит, — заметил матрос.
— Ясно, на боку… Не на спину же лапками кверху ляжет, — сказал рабочий.
— Чего же вы ждете? — заторопился академик. — Скорее обкалывайте лед, освобождайте клык! Где кирка? Где лом? Я тоже помогать буду.
Низовский схватил лом, но не отдал его старику. Он сам обрушивал сокрушительные удары на ледяную стену. Осколки льда стучали по борту катера. Несколько человек с ожесточением рубили многовековой лед.
— Осторожнее, не повредите клыка. Оставляйте на нем слой льда, распоряжался Афанасий Васильевич, толкаясь среди рабочих и мешая им.
— Шевелится… шевелится клык, — сказал один из рабочих.
— Как шевелится? — почти в ужасе переспросил Низовский.
— Если раскачивать, — пояснил рабочий.
Академик ухватился за конец клыка и стал раскачивать. Клык подался. Еще несколько ударов ломом…
— Давай сюда, давай!.. Теперь тяни. Бери на себя! — увлеченно командовал старик.
Через минуту огромный изогнутый клык, едва поместившись в катере, лежал на его дне.
— Как жаль, что его пришлось отделить от туши, — сокрушенно сказал Низовский.
— А вот мы его сейчас рассмотрим. Скалывайте лед, скалывайте!
Подошли две отставшие шлюпки. По указанию Низовского рабочие стали расширять и углублять отверстие, из которого был вынут клык.
— Странно, очень странно, — бормотал академик, рассматривая гигантскую кость. Несомненно, мамонтова кость… Но вот почему она так тщательно опилена?
— Как опилена? — поразился Низовский.
— А вот, не угодно ли?
Молодой ученый склонился над костью, которую постепенно освобождали от льда. Когда лед был удален с конца бивня, все могли убедиться, что кость тщательно опилена каким-то инструментом.
— Ничего не понимаю… — прошептал молодой ученый.
— Любопытно, очень любопытно! — бормотал старик, склоняясь над клыком. — Тем любопытнее, что ваш мамонт, молодой человек, очевидно, был ручным. Он позволял делать резцом изображения на своих клыках. Вот, не угодно ли?
Вне себя от изумления Низовский рассматривал клык, на котором у опиленного основания была резьба. Отчетливо можно было разобрать затейливую вязь.
Тяжело дыша, Низовский встал с колен и сел на скамью.
— Что же это? Что же это такое? — спрашивал он старика.
— Любопытно, очень любопытно, — сказал тот.
— Давайте рубить! Давайте рубить лед! — предложил Низовский. — Мы должны открыть тайну темного пятна… Если это не мамонт, то что же это такое?
— Что ж… это будет любопытно, — согласился академик. Говорил он как бы нехотя, все продолжая разглядывать клык с резьбой. — А ведь он был к чему-то прикреплен. Смотрите, на нем даже канавки сделаны.
— К чему же он мог быть прикреплен? — поразился Низовский.
— Ну, например, к носу ладьи или коча… как еще в древности называли челны.
— К носу челна?
Находку доставили на корабль.
Двое суток во льду прокладывался ход к таинственному темному пятну.
Низовский не выходил из пещеры.
Афанасий Васильевич не съезжал больше на берег, сидел в каюте капитана и играл с ним в шахматы; злополучный клык лежал тут же на полу.
Вахтенный помощник капитана постучал в дверь.
— Войдите, — разрешил капитан, поглаживая свою роскошную бороду.
— Катер идет от берега.
— Не вовремя, — заметил капитан.
— Я потому и доложил.
Бросив незаконченную партию, академик вышел на палубу.
Катер подошел к борту. В нем стоял Низовский. Он что-то кричал академику, но разобрать слов было нельзя.
Наконец он поднялся по штормтрапу.
— Афанасий Васильевич! — закричал он, едва его голова поднялась над палубой. — Это оказалась туша…
— Туша кита? — перегнувшись через реллинги, спросил старик.
— Откуда вы знаете?
— Конечно, туша кита, — сказал старик и пошел в каюту доигрывать партию. — Я так и знал, что это туша кита, — говорил академик капитану. Вам шах… Теперь вашему королю не поздоровится. Думаю, что бот может отправляться в свой дальнейший путь.
— Простите, Афанасий Васильевич, сейчас мой ход, — сказал капитан. Чем же объясняете появление клыка на острове?
— Китобои. Древние китобои! Очевидно, они украсили клыком нос своего корабля или челна…
— Сдаюсь, — сказал капитан. — Я пойду распоряжусь о снятии с якоря.
Проходя мимо Низовского, капитан погладил бороду, улыбнулся и, не удержавшись, сказал:
— Вот тебе и живой мамонт!
Низовский покраснел.
Сославшись на головную боль, он ушел в свою каюту и заперся в ней. Напрасно капитан стучался к нему. Низовский не открывал. Не вышел он на палубу, даже услышав, что на корабле поднялся шум. Низовский подумал: это бот снимается с якоря, покидая остров Ледяной.
Но на самом деле шум поднялся, когда с острова прибыли на шлюпках матросы и рабочие. Они сообщили, что обнаружили за тушей кита… сруб.
Академик забыл обо всем на свете, даже о существовании своего молодого помощника. Он поспешно спустился в моторный катер и потребовал как можно скорее доставить его в пещеру.
Как это часто бывает с молодыми людьми, Низовский от огорчения уснул.
На рассвете кто-то забарабанил в его дверь. Ничего не понимая, он вскочил с койки и открыл каюту.
— Спите, батенька мой, спите? — угрожающе начал академик.
Низовский юркнул на койку и прикрылся одеялом.
— Не угодно ли полюбоваться, что вы нашли, аспирант Низовский? — все так же угрожающе продолжал Афанасий Васильевич.
Встревоженный Низовский смотрел, как академик торжественно положил ему на одеяло колчан и стрелы.
Низовский протер глаза.
— Сруб обнаружили, — улыбнулся академик. — Понимаете, за китом-то сруб оказался, — словно по секрету сказал Афанасий Васильевич и вдруг громко вскрикнул: — А вот это! Вы только поглядите на это! — Старик, прищурившись, уставился на Низовского. Выждав мгновение, он положил ему на ладонь несколько кусочков металла неровной формы. Словно зубилом вырублены, не правда ли? — допрашивал он. — А? Ну, то-то… Именно вырублены! Потому и рубль называется… Это действительно рубленые монеты!
— Монеты? — вскричал Низовский, соскакивая с койки и подхватывая упавшие было колчан и стрелы. — Монеты? Каких же времен?
— Времен Дмитрия Донского, голубчик! Дмитрия Донского… Куликовская битва, батенька!..
— Да это почище живого мамонта! — взволновался молодой человек.
Узнав эту историю, я не удержался и отправился на бот «Норд».
Я видел и академика Бондарева и Низовского. Они показывали мне чудесные находки, я держал в своих руках древние русские монеты, найденные на арктическом острове.
Академик, поглаживая бороду, говорил серьезно, чуть косясь на своего молодого помощника:
— Александр Львович сделал на острове Ледяном открытие особой важности. Его находки доказывают, что русские много сотен лет назад бывали в Арктике, открыли ее, охотились здесь на китов, вели торговлю, имели что-то вроде факторий. Тут исконная наша земля. — И академик посмотрел в круглый иллюминатор, через который виднелся низкий берег и суровое, свинцовое море. — Поднимать буду через Географическое общество вопрос. Давно пора стирать с арктических карт лишние иностранные имена. Не мало полярных земель и в Антарктике и в Арктике открыты нами, русскими… Это исконные наши места.
Я простился с учеными.
— А как же мамонты? — спросил я тихо Низовского.
— Я все равно буду их искать, — также тихо ответил мне Низовский.
Но старик обладал тонким слухом. Он улыбнулся и сказал:
— Он найдет, непременно найдет. Он специально для этого к вам на "Георгия Седова" перебирается. Хочет проверить, не забрался ли какой шалопай мамонт на Холодную Землю.
Мне было приятно, что знакомство с Низовским не кончается.
Ученые проводили меня до трапа.
МЕДВЕЖЬЕ ГОРЕ
 Во второй половине сентября, в небывало позднее для плавания в Арктике время, "Георгий Седов" поднял якорь и снова вышел на Большую дорогу Северного морского пути. Но вскоре он резко свернул к северу. У него был свой маршрут — к "Земле самой северной", как называл этот архипелаг мой новый знакомый, доктор географических наук Валентин Гаврилович. Он сел к нам на острове Диком вместе с научной экспедицией, которая должна была исследовать архипелаг.
Состояние льдов в западном секторе Арктики было для нас исключительно благоприятным. Собственно говоря, льдов долгое время не было совсем, кругом расстилался безбрежный океан. Сильно покачивало. Наконец мы дошли и до льдов.
Когда корабль вошел в лед, качка мгновенно прекратилась. Пассажиры выбрались на палубу. Выглянуло солнце и показало нам удивительные неповторимые краски, очень тонкие и нежные. Мне сказали, что они здесь никогда не бывают яркими. Белые поля расступались, образовав зеленоватые озера, тихие, как заводи.
Но вскоре солнце исчезло. Нас окружила мутная тьма. Видимость, как говорят моряки, пропала. Корабль вошел в полосу чистой воды и сплошного тумана.
Недаром так не любят моряки это море. Бури и туманы.
— Уж лучше бы льды, — говорил Борис Ефимович.
В довершение всего вещи в каютах ожили. Корабль валило с борта на борт. Я с трудом открыл дверь в каюту. Мой чемодан вырвался из-под койки и вместе со стулом носился по каюте. Графин выскочил из гнезда на полке и разбился.
Словом, был полный разгром.
Палуба уходила из-под ног. По ней было удобнее ползать, чем ходить, она напоминала скат крыши, угол которого все время менялся.
И вот при такой качке в непроглядном тумане наше судно третьи сутки осторожно бродило близ "Земли самой северной". Капитан искал архипелаг, но в то же время боялся неожиданно наткнуться на него или на айсберги, в изобилии плывшие от островов.
Трудное дело — определиться в тумане. Солнце или звезды не показывались ни на минуту. Радиопеленг из бухты Рубиновой словно издевался над капитаном. После каждой проверки корабль оказывался за несколько десятков миль от меридиана бухты Рубиновой.
— Бухта Рубиновая в центре архипелага, — объяснил Борис Ефимович. Радиоволны искажаются береговыми скалами.
Прежде мне никогда не приходилось слышать об этом явлении. Несмотря на прекрасное навигационное оборудование, корабль и теперь в большой мере зависел от искусства капитана.
Туман был очень густой. Небо словно висело на мачтах, и до самой дальней из видимых волн можно было добросить спасательный круг.
Я и Валентин Гаврилович, высокий, жилистый, с обветренным лицом и рассеянными голубыми глазами, стояли на палубе, прижавшись спинами к пароходной трубе. Было тепло, как у печки.
Вдруг неясная громада появилась из тумана.
— Право на борт! — послышался тревожный голос штурмана Нетаева.
— Еще право! Еще право! — закричал он.
Хлопнула дверь капитанской каюты.
— Медведь, — спокойно сказал географ.
Раньше чем осознать что-нибудь, я увидел белого медведя. Он стоял на айсберге и был на одном уровне с палубой. Мне показалось, что зверь собирается прыгнуть нам на головы.
Но медведь рванулся и побежал к вершине айсберга. Там он лег и прикрыл лапой свой черный нос. Очевидно, решил, что теперь его не видно.
Ледяную гору пронесло. Покрытая снегом с боков, хрустальная, она поднималась над водой громадой четырехэтажного дома. Я знал — в глубину уходило еще этажей четырнадцать. В отвесной ледяной стене темнел грот. Взлетали клубы пены.
Туман вдруг исчез.
— Вот земля, существование которой угадал Кропоткин, — сказал Валентин Гаврилович, показывая на горизонт. — Именем Кропоткина и следовало бы ее назвать.
Подошел Борис Ефимович и, улыбаясь, сказал:
— Чуть было не взяли медведя на борт. А взять все-таки придется, — и он показал радиограмму: "Убедительно просим захватить в бухте Рубиновой медведя для зоосада".
— Медвежонок будет нашим пассажиром? Занятно! — сказал мне в кают-компании Нетаев, сменившийся с вахты.
Вскоре корабль бросил якорь в бухте Рубиновой у подножия самой замечательной скалы Севера, которой бухта обязана своим названием. Летом поросшая лишайником красноватого цвета скала кажется рубиновой. Стены ее отвесны, сама скала высится, как исполинский постамент. Установи на нем скульптуру ему под стать, и достанет она до самого северного сияния.
С берега на юркой шлюпчонке спешили полярники. Первым по штормтрапу ловко взобрался молодой грузин с черными сросшимися бровями и тоненькими усиками, какие носят у него на родине. Он сразу же обратился к капитану:
— Очень прошу, пожалуйста, заберите от нас медвежат.
Узнав о радиограмме насчет медвежат, зимовщик просиял и попросил у капитана два мешка угля.
Уголь ему дали, и веселый молодой человек тотчас стал спускать мешки в шлюпку.
— Словно не с углем мешки, а с гагачьим пухом, — пошутил капитан.
Полярник покраснел, как девушка.
Позднее мы узнали, что в прошлом году он поднимался на Рубиновую скалу за птичьими яйцами и чуть не погиб там. Нужно было перепрыгнуть через трещину на узкий карниз отвесной стены. Он прыгнул, но камень под его ногой обвалился. Чтобы не упасть, пришлось прижаться к стене всем телом. Повернуться, чтобы прыгнуть обратно, было невозможно. Его товарищи побежали на полярную станцию за помощью. Напряженные мускулы охотника одеревенели, стоять недвижимо больше не было сил, он должен был сорваться. И тогда он рискнул прыгнуть назад, не повертываясь… Оттолкнулся от стены одновременно руками и ногами и оказался по ту сторону трещины.
Когда товарищи прибежали с досками и веревками, смельчак как ни в чем не бывало собирал гагачий пух. Пух ему был нужен для подарка. На случай в горах и намекал капитан. В прошлом году он побывал в бухте Рубиновой и знал эту историю.
"Петушок" спустили в воду. Географ пошел за вещами. Но вот в бухту вошла целая флотилия льдин. Встревоженный капитан приказал поднять катер обратно. Географ вернулся с чемоданом. Ему не терпелось сойти на берег, и он проклинал приливо-отливное течение. Течение это направлено сначала в одну, а потом в другую сторону. И через некоторое время, когда течение изменилось, набившиеся в бухту льдины, словно по команде, покинули ее.
Катер снова спустили. Валентин Гаврилович сошел в него первым. Я решил отправиться на берег вместе с ним.
— Посмотрите на медвежат, — напутствовал меня Нетаев.
Нас встречало все население полярной станции, в том числе и большой белый медвежонок. Он, видимо, был очень любопытен. Ему обязательно хотелось посмотреть, что творится на пристани. Вытянув вперед острую морду, он осторожно тыкался во все углы. Другой медвежонок сидел на цепи у столба, возле дома полярников.
Заметив, что я смотрю на гуляющего медвежонка, молоденькая девушка в легкой курточке сказала мне:
— Это моя Машка.
Девушка была маленькая, с веселым лицом. Ее прямой носик был чуть срезан и придавал девичьему лицу задорное выражение. Звали ее Нина.
— Я вас познакомлю с Машкой, хотите?
Со своей проводницей я подошел поближе к Машке. Но стая лохматых псов опередила нас. Отчаянно лая, они окружили медвежонка. Машка опустила голову к земле и замахивалась лапой то на одного, то на другого пса. Те увертывались, а остальные отвлекали Машку на себя. Все было, как на настоящей медвежьей охоте.
Отбиваясь от собак, Машка отступала к столбу где другой медвежонок Мишка — изо всех сил натягивал цепь и угрожающе рычал.
Наконец Машка оказалась возле Мишки. Они "заняли оборону", став друг к другу хвостами. Собаки уселись в кружок, некоторое время скучающе полаяли и разбежались с сознанием выполненного долга. Порядок был наведен.
— Собаки терпеть не могут, когда Машка гуляет, — сказала Нина. — Они гонят ее к столбу, там Мишка всегда сидит на цепи. Но Машка ужасная непоседа. Она всюду ходит за мной, как собачонка. Лазит по лестнице на вышку, на крышу. Умеет открывать двери, снимать крючок, забираться в дом. Она постоянно меня ищет.
— Она вам совсем маленькой досталась? — спросил я.
— Досталась! — непонятно усмехнулась девушка.
Мы подошли к медвежатам, если так можно было назвать этих сравнительно уже больших зверей. Мишка, как и подобает взрослому, серьезному медведю, недоверчиво косился на нас, а Машка с любопытством тотчас стала меня обнюхивать.
Я попытался погладить медведицу, для чего нагибаться почти не потребовалось.
Машка отнеслась к этому благосклонно.
Потом я пошел осматривать полярную станцию а кстати решил найти моего спутника, Валентина Гавриловича, и полюбопытствовать, как он устраивается.
— Да он уже давно встал на лыжи и пошел обследовать остров, — без тени удивления ответили мне.
— Вот как!
Я едва успел дойти до столба с медвежатами, а мой географ с карабином и планшеткой уже шагает по ледникам!
— Познакомились с нашей медвежатницей? — спросили меня.
— С Ниной, которая вырастила медвежат?
— Не только вырастила. Она сама их добыла. Она у нас замечательный охотник.
Признаться, я был удивлен. Такая хрупкая, нежная девушка, и вдруг…
Встретившись с Ниной, я попросил ее рассказать, как она бьет медведей. Оказалось, что на ее счету больше десятка шкур. Иногда она ходит на охоту, но чаще встречается с мишками неожиданно.
— Однажды ночью вышла я на крыльцо, в халатике, — рассказывала она. Надо было посмотреть облачность, я ведь метеоролог, и вижу: огромный медведь трясет лапами столбик метеобудочки. Я так испугалась…
Испуганная девушка в развевающемся халатике стремглав бросилась в дом, схватила со стены винтовку, выбежала с нею на метеоплощадку и с одного выстрела уложила большого медведя.
— Очень уж я испугалась, что он поломает будочку, — словно оправдываясь, объясняла Нина.
Я попросил Нину рассказать, как ей «достались» Мишка и Машка.
— Мишку с матерью я встретила на льду. Собак со мной не было. Я подбила медведицу, она залезла на ропак, — это такая стоячая льдина. Медвежонок, совсем маленький, остался внизу. Когда мы поволокли по снегу тушу медведицы, Мишка забрался на нее, вцепился лапами в шерсть, да так и ехал на матери до самой станции. Потом я откармливала его. Сгущенного молока мне из-за него в ту зиму так и не досталось. Только он все равно вырос сердитым, не то что Машка. А вот она вместе с матерью сама пришла прямо на станцию…
Мишка и Машка были ровесники, хотя Машка была крупнее Мишки. Дружили они необычайно и друг без друга минуты прожить не могли. Это, пожалуй, больше относилось к Мишке, который всегда был прикован к столбу. Как только непоседливая его подруга куда-нибудь уходила, он обиженно ревел.
У причала кипела работа. Начался аврал. Работали все без исключения: и начальник полярной станции, и Нина, и Виктор, полярник, получавший у нас уголь, и научные сотрудники, и мы — пассажиры. Таковы арктические традиции.
Одного только географа не было. Раз мне показалось, что вдали, на куполе ледника, мелькнула фигура лыжника. Может быть, это был он.
Дня через два аврал закончился. Грузы — продовольствие, бензин, оборудование, ящики, доски — все было на берегу. Забирали грузы со станции — пустые бочки. Предстояло взять и медвежат, которых ждали в зоопарке. Я помог перенести со склада ящик, куда решили поместить зверей.
Виктор и Нина привели на цепи Мишку, а Машка шла за ними кроткая и покорная. Пока готовили доски, чтобы забить ими ящик, Мишку привязали на цепь к бочке с керосином. Машка доверчиво бродила около ящика, попадаясь всем под ноги. Но Мишка был настроен не так мирно. Он стал реветь.
— Ну, чего ревешь? — увещевал его Виктор. — В столицу поедешь. Всегда сытно кушать будешь.
Мишка принялся рвать цепь. Ошейник не выдержал и лопнул. Медвежонок бросился наутек. Машка следом за ним.
Виктор ринулся за медвежонком, на ходу снимая полушубок. Догнав Мишку, он упал на него, как вратарь на мяч, и накрыл медведя полушубком.
— Вот чудак… — задыхаясь, говорил Виктор, лежа на медведе и стараясь просунуть руки под передние лапы зверя. — В зоопарке… ведь не в клетке будешь жить.
Однако Мишка возмущенно ревел и сопротивлялся. Только потом мы узнали, что Мишке удалось цапнуть своего противника за руку.
Виктор выпрямился, подняв завернутого в полушубок медвежонка. Мишка орал истошно, бил всеми четырьмя лапами, вертел мордой, но был беспомощен.
Виктор, покраснев от напряжения (медвежонок весил не меньше куля с углем), нес Мишку к ящику. Машка покорно шла следом.
Так Мишка попал в ящик, где и замолчал.
Тут заволновалась Машка. Она была спокойна до тех пор, пока слышала голос друга. Но теперь она стала реветь, бегать вокруг, тревожно нюхая снег.
Виктор беспечно подошел к ней, но медведица уже что-то почуяла. Взволнованно засопев (медведи при тревоге сопят), она отбежала от него. Виктор прыгнул к ней, но Машка увернулась, Виктор решил применить уже испробованный метод: окинул полушубок и бросился на Машку. Машка (она была сильнее Мишки) легко вырвалась и ударила противника по лицу.
Медвежья пощечина!
Виктор отлетел от медведицы на добрых два метра. К нему кинулись, чтобы поднять его, но он вскочил на ноги и пустился за Машкой.
Виктор настиг медведицу у берега, но она бросилась в бухту. Ее преследователь влетел по колено в ледяную воду. Подбежав, Нина силой вытащила Виктора на берег.
Машка плыла к льдине.
Через некоторое время все успокоилось. Медвежонка увезли на пароход.
Машка вылезла из воды и поплелась к своему столбу. Она подпустила к себе Нину, которая принесла ей еду, но есть не стала.
Виктор позвал Нину и дал ей веревку с петлей. Нина хотела надеть петлю на медведицу.
Девушку пытались отговорить, но она сказала:
— Это ведь не медведь. Это только Машка. И потом… в зоопарке ей будет хорошо, а здесь… она погибнет. Ей придется… погибнуть…
Все мы наблюдали за тем, что произойдет.
Нина подошла к медведице, протянула руку с веревкой.
Медведицу словно подменили. С глухим ревом она увернулась. Тогда Нина навалилась на медведицу, оседлала ее, схватив со спины руками и ногами. Она применяла силу к своей любимице, чтобы спасти ее.
Машка зарычала, но Нина не отпускала. Медведица тряхнула Нину, но та продолжала ее держать. Виктор был уже в нескольких шагах. Но тут медведица сбросила с себя девушку. Что-то белое взметнулось над местом схватки: не то снег, не то пух… Вместо безобидной Машки мы увидели свирепого сильного зверя. Виктор смело бросился на него все с тем же полушубком. Зверь пустился бежать. Оба они скрылись за магнитным павильоном.
Мы подбежали к Нине, но она уже встала. Ее курточка была разодрана, над землей кружился гагачий пух, по руке текла кровь. Оказывается, медведица сильно укусила ее.
— Ничего мне так не жаль, как курточки, — сказала Нина, морщась от боли. — Ведь этот пух — подарок… Какая глупая, глупая Машка… Как же ее спасти?
Нину повели на станцию, чтобы сделать перевязку.
Вернулся запыхавшийся Виктор.
— Застрелить надо медведя, обязательно застрелить, — сказал он. — Но только тайно от Нины. Знаете, как она любит Машку.
С Викторомсогласились. Нельзя взрослому зверю оставаться с людьми на полярной станции.
Был вечер. Над бухтой горела долгая северная заря. Все изменилось вокруг. Прозрачно-оранжевое небо, зеленоватая вода, белые льдины на ней, темно-красная громада Рубиновой скалы и темный силуэт нашего корабля. А дальше — в проливе между бухтой и соседним островком — причудливые ледяные громады. Некоторые напоминают дом с провалившейся крышей, некоторые снежную горку со скатом в воду. А самый большой айсберг походил на древнюю ладью с высоким носом и кормой.
Вдруг я заметил на одной из ближайших льдин медведицу. Она неподвижно стояла, вытянув морду вверх к кораблю, и напоминала изваяние. Слитая с льдиной, словно сама сделанная изо льда и снега, медведица проплывала мимо корабля. Но она была не изо льда, она была живая, она тоскливо ревела!
Я услышал ответный рев с корабля. Мишка узнал подругу.
Течение быстро пронесло медведицу мимо. Стоя на берегу, я заметил, как Машка спрыгнула в воду и с ловкостью дельфина поплыла к берегу. Она выбралась на камни и побежала к полярной станции, рыча тихо и жалобно. Ей попадались собаки. Они отбегали в сторону, будто уважая чужое горе.
Машка побежала по берегу против течения и снова бросилась в воду.
Через несколько минут она была на новой льдине и вновь поплыла мимо корабля. И вновь ревели разлученные друзья.
Потом Машка опять забежала против течения по берегу… Можно было удивляться этому необыкновенному упорству. Снова и снова проплывала Машка мимо корабля.
Люди с изумлением смотрели на нее. Не слышно было шуток.
Моряки прощались с полярниками: пароход уходил перед рассветом.
Пришел мой спутник — географ. Все это время он работал над статьей о ледниках бухты Рубиновой. Я должен был отвезти рукопись в Москву. Из-за этой статьи он не участвовал в аврале. Товарищи охотно освободили его от всех обязанностей, но он слышать об этом не захотел и добровольно принял на себя обязательство топить баню в течение всей зимы.
— Итак, наши трофеи: статьи и медвежонок, — сказал я, взяв рукопись.
— Какой медвежонок? — удивился доктор географических наук. — Разве здесь были медведи?
Я от души рассмеялся. Ах, доктор, доктор! Мы обнялись.
Я пожал руку Нине, Виктору и перешел на катер. Отсюда была хорошо видна вся территория полярной станции. На берегу стояла толпа людей. Невольно я взглянул на столб, около которого впервые увидел медвежат. Там была Машка. Она стояла, обняв столб лапами, и трясла его. До меня долетел ее горестный рев. В движениях, в реве медведицы было отчаяние.
Я взглянул на Нину.
— Я все-таки спасу ее, — тихо, но твердо сказала девушка.
На мгновение брови ее сошлись. Потом она улыбнулась нам, отъезжающим на Большую Землю. Нина оставалась здесь, на краю земли, еще на год. Я решил, что Нина хочет увести Машку далеко во льды и там оставить.
Катер отошел.
Стало темно.
С корабля уже не было видно полярной станции. Погасли последние огни в домиках. Спать не хотелось. Я дождался часа, когда уже угадывались краски рассвета. Капитан приказал прощаться с полярниками. Борис Ефимович хорошо знал, как ценят на Севере даже маленькие знаки внимания.
Одна за другой взлетели в воздух ракеты. На миг появились из тьмы крутые берега, ледники и темная громада Рубиновой скалы. Некоторые ракеты падали в бухту, не успевая сгореть. Тогда в воде мерцали пятна подводных огней.
Когда берег освещался, я видел домики станции и одинокий столб.
Около столба никого не было.
Спустя много дней мы шли в чистом ото льдов море.
Капитан рывком открыл дверь каюты.
— Медведь на палубе! Осторожнее!
Медведь на палубе? Невольно вспомнился айсберг с медведем, который мог прыгнуть на корабль. Но ведь айсберги остались далеко позади.
Оказывается, клетка Мишки была пуста. Видимо, он, как и Машка, умел снимать крючки, но до поры до времени скрывал это. Теперь он сбежал из клетки.
Мишку искали по всему кораблю, но не нашли.
Он исчез.
Решили, что он спрыгнул в море…
— Не погибнет, — уверял Борис Ефимович. — У медведей замечательный обычай: если медведица встретит во льдах одинокого медвежонка, она усыновляет его…
Но льды далеко, очень далеко…
Смог ли медвежонок доплыть до льдов?
Едва ли…
А может быть?
Но все выяснилось, когда третий штурман Нетаев вернулся с вахты в свою каюту.
У него под койкой спал белый медвежонок!
Молодой штурман был единственным человеком, который нашел путь к сердцу зверя.
Он наблюдал всю сцену медвежьего горя. Оно тронуло его, и он занялся Мишкой. Стал заходить к нему в клетку, кормил его, ласкал, чему-то обучал. И Мишка привязался к новому другу. Видимо, соскучившись по своему покровителю, он и сбежал из клетки. По запаху нашел каюту штурмана и проник в нее через приоткрытую дверь. При качке дверь захлопнулась.
Пожалуй, самым трогательным во всей этой истории с медвежатами был финал, в котором я, к сожалению, не принимал участия.
Нина и Виктор все-таки спасли Машку.
Конечно, зверя, привыкшего к полярной станции, знающего к ней дорогу, нельзя было оставить на свободе.
И Нина с Виктором, взяв успокоившуюся, покорную Машку на веревку, проделали вместе с ней шестидесятикилометровый переход на лыжах.
Они добрались до соседнего пункта, куда должен был зайти полярный корабль «Норд».
Машка благополучно попала на борт «Норда», где, как рассказывают, свободно разгуливала по палубе и была общей любимицей.
"Норд" пришел в Архангельск следом за «Седовым», и в порту произошла встреча Мишки и Машки.
Мне рассказывали, что звери тотчас узнали друг друга, ласково ткнулись мордами и, засопев, заняли оборонительную позицию, хвостами внутрь воображаемого круга.
В тот вечер, когда Мишка нашелся в каюте Нетаева, мы уже знали о том, что Машка на «Норде». Нетаев страстно спорил в кают-компании — можно ли стрелять белых медведей? Он напоминал о запрещении убивать белых медведей, если они не нападают сами на людей. А нападают они исключительно редко.
Окончив спор, все мы под влиянием Нетаева высказали пожелание, чтобы в нашей стране был создан всесоюзный заповедник белого медведя.
Его можно организовать на Дальней Земле или севернее определенной параллели.
— Уж если где было в последнее время медведям приволье, так это на острове Ледниковом, — сказал капитан, вставая, чтобы идти на мостик. Последние пять лет туда ни один корабль не мог пробиться.
Во второй половине сентября, в небывало позднее для плавания в Арктике время, "Георгий Седов" поднял якорь и снова вышел на Большую дорогу Северного морского пути. Но вскоре он резко свернул к северу. У него был свой маршрут — к "Земле самой северной", как называл этот архипелаг мой новый знакомый, доктор географических наук Валентин Гаврилович. Он сел к нам на острове Диком вместе с научной экспедицией, которая должна была исследовать архипелаг.
Состояние льдов в западном секторе Арктики было для нас исключительно благоприятным. Собственно говоря, льдов долгое время не было совсем, кругом расстилался безбрежный океан. Сильно покачивало. Наконец мы дошли и до льдов.
Когда корабль вошел в лед, качка мгновенно прекратилась. Пассажиры выбрались на палубу. Выглянуло солнце и показало нам удивительные неповторимые краски, очень тонкие и нежные. Мне сказали, что они здесь никогда не бывают яркими. Белые поля расступались, образовав зеленоватые озера, тихие, как заводи.
Но вскоре солнце исчезло. Нас окружила мутная тьма. Видимость, как говорят моряки, пропала. Корабль вошел в полосу чистой воды и сплошного тумана.
Недаром так не любят моряки это море. Бури и туманы.
— Уж лучше бы льды, — говорил Борис Ефимович.
В довершение всего вещи в каютах ожили. Корабль валило с борта на борт. Я с трудом открыл дверь в каюту. Мой чемодан вырвался из-под койки и вместе со стулом носился по каюте. Графин выскочил из гнезда на полке и разбился.
Словом, был полный разгром.
Палуба уходила из-под ног. По ней было удобнее ползать, чем ходить, она напоминала скат крыши, угол которого все время менялся.
И вот при такой качке в непроглядном тумане наше судно третьи сутки осторожно бродило близ "Земли самой северной". Капитан искал архипелаг, но в то же время боялся неожиданно наткнуться на него или на айсберги, в изобилии плывшие от островов.
Трудное дело — определиться в тумане. Солнце или звезды не показывались ни на минуту. Радиопеленг из бухты Рубиновой словно издевался над капитаном. После каждой проверки корабль оказывался за несколько десятков миль от меридиана бухты Рубиновой.
— Бухта Рубиновая в центре архипелага, — объяснил Борис Ефимович. Радиоволны искажаются береговыми скалами.
Прежде мне никогда не приходилось слышать об этом явлении. Несмотря на прекрасное навигационное оборудование, корабль и теперь в большой мере зависел от искусства капитана.
Туман был очень густой. Небо словно висело на мачтах, и до самой дальней из видимых волн можно было добросить спасательный круг.
Я и Валентин Гаврилович, высокий, жилистый, с обветренным лицом и рассеянными голубыми глазами, стояли на палубе, прижавшись спинами к пароходной трубе. Было тепло, как у печки.
Вдруг неясная громада появилась из тумана.
— Право на борт! — послышался тревожный голос штурмана Нетаева.
— Еще право! Еще право! — закричал он.
Хлопнула дверь капитанской каюты.
— Медведь, — спокойно сказал географ.
Раньше чем осознать что-нибудь, я увидел белого медведя. Он стоял на айсберге и был на одном уровне с палубой. Мне показалось, что зверь собирается прыгнуть нам на головы.
Но медведь рванулся и побежал к вершине айсберга. Там он лег и прикрыл лапой свой черный нос. Очевидно, решил, что теперь его не видно.
Ледяную гору пронесло. Покрытая снегом с боков, хрустальная, она поднималась над водой громадой четырехэтажного дома. Я знал — в глубину уходило еще этажей четырнадцать. В отвесной ледяной стене темнел грот. Взлетали клубы пены.
Туман вдруг исчез.
— Вот земля, существование которой угадал Кропоткин, — сказал Валентин Гаврилович, показывая на горизонт. — Именем Кропоткина и следовало бы ее назвать.
Подошел Борис Ефимович и, улыбаясь, сказал:
— Чуть было не взяли медведя на борт. А взять все-таки придется, — и он показал радиограмму: "Убедительно просим захватить в бухте Рубиновой медведя для зоосада".
— Медвежонок будет нашим пассажиром? Занятно! — сказал мне в кают-компании Нетаев, сменившийся с вахты.
Вскоре корабль бросил якорь в бухте Рубиновой у подножия самой замечательной скалы Севера, которой бухта обязана своим названием. Летом поросшая лишайником красноватого цвета скала кажется рубиновой. Стены ее отвесны, сама скала высится, как исполинский постамент. Установи на нем скульптуру ему под стать, и достанет она до самого северного сияния.
С берега на юркой шлюпчонке спешили полярники. Первым по штормтрапу ловко взобрался молодой грузин с черными сросшимися бровями и тоненькими усиками, какие носят у него на родине. Он сразу же обратился к капитану:
— Очень прошу, пожалуйста, заберите от нас медвежат.
Узнав о радиограмме насчет медвежат, зимовщик просиял и попросил у капитана два мешка угля.
Уголь ему дали, и веселый молодой человек тотчас стал спускать мешки в шлюпку.
— Словно не с углем мешки, а с гагачьим пухом, — пошутил капитан.
Полярник покраснел, как девушка.
Позднее мы узнали, что в прошлом году он поднимался на Рубиновую скалу за птичьими яйцами и чуть не погиб там. Нужно было перепрыгнуть через трещину на узкий карниз отвесной стены. Он прыгнул, но камень под его ногой обвалился. Чтобы не упасть, пришлось прижаться к стене всем телом. Повернуться, чтобы прыгнуть обратно, было невозможно. Его товарищи побежали на полярную станцию за помощью. Напряженные мускулы охотника одеревенели, стоять недвижимо больше не было сил, он должен был сорваться. И тогда он рискнул прыгнуть назад, не повертываясь… Оттолкнулся от стены одновременно руками и ногами и оказался по ту сторону трещины.
Когда товарищи прибежали с досками и веревками, смельчак как ни в чем не бывало собирал гагачий пух. Пух ему был нужен для подарка. На случай в горах и намекал капитан. В прошлом году он побывал в бухте Рубиновой и знал эту историю.
"Петушок" спустили в воду. Географ пошел за вещами. Но вот в бухту вошла целая флотилия льдин. Встревоженный капитан приказал поднять катер обратно. Географ вернулся с чемоданом. Ему не терпелось сойти на берег, и он проклинал приливо-отливное течение. Течение это направлено сначала в одну, а потом в другую сторону. И через некоторое время, когда течение изменилось, набившиеся в бухту льдины, словно по команде, покинули ее.
Катер снова спустили. Валентин Гаврилович сошел в него первым. Я решил отправиться на берег вместе с ним.
— Посмотрите на медвежат, — напутствовал меня Нетаев.
Нас встречало все население полярной станции, в том числе и большой белый медвежонок. Он, видимо, был очень любопытен. Ему обязательно хотелось посмотреть, что творится на пристани. Вытянув вперед острую морду, он осторожно тыкался во все углы. Другой медвежонок сидел на цепи у столба, возле дома полярников.
Заметив, что я смотрю на гуляющего медвежонка, молоденькая девушка в легкой курточке сказала мне:
— Это моя Машка.
Девушка была маленькая, с веселым лицом. Ее прямой носик был чуть срезан и придавал девичьему лицу задорное выражение. Звали ее Нина.
— Я вас познакомлю с Машкой, хотите?
Со своей проводницей я подошел поближе к Машке. Но стая лохматых псов опередила нас. Отчаянно лая, они окружили медвежонка. Машка опустила голову к земле и замахивалась лапой то на одного, то на другого пса. Те увертывались, а остальные отвлекали Машку на себя. Все было, как на настоящей медвежьей охоте.
Отбиваясь от собак, Машка отступала к столбу где другой медвежонок Мишка — изо всех сил натягивал цепь и угрожающе рычал.
Наконец Машка оказалась возле Мишки. Они "заняли оборону", став друг к другу хвостами. Собаки уселись в кружок, некоторое время скучающе полаяли и разбежались с сознанием выполненного долга. Порядок был наведен.
— Собаки терпеть не могут, когда Машка гуляет, — сказала Нина. — Они гонят ее к столбу, там Мишка всегда сидит на цепи. Но Машка ужасная непоседа. Она всюду ходит за мной, как собачонка. Лазит по лестнице на вышку, на крышу. Умеет открывать двери, снимать крючок, забираться в дом. Она постоянно меня ищет.
— Она вам совсем маленькой досталась? — спросил я.
— Досталась! — непонятно усмехнулась девушка.
Мы подошли к медвежатам, если так можно было назвать этих сравнительно уже больших зверей. Мишка, как и подобает взрослому, серьезному медведю, недоверчиво косился на нас, а Машка с любопытством тотчас стала меня обнюхивать.
Я попытался погладить медведицу, для чего нагибаться почти не потребовалось.
Машка отнеслась к этому благосклонно.
Потом я пошел осматривать полярную станцию а кстати решил найти моего спутника, Валентина Гавриловича, и полюбопытствовать, как он устраивается.
— Да он уже давно встал на лыжи и пошел обследовать остров, — без тени удивления ответили мне.
— Вот как!
Я едва успел дойти до столба с медвежатами, а мой географ с карабином и планшеткой уже шагает по ледникам!
— Познакомились с нашей медвежатницей? — спросили меня.
— С Ниной, которая вырастила медвежат?
— Не только вырастила. Она сама их добыла. Она у нас замечательный охотник.
Признаться, я был удивлен. Такая хрупкая, нежная девушка, и вдруг…
Встретившись с Ниной, я попросил ее рассказать, как она бьет медведей. Оказалось, что на ее счету больше десятка шкур. Иногда она ходит на охоту, но чаще встречается с мишками неожиданно.
— Однажды ночью вышла я на крыльцо, в халатике, — рассказывала она. Надо было посмотреть облачность, я ведь метеоролог, и вижу: огромный медведь трясет лапами столбик метеобудочки. Я так испугалась…
Испуганная девушка в развевающемся халатике стремглав бросилась в дом, схватила со стены винтовку, выбежала с нею на метеоплощадку и с одного выстрела уложила большого медведя.
— Очень уж я испугалась, что он поломает будочку, — словно оправдываясь, объясняла Нина.
Я попросил Нину рассказать, как ей «достались» Мишка и Машка.
— Мишку с матерью я встретила на льду. Собак со мной не было. Я подбила медведицу, она залезла на ропак, — это такая стоячая льдина. Медвежонок, совсем маленький, остался внизу. Когда мы поволокли по снегу тушу медведицы, Мишка забрался на нее, вцепился лапами в шерсть, да так и ехал на матери до самой станции. Потом я откармливала его. Сгущенного молока мне из-за него в ту зиму так и не досталось. Только он все равно вырос сердитым, не то что Машка. А вот она вместе с матерью сама пришла прямо на станцию…
Мишка и Машка были ровесники, хотя Машка была крупнее Мишки. Дружили они необычайно и друг без друга минуты прожить не могли. Это, пожалуй, больше относилось к Мишке, который всегда был прикован к столбу. Как только непоседливая его подруга куда-нибудь уходила, он обиженно ревел.
У причала кипела работа. Начался аврал. Работали все без исключения: и начальник полярной станции, и Нина, и Виктор, полярник, получавший у нас уголь, и научные сотрудники, и мы — пассажиры. Таковы арктические традиции.
Одного только географа не было. Раз мне показалось, что вдали, на куполе ледника, мелькнула фигура лыжника. Может быть, это был он.
Дня через два аврал закончился. Грузы — продовольствие, бензин, оборудование, ящики, доски — все было на берегу. Забирали грузы со станции — пустые бочки. Предстояло взять и медвежат, которых ждали в зоопарке. Я помог перенести со склада ящик, куда решили поместить зверей.
Виктор и Нина привели на цепи Мишку, а Машка шла за ними кроткая и покорная. Пока готовили доски, чтобы забить ими ящик, Мишку привязали на цепь к бочке с керосином. Машка доверчиво бродила около ящика, попадаясь всем под ноги. Но Мишка был настроен не так мирно. Он стал реветь.
— Ну, чего ревешь? — увещевал его Виктор. — В столицу поедешь. Всегда сытно кушать будешь.
Мишка принялся рвать цепь. Ошейник не выдержал и лопнул. Медвежонок бросился наутек. Машка следом за ним.
Виктор ринулся за медвежонком, на ходу снимая полушубок. Догнав Мишку, он упал на него, как вратарь на мяч, и накрыл медведя полушубком.
— Вот чудак… — задыхаясь, говорил Виктор, лежа на медведе и стараясь просунуть руки под передние лапы зверя. — В зоопарке… ведь не в клетке будешь жить.
Однако Мишка возмущенно ревел и сопротивлялся. Только потом мы узнали, что Мишке удалось цапнуть своего противника за руку.
Виктор выпрямился, подняв завернутого в полушубок медвежонка. Мишка орал истошно, бил всеми четырьмя лапами, вертел мордой, но был беспомощен.
Виктор, покраснев от напряжения (медвежонок весил не меньше куля с углем), нес Мишку к ящику. Машка покорно шла следом.
Так Мишка попал в ящик, где и замолчал.
Тут заволновалась Машка. Она была спокойна до тех пор, пока слышала голос друга. Но теперь она стала реветь, бегать вокруг, тревожно нюхая снег.
Виктор беспечно подошел к ней, но медведица уже что-то почуяла. Взволнованно засопев (медведи при тревоге сопят), она отбежала от него. Виктор прыгнул к ней, но Машка увернулась, Виктор решил применить уже испробованный метод: окинул полушубок и бросился на Машку. Машка (она была сильнее Мишки) легко вырвалась и ударила противника по лицу.
Медвежья пощечина!
Виктор отлетел от медведицы на добрых два метра. К нему кинулись, чтобы поднять его, но он вскочил на ноги и пустился за Машкой.
Виктор настиг медведицу у берега, но она бросилась в бухту. Ее преследователь влетел по колено в ледяную воду. Подбежав, Нина силой вытащила Виктора на берег.
Машка плыла к льдине.
Через некоторое время все успокоилось. Медвежонка увезли на пароход.
Машка вылезла из воды и поплелась к своему столбу. Она подпустила к себе Нину, которая принесла ей еду, но есть не стала.
Виктор позвал Нину и дал ей веревку с петлей. Нина хотела надеть петлю на медведицу.
Девушку пытались отговорить, но она сказала:
— Это ведь не медведь. Это только Машка. И потом… в зоопарке ей будет хорошо, а здесь… она погибнет. Ей придется… погибнуть…
Все мы наблюдали за тем, что произойдет.
Нина подошла к медведице, протянула руку с веревкой.
Медведицу словно подменили. С глухим ревом она увернулась. Тогда Нина навалилась на медведицу, оседлала ее, схватив со спины руками и ногами. Она применяла силу к своей любимице, чтобы спасти ее.
Машка зарычала, но Нина не отпускала. Медведица тряхнула Нину, но та продолжала ее держать. Виктор был уже в нескольких шагах. Но тут медведица сбросила с себя девушку. Что-то белое взметнулось над местом схватки: не то снег, не то пух… Вместо безобидной Машки мы увидели свирепого сильного зверя. Виктор смело бросился на него все с тем же полушубком. Зверь пустился бежать. Оба они скрылись за магнитным павильоном.
Мы подбежали к Нине, но она уже встала. Ее курточка была разодрана, над землей кружился гагачий пух, по руке текла кровь. Оказывается, медведица сильно укусила ее.
— Ничего мне так не жаль, как курточки, — сказала Нина, морщась от боли. — Ведь этот пух — подарок… Какая глупая, глупая Машка… Как же ее спасти?
Нину повели на станцию, чтобы сделать перевязку.
Вернулся запыхавшийся Виктор.
— Застрелить надо медведя, обязательно застрелить, — сказал он. — Но только тайно от Нины. Знаете, как она любит Машку.
С Викторомсогласились. Нельзя взрослому зверю оставаться с людьми на полярной станции.
Был вечер. Над бухтой горела долгая северная заря. Все изменилось вокруг. Прозрачно-оранжевое небо, зеленоватая вода, белые льдины на ней, темно-красная громада Рубиновой скалы и темный силуэт нашего корабля. А дальше — в проливе между бухтой и соседним островком — причудливые ледяные громады. Некоторые напоминают дом с провалившейся крышей, некоторые снежную горку со скатом в воду. А самый большой айсберг походил на древнюю ладью с высоким носом и кормой.
Вдруг я заметил на одной из ближайших льдин медведицу. Она неподвижно стояла, вытянув морду вверх к кораблю, и напоминала изваяние. Слитая с льдиной, словно сама сделанная изо льда и снега, медведица проплывала мимо корабля. Но она была не изо льда, она была живая, она тоскливо ревела!
Я услышал ответный рев с корабля. Мишка узнал подругу.
Течение быстро пронесло медведицу мимо. Стоя на берегу, я заметил, как Машка спрыгнула в воду и с ловкостью дельфина поплыла к берегу. Она выбралась на камни и побежала к полярной станции, рыча тихо и жалобно. Ей попадались собаки. Они отбегали в сторону, будто уважая чужое горе.
Машка побежала по берегу против течения и снова бросилась в воду.
Через несколько минут она была на новой льдине и вновь поплыла мимо корабля. И вновь ревели разлученные друзья.
Потом Машка опять забежала против течения по берегу… Можно было удивляться этому необыкновенному упорству. Снова и снова проплывала Машка мимо корабля.
Люди с изумлением смотрели на нее. Не слышно было шуток.
Моряки прощались с полярниками: пароход уходил перед рассветом.
Пришел мой спутник — географ. Все это время он работал над статьей о ледниках бухты Рубиновой. Я должен был отвезти рукопись в Москву. Из-за этой статьи он не участвовал в аврале. Товарищи охотно освободили его от всех обязанностей, но он слышать об этом не захотел и добровольно принял на себя обязательство топить баню в течение всей зимы.
— Итак, наши трофеи: статьи и медвежонок, — сказал я, взяв рукопись.
— Какой медвежонок? — удивился доктор географических наук. — Разве здесь были медведи?
Я от души рассмеялся. Ах, доктор, доктор! Мы обнялись.
Я пожал руку Нине, Виктору и перешел на катер. Отсюда была хорошо видна вся территория полярной станции. На берегу стояла толпа людей. Невольно я взглянул на столб, около которого впервые увидел медвежат. Там была Машка. Она стояла, обняв столб лапами, и трясла его. До меня долетел ее горестный рев. В движениях, в реве медведицы было отчаяние.
Я взглянул на Нину.
— Я все-таки спасу ее, — тихо, но твердо сказала девушка.
На мгновение брови ее сошлись. Потом она улыбнулась нам, отъезжающим на Большую Землю. Нина оставалась здесь, на краю земли, еще на год. Я решил, что Нина хочет увести Машку далеко во льды и там оставить.
Катер отошел.
Стало темно.
С корабля уже не было видно полярной станции. Погасли последние огни в домиках. Спать не хотелось. Я дождался часа, когда уже угадывались краски рассвета. Капитан приказал прощаться с полярниками. Борис Ефимович хорошо знал, как ценят на Севере даже маленькие знаки внимания.
Одна за другой взлетели в воздух ракеты. На миг появились из тьмы крутые берега, ледники и темная громада Рубиновой скалы. Некоторые ракеты падали в бухту, не успевая сгореть. Тогда в воде мерцали пятна подводных огней.
Когда берег освещался, я видел домики станции и одинокий столб.
Около столба никого не было.
Спустя много дней мы шли в чистом ото льдов море.
Капитан рывком открыл дверь каюты.
— Медведь на палубе! Осторожнее!
Медведь на палубе? Невольно вспомнился айсберг с медведем, который мог прыгнуть на корабль. Но ведь айсберги остались далеко позади.
Оказывается, клетка Мишки была пуста. Видимо, он, как и Машка, умел снимать крючки, но до поры до времени скрывал это. Теперь он сбежал из клетки.
Мишку искали по всему кораблю, но не нашли.
Он исчез.
Решили, что он спрыгнул в море…
— Не погибнет, — уверял Борис Ефимович. — У медведей замечательный обычай: если медведица встретит во льдах одинокого медвежонка, она усыновляет его…
Но льды далеко, очень далеко…
Смог ли медвежонок доплыть до льдов?
Едва ли…
А может быть?
Но все выяснилось, когда третий штурман Нетаев вернулся с вахты в свою каюту.
У него под койкой спал белый медвежонок!
Молодой штурман был единственным человеком, который нашел путь к сердцу зверя.
Он наблюдал всю сцену медвежьего горя. Оно тронуло его, и он занялся Мишкой. Стал заходить к нему в клетку, кормил его, ласкал, чему-то обучал. И Мишка привязался к новому другу. Видимо, соскучившись по своему покровителю, он и сбежал из клетки. По запаху нашел каюту штурмана и проник в нее через приоткрытую дверь. При качке дверь захлопнулась.
Пожалуй, самым трогательным во всей этой истории с медвежатами был финал, в котором я, к сожалению, не принимал участия.
Нина и Виктор все-таки спасли Машку.
Конечно, зверя, привыкшего к полярной станции, знающего к ней дорогу, нельзя было оставить на свободе.
И Нина с Виктором, взяв успокоившуюся, покорную Машку на веревку, проделали вместе с ней шестидесятикилометровый переход на лыжах.
Они добрались до соседнего пункта, куда должен был зайти полярный корабль «Норд».
Машка благополучно попала на борт «Норда», где, как рассказывают, свободно разгуливала по палубе и была общей любимицей.
"Норд" пришел в Архангельск следом за «Седовым», и в порту произошла встреча Мишки и Машки.
Мне рассказывали, что звери тотчас узнали друг друга, ласково ткнулись мордами и, засопев, заняли оборонительную позицию, хвостами внутрь воображаемого круга.
В тот вечер, когда Мишка нашелся в каюте Нетаева, мы уже знали о том, что Машка на «Норде». Нетаев страстно спорил в кают-компании — можно ли стрелять белых медведей? Он напоминал о запрещении убивать белых медведей, если они не нападают сами на людей. А нападают они исключительно редко.
Окончив спор, все мы под влиянием Нетаева высказали пожелание, чтобы в нашей стране был создан всесоюзный заповедник белого медведя.
Его можно организовать на Дальней Земле или севернее определенной параллели.
— Уж если где было в последнее время медведям приволье, так это на острове Ледниковом, — сказал капитан, вставая, чтобы идти на мостик. Последние пять лет туда ни один корабль не мог пробиться.
ТРЕХЛАПАЯ
 Мы должны были во что бы то ни стало пробиться к острову Ледниковому.
Это один из самых далеких и недоступных полярных островов мира.
Когда-то на нем среди голых базальтовых скал нашли кирку и обрывок русского трехцветного флага. Здесь был похоронен один из русских исследователей, неистово стремившийся на Север.
Впоследствии советские люди основали на острове Ледниковом самую дальнюю полярную станцию. Ее сведения были очень ценны для науки о погоде. Однако во время войны станцию пришлось временно закрыть.
В послевоенные годы, когда было запланировано вновь открыть полярную станцию Ледникового, непроходимые льды всегда преграждали путь кораблям.
Потерпев в прошлом году неудачу, наш капитан Борис Ефимович решил теперь во что бы то ни стало доставить на остров персонал станции.
Корабль шел на север. Вокруг белые льдины. Между ними темные пятна, но это не вода, это тоже лед, только молодой. Он похож на хрупкое стекло. Тонкие прозрачные пластины, уступая путь кораблю, наползают одна на другую. В них видны белые блинчики смерзшегося льда и комья снежуры — не тающего в воде снега…
О попытке открыть полярную станцию острова Ледникового рассказывали мне в бухте Рубиновой зимовщики.
Одним из главных героев рассказа была собака Гекса.
Гекса по-ненецки «ведьма».
Гексу еще на материке подарил полярникам старый ненец. Он долго извинялся, что у собаки только три ноги. Четвертую ей откусил белый медведь. Но старик уверял, что у Гексы множество достоинств, что она едва не говорит, а понимает решительно все.
Такая слава установилась за Гексой, и, когда она по своей привычке вертелась у дверей кают-компании, полярники смеясь говорили, что она «подслушивает».
В бухте Рубиновой Гекса неожиданно принесла четверых щенят. Лохматые, они, как шарики, катались по зимовке и были общими любимцами.
Метеоролог Михаил Иванович, грузный, толстый, страдавший одышкой, всегда брал их с собой на метеоплощадку; щенки неслись за ним, дружно лая и охраняя Михаила Ивановича, как он говорил, от белых медведей. Ваня-радист всегда ждал, когда же щенята ворвутся к нему в радиорубку с требованием чего-нибудь вкусного, всегда припасенного Ваней для любимцев.
К весне собаки подросли и превратились в здоровенных, грудастых и лохматых псов. Они носились по берегу и, наученные Гексой, поднимали лай всякий раз, когда любопытная нерпа высовывала из воды голову. Звали охотника с ружьем.
В тот день, когда в кают-компании обсуждался вопрос о досрочном открытии полярной станции Ледникового, Гекса как всегда вертелась около дверей и «подслушивала». На этот раз ей стоило подслушивать и тревожиться. Речь шла о ее сыновьях.
Идти пешком на остров Ледниковый предложил Михаил Иванович. Он рассчитывал запрячь в нарты четырех молодых псов. Люди помогали бы им тащить груз.
— Мы непременно дойдем, а корабль может опять не дойти, — говорил Михаил Иванович.
Начальник станции Лавров удивился:
— Что вы, Михаил Иванович! Сможете ли вы? Ведь двести пятьдесят километров! Потом ваша комплекция… Опять же одышка…
— Ничего, — отвечал Михаил Иванович, вытирая платком свое широкое лицо с недавно отпущенной бородкой. — Молодежи в таком походе нужен старший товарищ. Кому же идти, как не парторгу станции?
— Трудное это дело, — покачал головой старший механик Матвей Сергеевич, человек рассудительный и неторопливый. — Ведь архипелаг… Идти по островам да по проливам. Лед взломаться может. Пурга тоже сильная бывает. Занесет снегом — не откопаешься.
— Чепуха! — усмехнулся второй механик Юрий, долговязый юноша. Русский флаг на остров Ледниковый люди доставили пешком. А шли они как раз из нашей бухты. Их корабль тут и стоял.
— До острова они дошли, это верно… только похоронили там своего начальника, а нам работать надо, — заметил Матвей Сергеевич.
— Вы можете не ходить! — запальчиво заявил Юрий. — А я вызываюсь идти.
Матвей Сергеевич пожал плечами. Ему не хотелось уходить из бухты Рубиновой. Он строил роторный ветродвигатель взамен поломанного ветряка, и ему очень важно было довести это дело до конца.
Состав группы был утвержден: Михаил Иванович, Юрий, Ваня-радист — тот самый, который работал когда-то под начальством геолога Гали. Из Москвы пришло разрешение выйти на Ледниковый.
Михаил Иванович сразу же начал готовиться, объявил тренировки. Ежедневно все трое отправлялись на купол ледника, таща за собой груженые нарты, слишком тяжелые для неполной упряжки из четырех молодых псов. Гекса всякий раз добровольно сопровождала экспедицию.
Возвращались на станцию усталые, разбитые. Юрий ворчал:
— Не понимаю, зачем это? Таким ходом мы уже давно дошли бы до острова Ледникового. Я в Москве в лыжных соревнованиях участвовал… смешно! Не всем жир сгонять.
Ваня, застенчивый, голубоглазый, веснушчатый, смущенно отмалчивался, а Михаил Иванович улыбался добродушно, но возражал жестковато:
— Приучаться, ребятки, надо не только к ходьбе, но и к дисциплине. Не выполнить задания мы не имеем права.
На станции сушили сухари и монтировали походную радиостанцию.
Юрий, порывистый, увлекающийся, торопил с выходом. Но Михаил Иванович не спешил. Он требовал, чтобы каждый контакт в радиостанции пропаивался с той же тщательностью, с какой перед взлетом самолета готовят парашюты.
Только Лавров слышал, как после тренировок стонал по ночам Михаил Иванович.
— Вы хоть груза поменьше возьмите, — говорил ему Лавров. — Лишь бы дойти до Ледникового. А там все найдется. Склады полны.
— Так ли? — качал головой Михаил Иванович, растирая ноющие ноги. — Вы слышали об исчезающих островах? Море подтачивает берег Ледникового. За эти годы строения могли обрушиться.
— Пожалуй… — согласился начальник. — Видно, придется вам брать продукты и на обратный путь. Если складов нет, возвращайтесь.
Наконец Михаил Иванович объявил большой тренировочный поход километров на пятьдесят-сто. Юрий намекал девушкам, что Михаил Иванович только называет этот поход тренировочным, а сам постарается дойти до цели.
Смельчаков провожали все зимовщики бухты Рубиновой.
Была середина апреля, самое солнечное время в Арктике. Полярная ночь кончилась месяц назад. День увеличивался с каждым восходом солнца. Снег и лед сверкали мириадами огней. Только на Рубиновой скале, которая сейчас была темно-серого цвета, не держался снег. Отвесная, она казалась бетонной громадой.
Мужчины обнялись. Девушки — их было трое — расцеловались с Ваней и Юрием. Пример подала Нина.
— Я буду приходить к вам в гости на лыжах! — крикпул Юрий. Подумаешь, двести пятьдесят километров!
Молодые псы нетерпеливо лаяли в упряжке. Рыжая трехлапая Гекса рвалась с веревки. Шерсть у нее на загривке стояла дыбом.
Вскоре маленькая цепочка растянулась на сверкающем снегу. Впереди двигалась круглая фигура, за ней следом две другие, одна высокая, другая низенькая, потом — четыре совсем маленькие и наконец — нарты, издали напоминающие пятнышко среди белого снега.
Грузный Михаил Иванович, налегая на лямку, шел первым. Двигались вдоль берега по твердому насту. От солнца на нем сияла яркая дорожка, как на воде. В проливе возвышались вмерзшие в лед айсберги.
Ослепительный блеск снега опасен. Михаил Иванович боялся снежной слепоты. Он приказал всем надеть темные очки.
Михаил Иванович сразу же взял быстрый темп, словно решил измотать всех на первом же переходе. Юрий, поборов самолюбие, вынужден был дважды напомнить о привале. Михаил Иванович отшучивался и все шел и шел.
Скоро молодые люди перестали замечать и крутые берега и встречные айсберги.
Осталась одна мысль:
"Идти, только идти. Забыть, что тебя окружает, и шагать, шагать… Заметить вдали точку и приближаться к ней. Дышать через каждые три шага вдох и выдох… И ни о чем больше не думать".
Остановились только раз, пообедать. Разожгли примус.
Потом опять навалились грудью на лямку, глядя под ноги.
Один лишь Михаил Иванович смотрел вперед, а когда оборачивался к своим спутникам, улыбался. В остальное время лица его не было видно.
Зашло солнце. Заря окрасила небо в нежные оранжевые тона и наконец погасла.
Юрий не выдержал, взмолился:
— Я, конечно, ничего… только ведь организму надо втянуться!
— Вот за тем мыском палатку разобьем. От ветра укроемся, — отозвался Михаил Иванович.
Измученные, с одеревеневшими ногами, забрались люди в спальные мешки.
— Эх, не догадался, — сказал Михаил Иванович. — Надо было последние ночки в мешочках поспать, попривыкли бы.
Ваня и Юрий не ответили. Они спали…
Поднялся Михаил Иванович еще при звездах и разбудил молодых людей.
Юрий с досадой почувствовал, что не может встать.
— Михаил Иванович… я не понимаю. Если это поход к острову скажите. Я все готов терпеть. Но ради тренировки… это же бессмысленно!
Михаил Иванович не ответил, только серьезно посмотрел на юношу.
Ваня выбрался из мешка, где они спали вдвоем с Юрием. Тому сразу стало холодно… и стыдно. Он тоже вылез. Ноги и спина болели.
— Ни один спортсмен так не тренируется. Вы поверьте мне, — бурчал он.
Опять впряглись в нарты и пошли. Солнце все еще не всходило. Только посветлело небо да потускнели звезды.
Юрий изнемогал. Он был способен к любому мгновенному напряжению сил и действительно участвовал в лыжных соревнованиях на короткие дистанции. Ежедневные тренировки он терпеливо переносил. Но такая нагрузка, как сейчас, казалась ему бесчеловечной. Он понурил голову, до боли кусал губы, но лямку свою натягивал плохо. Ваня замечал это, однако ничего не говорил.
Вдруг Юрий остановил собак и сел на нарты.
— А ведь я больше не могу… — растерянно сознался он, боясь смотреть в лицо Михаилу Ивановичу.
Михаил Иванович сел на нарты рядом с Юрием и сказал мягким, добродушным тоном:
— Видишь ли, паренек… Канат, к примеру, как испытывают? Дают ему нагрузку такую, какую он никогда в работе иметь не должен. Если выдержит канат, — значит, годен. Вот так и мы. Это не только тренировка, это испытание… Лучше сейчас повернуть, чем после… задание не выполнить.
— Я отдохну на станции, — смущенно пробормотал Юрий.
Михаил Иванович повернул назад.
Весь обратный путь, на который понадобилось два дня, Юрий был мрачен. В душе у него происходила серьезная борьба.
Когда уже стало видно Рубиновую скалу, он попросил остановиться и сказал Михаилу Ивановичу:
— Я не струсил, Михаил Иванович, вы не подумайте. Я только обузой не хочу быть… Ведь вам задание выполнять надо, а у меня сил не хватает.
— Вот за это спасибо, парень, — отозвался Михаил Иванович.
В бухте Рубиновой путников встречали радушно, но настороженно.
Снова собрались все полярники.
— Я берусь выполнять работу механика станции, — говорил Юрий, глядя в пол, — берусь закончить роторный ветродвигатель… И потом я еще обязуюсь выполнять любую черную работу. Я буду тренироваться. Может быть, еще раз понадобится пойти. — Говоря это, он внутренне поклялся себе никогда в жизни не стоять больше в таком жалком виде перед товарищами.
— Юра наверняка выдержал бы, дошел… — говорил Михаил Иванович, — но ведь нам рисковать нельзя. Надо выполнить задание. Тренировки все-таки свое сделали. Вот и я животик согнал. Так кто же Юрия заменит? — спросил он, вопросительно глядя на Матвея Сергеевича, старшего механика полярной станции.
Худой, высокий Матвей Сергеевич погладил себя по запавшим небритым щекам и ничего не ответил, только подумал: "Ну, вот и опять механик потребовался! Рожать кому или нарты тащить… все равно механик нужен". Подумал так Матвей Сергеевич потому, что ему не хотелось идти. Он строил на зимовке ветродвигатель знакомой ему замечательной конструкции. Матвей Сергеевич уже все сам рассчитал, пользуясь технической энциклопедией, и уже склепал две железные полубочки.
— Так как же? — обратился к нему Михаил Иванович.
— А когда идти-то надо? — деловито осведомился механик. По лицу Матвея Сергеевича можно было догадаться о его мыслях.
— Дня через два. А то проливы проснутся.
— Стало быть, дело солдатское, — вздохнул Матвей Сергеевич и, позвав Юрия, вышел из дому. Он повел его в мастерскую и долго рассказывал, как сделать ротор, без конца заставляя Юрия повторять все свои советы.
Юрий был готов на все: не только сделать самодельный ветродвигатель своими руками построить здесь Днепрогэс. И оттого, что никто не сказал ему ни слова упрека, было ему еще мучительнее.
Снова провожали полярники товарищей. Но сейчас проводы были какие-то будничные. Юрия не было.
Он ждал зимовщиков за мысом.
Юрий молча крепко пожал всем руки, а Михаила Ивановича обнял, поцеловал и сразу побежал прочь. Михаил Иванович постоял, с улыбкой глядя ему вслед, и зашагал вперед.
— Гляньте, трехлапая! — крикнул Матвей Сергеевич.
Сзади с обрывком веревки на шее бежала Гекса.
Михаил Иванович закричал на нее тоненьким голосом. Она присела на снег. Двинулись дальше. Гекса побежала вприпрыжку. Тогда все остановились.
Ваня и Матвей Сергеевич бросили в собаку несколько снежков. Гекса отбежала подальше и села. В ее повадке было волчье упорство. Псы в упряжке нервничали, лаяли. Михаил Иванович достал с нарт ружье и погрозил собаке. Та продолжала сидеть, закрыв передние лапы хвостом. Михаил Иванович выстрелил в воздух. Гекса спряталась за ропак.
Путники опять двинулись. Собаки не было видно. Наверное, вернулась.
Шли по старому незаметенному следу.
Михаил Иванович вел теперь своих спутников медленнее, чем в прошлый раз, переходы делал меньше. Берег силы людей и собак.
Первые дни были особенно тяжелыми. На привалах собаки, измученные, падали в снег, свертывались комочками. Матвей Сергеевич с солдатским проворством разжигал примус. Михаил Иванович, фальшиво напевая, разбивал палатку, а Ваня связывался по радио с бухтой Рубиновой.
Трехлапая все-таки увязалась за ними. Ее уже не прогоняли. Она старательно забегала то вперед, то вбок и принюхивалась.
— Ишь, разведчица, — кивнул Матвей Сергеевич.
— Ну, пусть, — решил Михаил Иванович. — Хоть о медведях предупредит.
На третий день ходьба стала привычным состоянием. Ноги передвигались как бы сами собой. Путники теперь больше смотрели по сторонам.
Путь лежал от острова к острову. Вокруг поднимались крутые, запорошенные снегом скалы с белыми шапками. Нигде ни одного деревца. Ледяной простор, белый и хмурый, как затянутое тучами небо.
— Пустая земля, — говорил Матвей Сергеевич.
— Не скажите, не скажите! — живо откликался Михаил Иванович. — Отчего бы здесь каменному угольку не быть? Или вот магнитные аномалии вокруг. Не на железо ли намекают? Я компасом так и не пользуюсь. Врет. Все больше по карте от мыска на мысок норовлю.
Действительно, Михаилу Ивановичу совсем не приходилось пользоваться компасом. Начальник похода так изучил карту архипелага, что шел по островам, как по знакомому двору.
Хорошая погода кончилась. Поднялся встречный ветер. Он дул в лицо, и дышать стало трудно. Ветер выбивал из глаз слезы, упирался в грудь, не давая двигаться вперед, удваивал вес нарт…
Люди шли. Навстречу им летели обжигающие языки белого пламени. Языки эти стелились по насту, взмывали вверх, превращаясь в сплошной пенный поток. Люди шли по нему, как вброд по воде. Собак не было видно. Ногами приходилось нащупывать, куда ступить. Голова кружилась.
Лучше всего было смотреть вдаль, заметить утес, мыс или айсберг, держать курс на него, — тогда головокружение проходило.
Ветер усилился. Он превратился в неистовый вихрь. Началась пурга.
Пришлось остановиться, разбить палатку. Собаки тотчас прилегли к ней. Их занесло снегом, а палатка превратилась в сугроб. Люди и собаки лежали друг подле друга, разделенные тонким полотном. Высунуться наружу было невозможно. Ваня все-таки умудрился развернуть рацию. Сообщил в бухту Рубиновую, что лежат под снегом. Из Рубиновой ответили, что Москва следит за каждым их шагом.
Лежа с Матвеем Сергеевичем в одном спальном мешке, Ваня тихо говорил:
— А что если дом вместе с берегом обрушился, как на Исчезающем?
— Коли так — пойдем обратно.
— Я не трушу… Я просто так, — предупредил Ваня.
Двое суток провели путники в сугробе. Из бухты Рубиновой сообщили прогноз погоды. Пурга должна прекратиться. Решили откапываться. Пока разгребали снег, пурга действительно стихла.
Двинулись дальше. Снова мерно двигались ноги, проплывали мимо снежные утесы, голубые изломы ледников, сползающих сверху грандиозными «ледопадами».
Большая часть пути осталась позади.
Но пурга занесла проливы снегом. Идти по ним было опасно. Под снегом могли оказаться трещины и слабый лед. Михаил Иванович двигался первым, соблюдая все возможные предосторожности. В руке у него был шест, он пробовал шестом, прочен ли лед. Михаил Иванович не без основания считал себя самым тяжелым, весил он сто килограммов. Если лед выдержит его хорошо. Но нарты были тяжелее.
Вдруг Ваню резко потянуло назад. Он закричал:
— Рация! Рация! — И бросился к провалившимся под лед нартам.
Лед трещал, собаки беспомощно бились.
— Ложись на живот! — пронзительно крикнул Михаил Иванович.
Ваня упал. Матвей Сергеевич и Михаил Иванович поползли к нартам. Ваня тоже пополз.
Собак затягивало под воду.
— Режь постромки! — крикнул Михаил Иванович.
— Рация! Рация! — твердил Ваня. — Подождите…
Рация вместе с задней частью нарт была уже под водой. Ее гибель срывала все предприятие. Рация должна была служить не только в походе, но и на острове Ледниковом.
Гибель нарт означала гибель продовольствия. Люди ухватились за постромки и стали вытаскивать нарты. Но лед трескался. Здесь была наледь. Вода покрыла поверхность льда, потом замерзла тонким, зеленоватым, похожим на хрупкое стекло ледком. Теперь через полынью и трещины хлынула вода.
— Бросай нарты, отползай, — скомандовал Михаил Иванович.
Но Ваня, извиваясь, как змея, подполз к полынье и опустил руки по самые плечи в ледяную воду. Он нащупал нарты, схватил рацию и, напрягаясь, пытался вытащить ее. Лед трещал под ним и ломался. Матвей Сергеевич ухватил радиста за ноги.
— Тяни! — крикнул тот.
Матвей Сергеевич стал отползать от полыньи, осторожно таща за ноги Ваню. Радист не выпускал из рук рации.
Наконец она оказалась на мокром льду.
Тогда Матвей Сергеевич выхватил финский нож и обрубил постромки. Собаки, обезумевшие от страха, вырвались и выскочили на лед. Нарты исчезли.
Оставляя на запорошенном льду широкий след, люди ползли к берегу.
Из всего груза осталась только испорченная рация.
Ни продовольствия, ни ружья, ни примуса!
Мокрые люди не могли даже согреться.
— Идти, ребятки. Только в этом спасение. Идти, пока не согреемся… своим собственным теплом. Другого выхода нет, — сказал на берегу Михаил Иванович.
— Куда идти? — осведомился Матвей Сергеевич.
— До бухты Рубиновой — двести километров. До острова Ледникового пятьдесят. Продуктов нет, а задание открыть полярную станцию есть.
— Стало быть, на Ледниковый пойдем, — с мрачной серьезностью сказал Матвей Сергеевич, приплясывая, чтобы согреться.
— Но на Ледниковом можно ничего не найти? — вопросительно заметил Михаил Иванович.
— А может, и стоит себе станция, — в такт пляске ответил Матвей Сергеевич.
— Рация подмокла… но я исправлю… на Ледниковом, — стуча зубами, вставил Ваня. — В тундре когда-то не сумел исправить, а теперь сумею…
Собаки вылизывали мокрую шерсть и выкусывали лед между когтями.
Люди шли вперед. Рацию тащили по очереди.
В бухте Рубиновой настали тревожные дни. Никто не знал, что произошло. Москва тревожилась.
Юрий нервничал и настаивал на снаряжении спасательной экспедиции, хотел во что бы то ни стало идти сам. Целыми днями не выходя из рубки, он все выстукивал и выстукивал:
"Ледниковый, где вы? Отвечайте, мы слушаем вас. Ледниковый, где вы? Где вы? Отвечайте, в конце концов, что случилось? Мы слушаем вас. Где вы?"
Слова эти слушала вся Арктика, путники догадывались о том, что их ищут, но ответить не могли. Они шли в обледеневшей одежде днем и ночью.
Вот уже больше двух суток они ничего не ели. На отдых не останавливались, а просто падали в снег…
На последнем привале лежали особенно долго… Опасно долго.
Первым приподнялся и сел Матвей Сергеевич. Он хмуро посмотрел на лежащих в снегу обессиленных спутников, потом на худых собак с торчащей на боках шерстью. Вместе с Гексой четыре пса бывшей упряжки сидели подле людей и смотрели на них голодными глазами.
Матвей Сергеевич достал финский нож, неторопливо снял рукавицу и попробовал большим пальцем левой руки острие. Потом стал подзывать одного из псов.
— А ну, Барбос!.. Поди сюда, собачонок, иди сюда, ходячее продовольствие.
Все собаки вскочили и, виляя хвостами, смотрели на человека.
— Поди, Барбос… Не Барбос, а обоз… Поди сюда… На! Мяса хочешь? — И он сделал рукой движение, словно достает что-то из-за полы.
Ваня приподнялся на локте.
Один пес робко подошел к человеку, униженно виляя хвостом и облизываясь.
Матвей Сергеевич протянул левую руку, схватил пса голыми пальцами за загривок и занес правую руку с ножом.
— Матвей Сергеевич! Да что вы! Что вы! — не своим голосом закричал Ваня, хватая Матвея Сергеевича за руку.
Пес заскулил. Гекса залаяла.
Матвей Сергеевич и Ваня боролись.
— Чего ты? — сердился Матвей Сергеевич. — Нам задание выполнять или нюни разводить? Это ж продовольствие! Два дня не ели. Силы нужны.
Ваня бессмысленно твердил:
— Это же собаки! Это же наши собачки! Они еще нужны будут.
Пес воспользовался промедлением и вырвался. Он отбежал на несколько шагов, но Гекса кинулась на него и стала яростно кусать. Пес завизжал и отбежал подальше.
Гекса прогнала от людей и остальных собак.
Михаил Иванович должен был рассудить Ваню и Матвея Сергеевича. Съесть или не съесть одну из собак?
— А ведь дойдем до острова, они еще какую нам службу сослужат, сказал Михаил Иванович, просительно глядя на Матвея Сергеевича.
Тот упрямо покачал головой.
— Так и будет, — решительно сказал тогда Михаил Иванович. — Собак не тронем.
Матвей Сергеевич пожал плечами.
Ваня, словно не доверяя товарищу, стал просить у него нож.
— Зачем тебе? — рассердился Матвей Сергеевич. — Что я, дисциплины не знаю?
— Нет, — смутился Ваня. — Я просто так. Ну, дайте нож. Я лед буду сковыривать с проводов.
— Возьми, — с усмешкой сказал Матвей Сергеевич.
Ваня, чтобы оправдать свою просьбу, стал копаться омертвевшими пальцами в рации, скалывая ножом лед с проводов.
Внезапно бросив работу, он посмотрел на Матвея Сергеевича:
— Матвей Сергеевич… а лед… лед проводит электричество?
— Нет, — сердито отозвался механик.
— Вот и я тоже об этом подумал, — обрадованно сказал Ваня. Его глаза оживились. — Вот конденсаторы… Они подмочены и потеряли свои изоляционные свойства. А если их взять и просушить… Нет, не просушить, а как следует проморозить? Ведь это все равно, что просушить? А?
— Должно быть, так, — неуверенно сказал Матвей Сергеевич.
— Так что ж ты, братец, медлишь! — закричал обрадованный Михаил Иванович. — Давай пробуй, пробуй…
— Сейчас, — радостно отозвался Ваня.
— Давай сюда свою рацию. Становись на ветер, промораживай ее как следует!
В обледенелой одежде, стоя на пронизывающем ветру, старались люди проморозить и без того обледеневшую станцию.
Потом Ваня дрожащими руками попробовал настроиться.
В наушниках запищало.
Ваня обнимался с Матвеем Сергеевичем, забыв о недавней ссоре. Михаил Иванович торопил Ваню, требуя передать радиограмму.
И в бухте Рубиновой наконец получили эту радиограмму.
"Находимся в двадцати километрах от острова Ледникового. Связь была утеряна из-за подмокшей рации. Нарты провалились под лед. Стремимся выполнить задание…"
Радиограмма эта была получена на третьи сутки после потери связи. Арктика вздохнула облегченно. Не было ни одного полярника, который с тревогой не следил бы за эфиром, не спрашивал бы товарища за тысячи километров, что слышно о «них».
Никто не знал, чего стоило трем полярникам "выполнить задание".
Они уже не шли, а брели, шатаясь, падая и поднимаясь вновь. Из постромок они сделали веревку, и каждый обвязался ею вокруг пояса. Глаза плохо видели. В ушах стоял шум, как будто море вырвалось из-под льдов и билось о скалы.
Собаки бежали за людьми, но не приближались к ним близко. Верно, Гекса не позволяла.
И люди все-таки дошли.
"Поднимаемся на ледник острова Ледникового", — радировали они.
Люди не поднимались на ледник, а заползали на него, лежа на животах, связанные друг с другом постромками. Они ползли, стиснув зубы, зажмурив глаза от напряжения, кусая губы, в кровь раздирая о шершавый наст обмороженные щеки.
И все-таки добрались до вершины!
Надо было идти дальше. Теперь уже было недалеко.
Три шатающиеся фигуры пошли. Собаки в отдалении бежали за ними. Шерсть на их провалившихся боках торчала во все стороны.
Михаил Иванович по-прежнему шел первым, натягивая веревку. В руках он держал палку и не то опирался на нее, не то щупал дорогу, словно был слеп. И вдруг он… исчез…
Ваня дернулся вперед, упал. Матвей Сергеевич с размаху сел и, расставив свои длинные ноги, уперся ими в снег. Рацию, которая была у него в руках, он бросил и ухватился за нее, как за якорь.
Гекса метнулась вперед и стала лаять на провал в снегу.
— Держись, командир! — крикнул Матвей Сергеевич.
Ваня опомнился. Вместе с Матвеем Сергеевичем они стали тащить постромки. Из снега показалось обросшее, обмороженное лицо Михаила Ивановича. Он судорожно хватался руками за снег. Товарищи помогали ему.
— Трещина, ребятки, трещина… — еле проговорил он.
Ваня бросил снежок в провал. Где-то в глубине булькнуло.
Матвей Сергеевич покачал головой.
Трещину предстояло обойти, сделать крюк километра в полтора.
Еще полтора километра?
У людей не было сил. Этот обход стоил им больше, чем последние двадцать километров. Они уже не могли подняться на ноги, они двигались на четвереньках, заползая на этот последний бугор.
А Михаил Иванович говорил своим бодрым тенорком:
— Последний ведь пригорочек, ребятки, последний… Вот сейчас поднимемся и увидим домики полярной станции. И склад там есть, — переходил он почему-то на шепот. — А в складу том: жирные окороки, ребятки, колбасы копченые… консервы, сардинки, шпроты, маслом залитые… Или мясные консервы… Примус есть там, огонь разожгем и такой суп сварим, жирный, горячий… губы обжигать будем…
От этих слов прибавлялись силы. Люди лезли на бугор.
— Вот заползем, — шептал Михаил Иванович, — заползем и сразу увидим…
Люди все-таки заползли. И увидели…
…Все было пустынно и бело кругом. Словно на краю обрыва, поднималась из снега тонкая, согнувшаяся вверху мачта радиостанции. Домов около нее… не было!
Люди лежали на снегу. Они боялись взглянуть друг на друга. Полярной станции не было. Значит, она обвалилась вместе с берегом.
…Юрий, сидя в бухте Рубиновой у приемника, плакал, не стыдясь даже девушек: он принял радиограмму о положении на Ледниковом. Послать помощь было невозможно: проливы вскрылись. Да и собак в бухте Рубиновой не было.
Через шесть месяцев после всего случившегося "Георгий Седов" подходил к Ледниковому.
Вспоминая все, что рассказывали мне в бухте Рубиновой, я в бинокль рассматривал остров.
Раньше всего я увидел тонкую, чуть загнутую вверх мачту, поднимавшуюся над базальтовыми скалами, похожими на крепостные бастионы.
Потом я увидел ледник, к которому хотел подвести корабль капитан.
На леднике стояли три фигуры: одна — большая и толстая, другая высокая, тонкая и третья — маленькая. Около них на снегу что-то двигалось.
Много позже я разобрал, что это была рыжая собака на трех лапах.
Корабль ткнулся носом в ледник. Люди спрыгнули на лед. Это были полярники, пополнявшие штат полярной станции. Вновь прибывшие тепло приветствовали трех героев, сумевших за полгода до прибытия «Седова» открыть станцию.
Это они дали «Седову» сведения о льдах, это они направили корабль, помогли ему пробраться через непроходимые льды!
Мы крепко жали руки героям, которые искренне удивились бы, если б их в глаза так назвали.
Я успел передать радисту Ване привет из далекой тундры. Он смутился, покраснел.
Михаил Иванович поднялся с нами на борт корабля. Сидя в каюте, поглаживая свою отросшую бороду, он рассказывал:
— А ведь все трехлапая, все Гекса наша! — говорил он веселым говорком. — Не будь ее, мы бы погибли. Видим, подбежала она к радиомачте и давай рыть снег… С чего бы это? Пополз я к ней, стал помогать. И докопались мы с ней… до конька крыши. Дом-то был под нами! За шесть лет его так снегом занесло, что и не видно было… Ну, мы и раскопали дом… Хотя раньше мы разыскали дверь склада. Откуда только силы взялись? Открыли дверь, а прямо перед нами — окорок жирный! Я взял у Матвея Сергеевича его финский нож и отхватил самый лучший кусок, — Михаил Иванович улыбнулся. Матвей Сергеевич дал его Гексе.
Пока Михаил Иванович рассказывал, началась выгрузка продовольствия, грузов и топлива на ледник острова.
Мы должны были во что бы то ни стало пробиться к острову Ледниковому.
Это один из самых далеких и недоступных полярных островов мира.
Когда-то на нем среди голых базальтовых скал нашли кирку и обрывок русского трехцветного флага. Здесь был похоронен один из русских исследователей, неистово стремившийся на Север.
Впоследствии советские люди основали на острове Ледниковом самую дальнюю полярную станцию. Ее сведения были очень ценны для науки о погоде. Однако во время войны станцию пришлось временно закрыть.
В послевоенные годы, когда было запланировано вновь открыть полярную станцию Ледникового, непроходимые льды всегда преграждали путь кораблям.
Потерпев в прошлом году неудачу, наш капитан Борис Ефимович решил теперь во что бы то ни стало доставить на остров персонал станции.
Корабль шел на север. Вокруг белые льдины. Между ними темные пятна, но это не вода, это тоже лед, только молодой. Он похож на хрупкое стекло. Тонкие прозрачные пластины, уступая путь кораблю, наползают одна на другую. В них видны белые блинчики смерзшегося льда и комья снежуры — не тающего в воде снега…
О попытке открыть полярную станцию острова Ледникового рассказывали мне в бухте Рубиновой зимовщики.
Одним из главных героев рассказа была собака Гекса.
Гекса по-ненецки «ведьма».
Гексу еще на материке подарил полярникам старый ненец. Он долго извинялся, что у собаки только три ноги. Четвертую ей откусил белый медведь. Но старик уверял, что у Гексы множество достоинств, что она едва не говорит, а понимает решительно все.
Такая слава установилась за Гексой, и, когда она по своей привычке вертелась у дверей кают-компании, полярники смеясь говорили, что она «подслушивает».
В бухте Рубиновой Гекса неожиданно принесла четверых щенят. Лохматые, они, как шарики, катались по зимовке и были общими любимцами.
Метеоролог Михаил Иванович, грузный, толстый, страдавший одышкой, всегда брал их с собой на метеоплощадку; щенки неслись за ним, дружно лая и охраняя Михаила Ивановича, как он говорил, от белых медведей. Ваня-радист всегда ждал, когда же щенята ворвутся к нему в радиорубку с требованием чего-нибудь вкусного, всегда припасенного Ваней для любимцев.
К весне собаки подросли и превратились в здоровенных, грудастых и лохматых псов. Они носились по берегу и, наученные Гексой, поднимали лай всякий раз, когда любопытная нерпа высовывала из воды голову. Звали охотника с ружьем.
В тот день, когда в кают-компании обсуждался вопрос о досрочном открытии полярной станции Ледникового, Гекса как всегда вертелась около дверей и «подслушивала». На этот раз ей стоило подслушивать и тревожиться. Речь шла о ее сыновьях.
Идти пешком на остров Ледниковый предложил Михаил Иванович. Он рассчитывал запрячь в нарты четырех молодых псов. Люди помогали бы им тащить груз.
— Мы непременно дойдем, а корабль может опять не дойти, — говорил Михаил Иванович.
Начальник станции Лавров удивился:
— Что вы, Михаил Иванович! Сможете ли вы? Ведь двести пятьдесят километров! Потом ваша комплекция… Опять же одышка…
— Ничего, — отвечал Михаил Иванович, вытирая платком свое широкое лицо с недавно отпущенной бородкой. — Молодежи в таком походе нужен старший товарищ. Кому же идти, как не парторгу станции?
— Трудное это дело, — покачал головой старший механик Матвей Сергеевич, человек рассудительный и неторопливый. — Ведь архипелаг… Идти по островам да по проливам. Лед взломаться может. Пурга тоже сильная бывает. Занесет снегом — не откопаешься.
— Чепуха! — усмехнулся второй механик Юрий, долговязый юноша. Русский флаг на остров Ледниковый люди доставили пешком. А шли они как раз из нашей бухты. Их корабль тут и стоял.
— До острова они дошли, это верно… только похоронили там своего начальника, а нам работать надо, — заметил Матвей Сергеевич.
— Вы можете не ходить! — запальчиво заявил Юрий. — А я вызываюсь идти.
Матвей Сергеевич пожал плечами. Ему не хотелось уходить из бухты Рубиновой. Он строил роторный ветродвигатель взамен поломанного ветряка, и ему очень важно было довести это дело до конца.
Состав группы был утвержден: Михаил Иванович, Юрий, Ваня-радист — тот самый, который работал когда-то под начальством геолога Гали. Из Москвы пришло разрешение выйти на Ледниковый.
Михаил Иванович сразу же начал готовиться, объявил тренировки. Ежедневно все трое отправлялись на купол ледника, таща за собой груженые нарты, слишком тяжелые для неполной упряжки из четырех молодых псов. Гекса всякий раз добровольно сопровождала экспедицию.
Возвращались на станцию усталые, разбитые. Юрий ворчал:
— Не понимаю, зачем это? Таким ходом мы уже давно дошли бы до острова Ледникового. Я в Москве в лыжных соревнованиях участвовал… смешно! Не всем жир сгонять.
Ваня, застенчивый, голубоглазый, веснушчатый, смущенно отмалчивался, а Михаил Иванович улыбался добродушно, но возражал жестковато:
— Приучаться, ребятки, надо не только к ходьбе, но и к дисциплине. Не выполнить задания мы не имеем права.
На станции сушили сухари и монтировали походную радиостанцию.
Юрий, порывистый, увлекающийся, торопил с выходом. Но Михаил Иванович не спешил. Он требовал, чтобы каждый контакт в радиостанции пропаивался с той же тщательностью, с какой перед взлетом самолета готовят парашюты.
Только Лавров слышал, как после тренировок стонал по ночам Михаил Иванович.
— Вы хоть груза поменьше возьмите, — говорил ему Лавров. — Лишь бы дойти до Ледникового. А там все найдется. Склады полны.
— Так ли? — качал головой Михаил Иванович, растирая ноющие ноги. — Вы слышали об исчезающих островах? Море подтачивает берег Ледникового. За эти годы строения могли обрушиться.
— Пожалуй… — согласился начальник. — Видно, придется вам брать продукты и на обратный путь. Если складов нет, возвращайтесь.
Наконец Михаил Иванович объявил большой тренировочный поход километров на пятьдесят-сто. Юрий намекал девушкам, что Михаил Иванович только называет этот поход тренировочным, а сам постарается дойти до цели.
Смельчаков провожали все зимовщики бухты Рубиновой.
Была середина апреля, самое солнечное время в Арктике. Полярная ночь кончилась месяц назад. День увеличивался с каждым восходом солнца. Снег и лед сверкали мириадами огней. Только на Рубиновой скале, которая сейчас была темно-серого цвета, не держался снег. Отвесная, она казалась бетонной громадой.
Мужчины обнялись. Девушки — их было трое — расцеловались с Ваней и Юрием. Пример подала Нина.
— Я буду приходить к вам в гости на лыжах! — крикпул Юрий. Подумаешь, двести пятьдесят километров!
Молодые псы нетерпеливо лаяли в упряжке. Рыжая трехлапая Гекса рвалась с веревки. Шерсть у нее на загривке стояла дыбом.
Вскоре маленькая цепочка растянулась на сверкающем снегу. Впереди двигалась круглая фигура, за ней следом две другие, одна высокая, другая низенькая, потом — четыре совсем маленькие и наконец — нарты, издали напоминающие пятнышко среди белого снега.
Грузный Михаил Иванович, налегая на лямку, шел первым. Двигались вдоль берега по твердому насту. От солнца на нем сияла яркая дорожка, как на воде. В проливе возвышались вмерзшие в лед айсберги.
Ослепительный блеск снега опасен. Михаил Иванович боялся снежной слепоты. Он приказал всем надеть темные очки.
Михаил Иванович сразу же взял быстрый темп, словно решил измотать всех на первом же переходе. Юрий, поборов самолюбие, вынужден был дважды напомнить о привале. Михаил Иванович отшучивался и все шел и шел.
Скоро молодые люди перестали замечать и крутые берега и встречные айсберги.
Осталась одна мысль:
"Идти, только идти. Забыть, что тебя окружает, и шагать, шагать… Заметить вдали точку и приближаться к ней. Дышать через каждые три шага вдох и выдох… И ни о чем больше не думать".
Остановились только раз, пообедать. Разожгли примус.
Потом опять навалились грудью на лямку, глядя под ноги.
Один лишь Михаил Иванович смотрел вперед, а когда оборачивался к своим спутникам, улыбался. В остальное время лица его не было видно.
Зашло солнце. Заря окрасила небо в нежные оранжевые тона и наконец погасла.
Юрий не выдержал, взмолился:
— Я, конечно, ничего… только ведь организму надо втянуться!
— Вот за тем мыском палатку разобьем. От ветра укроемся, — отозвался Михаил Иванович.
Измученные, с одеревеневшими ногами, забрались люди в спальные мешки.
— Эх, не догадался, — сказал Михаил Иванович. — Надо было последние ночки в мешочках поспать, попривыкли бы.
Ваня и Юрий не ответили. Они спали…
Поднялся Михаил Иванович еще при звездах и разбудил молодых людей.
Юрий с досадой почувствовал, что не может встать.
— Михаил Иванович… я не понимаю. Если это поход к острову скажите. Я все готов терпеть. Но ради тренировки… это же бессмысленно!
Михаил Иванович не ответил, только серьезно посмотрел на юношу.
Ваня выбрался из мешка, где они спали вдвоем с Юрием. Тому сразу стало холодно… и стыдно. Он тоже вылез. Ноги и спина болели.
— Ни один спортсмен так не тренируется. Вы поверьте мне, — бурчал он.
Опять впряглись в нарты и пошли. Солнце все еще не всходило. Только посветлело небо да потускнели звезды.
Юрий изнемогал. Он был способен к любому мгновенному напряжению сил и действительно участвовал в лыжных соревнованиях на короткие дистанции. Ежедневные тренировки он терпеливо переносил. Но такая нагрузка, как сейчас, казалась ему бесчеловечной. Он понурил голову, до боли кусал губы, но лямку свою натягивал плохо. Ваня замечал это, однако ничего не говорил.
Вдруг Юрий остановил собак и сел на нарты.
— А ведь я больше не могу… — растерянно сознался он, боясь смотреть в лицо Михаилу Ивановичу.
Михаил Иванович сел на нарты рядом с Юрием и сказал мягким, добродушным тоном:
— Видишь ли, паренек… Канат, к примеру, как испытывают? Дают ему нагрузку такую, какую он никогда в работе иметь не должен. Если выдержит канат, — значит, годен. Вот так и мы. Это не только тренировка, это испытание… Лучше сейчас повернуть, чем после… задание не выполнить.
— Я отдохну на станции, — смущенно пробормотал Юрий.
Михаил Иванович повернул назад.
Весь обратный путь, на который понадобилось два дня, Юрий был мрачен. В душе у него происходила серьезная борьба.
Когда уже стало видно Рубиновую скалу, он попросил остановиться и сказал Михаилу Ивановичу:
— Я не струсил, Михаил Иванович, вы не подумайте. Я только обузой не хочу быть… Ведь вам задание выполнять надо, а у меня сил не хватает.
— Вот за это спасибо, парень, — отозвался Михаил Иванович.
В бухте Рубиновой путников встречали радушно, но настороженно.
Снова собрались все полярники.
— Я берусь выполнять работу механика станции, — говорил Юрий, глядя в пол, — берусь закончить роторный ветродвигатель… И потом я еще обязуюсь выполнять любую черную работу. Я буду тренироваться. Может быть, еще раз понадобится пойти. — Говоря это, он внутренне поклялся себе никогда в жизни не стоять больше в таком жалком виде перед товарищами.
— Юра наверняка выдержал бы, дошел… — говорил Михаил Иванович, — но ведь нам рисковать нельзя. Надо выполнить задание. Тренировки все-таки свое сделали. Вот и я животик согнал. Так кто же Юрия заменит? — спросил он, вопросительно глядя на Матвея Сергеевича, старшего механика полярной станции.
Худой, высокий Матвей Сергеевич погладил себя по запавшим небритым щекам и ничего не ответил, только подумал: "Ну, вот и опять механик потребовался! Рожать кому или нарты тащить… все равно механик нужен". Подумал так Матвей Сергеевич потому, что ему не хотелось идти. Он строил на зимовке ветродвигатель знакомой ему замечательной конструкции. Матвей Сергеевич уже все сам рассчитал, пользуясь технической энциклопедией, и уже склепал две железные полубочки.
— Так как же? — обратился к нему Михаил Иванович.
— А когда идти-то надо? — деловито осведомился механик. По лицу Матвея Сергеевича можно было догадаться о его мыслях.
— Дня через два. А то проливы проснутся.
— Стало быть, дело солдатское, — вздохнул Матвей Сергеевич и, позвав Юрия, вышел из дому. Он повел его в мастерскую и долго рассказывал, как сделать ротор, без конца заставляя Юрия повторять все свои советы.
Юрий был готов на все: не только сделать самодельный ветродвигатель своими руками построить здесь Днепрогэс. И оттого, что никто не сказал ему ни слова упрека, было ему еще мучительнее.
Снова провожали полярники товарищей. Но сейчас проводы были какие-то будничные. Юрия не было.
Он ждал зимовщиков за мысом.
Юрий молча крепко пожал всем руки, а Михаила Ивановича обнял, поцеловал и сразу побежал прочь. Михаил Иванович постоял, с улыбкой глядя ему вслед, и зашагал вперед.
— Гляньте, трехлапая! — крикнул Матвей Сергеевич.
Сзади с обрывком веревки на шее бежала Гекса.
Михаил Иванович закричал на нее тоненьким голосом. Она присела на снег. Двинулись дальше. Гекса побежала вприпрыжку. Тогда все остановились.
Ваня и Матвей Сергеевич бросили в собаку несколько снежков. Гекса отбежала подальше и села. В ее повадке было волчье упорство. Псы в упряжке нервничали, лаяли. Михаил Иванович достал с нарт ружье и погрозил собаке. Та продолжала сидеть, закрыв передние лапы хвостом. Михаил Иванович выстрелил в воздух. Гекса спряталась за ропак.
Путники опять двинулись. Собаки не было видно. Наверное, вернулась.
Шли по старому незаметенному следу.
Михаил Иванович вел теперь своих спутников медленнее, чем в прошлый раз, переходы делал меньше. Берег силы людей и собак.
Первые дни были особенно тяжелыми. На привалах собаки, измученные, падали в снег, свертывались комочками. Матвей Сергеевич с солдатским проворством разжигал примус. Михаил Иванович, фальшиво напевая, разбивал палатку, а Ваня связывался по радио с бухтой Рубиновой.
Трехлапая все-таки увязалась за ними. Ее уже не прогоняли. Она старательно забегала то вперед, то вбок и принюхивалась.
— Ишь, разведчица, — кивнул Матвей Сергеевич.
— Ну, пусть, — решил Михаил Иванович. — Хоть о медведях предупредит.
На третий день ходьба стала привычным состоянием. Ноги передвигались как бы сами собой. Путники теперь больше смотрели по сторонам.
Путь лежал от острова к острову. Вокруг поднимались крутые, запорошенные снегом скалы с белыми шапками. Нигде ни одного деревца. Ледяной простор, белый и хмурый, как затянутое тучами небо.
— Пустая земля, — говорил Матвей Сергеевич.
— Не скажите, не скажите! — живо откликался Михаил Иванович. — Отчего бы здесь каменному угольку не быть? Или вот магнитные аномалии вокруг. Не на железо ли намекают? Я компасом так и не пользуюсь. Врет. Все больше по карте от мыска на мысок норовлю.
Действительно, Михаилу Ивановичу совсем не приходилось пользоваться компасом. Начальник похода так изучил карту архипелага, что шел по островам, как по знакомому двору.
Хорошая погода кончилась. Поднялся встречный ветер. Он дул в лицо, и дышать стало трудно. Ветер выбивал из глаз слезы, упирался в грудь, не давая двигаться вперед, удваивал вес нарт…
Люди шли. Навстречу им летели обжигающие языки белого пламени. Языки эти стелились по насту, взмывали вверх, превращаясь в сплошной пенный поток. Люди шли по нему, как вброд по воде. Собак не было видно. Ногами приходилось нащупывать, куда ступить. Голова кружилась.
Лучше всего было смотреть вдаль, заметить утес, мыс или айсберг, держать курс на него, — тогда головокружение проходило.
Ветер усилился. Он превратился в неистовый вихрь. Началась пурга.
Пришлось остановиться, разбить палатку. Собаки тотчас прилегли к ней. Их занесло снегом, а палатка превратилась в сугроб. Люди и собаки лежали друг подле друга, разделенные тонким полотном. Высунуться наружу было невозможно. Ваня все-таки умудрился развернуть рацию. Сообщил в бухту Рубиновую, что лежат под снегом. Из Рубиновой ответили, что Москва следит за каждым их шагом.
Лежа с Матвеем Сергеевичем в одном спальном мешке, Ваня тихо говорил:
— А что если дом вместе с берегом обрушился, как на Исчезающем?
— Коли так — пойдем обратно.
— Я не трушу… Я просто так, — предупредил Ваня.
Двое суток провели путники в сугробе. Из бухты Рубиновой сообщили прогноз погоды. Пурга должна прекратиться. Решили откапываться. Пока разгребали снег, пурга действительно стихла.
Двинулись дальше. Снова мерно двигались ноги, проплывали мимо снежные утесы, голубые изломы ледников, сползающих сверху грандиозными «ледопадами».
Большая часть пути осталась позади.
Но пурга занесла проливы снегом. Идти по ним было опасно. Под снегом могли оказаться трещины и слабый лед. Михаил Иванович двигался первым, соблюдая все возможные предосторожности. В руке у него был шест, он пробовал шестом, прочен ли лед. Михаил Иванович не без основания считал себя самым тяжелым, весил он сто килограммов. Если лед выдержит его хорошо. Но нарты были тяжелее.
Вдруг Ваню резко потянуло назад. Он закричал:
— Рация! Рация! — И бросился к провалившимся под лед нартам.
Лед трещал, собаки беспомощно бились.
— Ложись на живот! — пронзительно крикнул Михаил Иванович.
Ваня упал. Матвей Сергеевич и Михаил Иванович поползли к нартам. Ваня тоже пополз.
Собак затягивало под воду.
— Режь постромки! — крикнул Михаил Иванович.
— Рация! Рация! — твердил Ваня. — Подождите…
Рация вместе с задней частью нарт была уже под водой. Ее гибель срывала все предприятие. Рация должна была служить не только в походе, но и на острове Ледниковом.
Гибель нарт означала гибель продовольствия. Люди ухватились за постромки и стали вытаскивать нарты. Но лед трескался. Здесь была наледь. Вода покрыла поверхность льда, потом замерзла тонким, зеленоватым, похожим на хрупкое стекло ледком. Теперь через полынью и трещины хлынула вода.
— Бросай нарты, отползай, — скомандовал Михаил Иванович.
Но Ваня, извиваясь, как змея, подполз к полынье и опустил руки по самые плечи в ледяную воду. Он нащупал нарты, схватил рацию и, напрягаясь, пытался вытащить ее. Лед трещал под ним и ломался. Матвей Сергеевич ухватил радиста за ноги.
— Тяни! — крикнул тот.
Матвей Сергеевич стал отползать от полыньи, осторожно таща за ноги Ваню. Радист не выпускал из рук рации.
Наконец она оказалась на мокром льду.
Тогда Матвей Сергеевич выхватил финский нож и обрубил постромки. Собаки, обезумевшие от страха, вырвались и выскочили на лед. Нарты исчезли.
Оставляя на запорошенном льду широкий след, люди ползли к берегу.
Из всего груза осталась только испорченная рация.
Ни продовольствия, ни ружья, ни примуса!
Мокрые люди не могли даже согреться.
— Идти, ребятки. Только в этом спасение. Идти, пока не согреемся… своим собственным теплом. Другого выхода нет, — сказал на берегу Михаил Иванович.
— Куда идти? — осведомился Матвей Сергеевич.
— До бухты Рубиновой — двести километров. До острова Ледникового пятьдесят. Продуктов нет, а задание открыть полярную станцию есть.
— Стало быть, на Ледниковый пойдем, — с мрачной серьезностью сказал Матвей Сергеевич, приплясывая, чтобы согреться.
— Но на Ледниковом можно ничего не найти? — вопросительно заметил Михаил Иванович.
— А может, и стоит себе станция, — в такт пляске ответил Матвей Сергеевич.
— Рация подмокла… но я исправлю… на Ледниковом, — стуча зубами, вставил Ваня. — В тундре когда-то не сумел исправить, а теперь сумею…
Собаки вылизывали мокрую шерсть и выкусывали лед между когтями.
Люди шли вперед. Рацию тащили по очереди.
В бухте Рубиновой настали тревожные дни. Никто не знал, что произошло. Москва тревожилась.
Юрий нервничал и настаивал на снаряжении спасательной экспедиции, хотел во что бы то ни стало идти сам. Целыми днями не выходя из рубки, он все выстукивал и выстукивал:
"Ледниковый, где вы? Отвечайте, мы слушаем вас. Ледниковый, где вы? Где вы? Отвечайте, в конце концов, что случилось? Мы слушаем вас. Где вы?"
Слова эти слушала вся Арктика, путники догадывались о том, что их ищут, но ответить не могли. Они шли в обледеневшей одежде днем и ночью.
Вот уже больше двух суток они ничего не ели. На отдых не останавливались, а просто падали в снег…
На последнем привале лежали особенно долго… Опасно долго.
Первым приподнялся и сел Матвей Сергеевич. Он хмуро посмотрел на лежащих в снегу обессиленных спутников, потом на худых собак с торчащей на боках шерстью. Вместе с Гексой четыре пса бывшей упряжки сидели подле людей и смотрели на них голодными глазами.
Матвей Сергеевич достал финский нож, неторопливо снял рукавицу и попробовал большим пальцем левой руки острие. Потом стал подзывать одного из псов.
— А ну, Барбос!.. Поди сюда, собачонок, иди сюда, ходячее продовольствие.
Все собаки вскочили и, виляя хвостами, смотрели на человека.
— Поди, Барбос… Не Барбос, а обоз… Поди сюда… На! Мяса хочешь? — И он сделал рукой движение, словно достает что-то из-за полы.
Ваня приподнялся на локте.
Один пес робко подошел к человеку, униженно виляя хвостом и облизываясь.
Матвей Сергеевич протянул левую руку, схватил пса голыми пальцами за загривок и занес правую руку с ножом.
— Матвей Сергеевич! Да что вы! Что вы! — не своим голосом закричал Ваня, хватая Матвея Сергеевича за руку.
Пес заскулил. Гекса залаяла.
Матвей Сергеевич и Ваня боролись.
— Чего ты? — сердился Матвей Сергеевич. — Нам задание выполнять или нюни разводить? Это ж продовольствие! Два дня не ели. Силы нужны.
Ваня бессмысленно твердил:
— Это же собаки! Это же наши собачки! Они еще нужны будут.
Пес воспользовался промедлением и вырвался. Он отбежал на несколько шагов, но Гекса кинулась на него и стала яростно кусать. Пес завизжал и отбежал подальше.
Гекса прогнала от людей и остальных собак.
Михаил Иванович должен был рассудить Ваню и Матвея Сергеевича. Съесть или не съесть одну из собак?
— А ведь дойдем до острова, они еще какую нам службу сослужат, сказал Михаил Иванович, просительно глядя на Матвея Сергеевича.
Тот упрямо покачал головой.
— Так и будет, — решительно сказал тогда Михаил Иванович. — Собак не тронем.
Матвей Сергеевич пожал плечами.
Ваня, словно не доверяя товарищу, стал просить у него нож.
— Зачем тебе? — рассердился Матвей Сергеевич. — Что я, дисциплины не знаю?
— Нет, — смутился Ваня. — Я просто так. Ну, дайте нож. Я лед буду сковыривать с проводов.
— Возьми, — с усмешкой сказал Матвей Сергеевич.
Ваня, чтобы оправдать свою просьбу, стал копаться омертвевшими пальцами в рации, скалывая ножом лед с проводов.
Внезапно бросив работу, он посмотрел на Матвея Сергеевича:
— Матвей Сергеевич… а лед… лед проводит электричество?
— Нет, — сердито отозвался механик.
— Вот и я тоже об этом подумал, — обрадованно сказал Ваня. Его глаза оживились. — Вот конденсаторы… Они подмочены и потеряли свои изоляционные свойства. А если их взять и просушить… Нет, не просушить, а как следует проморозить? Ведь это все равно, что просушить? А?
— Должно быть, так, — неуверенно сказал Матвей Сергеевич.
— Так что ж ты, братец, медлишь! — закричал обрадованный Михаил Иванович. — Давай пробуй, пробуй…
— Сейчас, — радостно отозвался Ваня.
— Давай сюда свою рацию. Становись на ветер, промораживай ее как следует!
В обледенелой одежде, стоя на пронизывающем ветру, старались люди проморозить и без того обледеневшую станцию.
Потом Ваня дрожащими руками попробовал настроиться.
В наушниках запищало.
Ваня обнимался с Матвеем Сергеевичем, забыв о недавней ссоре. Михаил Иванович торопил Ваню, требуя передать радиограмму.
И в бухте Рубиновой наконец получили эту радиограмму.
"Находимся в двадцати километрах от острова Ледникового. Связь была утеряна из-за подмокшей рации. Нарты провалились под лед. Стремимся выполнить задание…"
Радиограмма эта была получена на третьи сутки после потери связи. Арктика вздохнула облегченно. Не было ни одного полярника, который с тревогой не следил бы за эфиром, не спрашивал бы товарища за тысячи километров, что слышно о «них».
Никто не знал, чего стоило трем полярникам "выполнить задание".
Они уже не шли, а брели, шатаясь, падая и поднимаясь вновь. Из постромок они сделали веревку, и каждый обвязался ею вокруг пояса. Глаза плохо видели. В ушах стоял шум, как будто море вырвалось из-под льдов и билось о скалы.
Собаки бежали за людьми, но не приближались к ним близко. Верно, Гекса не позволяла.
И люди все-таки дошли.
"Поднимаемся на ледник острова Ледникового", — радировали они.
Люди не поднимались на ледник, а заползали на него, лежа на животах, связанные друг с другом постромками. Они ползли, стиснув зубы, зажмурив глаза от напряжения, кусая губы, в кровь раздирая о шершавый наст обмороженные щеки.
И все-таки добрались до вершины!
Надо было идти дальше. Теперь уже было недалеко.
Три шатающиеся фигуры пошли. Собаки в отдалении бежали за ними. Шерсть на их провалившихся боках торчала во все стороны.
Михаил Иванович по-прежнему шел первым, натягивая веревку. В руках он держал палку и не то опирался на нее, не то щупал дорогу, словно был слеп. И вдруг он… исчез…
Ваня дернулся вперед, упал. Матвей Сергеевич с размаху сел и, расставив свои длинные ноги, уперся ими в снег. Рацию, которая была у него в руках, он бросил и ухватился за нее, как за якорь.
Гекса метнулась вперед и стала лаять на провал в снегу.
— Держись, командир! — крикнул Матвей Сергеевич.
Ваня опомнился. Вместе с Матвеем Сергеевичем они стали тащить постромки. Из снега показалось обросшее, обмороженное лицо Михаила Ивановича. Он судорожно хватался руками за снег. Товарищи помогали ему.
— Трещина, ребятки, трещина… — еле проговорил он.
Ваня бросил снежок в провал. Где-то в глубине булькнуло.
Матвей Сергеевич покачал головой.
Трещину предстояло обойти, сделать крюк километра в полтора.
Еще полтора километра?
У людей не было сил. Этот обход стоил им больше, чем последние двадцать километров. Они уже не могли подняться на ноги, они двигались на четвереньках, заползая на этот последний бугор.
А Михаил Иванович говорил своим бодрым тенорком:
— Последний ведь пригорочек, ребятки, последний… Вот сейчас поднимемся и увидим домики полярной станции. И склад там есть, — переходил он почему-то на шепот. — А в складу том: жирные окороки, ребятки, колбасы копченые… консервы, сардинки, шпроты, маслом залитые… Или мясные консервы… Примус есть там, огонь разожгем и такой суп сварим, жирный, горячий… губы обжигать будем…
От этих слов прибавлялись силы. Люди лезли на бугор.
— Вот заползем, — шептал Михаил Иванович, — заползем и сразу увидим…
Люди все-таки заползли. И увидели…
…Все было пустынно и бело кругом. Словно на краю обрыва, поднималась из снега тонкая, согнувшаяся вверху мачта радиостанции. Домов около нее… не было!
Люди лежали на снегу. Они боялись взглянуть друг на друга. Полярной станции не было. Значит, она обвалилась вместе с берегом.
…Юрий, сидя в бухте Рубиновой у приемника, плакал, не стыдясь даже девушек: он принял радиограмму о положении на Ледниковом. Послать помощь было невозможно: проливы вскрылись. Да и собак в бухте Рубиновой не было.
Через шесть месяцев после всего случившегося "Георгий Седов" подходил к Ледниковому.
Вспоминая все, что рассказывали мне в бухте Рубиновой, я в бинокль рассматривал остров.
Раньше всего я увидел тонкую, чуть загнутую вверх мачту, поднимавшуюся над базальтовыми скалами, похожими на крепостные бастионы.
Потом я увидел ледник, к которому хотел подвести корабль капитан.
На леднике стояли три фигуры: одна — большая и толстая, другая высокая, тонкая и третья — маленькая. Около них на снегу что-то двигалось.
Много позже я разобрал, что это была рыжая собака на трех лапах.
Корабль ткнулся носом в ледник. Люди спрыгнули на лед. Это были полярники, пополнявшие штат полярной станции. Вновь прибывшие тепло приветствовали трех героев, сумевших за полгода до прибытия «Седова» открыть станцию.
Это они дали «Седову» сведения о льдах, это они направили корабль, помогли ему пробраться через непроходимые льды!
Мы крепко жали руки героям, которые искренне удивились бы, если б их в глаза так назвали.
Я успел передать радисту Ване привет из далекой тундры. Он смутился, покраснел.
Михаил Иванович поднялся с нами на борт корабля. Сидя в каюте, поглаживая свою отросшую бороду, он рассказывал:
— А ведь все трехлапая, все Гекса наша! — говорил он веселым говорком. — Не будь ее, мы бы погибли. Видим, подбежала она к радиомачте и давай рыть снег… С чего бы это? Пополз я к ней, стал помогать. И докопались мы с ней… до конька крыши. Дом-то был под нами! За шесть лет его так снегом занесло, что и не видно было… Ну, мы и раскопали дом… Хотя раньше мы разыскали дверь склада. Откуда только силы взялись? Открыли дверь, а прямо перед нами — окорок жирный! Я взял у Матвея Сергеевича его финский нож и отхватил самый лучший кусок, — Михаил Иванович улыбнулся. Матвей Сергеевич дал его Гексе.
Пока Михаил Иванович рассказывал, началась выгрузка продовольствия, грузов и топлива на ледник острова.
В ТУМАНЕ
 На этом острове не было ледников, от него не отламывались и не уплывали коварные айсберги, у берегов не встречалось подводных скал, и все же этот остров считался одним из самых опасных мест Арктики.
— Туманы… — объяснил капитан.
Я бродил по палубе. Клочковатая мгла скрывала корму корабля. Был конец полярной навигации. Наш корабль последним уходил из этих широт.
Я прислушался, вглядываясь в мутную стену. Может быть, мне показалось?
Далекий, словно прорвавшийся к нам через вату, звук повторился еще раз. Нет сомнения — густым баритоном ревел гудок.
Встречный корабль?
Но ведь только вчера капитан говорил, что здесь нет никого, кроме нас!
С капитанского мостика слышалась команда. Наш корабль менял курс.
Туман не редел. Гребни волн внезапно отделялись от повисающей в воздухе плотной пены и разбивались о борт. Брызги долетали до палубы. Они были свежие и соленые.
Вот, если в такой туман смоет тебя волной за борт! Хватятся не сразу. Ты еще держишься на воде и видишь, как уходит, растворяется во мгле борт корабля… Потом, тускнея, исчезнут огни, а ты… изнемогаешь в последних усилиях.
Я передернул плечами и отошел от реллингов.
Через равные промежутки слышался все тот же могучий бархатный звук, низкий, рокочущий. Так настойчиво можно только звать на помощь или предупреждать об опасности.
Звук приближался. Одна низкая нота, спокойная и в то же время мощная, возникала в тумане, смолкала и рождалась вновь.
Какая-то неведомая "северная Сирена", скрытая в опустившемся на море облаке, звала нас к себе.
Раздалась отрывистая команда. Загрохотала цепь. Отдавали якорь. Загудел и наш гудок.
Около меня выросла фигура капитана в макинтоше.
— Ну, вот… добрались и до острова с маяком. Недурной баритон?
— Поющий маяк? Сирена в тумане? — спросил я.
Откуда-то снизу, словно из волн, послышался голос.
Человек за бортом?
Капитан и я перегнулись через реллинги.
У высокого борта корабля прыгала крохотная лодчонка. Человек что-то кричал, верно, просил спустить трап или бросить веревку.
Какой смельчак мог решиться плыть в тумане на звук нашего гудка?
По штормтрапу человек поднялся на палубу. Он был в брезентовом плаще поверх ватной куртки и штанов. При виде капитана, на которого ему указали, он снял шапку, пригладил седоватые волосы и, сладко улыбаясь, подошел к нам.
Его маленькие, близко посаженные глазки смотрели куда-то в сторону. Роста он был низенького, а от привычки не подымать головы казался еще ниже.
— От души сердечно приветствую вас и поздравляю, товарищ капитан, с благополучным появлением. Как прошли в тумане, осмелюсь поинтересоваться? Небось сигнальчик-то помог вам. Вроде, как все вы мне жизнью теперь обязаны. Нет, это я только так… К слову пришлось… Очень приятно видеть корабль здесь в такое позднее время. Видите, маяк мой работает исправно. Рассчитываю, что шепнете вы это кому и где следует. Не позволите ли в каютку с вами пройти?
— Отчего же, — сказал Борис Ефимович, — милости прошу.
Мы сидели в каюте капитана.
— Крепенького не найдется ли у вас? Свои запасы бережем. Зима длинная… наш полярный опыт не дозволяет расходовать, — говорил смотритель маяка. — Дай, думаю, навещу морячков на корабле. Ведь волнами да туманами меня не запужаешь. Ваше здоровье, товарищ капитан, и ваше, товарищ, не знаю, кем вы тут будете. Вот и думаю, что интересно ведь капитану про наши новости узнать.
Я разглядывал разговорчивого человека. У него было бабье лицо, морщинистое, обветренное, но без того характерного для полярников загара, какой дается не солнцем, а ветром.
— Преинтересно будет капитану узнать про наши дела, от которых кожа не бела. Вот так. Ваше здоровье. Особенно потому интересно, что может капитан по радио с начальником снестись и про все такое этакое свое мнение донести. Воздух надо прочистить на нашем острове. Туману тут много всякого… А голос вон какой! — Через иллюминатор доносился глухой баритон маяка. — Голос вон какой нужен, чтобы услышать тебя в тумане. Вот. А кричать хочется, поверите ли, товарищи дорогие. Кричать надобно. Госконтроль должен вмешаться, такие тут безобразия происходят… под покровом тумана, позвольте так выразиться…
Капитан, обычно сам разговорчивый и общительный, слушал смотрителя молча. Тот продолжал:
— Разврат, извините меня за слово неуместное, разврат тут царствует безвозмездно. Мне, конечно, дела до этого никакого нету, я от полярной станции отдельно, на самостоятельном, так сказать, бюджете, а все-таки… с души воротит… На берег съедете, сами увидите. Только внимания не обращайте, что они сейчас по своим комнаткам разъедутся. Это для отвода глаз… А они только и мечтают, как бы скорее льдом все тут сковало, чтобы никто к ним носу сунуть не мог… А я вот остаюсь!.. И это им, как бельмо на глазу. Они бы меня в ледяной воде утопили, белым бы медведям скормили. Только не таков Яков Григорьевич Суетин, это я, то есть… Будем знакомы… Очень приятно… Ваше здоровье! Не таков Суетин. Медведя любого один на один берет.
— Шкурку белую позвольте поднести и вам, капитан, и вам, товарищ московский… Благодарны будете. Своей охоты, своей выделки… Да вы зря отказываетесь. У меня много — не обеднею.
— Да, непорядки у нас, — заметно хмелея и уже не улыбаясь, беспрерывно говорил непрошеный гость. — А виноват во всем Хлынов Алексан Алексаныч. Гордый человек. Опыта никакого. Ему бы у меня учиться. Как-никак восемнадцать лет в Арктике. Не люблю Большой Земли. Суеты не люблю, ненавижу… Я тишину люблю… и порядок… А здесь? Разве это порядок? Начальником поставили молокососа, который девочку с толку сбивает… Гордый очень этот начальник полярной станции… а быть ему здесь, вроде, и не к чему. Опыт полярный у меня, товарищи, достаточный. Я метеорологом был, и механик я, на все специальности, и радист исправный. Характер у меня правильный. Дисциплина будет, здорово живешь! Хозяин я, нутром хозяин. — Он сжал неожиданно большой для такого хлипкого человека кулак. — Бывало, и не с таким хозяйством справлялся… Коровы, кони! Люди завидовали!.. У меня и здесь от работы отлынивать не посмеют…
— Ваше здоровье, еще разрешите? Премного благодарен. Вот и думаю я, что надо государству копейку сберечь. Решил я в порядке соцсоревнования и ударничества взять на себя совмещение профессии. Будьте благонадежны — и с маяком справлюсь, и полярную станцию под опеку возьму. Товарища Хлынова Алексан Алексаныча примите на другое использование… а девочку оставьте. Я еевымуштрую. Медвежью шкуру я ей еще летом подарил, самую крупную, самую отменную… Но не для этого дарил, не для этого… Прошу и от меня принять шкурки-то… вроде, будет, как сувенир… На память… об Арктике.
Проводив наконец нежданного гостя, капитан попросил меня съехать вместе с ним на берег.
К утру туман не раздернуло, но капитан все-таки приказал спускать «Петушок».
Катер шел на певучий рев маяка. Берега не было видно. Зажженные огни «Седова» тускнели и наконец погасли.
Кунгас, тащившийся на буксире, был едва заметен.
На берегу нас встречали Суетин и Хлынов, начальник полярной станции. Это был медлительный человек с рыжей бородой и светлыми, голубыми глазами, неожиданно юными на этом обросшем лице.
— Сперва ко мне на маячок прошу, — забегал перед капитаном Суетин. По знакомству, так сказать. Алексан Алексаныч и сам ведь сознается, что скуповат. У него все по норме. Он, верите ли, куропаток настрелял, так и то в мясной паек зачислили… Разве неправду говорю, Алексан Алексаныч? А?
— На куропаток подотчетные заряды ушли… — хмуро ответил Хлынов. — А мясного пайка для полярников вполне хватает. Никто не жалуется.
— А кто на вас жаловаться будет? У маяка свой собственный бюджет. Я к вам некасаем. Товарищ капитан, и вы, товарищ московский, прошу, уважьте, загляните на маячок.
— Мы сначала пройдем на полярную станцию, — не глядя на него, сказал капитан.
Суетин исчез, словно растаял в тумане.
— А мы ждали вас только через час, — сказал Хлынов и, вздохнув, добавил: — Заждались мы вас…
Домик полярной станции внезапно вырос перед нами. Совсем близко, сотрясая мутный воздух, заревел гудок. Потом смолк. В ушах гудело. Вдруг мне показалось, что я слышу какую-то удивительно знакомую мелодию… Звуки рассыпаются сверкающей дробью, мощные аккорды звучат один за другим… Какая сила! Какой блеск!
— Это наша полярница Верочка Смирнова играет, — пояснил Хлынов. — Она не знает, что мы уже идем. Она сейчас перестанет.
— Тише, вы! — возмущенно остановил его капитан.
Борис Ефимович стоял, приоткрыв дверь в сени, боялся пошевелиться. Лицо его преобразилось. Такое лицо бывало у Бориса Ефимовича тогда, когда он играл сам.
— Второй концерт Рахманинова, — почти с благоговением произнес он.
Мы трое стояли в сенях до тех пор, пока музыка внезапно не оборвалась.
— Верочка у нас пианистка, — извиняющимся голосом пояснил Хлынов. — В Арктике она попала на полярную станцию, где пианино не было… А у нас рояль. Весной разрешение получила. Перевели ее на работу к нам, и она переход на лыжах сделала от фактории, куда ее подвезли на тракторе, до нас километров шестьдесят. Музыкальный техникум окончила. В консерваторию будет поступать. А работает хорошо… По специальности метеоролог…
— Где же она? — спросил Борис Ефимович, входя в кают-компанию.
Перелистывавшая ноты девушка вскочила, зарделась вся.
— Здравствуйте, капитан, — сказала она, протягивая руку. — Вы простите — я не знала… Мы тут, несколько островов, самодеятельный концерт готовим. Каждый остров с каким-нибудь номером выступит. Вот я и готовилась… Простите…
— А мне сказали, что вы в консерваторию готовитесь.
— И в консерваторию тоже, — кивнула девушка.
Капитан уселся сам и усадил девушку.
— Это как же так… Вы мне расскажите… Я ведь тоже музыкант. Я на аккордеоне играю, потому что на «Седове» у нас сейчас пианино нет. Это как же вас вместо консерватории да в Арктику занесло?
Девушка совсем смутилась.
— Я так решила, товарищ капитан, — сказала она, оглядываясь на нас с Хлыновым, — я временно в Арктике… Когда он пошел в армию, я сказала, что пойду в Арктику… Он писал, что скоро вернется. И я через год вернусь.
— Это вы про мужа?
— Нет, я не замужем. Мы поженимся, когда оба вернемся.
— Чудачка, так зачем же вам Арктика понадобилась?
— Может быть… Мне хотелось поработать где очень трудно, и я нисколько не жалею, что поехала. Арктика всегда казалась мне такой замечательной!
— Только казалась?
— Нет, что вы! — спохватилась девушка. — Я сейчас вам что-то покажу. Я не знаю, может быть, это совсем и не нужно, но это так интересно… Она выбежала в небольшую комнату, дверь которой выходила в кают-компанию.
Хлынов пошел распорядиться о завтраке.
Капитан многозначительно посмотрел на меня.
Верочка вернулась с тетрадкой и альбомом в руках.
— Я вот сюда все записываю, что наблюдаю… Когда что случается у нас на острове, какие прилетают птицы, какие попадаются рыбы… Вот паука удивительного поймала. Я зарисовала его. Он едва на тарелке умещался. Я его хотела сохранить, но он высох и рассыпался… Вы не знаете такого паука?
— Паук-плавунец, — сказал капитан, посмотрев на рисунок.
— Ну вот, а я думала, что открытие сделала. Я сказала, что Суетин тут есть такой, — что он на этого паука походит. Что тут было! — и девушка весело рассмеялась.
У капитана были дела с Хлыновым. Надо было сверить ведомости доставленных продуктов. Обычно это входило в обязанности второго помощника, но сейчас Борис Ефимович почему-то взял это на себя. Я должен был помогать ему. Оба мы «плавали» в таком деле и все время путались, а Хлынов был человек дотошный и требовал, чтобы все было сделано, как следует.
— Вы давно здесь? — как бы невзначай расспрашивал его капитан.
— Второй год. Я прежде с семьей в бухте Рубиновой жил. Мальчишка у меня подрос. В школу пора отдавать. Вот первый год без семьи живу.
— Скучаете? — спросил капитан.
Хлынов улыбнулся.
— Смешно сказать… Зарок дал бороды не брить, пока с семьей не свижусь. Думаю перебраться на Диксон. Там и школа есть. А из Арктики уходить — сил нет. Вот посмотрите, какой у меня мальчонка… — он достал из письменного стола фотографию жены и ребенка.
— Как живете здесь, дружно?
Хлынов махнул рукой.
— На полярной станции живем очень хорошо. Есть у нас еще радист и радистка. Поженились у нас. Жаль, вы их увозите. Но им повезло — опять вместе будут. Маяк вот только у нас поблизости… беспокойный, нахмурился Хлынов.
— Гудит? Так ведь скоро навигация кончается…
— Не гудок беспокоит… Собаку нашу смотритель пристрелил. Уж не знали мы, как Верочку утешить. Хороший был пес. Не давал он Суетину к Верочке приближаться. Она без этого пса на метеоплощадку никогда не ходила… Вот Суетин и пристрелил.
— Вот как, — помолчав, проговорил капитан.
Я остался в кают-компании с Верочкой, а капитан пошел в радиорубку познакомиться с уезжающими радистами, поговорить с ними, как они прожили тут зиму.
Потом вместе с капитаном мы зашли на маяк и после его осмотра сидели в комнате смотрителя, неряшливой, очевидно к нашему приходу наскоро прибранной. В ней пахло плохо выделанными шкурами.
— Хорошо играет… — говорил Суетин про Верочку. Его бабье лицо расплылось в улыбке. — Очень мы все это любим. Только вещички-то она играет какие-то непутевые. Просишь, просишь сыграть «Огонек» или там "Синий платочек" — не играет. Все от гордости, это я так полагаю. А Хлынова нужно вывезти… это для того, чтобы ее же спасти. А насчет станции не сомневайтесь, справимся в порядке совмещения профессий. Пожалуйста, угощайтесь… У нас хоть тоже все по норме, но мы не Хлыновы, не поскупимся. Мы сами из крестьян. Из крепких, гостям всегда богатый стол. Медвежьи шкуры посмотреть не желаете ли? Я вам про каждую историю расскажу. Вот шкура медведицы. Я ее вам вместе с двумя медвежатами заверну… С этим семейством дело вот как было. Плыли мы на пароходе, когда меня сюда доставляли. Капитаном у нас был Николай Львович, да вы его знаете, он потом из Арктики в какой-то порт ушел… Увидал я медвежье семейство на льду и к капитану. Так и так, Николай Львович. А семейство нас почуяло — и к пароходу. Звери дурные. Страха не знают. Кто их в Арктике напугать может? Я с винтовочкой. Жду, когда поближе подойдут. Пассажиры собрались, ахают. Идут звери, воздух нюхают. На корабль дивятся. К самому борту подошли… Ну, не мишень, а просто прелесть. Я винтовочку на реллинги положил, удобно так… и спускаю курок. И надо же! Мальчишка Федька-сирота — с базы одной его вывозили — подтолкнул меня под руку. Зверя, видите ли, ему жалко стало! Я в медвежонка метил, потому знаю, что от раненого или от убитого мать никуда не отойдет. И не уложил я зверя. Перекувыркнулся он через голову. Застонал, зарычал и ну бежать… На снегу красный след. Мать и брат за ним. Бегают медведи быстро. Второй раз я стрелять не стал. Сразу — на мостик. Николай Львович, прошу, мол, в погоню! Он поворчал, но согласился. Медвежатник страстный был. Стал корабль во льдах разворачиваться. Медвежонок раненый прилег за ропак, его и не видно. Мать с братом отошли было за километр, но как увидели, что чудище к раненому приближается, сразу на выручку. Тут я их всех и перестрелял. Сначала раненого прикончил. Потом медведицу уложил. Последний медвежонок бегает по льдине, не то ревет, не то плачет. Потеха! Я еще помедлил немного, чтобы зрители насмотрелись на зверя как следует. Ну, и его… Он закрутился, закрутился, потом прилег к братцу, будто отдохнуть. Ну, и не встал. Так мы их и поднимали, одним канатом.
А вот эта шкура… Тоже медведица. В тот же раз мы ее во льдах заметили и стали гнать. Вот я говорил, что страху звери не знают. Эта медведица, верно, уже кораблями пуганная была. Никогда не видел я такого ужаса, с каким она удирала. И медвежонок с ней… Скачут через льды, как зайцы. Николай Львович полный ход дал. Корабль настигает зверей, а они мчатся, с льдины прямо в воду прыгают, плывут, как дельфины! В Сухуми я видел дельфинов-то… Потом выскакивают на льдину и опять, как олени мчатся. Потом снова — бултых в воду. Я на носу в кресле сижу, ружье наготове. Куда им, зверям, с кораблем состязаться. Прицелился, ну, прямо, как вот из окошка в собаку. Чик — и перестала медведица плыть. Лапы растопырила и не тонет, мертвая, а не тонет. Я потом и медвежонка прикончил, только мы его вылавливать не стали, некогда было. Или вот еще… Подошла медведица к самому борту…
— Довольно! — вставая, резко сказал Борис Ефимович.
— Что ж так скоро, али угощение не понравилось? — встревожился Суетин. — Да вы ничего и не попробовали! А я сижу, разговорами вас занимаю…
— Мы уже наслушались ваших разговоров. Я получил указание вывезти вас из Арктики, — сухо сказал капитан.
— Это как же так? — оторопел Суетин. — Это по какому такому праву? А маяк?
— За маяком до начала навигации будет следить полярная станция. А вы зимовать в Арктике больше не будете. Понимаете? Никогда больше не будете.
Суетин поднялся, мигая бесцветными ресницами.
— Да вы это что? А полярная надбавка? По какому такому праву меня полярной надбавки лишать? Я сколько лет ее откладываю вместе с жалованием… Питание бесплатное, семейства у меня нет! Но на домик еще не хватает… Я не согласен…
— Вашего согласия никто не спрашивает. Такие, как вы, зимовать в Арктике не будут.
— Это какие же, как я?
— Такие, которые в Арктике пристанища искали, — с гневом заговорил Борис Ефимович. — Необитаемый остров хотели найти в советском море. Чтоб волны до них не доставали. Бежали от этих свежих волн, и хозяйства крепкие бросали!..
— Меня никто не раскулачивал!.. — крикнул, отступая, Суетин. — Я по своей воле хозяйство распродал, в город подался! У меня в анкетах пятен нету! Но я здесь не только что за длинным рублем…
— Да, вы здесь не только за длинным рублем, — брезгливо сказал Борис Ефимович. — Вы сюда от советской жизни бежали. Все мне понятно. Только забыли вы, что и здесь советская земля. И здесь вы чужой и лишний…
Сказав это, капитан вышел. Я хотел идти следом за ним, но Суетин ухватил меня за рукав.
— Как же так — лишний? Товарищ дорогой! Вы же влиятельный… Вы с ним поговорите. Я вам все шкуры отдам. Это как же будет? Меня — и вдруг обратно на эту самую Большую Землю… Да не ужиться мне там! А надбавка? Да бог с ней, с надбавкой. Мне тишину нужно… Да я лучше в море спрыгну! В самый что ни на есть туман…
Он был противен и жалок, этот человек, трясущийся, хватающий что-то руками и снова ставящий на место.
— Это в чем же вина-то? В чем? — бормотал он. — Это все, верно, Хлынов, подлюга… И Верка эта! Ничейная баба! Несчастья от нее одни… Да я лучше из маяка ни ногой!.. Товарищ московский, вы с ним поговорите… Нельзя человека все равно как в огонь совать, сгорю я там… Ведь заслуги у меня есть! Иностранные пароходы тут проходили, а я не сбежал… не сбежал!
Я вырвал свою руку, за которую все цеплялся Суетин, и вышел.
В лицо мне ударил ветер. Я жадно глотал воздух, мне казалось, что я несколько минут не дышал.
Борис Ефимович ждал меня.
До катера нас провожал Хлынов.
Капитан отчитывал его:
— Почему же вы не ставили вопрос о Суетине? Вы должны были требовать его удаления с острова.
— Так как же я могу, Борис Ефимович? Маяк — дело особое… от полярной станции — отдельный… Да и я как будто лично заинтересован. Ведь он меня во всех грехах обвиняет… а я вдруг его выселения стану требовать.
— Эх вы!.. — с укором сказал капитан. — А еще начальник полярной станции!.. Вот ваши радисты уплывают вместе с нами, а радиограмму мне еще неделю назад прислали с требованием о вывозе с острова Суетина. Все подробно сообщили, дали тем мне возможность Москве доложить.
— Так, значит… — оторопело сказал Хлынов, — вы уже все знали?
— Знал. Только проверить должен был. Вот и проверил. И образину Суетина, мохнатую и липкую, выявил и вашу… ложную беспристрастность, товарищ начальник полярной станции. Урок вам из всего этого надо вынести. Здесь у нас передовой край. И людей таких, как Суетин, здесь тоже терпеть нельзя. Прощайте, Александр Александрович, — уже смягчаясь сказал капитан. — Передайте привет вашей пианистке.
Хлынов смотрел виноватыми, детскими голубыми глазами. Ветер трепал его огненную бороду и гнал вслед нашему катеру снег и сорванную с волн пену.
На этом острове не было ледников, от него не отламывались и не уплывали коварные айсберги, у берегов не встречалось подводных скал, и все же этот остров считался одним из самых опасных мест Арктики.
— Туманы… — объяснил капитан.
Я бродил по палубе. Клочковатая мгла скрывала корму корабля. Был конец полярной навигации. Наш корабль последним уходил из этих широт.
Я прислушался, вглядываясь в мутную стену. Может быть, мне показалось?
Далекий, словно прорвавшийся к нам через вату, звук повторился еще раз. Нет сомнения — густым баритоном ревел гудок.
Встречный корабль?
Но ведь только вчера капитан говорил, что здесь нет никого, кроме нас!
С капитанского мостика слышалась команда. Наш корабль менял курс.
Туман не редел. Гребни волн внезапно отделялись от повисающей в воздухе плотной пены и разбивались о борт. Брызги долетали до палубы. Они были свежие и соленые.
Вот, если в такой туман смоет тебя волной за борт! Хватятся не сразу. Ты еще держишься на воде и видишь, как уходит, растворяется во мгле борт корабля… Потом, тускнея, исчезнут огни, а ты… изнемогаешь в последних усилиях.
Я передернул плечами и отошел от реллингов.
Через равные промежутки слышался все тот же могучий бархатный звук, низкий, рокочущий. Так настойчиво можно только звать на помощь или предупреждать об опасности.
Звук приближался. Одна низкая нота, спокойная и в то же время мощная, возникала в тумане, смолкала и рождалась вновь.
Какая-то неведомая "северная Сирена", скрытая в опустившемся на море облаке, звала нас к себе.
Раздалась отрывистая команда. Загрохотала цепь. Отдавали якорь. Загудел и наш гудок.
Около меня выросла фигура капитана в макинтоше.
— Ну, вот… добрались и до острова с маяком. Недурной баритон?
— Поющий маяк? Сирена в тумане? — спросил я.
Откуда-то снизу, словно из волн, послышался голос.
Человек за бортом?
Капитан и я перегнулись через реллинги.
У высокого борта корабля прыгала крохотная лодчонка. Человек что-то кричал, верно, просил спустить трап или бросить веревку.
Какой смельчак мог решиться плыть в тумане на звук нашего гудка?
По штормтрапу человек поднялся на палубу. Он был в брезентовом плаще поверх ватной куртки и штанов. При виде капитана, на которого ему указали, он снял шапку, пригладил седоватые волосы и, сладко улыбаясь, подошел к нам.
Его маленькие, близко посаженные глазки смотрели куда-то в сторону. Роста он был низенького, а от привычки не подымать головы казался еще ниже.
— От души сердечно приветствую вас и поздравляю, товарищ капитан, с благополучным появлением. Как прошли в тумане, осмелюсь поинтересоваться? Небось сигнальчик-то помог вам. Вроде, как все вы мне жизнью теперь обязаны. Нет, это я только так… К слову пришлось… Очень приятно видеть корабль здесь в такое позднее время. Видите, маяк мой работает исправно. Рассчитываю, что шепнете вы это кому и где следует. Не позволите ли в каютку с вами пройти?
— Отчего же, — сказал Борис Ефимович, — милости прошу.
Мы сидели в каюте капитана.
— Крепенького не найдется ли у вас? Свои запасы бережем. Зима длинная… наш полярный опыт не дозволяет расходовать, — говорил смотритель маяка. — Дай, думаю, навещу морячков на корабле. Ведь волнами да туманами меня не запужаешь. Ваше здоровье, товарищ капитан, и ваше, товарищ, не знаю, кем вы тут будете. Вот и думаю, что интересно ведь капитану про наши новости узнать.
Я разглядывал разговорчивого человека. У него было бабье лицо, морщинистое, обветренное, но без того характерного для полярников загара, какой дается не солнцем, а ветром.
— Преинтересно будет капитану узнать про наши дела, от которых кожа не бела. Вот так. Ваше здоровье. Особенно потому интересно, что может капитан по радио с начальником снестись и про все такое этакое свое мнение донести. Воздух надо прочистить на нашем острове. Туману тут много всякого… А голос вон какой! — Через иллюминатор доносился глухой баритон маяка. — Голос вон какой нужен, чтобы услышать тебя в тумане. Вот. А кричать хочется, поверите ли, товарищи дорогие. Кричать надобно. Госконтроль должен вмешаться, такие тут безобразия происходят… под покровом тумана, позвольте так выразиться…
Капитан, обычно сам разговорчивый и общительный, слушал смотрителя молча. Тот продолжал:
— Разврат, извините меня за слово неуместное, разврат тут царствует безвозмездно. Мне, конечно, дела до этого никакого нету, я от полярной станции отдельно, на самостоятельном, так сказать, бюджете, а все-таки… с души воротит… На берег съедете, сами увидите. Только внимания не обращайте, что они сейчас по своим комнаткам разъедутся. Это для отвода глаз… А они только и мечтают, как бы скорее льдом все тут сковало, чтобы никто к ним носу сунуть не мог… А я вот остаюсь!.. И это им, как бельмо на глазу. Они бы меня в ледяной воде утопили, белым бы медведям скормили. Только не таков Яков Григорьевич Суетин, это я, то есть… Будем знакомы… Очень приятно… Ваше здоровье! Не таков Суетин. Медведя любого один на один берет.
— Шкурку белую позвольте поднести и вам, капитан, и вам, товарищ московский… Благодарны будете. Своей охоты, своей выделки… Да вы зря отказываетесь. У меня много — не обеднею.
— Да, непорядки у нас, — заметно хмелея и уже не улыбаясь, беспрерывно говорил непрошеный гость. — А виноват во всем Хлынов Алексан Алексаныч. Гордый человек. Опыта никакого. Ему бы у меня учиться. Как-никак восемнадцать лет в Арктике. Не люблю Большой Земли. Суеты не люблю, ненавижу… Я тишину люблю… и порядок… А здесь? Разве это порядок? Начальником поставили молокососа, который девочку с толку сбивает… Гордый очень этот начальник полярной станции… а быть ему здесь, вроде, и не к чему. Опыт полярный у меня, товарищи, достаточный. Я метеорологом был, и механик я, на все специальности, и радист исправный. Характер у меня правильный. Дисциплина будет, здорово живешь! Хозяин я, нутром хозяин. — Он сжал неожиданно большой для такого хлипкого человека кулак. — Бывало, и не с таким хозяйством справлялся… Коровы, кони! Люди завидовали!.. У меня и здесь от работы отлынивать не посмеют…
— Ваше здоровье, еще разрешите? Премного благодарен. Вот и думаю я, что надо государству копейку сберечь. Решил я в порядке соцсоревнования и ударничества взять на себя совмещение профессии. Будьте благонадежны — и с маяком справлюсь, и полярную станцию под опеку возьму. Товарища Хлынова Алексан Алексаныча примите на другое использование… а девочку оставьте. Я еевымуштрую. Медвежью шкуру я ей еще летом подарил, самую крупную, самую отменную… Но не для этого дарил, не для этого… Прошу и от меня принять шкурки-то… вроде, будет, как сувенир… На память… об Арктике.
Проводив наконец нежданного гостя, капитан попросил меня съехать вместе с ним на берег.
К утру туман не раздернуло, но капитан все-таки приказал спускать «Петушок».
Катер шел на певучий рев маяка. Берега не было видно. Зажженные огни «Седова» тускнели и наконец погасли.
Кунгас, тащившийся на буксире, был едва заметен.
На берегу нас встречали Суетин и Хлынов, начальник полярной станции. Это был медлительный человек с рыжей бородой и светлыми, голубыми глазами, неожиданно юными на этом обросшем лице.
— Сперва ко мне на маячок прошу, — забегал перед капитаном Суетин. По знакомству, так сказать. Алексан Алексаныч и сам ведь сознается, что скуповат. У него все по норме. Он, верите ли, куропаток настрелял, так и то в мясной паек зачислили… Разве неправду говорю, Алексан Алексаныч? А?
— На куропаток подотчетные заряды ушли… — хмуро ответил Хлынов. — А мясного пайка для полярников вполне хватает. Никто не жалуется.
— А кто на вас жаловаться будет? У маяка свой собственный бюджет. Я к вам некасаем. Товарищ капитан, и вы, товарищ московский, прошу, уважьте, загляните на маячок.
— Мы сначала пройдем на полярную станцию, — не глядя на него, сказал капитан.
Суетин исчез, словно растаял в тумане.
— А мы ждали вас только через час, — сказал Хлынов и, вздохнув, добавил: — Заждались мы вас…
Домик полярной станции внезапно вырос перед нами. Совсем близко, сотрясая мутный воздух, заревел гудок. Потом смолк. В ушах гудело. Вдруг мне показалось, что я слышу какую-то удивительно знакомую мелодию… Звуки рассыпаются сверкающей дробью, мощные аккорды звучат один за другим… Какая сила! Какой блеск!
— Это наша полярница Верочка Смирнова играет, — пояснил Хлынов. — Она не знает, что мы уже идем. Она сейчас перестанет.
— Тише, вы! — возмущенно остановил его капитан.
Борис Ефимович стоял, приоткрыв дверь в сени, боялся пошевелиться. Лицо его преобразилось. Такое лицо бывало у Бориса Ефимовича тогда, когда он играл сам.
— Второй концерт Рахманинова, — почти с благоговением произнес он.
Мы трое стояли в сенях до тех пор, пока музыка внезапно не оборвалась.
— Верочка у нас пианистка, — извиняющимся голосом пояснил Хлынов. — В Арктике она попала на полярную станцию, где пианино не было… А у нас рояль. Весной разрешение получила. Перевели ее на работу к нам, и она переход на лыжах сделала от фактории, куда ее подвезли на тракторе, до нас километров шестьдесят. Музыкальный техникум окончила. В консерваторию будет поступать. А работает хорошо… По специальности метеоролог…
— Где же она? — спросил Борис Ефимович, входя в кают-компанию.
Перелистывавшая ноты девушка вскочила, зарделась вся.
— Здравствуйте, капитан, — сказала она, протягивая руку. — Вы простите — я не знала… Мы тут, несколько островов, самодеятельный концерт готовим. Каждый остров с каким-нибудь номером выступит. Вот я и готовилась… Простите…
— А мне сказали, что вы в консерваторию готовитесь.
— И в консерваторию тоже, — кивнула девушка.
Капитан уселся сам и усадил девушку.
— Это как же так… Вы мне расскажите… Я ведь тоже музыкант. Я на аккордеоне играю, потому что на «Седове» у нас сейчас пианино нет. Это как же вас вместо консерватории да в Арктику занесло?
Девушка совсем смутилась.
— Я так решила, товарищ капитан, — сказала она, оглядываясь на нас с Хлыновым, — я временно в Арктике… Когда он пошел в армию, я сказала, что пойду в Арктику… Он писал, что скоро вернется. И я через год вернусь.
— Это вы про мужа?
— Нет, я не замужем. Мы поженимся, когда оба вернемся.
— Чудачка, так зачем же вам Арктика понадобилась?
— Может быть… Мне хотелось поработать где очень трудно, и я нисколько не жалею, что поехала. Арктика всегда казалась мне такой замечательной!
— Только казалась?
— Нет, что вы! — спохватилась девушка. — Я сейчас вам что-то покажу. Я не знаю, может быть, это совсем и не нужно, но это так интересно… Она выбежала в небольшую комнату, дверь которой выходила в кают-компанию.
Хлынов пошел распорядиться о завтраке.
Капитан многозначительно посмотрел на меня.
Верочка вернулась с тетрадкой и альбомом в руках.
— Я вот сюда все записываю, что наблюдаю… Когда что случается у нас на острове, какие прилетают птицы, какие попадаются рыбы… Вот паука удивительного поймала. Я зарисовала его. Он едва на тарелке умещался. Я его хотела сохранить, но он высох и рассыпался… Вы не знаете такого паука?
— Паук-плавунец, — сказал капитан, посмотрев на рисунок.
— Ну вот, а я думала, что открытие сделала. Я сказала, что Суетин тут есть такой, — что он на этого паука походит. Что тут было! — и девушка весело рассмеялась.
У капитана были дела с Хлыновым. Надо было сверить ведомости доставленных продуктов. Обычно это входило в обязанности второго помощника, но сейчас Борис Ефимович почему-то взял это на себя. Я должен был помогать ему. Оба мы «плавали» в таком деле и все время путались, а Хлынов был человек дотошный и требовал, чтобы все было сделано, как следует.
— Вы давно здесь? — как бы невзначай расспрашивал его капитан.
— Второй год. Я прежде с семьей в бухте Рубиновой жил. Мальчишка у меня подрос. В школу пора отдавать. Вот первый год без семьи живу.
— Скучаете? — спросил капитан.
Хлынов улыбнулся.
— Смешно сказать… Зарок дал бороды не брить, пока с семьей не свижусь. Думаю перебраться на Диксон. Там и школа есть. А из Арктики уходить — сил нет. Вот посмотрите, какой у меня мальчонка… — он достал из письменного стола фотографию жены и ребенка.
— Как живете здесь, дружно?
Хлынов махнул рукой.
— На полярной станции живем очень хорошо. Есть у нас еще радист и радистка. Поженились у нас. Жаль, вы их увозите. Но им повезло — опять вместе будут. Маяк вот только у нас поблизости… беспокойный, нахмурился Хлынов.
— Гудит? Так ведь скоро навигация кончается…
— Не гудок беспокоит… Собаку нашу смотритель пристрелил. Уж не знали мы, как Верочку утешить. Хороший был пес. Не давал он Суетину к Верочке приближаться. Она без этого пса на метеоплощадку никогда не ходила… Вот Суетин и пристрелил.
— Вот как, — помолчав, проговорил капитан.
Я остался в кают-компании с Верочкой, а капитан пошел в радиорубку познакомиться с уезжающими радистами, поговорить с ними, как они прожили тут зиму.
Потом вместе с капитаном мы зашли на маяк и после его осмотра сидели в комнате смотрителя, неряшливой, очевидно к нашему приходу наскоро прибранной. В ней пахло плохо выделанными шкурами.
— Хорошо играет… — говорил Суетин про Верочку. Его бабье лицо расплылось в улыбке. — Очень мы все это любим. Только вещички-то она играет какие-то непутевые. Просишь, просишь сыграть «Огонек» или там "Синий платочек" — не играет. Все от гордости, это я так полагаю. А Хлынова нужно вывезти… это для того, чтобы ее же спасти. А насчет станции не сомневайтесь, справимся в порядке совмещения профессий. Пожалуйста, угощайтесь… У нас хоть тоже все по норме, но мы не Хлыновы, не поскупимся. Мы сами из крестьян. Из крепких, гостям всегда богатый стол. Медвежьи шкуры посмотреть не желаете ли? Я вам про каждую историю расскажу. Вот шкура медведицы. Я ее вам вместе с двумя медвежатами заверну… С этим семейством дело вот как было. Плыли мы на пароходе, когда меня сюда доставляли. Капитаном у нас был Николай Львович, да вы его знаете, он потом из Арктики в какой-то порт ушел… Увидал я медвежье семейство на льду и к капитану. Так и так, Николай Львович. А семейство нас почуяло — и к пароходу. Звери дурные. Страха не знают. Кто их в Арктике напугать может? Я с винтовочкой. Жду, когда поближе подойдут. Пассажиры собрались, ахают. Идут звери, воздух нюхают. На корабль дивятся. К самому борту подошли… Ну, не мишень, а просто прелесть. Я винтовочку на реллинги положил, удобно так… и спускаю курок. И надо же! Мальчишка Федька-сирота — с базы одной его вывозили — подтолкнул меня под руку. Зверя, видите ли, ему жалко стало! Я в медвежонка метил, потому знаю, что от раненого или от убитого мать никуда не отойдет. И не уложил я зверя. Перекувыркнулся он через голову. Застонал, зарычал и ну бежать… На снегу красный след. Мать и брат за ним. Бегают медведи быстро. Второй раз я стрелять не стал. Сразу — на мостик. Николай Львович, прошу, мол, в погоню! Он поворчал, но согласился. Медвежатник страстный был. Стал корабль во льдах разворачиваться. Медвежонок раненый прилег за ропак, его и не видно. Мать с братом отошли было за километр, но как увидели, что чудище к раненому приближается, сразу на выручку. Тут я их всех и перестрелял. Сначала раненого прикончил. Потом медведицу уложил. Последний медвежонок бегает по льдине, не то ревет, не то плачет. Потеха! Я еще помедлил немного, чтобы зрители насмотрелись на зверя как следует. Ну, и его… Он закрутился, закрутился, потом прилег к братцу, будто отдохнуть. Ну, и не встал. Так мы их и поднимали, одним канатом.
А вот эта шкура… Тоже медведица. В тот же раз мы ее во льдах заметили и стали гнать. Вот я говорил, что страху звери не знают. Эта медведица, верно, уже кораблями пуганная была. Никогда не видел я такого ужаса, с каким она удирала. И медвежонок с ней… Скачут через льды, как зайцы. Николай Львович полный ход дал. Корабль настигает зверей, а они мчатся, с льдины прямо в воду прыгают, плывут, как дельфины! В Сухуми я видел дельфинов-то… Потом выскакивают на льдину и опять, как олени мчатся. Потом снова — бултых в воду. Я на носу в кресле сижу, ружье наготове. Куда им, зверям, с кораблем состязаться. Прицелился, ну, прямо, как вот из окошка в собаку. Чик — и перестала медведица плыть. Лапы растопырила и не тонет, мертвая, а не тонет. Я потом и медвежонка прикончил, только мы его вылавливать не стали, некогда было. Или вот еще… Подошла медведица к самому борту…
— Довольно! — вставая, резко сказал Борис Ефимович.
— Что ж так скоро, али угощение не понравилось? — встревожился Суетин. — Да вы ничего и не попробовали! А я сижу, разговорами вас занимаю…
— Мы уже наслушались ваших разговоров. Я получил указание вывезти вас из Арктики, — сухо сказал капитан.
— Это как же так? — оторопел Суетин. — Это по какому такому праву? А маяк?
— За маяком до начала навигации будет следить полярная станция. А вы зимовать в Арктике больше не будете. Понимаете? Никогда больше не будете.
Суетин поднялся, мигая бесцветными ресницами.
— Да вы это что? А полярная надбавка? По какому такому праву меня полярной надбавки лишать? Я сколько лет ее откладываю вместе с жалованием… Питание бесплатное, семейства у меня нет! Но на домик еще не хватает… Я не согласен…
— Вашего согласия никто не спрашивает. Такие, как вы, зимовать в Арктике не будут.
— Это какие же, как я?
— Такие, которые в Арктике пристанища искали, — с гневом заговорил Борис Ефимович. — Необитаемый остров хотели найти в советском море. Чтоб волны до них не доставали. Бежали от этих свежих волн, и хозяйства крепкие бросали!..
— Меня никто не раскулачивал!.. — крикнул, отступая, Суетин. — Я по своей воле хозяйство распродал, в город подался! У меня в анкетах пятен нету! Но я здесь не только что за длинным рублем…
— Да, вы здесь не только за длинным рублем, — брезгливо сказал Борис Ефимович. — Вы сюда от советской жизни бежали. Все мне понятно. Только забыли вы, что и здесь советская земля. И здесь вы чужой и лишний…
Сказав это, капитан вышел. Я хотел идти следом за ним, но Суетин ухватил меня за рукав.
— Как же так — лишний? Товарищ дорогой! Вы же влиятельный… Вы с ним поговорите. Я вам все шкуры отдам. Это как же будет? Меня — и вдруг обратно на эту самую Большую Землю… Да не ужиться мне там! А надбавка? Да бог с ней, с надбавкой. Мне тишину нужно… Да я лучше в море спрыгну! В самый что ни на есть туман…
Он был противен и жалок, этот человек, трясущийся, хватающий что-то руками и снова ставящий на место.
— Это в чем же вина-то? В чем? — бормотал он. — Это все, верно, Хлынов, подлюга… И Верка эта! Ничейная баба! Несчастья от нее одни… Да я лучше из маяка ни ногой!.. Товарищ московский, вы с ним поговорите… Нельзя человека все равно как в огонь совать, сгорю я там… Ведь заслуги у меня есть! Иностранные пароходы тут проходили, а я не сбежал… не сбежал!
Я вырвал свою руку, за которую все цеплялся Суетин, и вышел.
В лицо мне ударил ветер. Я жадно глотал воздух, мне казалось, что я несколько минут не дышал.
Борис Ефимович ждал меня.
До катера нас провожал Хлынов.
Капитан отчитывал его:
— Почему же вы не ставили вопрос о Суетине? Вы должны были требовать его удаления с острова.
— Так как же я могу, Борис Ефимович? Маяк — дело особое… от полярной станции — отдельный… Да и я как будто лично заинтересован. Ведь он меня во всех грехах обвиняет… а я вдруг его выселения стану требовать.
— Эх вы!.. — с укором сказал капитан. — А еще начальник полярной станции!.. Вот ваши радисты уплывают вместе с нами, а радиограмму мне еще неделю назад прислали с требованием о вывозе с острова Суетина. Все подробно сообщили, дали тем мне возможность Москве доложить.
— Так, значит… — оторопело сказал Хлынов, — вы уже все знали?
— Знал. Только проверить должен был. Вот и проверил. И образину Суетина, мохнатую и липкую, выявил и вашу… ложную беспристрастность, товарищ начальник полярной станции. Урок вам из всего этого надо вынести. Здесь у нас передовой край. И людей таких, как Суетин, здесь тоже терпеть нельзя. Прощайте, Александр Александрович, — уже смягчаясь сказал капитан. — Передайте привет вашей пианистке.
Хлынов смотрел виноватыми, детскими голубыми глазами. Ветер трепал его огненную бороду и гнал вслед нашему катеру снег и сорванную с волн пену.
КАТЕР В МОРЕ
 Ветер доставил много неприятностей Денисюку. У острова Угаданного, где Денисюк должен был работать аэрологом, разгулялся такой прибой, что выгрузка казалась невозможной. Из-за позднего времени года "Георгий Седов" не мог задерживаться. Льды грозили преградить ему обратный путь. Капитан Борис Ефимович вынужден был изменить своей обычной осторожности и вести выгрузку во время прибоя.
Что делалось на берегу, я не знал. Я лишь видел людей, возвращавшихся на пустых кунгасах. На моряках не было сухой нитки. Они грелись разбавленным спиртом. Говорят, что некоторые ящики вылавливали прямо из воды.
Выгрузка велась и днем и ночью.
Капитан не знал, удастся ли ему выбросить на берег все грузы, и установил очередность. Сначала — продовольствие и топливо и в последнюю очередь водородные баллоны.
Вот тут-то и начались неприятности для аэролога Денисюка. Баллоны казались ему самым важным грузом. Без них он не сможет наполнять водородом шарики, которые должен систематически выпускать в течение всего года. Наблюдая за их полетом на разной высоте, можно определить скорость и направление ветра.
Денисюк категорически отказался съехать на берег без баллонов. Я видел, как он, огромный, неуклюжий, мрачно разгуливал по палубе, глядя на далекий остров, пустынный и плоский, с одиноким домиком, который уже начало заносить снегом.
Отправился Денисюк на остров с последним рейсом катера, буксировавшего кунгас с его «драгоценными» баллонами.
Повел катер мой приятель, третий штурман Иван Васильевич Нетаев. К концу рейса капитан все больше доверял ему. Вместо измученного моториста, работавшего двое суток без сна, в этот рейс вместе с Нетаевым отправился старший механик Карташов.
Я понял, какое значение придает капитан этому рейсу, если поручил его своим любимым помощникам.
Когда катер, буксируя кунгас с водородными баллонами, отошел от корабля, налетел снежный заряд. Незаметно он перешел в пургу. Наш «Петушок» пропал из поля зрения. У всех нехорошо стало на душе. Видимость кончалась прямо у борта корабля. Даже вершины мачт скрылись. Остров исчез. Все тревожно прислушивались к замиравшему стуку дизелька катера.
Наконец стук замер.
И вот уже полтора часа, как не слышно катера ни на корабле, ни на острове, с которым мы по радио поддерживаем связь.
Катер не дошел до берега… и не вернулся к кораблю.
Каждый из нас мысленно старался представить себе, что происходит сейчас со штурманом Нетаевым, старшим механиком Карташовым и с Денисюком, который был один на кунгасе с баллонами.
Как выяснилось позднее, дизель на катере заглох, когда Иван Васильевич уже видел ориентир — костер, разложенный на берегу.
Рубка, где стоял у штурвала Нетаев, сообщалась с машинным отделением через переговорную трубу.
— Что случилось? — крикнул Нетаев, наклонившись к раструбу.
— Сейчас запущу, — отозвался механик, приземистый, пожилой моряк.
В тесном машинном отделении он склонился над дизелем.
Дизель запускают не заводной ручкой, а сжатым воздухом, впуская его в цилиндры. Баллон со сжатым воздухом лежал на специальной подставке, иначе он перекатывался бы при каждом крене катера, который валило с боку на бок. «Петушок», потеряв скорость, не слушался руля, и его било теперь волнами в борт.
Карташов прошел всю школу судовой выучки. Он умел, когда надо, все делать своими руками, за что его особенно ценил капитан.
Механик соединил шлангом баллон с дизелем и повернул кран дроссельного клапана, снижающего давление сжатого воздуха. Стрелка манометра на баллоне дрогнула. Сжатый воздух ринулся в цилиндры.
Карташов дал топливо — вспышка! Еще вспышка! Дизель застучал. Перестал. Опять застучал… И заглох.
— Форсунка засорилась! Надо прочистить! — уверенно крикнул Карташов в переговорную трубку.
Штурман Иван Васильевич тщетно старался поставить катер против волны.
Огонь на берегу быстро удалялся. Ветер и течение несли катер в открытое море. Всегда немного нерешительный, Иван Васильевич посмотрел на компас, стараясь хоть приблизительно определить направление своего вынужденного курса.
С матросской сноровкой, цепляясь за поручни на машинной надстройке, штурман прошел на корму, Карташова он не торопил. Он во всем доверялся этому опытному человеку, который и говорил и действовал уверенно.
С кормы катера сквозь летящую снежную стену уходил в полумрак буксирный канат. Кунгас казался темным расплывчатым пятном.
Волны перекатывались через катер. Они клали его набок, а он, наклоняясь, упрямо выпрямлялся, как ванька-встанька.
Снег, липкий и мокрый, бил в лицо, залепляя глаза.
Осветился квадрат люка. Из него показалась голова механика в сдвинутой на затылок кепке.
— Сейчас запустим! — ободряюще крикнул он.
Успокоенный штурман вернулся в рубку и взялся за штурвал.
Но на душе у него все же было нехорошо. Механик запустит дизель… а куда идти?
Не легко в море найти остров. «Седов» его трое суток искал.
На катере не было ни радиопеленга, ни лага, ни карт с нанесенным на них курсом.
Когда-то известный советский ученый, анализируя в Ленинграде путь дрейфовавшего во льдах судна, указал местоположение неизвестного острова. Нетаев был теперь рядом с этим островом Угаданным, но не знал, как добраться до него…
Дизель не работал.
— Что там у тебя? — снова крикнул Нетаев в переговорную трубу.
В машинном отделении молчали.
С тяжелым предчувствием штурман выбрался из рубки и взглянул в люк машинного отделения.
Электрическая лампочка тускло освещала широкую спину старшего механика. Карташов обернулся. Нетаев не узнал его обычно спокойного, уверенного лица. Казалось, Карташов испытывает сильную физическую боль. Он указал штурману на стрелку манометра.
— Все стравил, — упавшим голосом сказал он. — В баллоне воздуху не было… стрелка манометра застряла…
Нетаев увидел капельки пота на морщинистом лбу Карташова. Тот продолжал чужим, незнакомым Нетаеву голосом:
— Дизеля не запустить. Моя вина. Беру на себя… Стрелка обманула. Горе-то какое, Ваня! — и у Карташова перехватило горло.
С неожиданным спокойствием Нетаев сказал:
— Пассажир ведь на кунгасе… Надо его на катер взять. Кунгас скоро затонет.
Спокойные слова молодого штурмана отрезвляюще подействовали на механика. Он нахмурился, пнул ногой пустой баллон и полез следом за Нетаевым по трапу.
Они выбрались на корму. Липкий снег и брызги летели отовсюду. Через голенища в сапоги заливалась вода.
Моряки ухватились за буксирный трос и с трудом стали тянуть его. Скоро из мглы показалась пляшущая тень. Это был кунгас. На носу его виднелась фигура человека.
Когда нос кунгаса поравнялся с кормой катера, Нетаев крикнул:
— Прыгайте, Денисюк! Трос обрубим!
— Как же так — обрубим? — послышался голос. — Так ведь тут баллоны с водородом!
— Какие там баллоны! — с раздражением сказал Карташов. — Кунгас ко дну пойдет. Разве не понятно?
— То ж понятно, — отозвался Денисюк. — Вполне понятно. Только как же баллоны бросать?
Он выкрикивал слова, то поднимаясь над кормой, то проваливаясь куда-то вниз.
— Прыгайте! — начал сердиться Карташов.
— Так ведь без баллонов ни единого шара не выпустить. То ж не дело! хрипло протестовал Денисюк.
— Нам кунгас не удержать, он открытый, его зальет волнами, сдерживаясь, объяснил Нетаев.
— Так вы бы то сразу сказали. А ну! Поберегись!
На палубу что-то грохнулось. Карташов едва успел отскочить. Это упал брошенный с кунгаса баллон. Трудно было поверить, что пятидесятикилограммовый баллон можно было перебросить на такое расстояние. Но Денисюк, огромный Денисюк, в армии удивлявший однополчан-танкистов игрой с двухпудовой гирей, выбрал момент, когда кунгас ударился о корму катера, и перебросил баллон…
— Перетаскивай, Федор Михайлович, в носовую каюту, — сказал механику Нетаев, невольно улыбнувшись изумлению Карташова. — А я буду их удерживать на палубе, чтобы не нырнули…
Баллоны, похожие на крупнокалиберные снаряды, один за другим падали на корму катера. Слышно было, как хрипло дышал богатырь, поднимавший их со дна кунгаса.
— Денис Алексеевич! Хватит, катер перегрузим! — нерешительно протестовал Иван Васильевич.
— Да то ж мне на целый год… Восемь штук. То не богато. Еще парочку, будь ласков! — И, не дожидаясь ответа, Денисюк с тяжелым вздохом бросил на катер еще один баллон.
Потом он неуклюже прыгнул сам и сразу вцепился в поручни.
— Качает, как на танке… по пересеченной местности. И мутит, ровно контузило, — проговорил он.
Штурман взмахнул топором, обрубил трос. Кунгас взлетел на гребень и исчез в темноте.
Денисюк навалился животом на машинную надстройку. Ему, видимо, было нехорошо.
— Если тошнит, надо работать, — участливо посоветовал Нетаев. — Идите с механиком откачивать воду.
Денисюк, минуту назад бросавший стальные баллоны, теперь, расслабленный, едва державшийся на ногах, поплелся в носовую каюту.
Вход в каюту был через рулевую рубку.
За стеклами рубки в темноте ревела вода. С грохотом била она в переборки и двери. Из-под стекол и через порог вода струйками стекала в каюту. Ее надо было вычерпывать ведрами. Денисюк стал помогать Карташову. Работать было трудно. При росте Денисюка ему нельзя было даже разогнуться, но все же работа ему помогала.
Карташов был хмур и молчалив.
Откачивали воду всю ночь, но вода прибывала. К утру поднялся ветер баллов до десяти. Положение катера становилось угрожающим. Он уже не прыгал по волнам. Изнемогая, он то ложился на борт, зачерпывая воду, то вдруг взлетал, готовый оторваться от гребня, а потом снова стремительно падал вниз.
Лишь на минуту спустился в каюту штурман.
— Ну, беда, Денис Алексеевич, — сказал он. — У катера ходу нет, против волн держаться не можем. Воды не вычерпать, сами видите.
— Так что ж? — сгорбившийся Денисюк остановился с ведром в руке.
— Баллоны надо будет сбросить, — сказал Нетаев.
— То ж не дело, товарищи! Мне ж год не с чем будет работать!
— Ничего не поделаешь, Денис Алексеевич, — как бы извиняясь, пожал плечами штурман.
— А если запустить дизель? — вдруг спросил Денисюк.
— Как запустить? — отозвался механик.
— Так вот вам сжатый газ! Двести атмосфер! — и Денисюк пнул ногой баллон.
Карташов удивленно посмотрел на Денисюка.
— Это водород, — веско сказал он.
— Так что ж?
— Рехнулся! — Карташов сердито бросил ведро. — Смесь водорода с воздухом — это же гремучий газ. Если мы будем провертывать дизель сжатым воздухом — верный взрыв. От катера щепки останутся!
— Э, ни! — поднял руку Денисюк. — Ты ж меня выслушай! То ж идея! Мы не смешаем водород с воздухом. Мы все всасывающие трубы заткнем. Карташов отрицательно покачал головой.
— Это нельзя… риск, — и отвернулся.
— Как разумеете. Только баллоны выбрасывать не могу.
— Как думаешь, Федор Михайлович? — нерешительно обратился Нетаев к механику.
— Никогда такого не слыхал, — сердито обернулся тот. — Пятнадцать лет механиком, немало людей выучил… Не могу пойти на этакий риск.
Нетаев задумался. Денисюк, согнувшись, выжидательно смотрел на него. Наконец штурман повернул к нему свое лицо. Обычно мягкое, улыбающееся, оно сейчас побледнело и осунулось. Тонкие черты обострились.
— Почему вы считаете, что можно использовать водород? — с прежним спокойствием спросил он.
— А я ведь в Политехническом учился, только не кончил. Потом танкистом был, с танковыми дизелями возился. Из армии вернулся… Денисюк отвел глаза, — ни дома, ни родных не нашел. Вот и пошел на курсы, чтобы в Арктику поехать. В общем — знаком я с дизелями.
— Послушайте, Денисюк, — твердо сказал штурман. — Я когда-то проходил в «мореходке» дизеля, но считайте, что я ничего в них не понимаю, и считайте, что сейчас я обязан все понять. Встаньте рядом со мной в рубке, мне надо к штурвалу. Карташов вам будет снизу подавать ведра, а вы выливайте воду на палубу… И объясняйте мне так, чтобы я понял, все понял!
Денисюк внимательно, с уважением смотрел на невысокого штурмана.
— Добре, — согласился он, — все расскажу.
Волны зелеными вспышками разбивались о стекло. Катерок взлетал вверх, и люди видели близкий зубчатый горизонт, покрытый гребнями волн. Потом катер срывался вниз, готовый перевернуться килем вверх, и люди теряли равновесие, едва удерживались на ногах. Денисюк, ссутулясь, стоял рядом со штурманом. Он брал ведра, которые ему подавал снизу механик, и выливал воду на палубу.
— Как дизель работает? Слушай, штурман. Первым делом поршень из цилиндра выдвигается и засасывает в него снаружи воздух. — Денисюк протянул вниз руку и взял ведро с водой. — То — первый такт. Потом поршень вдвигается в цилиндр и тот воздух, что туда попал, сжимает. Крепко его сжимает, так крепко, что воздух сильно нагревается. То — второй такт. Теперь третий такт. В цилиндр с горячим воздухом через форсунку впрыскивают жидкое топливо. Оно начинает гореть, образуя газы, а эти газы с силой выталкивают поршень. То — рабочий ход. И наконец последний такт: поршень идет обратно и выталкивает наружу расширившиеся газы. — Денисюк выплеснул воду на палубу. — Потом снова в цилиндр засасывается воздух. Денисюк взял у Карташова новое ведро, полное воды.
Маленький штурман, бледный, напряженный, держась за штурвал, слушал эту необыкновенную лекцию. Он знал, что катеру в таком положении не продержаться и нескольких часов.
А сколько времени понадобится «Седову», чтобы найти в открытом море крохотный катер? Пойдя на риск, можно запустить дизель и держаться против волны — кто знает, как долго… Но вот, если взрыв?
— Теперь, как запустить дизель? Очень просто. Мы возьмем и закроем всасывающую трубу. — И Денисюк закрыл дверь в каюту. — Провернем дизель вручную. Поршни весь воздух, который в цилиндре есть, вытолкнут наружу, а нового не засосут. — Денисюк выплеснул из ведра остатки воды. — Теперь в пустой цилиндр… — Денисюк показал штурману порожнее ведро, — мы вместо топлива пустим сжатый газ из баллона. Сжатый газ вытолкнет поршень. Поршень выйдет из цилиндра, а потом обратно пойдет и расширившийся газ вытеснит наружу, не сжимая его, то есть не нагревая. Теперь снова первый такт. Поршень должен был бы воздух засосать, но ведь всасывающая труба закрыта. И снова цилиндр пустой. — Денисюк потряс ведром. — А тут опять рабочий ход подоспел. Вместо топлива к нам в цилиндр снова сжатый водород попадает. И видишь, он не смешивается с наружным воздухом. Ведро… то бишь цилиндр — пустой… Значит, нет никакой гремучей смеси. А вот когда мы несколько раз впустили в цилиндр сжатый газ, когда дизель раскрутился, тода мы сжатый водород прикоем, а всасывающую трубу откроем. — Денисюк распахнул дверь. — Карташов, давай ведро.
Карташов высунулся в рубку.
— Послушай, Ваня! Пусть Денисюк — недоучившийся инженер, а я просто практик, судовой механик… Мыслимое ли дело… С водородом и этакие штуки? Я еще с училища помню: водород — взрывчатое вещество. Тебе решать, Иван Васильевич, ты хоть и младше меня, а командир катера. Что до меня… — старший механик замолчал на мгновение, голос у него снова перехватило, что до меня, так я ничего не имею против… взорваться. Того и стою, — в голосе Карташова зазвучала прежняя уверенность, — того и стою. Виноватым себя считаю… Ванюша, делай, как знаешь, — совсем тихо добавил он.
Нетаев побледнел, но не сказал ни слова. Он должен был решать. От того, понял ли он техническую суть вопроса, зависела жизнь людей и целость маленького судна.
Денисюк и Карташов ритмично вычерпывали воду. Выкачав ее из каюты, они переходили в машинное отделение. Выкачивали оттуда, снова возвращались в каюту, выливая воду через рубку.
Нетаев молчал. Он сжимал в руках штурвал и думал…
Шторм разгулялся.
Даже "Георгию Седову" тяжело приходилось от качки. Радиста едва не смыло за борт, когда он бежал к капитану с радиограммой. Радист схватился за реллинги и с трудом удержался на палубе. Полузадохнувшийся, он распахнул дверь капитанской каюты… вода стекала с его щегольского кителя.
Капитан прочел радиограмму.
— Погода нелетная, — с горьким раздражением сказал он и, одевшись, поднялся на мостик.
Часами он простаивал здесь, обводя биноклем горизонт, но горизонт этот был так близок, что и в бинокле не было нужды.
Туман и ветер, ветер и туман — так бывает только в Арктике.
Палуба уходила из-под ног. Ветер срывал с волн пенные гребни и поднимал их высоко в воздух. Брызги обрушивались даже на капитанский мостик.
Капитан прочесывал море зигзагами. Корабль, разворачиваясь на новый галс, попадал под удар волны в борт и зачерпывал воду палубой. Прежде капитан избегал этого, боялся, что катер и кунгас сорвутся в воду… Теперь капитану было все равно. Катера и кунгаса на пароходе не было. Волны легко перекатывались через незагроможденную палубу.
— Летит! Летит! — послышался крик.
Капитан резко повернулся. Под низким небом летел самолет.
— Все-таки прилетел! Прилетел Баранов! Ведь это же Баранов! обрадованно заговорил капитан, и глаза его замигали. Он вынул платок, верно для того, чтобы вытереть забрызганное лицо.
Летающая лодка сделала круг над кораблем. Моряки старались разглядеть в окнах кабины лица летчиков, но их не было видно. Самолет стал удаляться от корабля, почти касаясь волн. Не успев превратиться в черточку на горизонте, он исчез.
Еще два раза увидели моряки этот самолет, зигзагами летавший над морем, и наконец… получили радиограмму. "Катер в море зюйд-зюйд-вест от вас".
— Право на борт! Живее! — закричал капитан, размахивая сразу вымокшей бумажкой.
"Георгий Седов" стал разворачиваться, снова зачерпнул бортом, но теперь этого никто не заметил.
И через час с корабля увидели катерок. Маленькая точка то появлялась, то исчезала в тумане.
— Против волны держатся! Должно быть, направили дизель, — сказал капитан, глядя в бинокль.
С катера заметили пароход. «Петушок» теперь сам шел к нему, смелый боевой конек, с удалью взлетавший на гребни волн.
— Ай, молодцы! Ну и молодцы! — восхищался счастливый Борис Ефимович. — Герои, чем не герои? — твердил он.
Через двадцать минут моряки обнимали смельчаков, спасших себя и судно.
— Сколько баллонов утопили! — сокрушался Денисюк. — Теперь по малой программе весь год работать придется. А я пойду до каюты, отлежусь. Что? Не поморскому? Так я ж сухопутный, а море-то ваше…
— Вы его не слушайте, — заметил старший механик Карташов, — он, Денисюк, и есть настоящий моряк.
В кают-компании для встречи голодавших столько времени героев был накрыт праздничный стол, но герои еле добрались до своих кают и заснули непробудным сном.
Мы с капитаном зашли в кают-компанию. Буфетчица Катя, боясь, чтобы тарелки не разбились при качке, собирала их со стола.
— Вспоминается мне случай, — сказал капитан, — когда замечательный новогодний стол остался нетронутым… Было это на Большой Земле.
Ветер доставил много неприятностей Денисюку. У острова Угаданного, где Денисюк должен был работать аэрологом, разгулялся такой прибой, что выгрузка казалась невозможной. Из-за позднего времени года "Георгий Седов" не мог задерживаться. Льды грозили преградить ему обратный путь. Капитан Борис Ефимович вынужден был изменить своей обычной осторожности и вести выгрузку во время прибоя.
Что делалось на берегу, я не знал. Я лишь видел людей, возвращавшихся на пустых кунгасах. На моряках не было сухой нитки. Они грелись разбавленным спиртом. Говорят, что некоторые ящики вылавливали прямо из воды.
Выгрузка велась и днем и ночью.
Капитан не знал, удастся ли ему выбросить на берег все грузы, и установил очередность. Сначала — продовольствие и топливо и в последнюю очередь водородные баллоны.
Вот тут-то и начались неприятности для аэролога Денисюка. Баллоны казались ему самым важным грузом. Без них он не сможет наполнять водородом шарики, которые должен систематически выпускать в течение всего года. Наблюдая за их полетом на разной высоте, можно определить скорость и направление ветра.
Денисюк категорически отказался съехать на берег без баллонов. Я видел, как он, огромный, неуклюжий, мрачно разгуливал по палубе, глядя на далекий остров, пустынный и плоский, с одиноким домиком, который уже начало заносить снегом.
Отправился Денисюк на остров с последним рейсом катера, буксировавшего кунгас с его «драгоценными» баллонами.
Повел катер мой приятель, третий штурман Иван Васильевич Нетаев. К концу рейса капитан все больше доверял ему. Вместо измученного моториста, работавшего двое суток без сна, в этот рейс вместе с Нетаевым отправился старший механик Карташов.
Я понял, какое значение придает капитан этому рейсу, если поручил его своим любимым помощникам.
Когда катер, буксируя кунгас с водородными баллонами, отошел от корабля, налетел снежный заряд. Незаметно он перешел в пургу. Наш «Петушок» пропал из поля зрения. У всех нехорошо стало на душе. Видимость кончалась прямо у борта корабля. Даже вершины мачт скрылись. Остров исчез. Все тревожно прислушивались к замиравшему стуку дизелька катера.
Наконец стук замер.
И вот уже полтора часа, как не слышно катера ни на корабле, ни на острове, с которым мы по радио поддерживаем связь.
Катер не дошел до берега… и не вернулся к кораблю.
Каждый из нас мысленно старался представить себе, что происходит сейчас со штурманом Нетаевым, старшим механиком Карташовым и с Денисюком, который был один на кунгасе с баллонами.
Как выяснилось позднее, дизель на катере заглох, когда Иван Васильевич уже видел ориентир — костер, разложенный на берегу.
Рубка, где стоял у штурвала Нетаев, сообщалась с машинным отделением через переговорную трубу.
— Что случилось? — крикнул Нетаев, наклонившись к раструбу.
— Сейчас запущу, — отозвался механик, приземистый, пожилой моряк.
В тесном машинном отделении он склонился над дизелем.
Дизель запускают не заводной ручкой, а сжатым воздухом, впуская его в цилиндры. Баллон со сжатым воздухом лежал на специальной подставке, иначе он перекатывался бы при каждом крене катера, который валило с боку на бок. «Петушок», потеряв скорость, не слушался руля, и его било теперь волнами в борт.
Карташов прошел всю школу судовой выучки. Он умел, когда надо, все делать своими руками, за что его особенно ценил капитан.
Механик соединил шлангом баллон с дизелем и повернул кран дроссельного клапана, снижающего давление сжатого воздуха. Стрелка манометра на баллоне дрогнула. Сжатый воздух ринулся в цилиндры.
Карташов дал топливо — вспышка! Еще вспышка! Дизель застучал. Перестал. Опять застучал… И заглох.
— Форсунка засорилась! Надо прочистить! — уверенно крикнул Карташов в переговорную трубку.
Штурман Иван Васильевич тщетно старался поставить катер против волны.
Огонь на берегу быстро удалялся. Ветер и течение несли катер в открытое море. Всегда немного нерешительный, Иван Васильевич посмотрел на компас, стараясь хоть приблизительно определить направление своего вынужденного курса.
С матросской сноровкой, цепляясь за поручни на машинной надстройке, штурман прошел на корму, Карташова он не торопил. Он во всем доверялся этому опытному человеку, который и говорил и действовал уверенно.
С кормы катера сквозь летящую снежную стену уходил в полумрак буксирный канат. Кунгас казался темным расплывчатым пятном.
Волны перекатывались через катер. Они клали его набок, а он, наклоняясь, упрямо выпрямлялся, как ванька-встанька.
Снег, липкий и мокрый, бил в лицо, залепляя глаза.
Осветился квадрат люка. Из него показалась голова механика в сдвинутой на затылок кепке.
— Сейчас запустим! — ободряюще крикнул он.
Успокоенный штурман вернулся в рубку и взялся за штурвал.
Но на душе у него все же было нехорошо. Механик запустит дизель… а куда идти?
Не легко в море найти остров. «Седов» его трое суток искал.
На катере не было ни радиопеленга, ни лага, ни карт с нанесенным на них курсом.
Когда-то известный советский ученый, анализируя в Ленинграде путь дрейфовавшего во льдах судна, указал местоположение неизвестного острова. Нетаев был теперь рядом с этим островом Угаданным, но не знал, как добраться до него…
Дизель не работал.
— Что там у тебя? — снова крикнул Нетаев в переговорную трубу.
В машинном отделении молчали.
С тяжелым предчувствием штурман выбрался из рубки и взглянул в люк машинного отделения.
Электрическая лампочка тускло освещала широкую спину старшего механика. Карташов обернулся. Нетаев не узнал его обычно спокойного, уверенного лица. Казалось, Карташов испытывает сильную физическую боль. Он указал штурману на стрелку манометра.
— Все стравил, — упавшим голосом сказал он. — В баллоне воздуху не было… стрелка манометра застряла…
Нетаев увидел капельки пота на морщинистом лбу Карташова. Тот продолжал чужим, незнакомым Нетаеву голосом:
— Дизеля не запустить. Моя вина. Беру на себя… Стрелка обманула. Горе-то какое, Ваня! — и у Карташова перехватило горло.
С неожиданным спокойствием Нетаев сказал:
— Пассажир ведь на кунгасе… Надо его на катер взять. Кунгас скоро затонет.
Спокойные слова молодого штурмана отрезвляюще подействовали на механика. Он нахмурился, пнул ногой пустой баллон и полез следом за Нетаевым по трапу.
Они выбрались на корму. Липкий снег и брызги летели отовсюду. Через голенища в сапоги заливалась вода.
Моряки ухватились за буксирный трос и с трудом стали тянуть его. Скоро из мглы показалась пляшущая тень. Это был кунгас. На носу его виднелась фигура человека.
Когда нос кунгаса поравнялся с кормой катера, Нетаев крикнул:
— Прыгайте, Денисюк! Трос обрубим!
— Как же так — обрубим? — послышался голос. — Так ведь тут баллоны с водородом!
— Какие там баллоны! — с раздражением сказал Карташов. — Кунгас ко дну пойдет. Разве не понятно?
— То ж понятно, — отозвался Денисюк. — Вполне понятно. Только как же баллоны бросать?
Он выкрикивал слова, то поднимаясь над кормой, то проваливаясь куда-то вниз.
— Прыгайте! — начал сердиться Карташов.
— Так ведь без баллонов ни единого шара не выпустить. То ж не дело! хрипло протестовал Денисюк.
— Нам кунгас не удержать, он открытый, его зальет волнами, сдерживаясь, объяснил Нетаев.
— Так вы бы то сразу сказали. А ну! Поберегись!
На палубу что-то грохнулось. Карташов едва успел отскочить. Это упал брошенный с кунгаса баллон. Трудно было поверить, что пятидесятикилограммовый баллон можно было перебросить на такое расстояние. Но Денисюк, огромный Денисюк, в армии удивлявший однополчан-танкистов игрой с двухпудовой гирей, выбрал момент, когда кунгас ударился о корму катера, и перебросил баллон…
— Перетаскивай, Федор Михайлович, в носовую каюту, — сказал механику Нетаев, невольно улыбнувшись изумлению Карташова. — А я буду их удерживать на палубе, чтобы не нырнули…
Баллоны, похожие на крупнокалиберные снаряды, один за другим падали на корму катера. Слышно было, как хрипло дышал богатырь, поднимавший их со дна кунгаса.
— Денис Алексеевич! Хватит, катер перегрузим! — нерешительно протестовал Иван Васильевич.
— Да то ж мне на целый год… Восемь штук. То не богато. Еще парочку, будь ласков! — И, не дожидаясь ответа, Денисюк с тяжелым вздохом бросил на катер еще один баллон.
Потом он неуклюже прыгнул сам и сразу вцепился в поручни.
— Качает, как на танке… по пересеченной местности. И мутит, ровно контузило, — проговорил он.
Штурман взмахнул топором, обрубил трос. Кунгас взлетел на гребень и исчез в темноте.
Денисюк навалился животом на машинную надстройку. Ему, видимо, было нехорошо.
— Если тошнит, надо работать, — участливо посоветовал Нетаев. — Идите с механиком откачивать воду.
Денисюк, минуту назад бросавший стальные баллоны, теперь, расслабленный, едва державшийся на ногах, поплелся в носовую каюту.
Вход в каюту был через рулевую рубку.
За стеклами рубки в темноте ревела вода. С грохотом била она в переборки и двери. Из-под стекол и через порог вода струйками стекала в каюту. Ее надо было вычерпывать ведрами. Денисюк стал помогать Карташову. Работать было трудно. При росте Денисюка ему нельзя было даже разогнуться, но все же работа ему помогала.
Карташов был хмур и молчалив.
Откачивали воду всю ночь, но вода прибывала. К утру поднялся ветер баллов до десяти. Положение катера становилось угрожающим. Он уже не прыгал по волнам. Изнемогая, он то ложился на борт, зачерпывая воду, то вдруг взлетал, готовый оторваться от гребня, а потом снова стремительно падал вниз.
Лишь на минуту спустился в каюту штурман.
— Ну, беда, Денис Алексеевич, — сказал он. — У катера ходу нет, против волн держаться не можем. Воды не вычерпать, сами видите.
— Так что ж? — сгорбившийся Денисюк остановился с ведром в руке.
— Баллоны надо будет сбросить, — сказал Нетаев.
— То ж не дело, товарищи! Мне ж год не с чем будет работать!
— Ничего не поделаешь, Денис Алексеевич, — как бы извиняясь, пожал плечами штурман.
— А если запустить дизель? — вдруг спросил Денисюк.
— Как запустить? — отозвался механик.
— Так вот вам сжатый газ! Двести атмосфер! — и Денисюк пнул ногой баллон.
Карташов удивленно посмотрел на Денисюка.
— Это водород, — веско сказал он.
— Так что ж?
— Рехнулся! — Карташов сердито бросил ведро. — Смесь водорода с воздухом — это же гремучий газ. Если мы будем провертывать дизель сжатым воздухом — верный взрыв. От катера щепки останутся!
— Э, ни! — поднял руку Денисюк. — Ты ж меня выслушай! То ж идея! Мы не смешаем водород с воздухом. Мы все всасывающие трубы заткнем. Карташов отрицательно покачал головой.
— Это нельзя… риск, — и отвернулся.
— Как разумеете. Только баллоны выбрасывать не могу.
— Как думаешь, Федор Михайлович? — нерешительно обратился Нетаев к механику.
— Никогда такого не слыхал, — сердито обернулся тот. — Пятнадцать лет механиком, немало людей выучил… Не могу пойти на этакий риск.
Нетаев задумался. Денисюк, согнувшись, выжидательно смотрел на него. Наконец штурман повернул к нему свое лицо. Обычно мягкое, улыбающееся, оно сейчас побледнело и осунулось. Тонкие черты обострились.
— Почему вы считаете, что можно использовать водород? — с прежним спокойствием спросил он.
— А я ведь в Политехническом учился, только не кончил. Потом танкистом был, с танковыми дизелями возился. Из армии вернулся… Денисюк отвел глаза, — ни дома, ни родных не нашел. Вот и пошел на курсы, чтобы в Арктику поехать. В общем — знаком я с дизелями.
— Послушайте, Денисюк, — твердо сказал штурман. — Я когда-то проходил в «мореходке» дизеля, но считайте, что я ничего в них не понимаю, и считайте, что сейчас я обязан все понять. Встаньте рядом со мной в рубке, мне надо к штурвалу. Карташов вам будет снизу подавать ведра, а вы выливайте воду на палубу… И объясняйте мне так, чтобы я понял, все понял!
Денисюк внимательно, с уважением смотрел на невысокого штурмана.
— Добре, — согласился он, — все расскажу.
Волны зелеными вспышками разбивались о стекло. Катерок взлетал вверх, и люди видели близкий зубчатый горизонт, покрытый гребнями волн. Потом катер срывался вниз, готовый перевернуться килем вверх, и люди теряли равновесие, едва удерживались на ногах. Денисюк, ссутулясь, стоял рядом со штурманом. Он брал ведра, которые ему подавал снизу механик, и выливал воду на палубу.
— Как дизель работает? Слушай, штурман. Первым делом поршень из цилиндра выдвигается и засасывает в него снаружи воздух. — Денисюк протянул вниз руку и взял ведро с водой. — То — первый такт. Потом поршень вдвигается в цилиндр и тот воздух, что туда попал, сжимает. Крепко его сжимает, так крепко, что воздух сильно нагревается. То — второй такт. Теперь третий такт. В цилиндр с горячим воздухом через форсунку впрыскивают жидкое топливо. Оно начинает гореть, образуя газы, а эти газы с силой выталкивают поршень. То — рабочий ход. И наконец последний такт: поршень идет обратно и выталкивает наружу расширившиеся газы. — Денисюк выплеснул воду на палубу. — Потом снова в цилиндр засасывается воздух. Денисюк взял у Карташова новое ведро, полное воды.
Маленький штурман, бледный, напряженный, держась за штурвал, слушал эту необыкновенную лекцию. Он знал, что катеру в таком положении не продержаться и нескольких часов.
А сколько времени понадобится «Седову», чтобы найти в открытом море крохотный катер? Пойдя на риск, можно запустить дизель и держаться против волны — кто знает, как долго… Но вот, если взрыв?
— Теперь, как запустить дизель? Очень просто. Мы возьмем и закроем всасывающую трубу. — И Денисюк закрыл дверь в каюту. — Провернем дизель вручную. Поршни весь воздух, который в цилиндре есть, вытолкнут наружу, а нового не засосут. — Денисюк выплеснул из ведра остатки воды. — Теперь в пустой цилиндр… — Денисюк показал штурману порожнее ведро, — мы вместо топлива пустим сжатый газ из баллона. Сжатый газ вытолкнет поршень. Поршень выйдет из цилиндра, а потом обратно пойдет и расширившийся газ вытеснит наружу, не сжимая его, то есть не нагревая. Теперь снова первый такт. Поршень должен был бы воздух засосать, но ведь всасывающая труба закрыта. И снова цилиндр пустой. — Денисюк потряс ведром. — А тут опять рабочий ход подоспел. Вместо топлива к нам в цилиндр снова сжатый водород попадает. И видишь, он не смешивается с наружным воздухом. Ведро… то бишь цилиндр — пустой… Значит, нет никакой гремучей смеси. А вот когда мы несколько раз впустили в цилиндр сжатый газ, когда дизель раскрутился, тода мы сжатый водород прикоем, а всасывающую трубу откроем. — Денисюк распахнул дверь. — Карташов, давай ведро.
Карташов высунулся в рубку.
— Послушай, Ваня! Пусть Денисюк — недоучившийся инженер, а я просто практик, судовой механик… Мыслимое ли дело… С водородом и этакие штуки? Я еще с училища помню: водород — взрывчатое вещество. Тебе решать, Иван Васильевич, ты хоть и младше меня, а командир катера. Что до меня… — старший механик замолчал на мгновение, голос у него снова перехватило, что до меня, так я ничего не имею против… взорваться. Того и стою, — в голосе Карташова зазвучала прежняя уверенность, — того и стою. Виноватым себя считаю… Ванюша, делай, как знаешь, — совсем тихо добавил он.
Нетаев побледнел, но не сказал ни слова. Он должен был решать. От того, понял ли он техническую суть вопроса, зависела жизнь людей и целость маленького судна.
Денисюк и Карташов ритмично вычерпывали воду. Выкачав ее из каюты, они переходили в машинное отделение. Выкачивали оттуда, снова возвращались в каюту, выливая воду через рубку.
Нетаев молчал. Он сжимал в руках штурвал и думал…
Шторм разгулялся.
Даже "Георгию Седову" тяжело приходилось от качки. Радиста едва не смыло за борт, когда он бежал к капитану с радиограммой. Радист схватился за реллинги и с трудом удержался на палубе. Полузадохнувшийся, он распахнул дверь капитанской каюты… вода стекала с его щегольского кителя.
Капитан прочел радиограмму.
— Погода нелетная, — с горьким раздражением сказал он и, одевшись, поднялся на мостик.
Часами он простаивал здесь, обводя биноклем горизонт, но горизонт этот был так близок, что и в бинокле не было нужды.
Туман и ветер, ветер и туман — так бывает только в Арктике.
Палуба уходила из-под ног. Ветер срывал с волн пенные гребни и поднимал их высоко в воздух. Брызги обрушивались даже на капитанский мостик.
Капитан прочесывал море зигзагами. Корабль, разворачиваясь на новый галс, попадал под удар волны в борт и зачерпывал воду палубой. Прежде капитан избегал этого, боялся, что катер и кунгас сорвутся в воду… Теперь капитану было все равно. Катера и кунгаса на пароходе не было. Волны легко перекатывались через незагроможденную палубу.
— Летит! Летит! — послышался крик.
Капитан резко повернулся. Под низким небом летел самолет.
— Все-таки прилетел! Прилетел Баранов! Ведь это же Баранов! обрадованно заговорил капитан, и глаза его замигали. Он вынул платок, верно для того, чтобы вытереть забрызганное лицо.
Летающая лодка сделала круг над кораблем. Моряки старались разглядеть в окнах кабины лица летчиков, но их не было видно. Самолет стал удаляться от корабля, почти касаясь волн. Не успев превратиться в черточку на горизонте, он исчез.
Еще два раза увидели моряки этот самолет, зигзагами летавший над морем, и наконец… получили радиограмму. "Катер в море зюйд-зюйд-вест от вас".
— Право на борт! Живее! — закричал капитан, размахивая сразу вымокшей бумажкой.
"Георгий Седов" стал разворачиваться, снова зачерпнул бортом, но теперь этого никто не заметил.
И через час с корабля увидели катерок. Маленькая точка то появлялась, то исчезала в тумане.
— Против волны держатся! Должно быть, направили дизель, — сказал капитан, глядя в бинокль.
С катера заметили пароход. «Петушок» теперь сам шел к нему, смелый боевой конек, с удалью взлетавший на гребни волн.
— Ай, молодцы! Ну и молодцы! — восхищался счастливый Борис Ефимович. — Герои, чем не герои? — твердил он.
Через двадцать минут моряки обнимали смельчаков, спасших себя и судно.
— Сколько баллонов утопили! — сокрушался Денисюк. — Теперь по малой программе весь год работать придется. А я пойду до каюты, отлежусь. Что? Не поморскому? Так я ж сухопутный, а море-то ваше…
— Вы его не слушайте, — заметил старший механик Карташов, — он, Денисюк, и есть настоящий моряк.
В кают-компании для встречи голодавших столько времени героев был накрыт праздничный стол, но герои еле добрались до своих кают и заснули непробудным сном.
Мы с капитаном зашли в кают-компанию. Буфетчица Катя, боясь, чтобы тарелки не разбились при качке, собирала их со стола.
— Вспоминается мне случай, — сказал капитан, — когда замечательный новогодний стол остался нетронутым… Было это на Большой Земле.
НЕТРОНУТЫЙ СТОЛ
 Раздвинутый обеденный стол с приставленным к нему письменным был покрыт двумя белоснежными скатертями. Центральная его часть была уставлена блюдами с залитым сметаной салатом из крабов, открытыми банками сардин и шпрот, тарелками с артистически нарезанными тонкими кусочками колбасы копченой и колбасы вареной многих сортов и сочными, отрезанными от окорока, красовавшегося в конце стола, розовыми кусками ветчины с влажными белыми каемками. Тут же стояло блюдо с ломтиками нежной лососины, которая тает на губах, вазочки с черной блестящей икрой и огромные вазы с розовыми яблоками, тяжелыми грушами и гроздьями столь редкого для Арктики винограда.
Надо всем этим, как немые стражи, высились бутылки, пузатые и граненые графины, в которых отражались сотни электрических лампочек, и заманчивые своими ярлыками бутылочки, окруженные отрядами пустых прозрачных бокалов, готовых к бою рюмок на тонких ножках и рюмочек-наперстков, всегда обиженных из-за обычного забвения, в котором они пребывают за большим столом.
У стола хлопотала хозяйка дома, молодая еще женщина с красивым профилем, узлом темных волос на затылке, в форме капитана медицинской службы. Она украшала стол большой вазой с живыми цветами — хризантемами нежнейшего фиолетового оттенка. Живые цветы за Полярным кругом под Новый год! Пусть наступающий год будет так же радостен и красив, как эти цветы.
Елена Александровна с благодарностью посмотрела на отца. Это он привез цветы и фрукты, прилетев сегодня утром на самолете из Москвы. Порывисто обняв на аэродроме дочь, он сказал своим привычным властным, отрывистым голосом:
— Чуть до самого министра дело не дошло. Но добился! До лета у тебя буду жить. От всех нагрузок освободился. Тишина нужна… заполярная!
Загорова знала, что отец рассчитывал закончить здесь свой капитальный труд, итог многолетней работы в области уха, горла, носа, виднейшим специалистом которой был профессор Александр Аркадьевич Полянов.
Александр Аркадьевич расхаживал по квартире дочери, щурился на заманчивые блюда и бутылки и потирал руки. Был он невысок, суховат, с почти седыми волосами и пшеничного цвета подстриженными усами.
Майор Загоров, командир эскадрильи военно-морской авиации, в знак взаимного понимания обменялся с тестем многозначительным взглядом.
В передней раздался звонок, и хозяин пошел встречать гостей. Вернулся он вместе с контр-адмиралом Фроловым и познакомил его с профессором.
Из передней доносились голоса. Там раздевались прибывшие с корабля офицеры. Их жены приехали раньше и приводили себя в порядок в комнате Елены Александровны.
— Опять у нас будет мало дам, — сокрушалась Загорова. Она, улыбаясь, смотрела на плотного, коренастого адмирала.
— Мы уж постараемся, чтобы вам никто здесь не мешал, — говорил контр-адмирал профессору. — Да и вообще у нас тихо. Порой даже скучновато.
— Скуки не знаю. Вот уж чего не знаю, так не знаю, — быстро и отрывисто сказал Александр Аркадьевич. — А разве вам приходится скучать, товарищ контр-адмирал?
Контр-адмирал улыбнулся уголками губ. У него было умное широкое лицо, покрытое оспинками.
— Если сказать вам по правде… то не приходится.
— Скука — это неумение приложить свои силы. Если бы я попал на необитаемый остров, то огорчался бы только от отсутствия пациентов.
Вошли гости. В столовой стало шумно.
Контр-адмирал посмотрел на часы.
— Двадцать три часа двенадцать минут.
В прихожей раздался звонок.
— Черт возьми, — сказал Загоров, — кто бы мог быть? У нас все в сборе.
Хозяин вышел. Через две комнаты в столовую доносился гулкий бас Загорова:
— С ума вы сошли! В такой день! Да ни за что на свете!
Контр-адмирал, думая, что это его вызывают по срочному делу, встал и тихо вышел.
В прихожей стоял моряк полярного флота. На рукаве его было четыре шеврона.
— Здравствуйте, капитан! Что у вас случилось, Борис Ефимович? спросил контр-адмирал, пожимая руку пришедшему.
— Сделаем так, — вмешался летчик. — Раздевайтесь, капитан. Будете с нами Новый год встречать. А там… поговорим!
— Милости просим, Борис Ефимович, — сказал контр-адмирал. — Наши моряки за честь сочтут иметь гостем капитана «Седова».
— Какие уж тут гости, Николай Степанович, — сказал моряк. — Узнал я, что тут находится знаменитый профессор. Консультация срочная нужна…
В дверях стояла Елена Александровна.
— Папу на консультацию? Он ни за что не согласится!
— Вы уж меня простите, не поверю! — решительно сказал капитан «Седова». — Вы врач, сами поймете. Я ведь здесь за уполномоченного Главсевморпути, пока «Седов» на приколе… Несчастье на острове Угрюмом. Плохо с начальником острова. Врачи с Дикого консультировали. Серьезные у них опасения. Ведь человек-то какой! Кушаков!.. Иван Григорьевич. Это он обследовал Землю Полярную… На карты все нанес. Он и есть первый геолог и моряк Севера! Мечтает в нашей Арктике асфальтированные города и даже курорты построить!.. Человек редкой души. На военном флоте лейтенантом служил… — Борис Ефимович взглянул на контр-адмирала.
— Что же с ним случилось? — спросила Загорова.
— Белый медведь редко нападает на человека, а тут так вышло. Рукопашная… задел он Ивана Григорьевича по уху. Не знаю, как уж Кушаков пристрелил его. И с тех пор пошло дело на «худо». Погибает человек. Врачи Дикого говорят, что консультация с крупным ларингологом нужна. В Москве ночь… встреча… завтра выходной…
— Так ведь я ларинголог. Хотя… когда отец здесь… — Елена Александровна смутилась. — Но мы не можем отпустить сейчас отца с вами на ваш радиоцентр.
— Вот как сделаем, — решительно вмешался контр-адмирал. — Я сейчас дам приказ своим радистам связаться с островом Угрюмым и дать связь через квартиру Загоровых. Профессор, конечно, не откажется помочь.
Капитан «Седова» обрадовался.
— Вот спасибо, — говорил он, снимая шинель.
— Проходите, проходите, — приглашала хозяйка. — Вот хорошо, что вы с нами Новый год встретите!
Контр-адмирал направился к телефону. Шум в столовой сразу прекратился. Что-то случилось!
Профессор Александр Аркадьевич, узнав, в чем дело, уселся в мягкое кресло у телефона и тихо расспрашивал капитана «Седова».
— Три недели назад случилось?
Борис Ефимович кивнул.
Чувствовал он себя среди гостей неловко.
— Да, да… Я Фролов, — говорил в трубку контр-адмирал. Связывайтесь поскорее. Жду, жду… Сколько же мне ждать?
Гости полукругом молча стояли около сидящих у телефона.
Елена Александровна подошла к отцу и присела на ручку кресла, обняв Александра Аркадьевича за плечи.
— Да, да!.. Профессор Полянов тут, у микрофона! — кричал в трубку контр-адмирал. — Неужели нельзя лучше настроиться? Что? Слышимость плохая? У вас всегда слышимость плохая, когда говорить нужно! В прошлый раз Владивосток еле было слышно. Подумаешь, на другом конце земли… На то вы и радисты… Что? Остров Угрюмый? Так. Передаю трубку профессору Полянову. Рассказывайте, что там у вас приключилось.
Контр-адмирал передал трубку Александру Аркадьевичу.
— Что? Как? Ничего не слышу, — раздраженно сказал профессор, привстав с кресла. — Как же я буду их консультировать, когда не разберу ни слова!..
— Папа, ты просто не привык. Позволь мне взять трубку. Я буду передавать твои вопросы и ответы.
— Неужели ты услышишь? Я, как ларинголог, специально обследую твой чуткий слуховой аппарат.
Загорова взяла трубку.
— Остров Угрюмый? Будете отвечать мне на вопросы профессора, звонко, не повышая голоса, сказала Елена Александровна.
— Потерял ли сознание больной после удара в область уха?
Загорова повторила вопрос профессора и тотчас ответила:
— Его нашли через час без чувств подле убитого медведя. Выстрелил во время удара. Зверь напал неожиданно, когда Кушаков вышел в склад, чтобы достать винтовочные патроны и пойти на нерпу. Собак было нечем кормить.
— Это к диагнозу не относится, — ворчливо сказал Александр Аркадьевич. — Шла ли кровь, велика ли рана, какова температура?
Загорова передала, что ушная раковина ободрана, рваная рана идет до затылка, с черепа сорвана кожа. Температура сейчас тридцать девять.
— Пульс? Какое было лечение? Есть ли там врач?
— Врача нет. С Дикого предложили делать сульфидиновые повязки… три недели не позволяли вставать.
— Это хорошо, — сказал профессор.
— Была ли тошнота и рвота? — спросила Загорова.
— Кажется, я это не успел еще спросить, — недовольным тоном сказал профессор. — Впрочем… это как раз и важно знать.
— Вначале не было, — передавала ответ Загорова. — Но в последние три дня появилась. Рвота усиливается, если повернуть голову. Раньше из уха шла кровь… теперь гной.
Профессор покачал головой.
— Попроси показать больному обыкновенную чашку и спросить его, что это такое, — предложил он.
Гости недоуменно зашептались.
Загорова передала распоряжение профессора.
— Чашки у них нет, есть только кружка, — сказала она.
В полной тишине люди мысленно представляли себе, как к лежащему на шкурах больному подносят кружку.
— Они показали кружку. Он говорит: "Это для того, чтобы пить".
— Так, — сказал профессор, снимая очки и протирая их платком; у него оказались голубые, почти синие глаза. — А часы у них есть? Пусть покажут.
— Он ответил: "Это для того, чтобы… время".
— А сахарница? Есть у нихсахарница? — говорил профессор, надевая очки и оглядывая приготовленный для встречи Нового года стол.
— Сахарницы нет.
— Ну, а бутылка водки найдется? Пусть покажут больному.
— Вот это непременно узнает, — сказал низким шепотом летчик Загоров.
— Спирт есть. Показали бутылку спирта. Больной ответил: "Это для горького… и жжет".
— Мне все ясно, — сказал профессор. — Поблагодарите больного.
— Можно кончать связь? — спросил контр-адмирал, беря из рук Загоровой трубку.
Профессор кивнул, потом сказал:
— Амнестическая афазия. Бывает при абсцессе мозга, левой височной доли. Удар был по левому уху?
— По левому, — подтвердил капитан «Седова».
— И как же? — спросил контр-адмирал.
— Очень плохо. Неизбежная смерть, если…
— Если? — разом спросили капитан «Седова» и адмирал. Обветренное лицо капитана и чуть рябое лицо адмирала были одинаково встревожены.
— Если немедленно не сделать трепанацию черепа.
— Нужна срочная операция, — вставила Загорова.
— Это невозможно, — вздохнул Борис Ефимович. — Никакой корабль не пробьется к острову раньше августа. Никакой самолет не сядет сейчас ни на острове, ни около него.
— Значит… приговорили? — медленно выговорил адмирал.
— Я не знаю, я не полярник, — раздраженно сказал профессор. — Не берусь судить, можно ли доставить на остров хирурга, способного провести эту очень сложную операцию… но он там необходим.
Капитан «Седова» опустил полуседую голову:
— Какой это человек, товарищи… Такая утрата…
— Не только для полярников, — сказал контр-адмирал. — Для всех нас.
— Вася, — тихо сказала Загорова, — а долететь до острова полярной ночью можно? Ты бы мог?
— Если будет задание, долетим.
— Николай Степанович… то есть товарищ контр-адмирал! — проговорила Загорова, подходя к адмиралу. — Кушакова можно спасти, если хирург спрыгнет с парашютом.
— С парашютом? — переспросил профессор, поднимая брови.
— Ах, что вы!.. — прервал Борис Ефимович. — Завтра в Москве выходной. Только послезавтра добьешься… Да и есть ли еще такой специалист, который прыгал бы с парашютом?
— Я прыгала с парашютом, товарищ контр-адмирал. Если вы дадите такое задание и летчик майор Загоров доставит меня к острову, я спрыгну.
— Ты? — не удержался от громкого возгласа Загоров. — А как же малышка наш?
В столовой зашумели. Контр-адмирал встал. Был он роста небольшого, но сейчас казался высоким. От него ждали решения. Вмешался профессор:
— Это, конечно, похвально! Весьма похвально. Но разрешите задать вопрос капитану медицинской службы. Вы, товарищ капитан медицинской службы, делали подобные операции?
— Нет, папа, я не делала. Но ты научишь меня… Ты бы мог это сделать… за сегодняшнюю ночь?
— Я? — профессор откинулся на спинку кресла. — Муж должен отвезти… отец научить?
— Это действительно возможно сделать? — спросил адмирал.
Профессор растерянно снял очки и стал их протирать.
— Конечно, это возможно, но…
— Что вам для этого нужно? — быстро спросил адмирал.
— Два-три трупа. Да. Два-три трупа. Сегодня ночью мы могли бы вместе провести на них пробные операции.
— Товарищ лейтенант, — скомандовал молодому офицеру адмирал, звоните в морги… и в госпиталь. Сейчас же!
— Разрешите готовить самолет? — выдвинулся вперед Загоров.
— Подождите, — остановил его адмирал, но Загоров вышел.
Лейтенант быстро дозвонился по нужным телефонам.
— Докладывайте, — приказал контр-адмирал, который ходил вдоль стола, заложив руки за спину.
Молодой офицер отчеканил:
— Трупов нет, товарищ контр-адмирал. Никто не умирал под Новый год.
— Да… — протянул профессор.
В комнату бесшумно вернулся Загоров. Он был в костюме пилота, в мохнатых собачьих унтах.
— Переодевайтесь, майор Загоров, — сказал адмирал. — Полет не состоится.
— Нет, почему же не состоится? — вмешался Александр Аркадьевич, поднимаясь с кресла. — На остров полечу я!
— Папа, ты? Что ты говоришь! — в ужасе вскричала Загорова.
— Кто может это вам позволить? — мягко сказал адмирал.
— То есть как это — кто может позволить? — запальчиво заговорил профессор. — Я освобожден от всех нагрузок до осени! Нет лучшего, более тихого места, чем далекий остров. Я там закончу свой труд. Осенью корабль зайдет за мной.
Контр-адмирал молчал.
— Черт возьми! — рассердился профессор. — Почему никто не боялся, когда я летел сюда? Это ведь тоже был перелет в полярную ночь! Почему вы готовы были согласиться на прыжок моей дочери, хотя она хирург менее опытный? Я готов был научить ее, но… без подготовки ее посылать нельзя, а значит — прыгнуть с парашютом я обязан сам. Это долг врача… и советского человека.
— Простите, профессор, — прервал Загоров, — а вы… с парашютом прыгали?
— Нет, никогда не прыгал.
— Так ведь нужны предварительные тренировки… как и с операцией, Александр Аркадьевич, — осторожно пытался отговорить Полянова его зять.
— Это совсем не одно и то же! Во время тренировки я должен спрыгнуть в первый раз?
— Должны, конечно.
— Так уж если прыгать в первый раз, так я лучше прыгну сразу над островом. Вот так! Научиться дергать за кольцо легче, чем оперировать мозг! Мешки вы сбрасываете с парашютом? Неужели я хуже мешка? Кончено!.. В дискуссии больше не участвую. Поймите, отлично сознаю, кто такой Кушаков и что должен делать на моем месте врач!
— Вы правы, товарищ профессор, — сказал контр-адмирал, горячо пожимая руку Полянову. — Но теперь буду спрашивать я.
— Пожалуйста.
— Сколько вам лет? Какое у вас кровяное давление? В каком состоянии сердце? Какова ваша нервная система?
— Я хирург, товарищ адмирал. Я не знаю, что такое дрожь в руках, хоть мне и пятьдесят четыре года.
— Все же, товарищ профессор, ваша дочь сейчас выслушает вас и доложит мне.
— Разрешите готовить машину, товарищ контр-адмирал? — спросил летчик.
— Готовьте, майор Загоров. Кстати, товарищи, — добавил адмирал, обращаясь ко всем присутствующим. — Перед вылетом летчики не пьют. Было бы не по-товарищески, если бы мы все притронулись к этому столу до возвращения экипажа самолета.
— Точно! — хором подтвердили гости.
Часы показывали четверть первого. Никто не заметил, что Новый год уже наступил.
Гости разошлись. Елена Александровна одна ходила по пустому дому. Иногда она останавливалась перед нетронутым столом, перекладывая салфетки, накрывала перевернутыми тарелками нарезанную колбасу и ветчину, вздыхала и остановившимся взглядом смотрела в замерзшее окно. Где-то там, в темноте полярной ночи, летел самолет, на борту которого были самые дорогие ей люди.
Контр-адмирал дремал в мягком кресле у телефона. Едва раздался звонок, его рука резко сорвала трубку с рычага.
— Я Фролов. Слушаю. Что? Профессор благополучно спрыгнул? Полярники нашли его в ста метрах от дома? Ну, спасибо, дорогой! Спасибо за службу! Объявляю багодарность за образцовую связь. Леночка! Слышите? Дайте я вас обниму! Вася возвращается. Скоро будет дома. Сейчас дам всем приказ собираться… Стол ждет!
Капитан медицинской службы, припав к груди контр-адмирала, плакал.
Новый год встречали в ночь с первого на второе января.
На столе, кроме бутылок, стреляющих и не стреляющих пробками, кроме закусок, этого холодного оружия встречи, как шутил контр-адмирал, дымились миски с сибирскими пельменями, с которыми предстояла горячая схватка.
Когда со своего места поднялся майор Загоров, встали и все гости.
— Верно, только у хирурга бывает такое самообладание, — говорил командир эскадрильи. — Нам, летчикам, есть чему у него поучиться!
Вошла Загорова. Она сменила форму на праздничное платье и казалась совсем молоденькой.
— Операция удалась, товарищи! Блестяще удалась! — звонко возвестила она.
— Позвольте мне поднять тост, — сказал контр-адмирал. — Тост за замечательных наших людей, из которых каждый способен на подвиг во имя человека и Родины. Пусть эти мирные подвиги страшат тех, кто хочет нарушить мир!
За замерзшим окном бушевал в Баренцовом море январский шторм.
Раздвинутый обеденный стол с приставленным к нему письменным был покрыт двумя белоснежными скатертями. Центральная его часть была уставлена блюдами с залитым сметаной салатом из крабов, открытыми банками сардин и шпрот, тарелками с артистически нарезанными тонкими кусочками колбасы копченой и колбасы вареной многих сортов и сочными, отрезанными от окорока, красовавшегося в конце стола, розовыми кусками ветчины с влажными белыми каемками. Тут же стояло блюдо с ломтиками нежной лососины, которая тает на губах, вазочки с черной блестящей икрой и огромные вазы с розовыми яблоками, тяжелыми грушами и гроздьями столь редкого для Арктики винограда.
Надо всем этим, как немые стражи, высились бутылки, пузатые и граненые графины, в которых отражались сотни электрических лампочек, и заманчивые своими ярлыками бутылочки, окруженные отрядами пустых прозрачных бокалов, готовых к бою рюмок на тонких ножках и рюмочек-наперстков, всегда обиженных из-за обычного забвения, в котором они пребывают за большим столом.
У стола хлопотала хозяйка дома, молодая еще женщина с красивым профилем, узлом темных волос на затылке, в форме капитана медицинской службы. Она украшала стол большой вазой с живыми цветами — хризантемами нежнейшего фиолетового оттенка. Живые цветы за Полярным кругом под Новый год! Пусть наступающий год будет так же радостен и красив, как эти цветы.
Елена Александровна с благодарностью посмотрела на отца. Это он привез цветы и фрукты, прилетев сегодня утром на самолете из Москвы. Порывисто обняв на аэродроме дочь, он сказал своим привычным властным, отрывистым голосом:
— Чуть до самого министра дело не дошло. Но добился! До лета у тебя буду жить. От всех нагрузок освободился. Тишина нужна… заполярная!
Загорова знала, что отец рассчитывал закончить здесь свой капитальный труд, итог многолетней работы в области уха, горла, носа, виднейшим специалистом которой был профессор Александр Аркадьевич Полянов.
Александр Аркадьевич расхаживал по квартире дочери, щурился на заманчивые блюда и бутылки и потирал руки. Был он невысок, суховат, с почти седыми волосами и пшеничного цвета подстриженными усами.
Майор Загоров, командир эскадрильи военно-морской авиации, в знак взаимного понимания обменялся с тестем многозначительным взглядом.
В передней раздался звонок, и хозяин пошел встречать гостей. Вернулся он вместе с контр-адмиралом Фроловым и познакомил его с профессором.
Из передней доносились голоса. Там раздевались прибывшие с корабля офицеры. Их жены приехали раньше и приводили себя в порядок в комнате Елены Александровны.
— Опять у нас будет мало дам, — сокрушалась Загорова. Она, улыбаясь, смотрела на плотного, коренастого адмирала.
— Мы уж постараемся, чтобы вам никто здесь не мешал, — говорил контр-адмирал профессору. — Да и вообще у нас тихо. Порой даже скучновато.
— Скуки не знаю. Вот уж чего не знаю, так не знаю, — быстро и отрывисто сказал Александр Аркадьевич. — А разве вам приходится скучать, товарищ контр-адмирал?
Контр-адмирал улыбнулся уголками губ. У него было умное широкое лицо, покрытое оспинками.
— Если сказать вам по правде… то не приходится.
— Скука — это неумение приложить свои силы. Если бы я попал на необитаемый остров, то огорчался бы только от отсутствия пациентов.
Вошли гости. В столовой стало шумно.
Контр-адмирал посмотрел на часы.
— Двадцать три часа двенадцать минут.
В прихожей раздался звонок.
— Черт возьми, — сказал Загоров, — кто бы мог быть? У нас все в сборе.
Хозяин вышел. Через две комнаты в столовую доносился гулкий бас Загорова:
— С ума вы сошли! В такой день! Да ни за что на свете!
Контр-адмирал, думая, что это его вызывают по срочному делу, встал и тихо вышел.
В прихожей стоял моряк полярного флота. На рукаве его было четыре шеврона.
— Здравствуйте, капитан! Что у вас случилось, Борис Ефимович? спросил контр-адмирал, пожимая руку пришедшему.
— Сделаем так, — вмешался летчик. — Раздевайтесь, капитан. Будете с нами Новый год встречать. А там… поговорим!
— Милости просим, Борис Ефимович, — сказал контр-адмирал. — Наши моряки за честь сочтут иметь гостем капитана «Седова».
— Какие уж тут гости, Николай Степанович, — сказал моряк. — Узнал я, что тут находится знаменитый профессор. Консультация срочная нужна…
В дверях стояла Елена Александровна.
— Папу на консультацию? Он ни за что не согласится!
— Вы уж меня простите, не поверю! — решительно сказал капитан «Седова». — Вы врач, сами поймете. Я ведь здесь за уполномоченного Главсевморпути, пока «Седов» на приколе… Несчастье на острове Угрюмом. Плохо с начальником острова. Врачи с Дикого консультировали. Серьезные у них опасения. Ведь человек-то какой! Кушаков!.. Иван Григорьевич. Это он обследовал Землю Полярную… На карты все нанес. Он и есть первый геолог и моряк Севера! Мечтает в нашей Арктике асфальтированные города и даже курорты построить!.. Человек редкой души. На военном флоте лейтенантом служил… — Борис Ефимович взглянул на контр-адмирала.
— Что же с ним случилось? — спросила Загорова.
— Белый медведь редко нападает на человека, а тут так вышло. Рукопашная… задел он Ивана Григорьевича по уху. Не знаю, как уж Кушаков пристрелил его. И с тех пор пошло дело на «худо». Погибает человек. Врачи Дикого говорят, что консультация с крупным ларингологом нужна. В Москве ночь… встреча… завтра выходной…
— Так ведь я ларинголог. Хотя… когда отец здесь… — Елена Александровна смутилась. — Но мы не можем отпустить сейчас отца с вами на ваш радиоцентр.
— Вот как сделаем, — решительно вмешался контр-адмирал. — Я сейчас дам приказ своим радистам связаться с островом Угрюмым и дать связь через квартиру Загоровых. Профессор, конечно, не откажется помочь.
Капитан «Седова» обрадовался.
— Вот спасибо, — говорил он, снимая шинель.
— Проходите, проходите, — приглашала хозяйка. — Вот хорошо, что вы с нами Новый год встретите!
Контр-адмирал направился к телефону. Шум в столовой сразу прекратился. Что-то случилось!
Профессор Александр Аркадьевич, узнав, в чем дело, уселся в мягкое кресло у телефона и тихо расспрашивал капитана «Седова».
— Три недели назад случилось?
Борис Ефимович кивнул.
Чувствовал он себя среди гостей неловко.
— Да, да… Я Фролов, — говорил в трубку контр-адмирал. Связывайтесь поскорее. Жду, жду… Сколько же мне ждать?
Гости полукругом молча стояли около сидящих у телефона.
Елена Александровна подошла к отцу и присела на ручку кресла, обняв Александра Аркадьевича за плечи.
— Да, да!.. Профессор Полянов тут, у микрофона! — кричал в трубку контр-адмирал. — Неужели нельзя лучше настроиться? Что? Слышимость плохая? У вас всегда слышимость плохая, когда говорить нужно! В прошлый раз Владивосток еле было слышно. Подумаешь, на другом конце земли… На то вы и радисты… Что? Остров Угрюмый? Так. Передаю трубку профессору Полянову. Рассказывайте, что там у вас приключилось.
Контр-адмирал передал трубку Александру Аркадьевичу.
— Что? Как? Ничего не слышу, — раздраженно сказал профессор, привстав с кресла. — Как же я буду их консультировать, когда не разберу ни слова!..
— Папа, ты просто не привык. Позволь мне взять трубку. Я буду передавать твои вопросы и ответы.
— Неужели ты услышишь? Я, как ларинголог, специально обследую твой чуткий слуховой аппарат.
Загорова взяла трубку.
— Остров Угрюмый? Будете отвечать мне на вопросы профессора, звонко, не повышая голоса, сказала Елена Александровна.
— Потерял ли сознание больной после удара в область уха?
Загорова повторила вопрос профессора и тотчас ответила:
— Его нашли через час без чувств подле убитого медведя. Выстрелил во время удара. Зверь напал неожиданно, когда Кушаков вышел в склад, чтобы достать винтовочные патроны и пойти на нерпу. Собак было нечем кормить.
— Это к диагнозу не относится, — ворчливо сказал Александр Аркадьевич. — Шла ли кровь, велика ли рана, какова температура?
Загорова передала, что ушная раковина ободрана, рваная рана идет до затылка, с черепа сорвана кожа. Температура сейчас тридцать девять.
— Пульс? Какое было лечение? Есть ли там врач?
— Врача нет. С Дикого предложили делать сульфидиновые повязки… три недели не позволяли вставать.
— Это хорошо, — сказал профессор.
— Была ли тошнота и рвота? — спросила Загорова.
— Кажется, я это не успел еще спросить, — недовольным тоном сказал профессор. — Впрочем… это как раз и важно знать.
— Вначале не было, — передавала ответ Загорова. — Но в последние три дня появилась. Рвота усиливается, если повернуть голову. Раньше из уха шла кровь… теперь гной.
Профессор покачал головой.
— Попроси показать больному обыкновенную чашку и спросить его, что это такое, — предложил он.
Гости недоуменно зашептались.
Загорова передала распоряжение профессора.
— Чашки у них нет, есть только кружка, — сказала она.
В полной тишине люди мысленно представляли себе, как к лежащему на шкурах больному подносят кружку.
— Они показали кружку. Он говорит: "Это для того, чтобы пить".
— Так, — сказал профессор, снимая очки и протирая их платком; у него оказались голубые, почти синие глаза. — А часы у них есть? Пусть покажут.
— Он ответил: "Это для того, чтобы… время".
— А сахарница? Есть у нихсахарница? — говорил профессор, надевая очки и оглядывая приготовленный для встречи Нового года стол.
— Сахарницы нет.
— Ну, а бутылка водки найдется? Пусть покажут больному.
— Вот это непременно узнает, — сказал низким шепотом летчик Загоров.
— Спирт есть. Показали бутылку спирта. Больной ответил: "Это для горького… и жжет".
— Мне все ясно, — сказал профессор. — Поблагодарите больного.
— Можно кончать связь? — спросил контр-адмирал, беря из рук Загоровой трубку.
Профессор кивнул, потом сказал:
— Амнестическая афазия. Бывает при абсцессе мозга, левой височной доли. Удар был по левому уху?
— По левому, — подтвердил капитан «Седова».
— И как же? — спросил контр-адмирал.
— Очень плохо. Неизбежная смерть, если…
— Если? — разом спросили капитан «Седова» и адмирал. Обветренное лицо капитана и чуть рябое лицо адмирала были одинаково встревожены.
— Если немедленно не сделать трепанацию черепа.
— Нужна срочная операция, — вставила Загорова.
— Это невозможно, — вздохнул Борис Ефимович. — Никакой корабль не пробьется к острову раньше августа. Никакой самолет не сядет сейчас ни на острове, ни около него.
— Значит… приговорили? — медленно выговорил адмирал.
— Я не знаю, я не полярник, — раздраженно сказал профессор. — Не берусь судить, можно ли доставить на остров хирурга, способного провести эту очень сложную операцию… но он там необходим.
Капитан «Седова» опустил полуседую голову:
— Какой это человек, товарищи… Такая утрата…
— Не только для полярников, — сказал контр-адмирал. — Для всех нас.
— Вася, — тихо сказала Загорова, — а долететь до острова полярной ночью можно? Ты бы мог?
— Если будет задание, долетим.
— Николай Степанович… то есть товарищ контр-адмирал! — проговорила Загорова, подходя к адмиралу. — Кушакова можно спасти, если хирург спрыгнет с парашютом.
— С парашютом? — переспросил профессор, поднимая брови.
— Ах, что вы!.. — прервал Борис Ефимович. — Завтра в Москве выходной. Только послезавтра добьешься… Да и есть ли еще такой специалист, который прыгал бы с парашютом?
— Я прыгала с парашютом, товарищ контр-адмирал. Если вы дадите такое задание и летчик майор Загоров доставит меня к острову, я спрыгну.
— Ты? — не удержался от громкого возгласа Загоров. — А как же малышка наш?
В столовой зашумели. Контр-адмирал встал. Был он роста небольшого, но сейчас казался высоким. От него ждали решения. Вмешался профессор:
— Это, конечно, похвально! Весьма похвально. Но разрешите задать вопрос капитану медицинской службы. Вы, товарищ капитан медицинской службы, делали подобные операции?
— Нет, папа, я не делала. Но ты научишь меня… Ты бы мог это сделать… за сегодняшнюю ночь?
— Я? — профессор откинулся на спинку кресла. — Муж должен отвезти… отец научить?
— Это действительно возможно сделать? — спросил адмирал.
Профессор растерянно снял очки и стал их протирать.
— Конечно, это возможно, но…
— Что вам для этого нужно? — быстро спросил адмирал.
— Два-три трупа. Да. Два-три трупа. Сегодня ночью мы могли бы вместе провести на них пробные операции.
— Товарищ лейтенант, — скомандовал молодому офицеру адмирал, звоните в морги… и в госпиталь. Сейчас же!
— Разрешите готовить самолет? — выдвинулся вперед Загоров.
— Подождите, — остановил его адмирал, но Загоров вышел.
Лейтенант быстро дозвонился по нужным телефонам.
— Докладывайте, — приказал контр-адмирал, который ходил вдоль стола, заложив руки за спину.
Молодой офицер отчеканил:
— Трупов нет, товарищ контр-адмирал. Никто не умирал под Новый год.
— Да… — протянул профессор.
В комнату бесшумно вернулся Загоров. Он был в костюме пилота, в мохнатых собачьих унтах.
— Переодевайтесь, майор Загоров, — сказал адмирал. — Полет не состоится.
— Нет, почему же не состоится? — вмешался Александр Аркадьевич, поднимаясь с кресла. — На остров полечу я!
— Папа, ты? Что ты говоришь! — в ужасе вскричала Загорова.
— Кто может это вам позволить? — мягко сказал адмирал.
— То есть как это — кто может позволить? — запальчиво заговорил профессор. — Я освобожден от всех нагрузок до осени! Нет лучшего, более тихого места, чем далекий остров. Я там закончу свой труд. Осенью корабль зайдет за мной.
Контр-адмирал молчал.
— Черт возьми! — рассердился профессор. — Почему никто не боялся, когда я летел сюда? Это ведь тоже был перелет в полярную ночь! Почему вы готовы были согласиться на прыжок моей дочери, хотя она хирург менее опытный? Я готов был научить ее, но… без подготовки ее посылать нельзя, а значит — прыгнуть с парашютом я обязан сам. Это долг врача… и советского человека.
— Простите, профессор, — прервал Загоров, — а вы… с парашютом прыгали?
— Нет, никогда не прыгал.
— Так ведь нужны предварительные тренировки… как и с операцией, Александр Аркадьевич, — осторожно пытался отговорить Полянова его зять.
— Это совсем не одно и то же! Во время тренировки я должен спрыгнуть в первый раз?
— Должны, конечно.
— Так уж если прыгать в первый раз, так я лучше прыгну сразу над островом. Вот так! Научиться дергать за кольцо легче, чем оперировать мозг! Мешки вы сбрасываете с парашютом? Неужели я хуже мешка? Кончено!.. В дискуссии больше не участвую. Поймите, отлично сознаю, кто такой Кушаков и что должен делать на моем месте врач!
— Вы правы, товарищ профессор, — сказал контр-адмирал, горячо пожимая руку Полянову. — Но теперь буду спрашивать я.
— Пожалуйста.
— Сколько вам лет? Какое у вас кровяное давление? В каком состоянии сердце? Какова ваша нервная система?
— Я хирург, товарищ адмирал. Я не знаю, что такое дрожь в руках, хоть мне и пятьдесят четыре года.
— Все же, товарищ профессор, ваша дочь сейчас выслушает вас и доложит мне.
— Разрешите готовить машину, товарищ контр-адмирал? — спросил летчик.
— Готовьте, майор Загоров. Кстати, товарищи, — добавил адмирал, обращаясь ко всем присутствующим. — Перед вылетом летчики не пьют. Было бы не по-товарищески, если бы мы все притронулись к этому столу до возвращения экипажа самолета.
— Точно! — хором подтвердили гости.
Часы показывали четверть первого. Никто не заметил, что Новый год уже наступил.
Гости разошлись. Елена Александровна одна ходила по пустому дому. Иногда она останавливалась перед нетронутым столом, перекладывая салфетки, накрывала перевернутыми тарелками нарезанную колбасу и ветчину, вздыхала и остановившимся взглядом смотрела в замерзшее окно. Где-то там, в темноте полярной ночи, летел самолет, на борту которого были самые дорогие ей люди.
Контр-адмирал дремал в мягком кресле у телефона. Едва раздался звонок, его рука резко сорвала трубку с рычага.
— Я Фролов. Слушаю. Что? Профессор благополучно спрыгнул? Полярники нашли его в ста метрах от дома? Ну, спасибо, дорогой! Спасибо за службу! Объявляю багодарность за образцовую связь. Леночка! Слышите? Дайте я вас обниму! Вася возвращается. Скоро будет дома. Сейчас дам всем приказ собираться… Стол ждет!
Капитан медицинской службы, припав к груди контр-адмирала, плакал.
Новый год встречали в ночь с первого на второе января.
На столе, кроме бутылок, стреляющих и не стреляющих пробками, кроме закусок, этого холодного оружия встречи, как шутил контр-адмирал, дымились миски с сибирскими пельменями, с которыми предстояла горячая схватка.
Когда со своего места поднялся майор Загоров, встали и все гости.
— Верно, только у хирурга бывает такое самообладание, — говорил командир эскадрильи. — Нам, летчикам, есть чему у него поучиться!
Вошла Загорова. Она сменила форму на праздничное платье и казалась совсем молоденькой.
— Операция удалась, товарищи! Блестяще удалась! — звонко возвестила она.
— Позвольте мне поднять тост, — сказал контр-адмирал. — Тост за замечательных наших людей, из которых каждый способен на подвиг во имя человека и Родины. Пусть эти мирные подвиги страшат тех, кто хочет нарушить мир!
За замерзшим окном бушевал в Баренцовом море январский шторм.
ПЛАСТИНКА ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ
 Баренцово море.
Качка началась страшная. Чемоданы вырвались из-под койки и вот уже час носились вместе со стулом по каюте. Встать не было сил. Тело взлетало высоко вверх, потом проваливалось в бездну. К горлу подступал комок, зубы сжимались.
И все же предстояло идти в кают-компанию! Капитан Борис Ефимович требовал, чтобы пассажиры непременно являлись к обеду.
Палуба накренивалась, убегала из-под ног. Вокруг корабля висел непроглядный туман. Капитан нарочно отошел подальше от Новой Земли, хотя именно на нее держал курс. Он оставался самим собой, Борис Ефимович, неторопливый, выжидающий и все же успевавший сделать за рейс больше всех других капитанов.
Когда я добрался наконец до кают-компании, капитан сидел на председательском месте, невысокий, сухой, подтянутый и, как всегда, приветливый. Он встретил меня веселым, чуть насмешливым взглядом. Я мог утешиться, посмотрев на бодрых моряков, сидевших по одну сторону стола, и таких же жалких, как я, страдавших от качки, пассажиров по другую его сторону.
— Неужели против морской болезни нет средств? — спросил я доктора, с ужасом поглядывая, как моряки принялись за ненавистную мне сейчас еду.
Врач пожал плечами, а капитан ответил за него:
— Есть средство. Мы, моряки, стараемся работать побольше.
— Поставьте нас кочегарами, — взмолился я.
— Смотрите, припомню! — пригрозил капитан и вдруг спросил: — А в шахматы кто играет?
Оказалось, что играть умеют все, кроме старшего механика Карташова.
— Турнир, что ли, организуйте, — предложил капитан.
— Какая тут игра! — махнул рукой второй помощник, глядя на наши зеленые лица.
— Не скажите, не скажите, — серьезно возразил капитан. — Шахматы для нас, полярников, большое дело! Они приходят на помощь в очень тяжелых случаях. Вспомните челюскинцев. Раздавленный корабль на дно пошел. Остались люди на голом льду за тысячи миль от жилья. Самолеты в Арктику тогда еще почти не летали. А челюскинцы на льду шахматный турнир устроили. Играть в шахматы можно было только при крепкой вере в помощь, которую пришлет им Советская страна. И пришла помощь, пришла… шахматный турнир едва закончили.
— Так вот о шахматах, — капитан загадочно улыбнулся. — Арктическая это теперь игра. Матчи между островами постоянно разыгрываются. А известна была эта игра в древние времена в далекой жаркой стране, в Индии. И пришлось мне однажды в этом самому убедиться.
— Когда это вы убедились? — спросил старший помощник. — Не во время ли того рейса, когда торговый пароход на Дальний Восток перегоняли?
— Вот именно. Надо было этот торговый пароход до начала арктической навигации доставить из Архангельска во Владивосток, — начал рассказывать капитан. — Мне это и поручили. Маршрут был интересный. Через Гибралтар, Суэцкий канал. В последний год английского владычества в Индии довелось нам зайти в Калькутту. К вечеру я съехал на берег, побывал у портового начальства, потом пошел посмотреть, что за город. Порт грязный, обыкновенный. Пакгаузы длинные, низкие. Улицы асфальтированные, дома и автомобили европейские, ну, а нищие… местные. На перекрестке полисмен.
Поражала пестрота нарядов. Не нарядная пестрота, а пестрота контраста. Европейцы в белых костюмах и пробковых шлемах и полуголые люди в рубищах, худые, с огромными черными глазами. Медлительные прохожие в чалмах и шумные английские солдаты, береты, рубашки хаки… Прекрасные леди в автомобилях и нищие на панелях…
Мне хотелось приобрести какую-нибудь индийскую безделушку на память. Я остановился перед витриной лавчонки, но увидел там только дешевенький товар, конечно, американского производства.
Прохожие в Калькутте ходят медленно, часто останавливаются, словно спешить некуда. А впрочем, жарко там.
Сначала я не обратил внимания, что многих идущих останавливал бедно одетый индиец. В руках он держал вечную американскую ручку, которую и предлагал прохожим. Вначале я подумал, что ему хочется продать ее. Один прохожий взял эту ручку. Индиец протянул ему книгу в переплете, и прохожий что-то написал на белом листке.
Хмурый полицейский направился к индийцу. Прохожий завернул за угол. Индиец тоже быстро зашагал. Видно, полицейскому было лень идти быстро в такую жару. Он остановился.
Индиец поравнялся со мной, прямо-таки ожег меня своими чернущими глазами и сказал на английском языке. "Моряк, все люди должны бороться против войн. Подпишите воззвание".
Так вот зачем у него вечная американская ручка!
Я улыбнулся и ответил тоже по-английски: "Благодарю за обращение, но я уже подписал это воззвание". — "Подписали? Уже? — не то удивленно, не то обрадованно сказал индиец. — Где же?" — "В Ленинграде", — ответил я.
Индиец преобразился, как будто узнал старого знакомого. Он стал трясти мою руку, глядя мне в глаза и улыбаясь.
"Вы русский? Вы советский человек? — взволнованно говорил он. — Как я рад, что вас встретил! Мы так много думаем о вашей стране…"
Полисмен прошелся мимо нас, заложив руки за спину. Индиец не обратил на него внимания.
"Вы первый советский человек, которого я вижу. — говорил он. — Мне бы хотелось… Знаете, возьмите этот подарок. Здесь знаки величайшей мудрости. Законы перемен. Они были найдены при раскопках".
Индиец сунул мне в руку пластинку из слоновой кости с вырезанными на ней рисунками.
Это была тончайшая работа древних мастеров. Как неожиданно исполнилось мое желание!
Индиец простился со мной. Я решил идти на набережную, где меня ждал катер с корабля.
Прежде чем завернуть за угол, я оглянулся.
Индиец остановил группу прохожих и что-то горячо говорил им. Среди остановившихся было двое солдат в беретах. Индиец протягивал вечную ручку. Кто-то взял ручку. Прохожие подписывали воззвание.
Полисмен подошел к ним в сопровождении какого-то человека в штатском и закричал. Индиец возвысил голос, видимо, протестуя. Прохожие тоже зашумели. Английские солдаты отошли в сторону. Полисмен и шпик схватили индийца за руки. Индиец вырывался и кого-то искал глазами. Полицейские тащили его на мостовую, он упирался.
Прохожий, у которого осталась вечная ручка, книга и бланк воззвания, что-то кричал вслед арестованному. Полицейский угрожающе повернулся к нему.
Тогда человек, оставивший у себя книгу и ручку, быстро зашагал по тротуару и тотчас остановился перед двумя другими прохожими, протягивая им ручку и книгу с бланком.
Мне нужно было спешить на набережную. Я ощупал в кармане тонкую пластинку из слоновой кости.
— Что же было нарисовано на пластинке? — спросил второй помощник.
— Из-за этого я и начал свой рассказ. Ведь шахматы давно стали своеобразным международным языком. Они пришли из древней Индии. Вот и моя пластинка была украшена золотыми инкрустациями, которые, однако, не были письменами. Изображены на ней были рисунки шахматной доски.
— Где же пластинка? — спросили мы.
Капитан хитро улыбнулся.
— Может быть, я отослал ее в Москву, ученым. Уж верно, она представляла кое-какой интерес. Но, если хотите, я нарисую вам, что было на ней изображено.
— Просим, просим! — зашумели мы.
Откуда-то взялась бумага. Капитан нарисовал на ней четыре аккуратные шахматные доски. На две из них он нанес несколько прямых линий, а на двух других старательно нарисовал шахматные фигуры.
— Вот что было изображено на индийской пластинке из слоновой кости. Я просидел над этими рисунками много ночей, но ничего не придумал. А ведь индус сказал мне о какой-то удивительной древней мудрости, заключенной в этих рисунках. Так вот. Может быть, кто-нибудь из вас откроет эту тайну?
Все тотчас принялись срисовывать себе таинственные рисунки. Каждый решил во что бы то ни стало разгадать тайну индийской пластинки.
Два рисунка совершенно непонятны. Почему шахматная доска перечеркнута какими-то линиями? Что это может обозначать?
Два других рисунка, несомненно, представляли положения из разных шахматных партий. В первой партии белые проигрывают. У короля нет ни одной фигуры, а у черных — слон и конь, да еще сильнейшая проходная пешка. Во второй партии явная ничья. Черная ладья против двух белых связанных коней. Мне бросилось в глаза, что в этих двух позициях, кроме королей, нет ни одной одинаковой фигуры!
Я просидел над индийской загадкой до самого ужина.
Давно у нас в кают-компании не было такого шумного сборища. Говорили только о таинственных рисунках.
Старший механик к ужину опоздал, и капитан послал за ним буфетчицу Катю, кстати сказать, сильно страдавшую от морской болезни.
Старший механик влетел в кают-компанию с криком:
— Нашел, товарищ капитан! Нашел!
Капитан поднял руку.
— Только после ужина.
Механик принялся за еду.
— Я, конечно, человек не очень ученый… Я практик. Но, по-моему, это гениально, — говорил он, уплетая за обе щеки. — Это просто как бы сказать, вклад в науку!
— Но ведь вы же не играете в шахматы? — вскричал доктор.
— И не требуется, — невозмутимо ответил Карташов.
Ужин был поглощен мигом. Волны ревели за бортом, переваливали корабль с боку на бок, а мы сгрудились около старшего механика и слушали его объяснения.
Баренцово море.
Качка началась страшная. Чемоданы вырвались из-под койки и вот уже час носились вместе со стулом по каюте. Встать не было сил. Тело взлетало высоко вверх, потом проваливалось в бездну. К горлу подступал комок, зубы сжимались.
И все же предстояло идти в кают-компанию! Капитан Борис Ефимович требовал, чтобы пассажиры непременно являлись к обеду.
Палуба накренивалась, убегала из-под ног. Вокруг корабля висел непроглядный туман. Капитан нарочно отошел подальше от Новой Земли, хотя именно на нее держал курс. Он оставался самим собой, Борис Ефимович, неторопливый, выжидающий и все же успевавший сделать за рейс больше всех других капитанов.
Когда я добрался наконец до кают-компании, капитан сидел на председательском месте, невысокий, сухой, подтянутый и, как всегда, приветливый. Он встретил меня веселым, чуть насмешливым взглядом. Я мог утешиться, посмотрев на бодрых моряков, сидевших по одну сторону стола, и таких же жалких, как я, страдавших от качки, пассажиров по другую его сторону.
— Неужели против морской болезни нет средств? — спросил я доктора, с ужасом поглядывая, как моряки принялись за ненавистную мне сейчас еду.
Врач пожал плечами, а капитан ответил за него:
— Есть средство. Мы, моряки, стараемся работать побольше.
— Поставьте нас кочегарами, — взмолился я.
— Смотрите, припомню! — пригрозил капитан и вдруг спросил: — А в шахматы кто играет?
Оказалось, что играть умеют все, кроме старшего механика Карташова.
— Турнир, что ли, организуйте, — предложил капитан.
— Какая тут игра! — махнул рукой второй помощник, глядя на наши зеленые лица.
— Не скажите, не скажите, — серьезно возразил капитан. — Шахматы для нас, полярников, большое дело! Они приходят на помощь в очень тяжелых случаях. Вспомните челюскинцев. Раздавленный корабль на дно пошел. Остались люди на голом льду за тысячи миль от жилья. Самолеты в Арктику тогда еще почти не летали. А челюскинцы на льду шахматный турнир устроили. Играть в шахматы можно было только при крепкой вере в помощь, которую пришлет им Советская страна. И пришла помощь, пришла… шахматный турнир едва закончили.
— Так вот о шахматах, — капитан загадочно улыбнулся. — Арктическая это теперь игра. Матчи между островами постоянно разыгрываются. А известна была эта игра в древние времена в далекой жаркой стране, в Индии. И пришлось мне однажды в этом самому убедиться.
— Когда это вы убедились? — спросил старший помощник. — Не во время ли того рейса, когда торговый пароход на Дальний Восток перегоняли?
— Вот именно. Надо было этот торговый пароход до начала арктической навигации доставить из Архангельска во Владивосток, — начал рассказывать капитан. — Мне это и поручили. Маршрут был интересный. Через Гибралтар, Суэцкий канал. В последний год английского владычества в Индии довелось нам зайти в Калькутту. К вечеру я съехал на берег, побывал у портового начальства, потом пошел посмотреть, что за город. Порт грязный, обыкновенный. Пакгаузы длинные, низкие. Улицы асфальтированные, дома и автомобили европейские, ну, а нищие… местные. На перекрестке полисмен.
Поражала пестрота нарядов. Не нарядная пестрота, а пестрота контраста. Европейцы в белых костюмах и пробковых шлемах и полуголые люди в рубищах, худые, с огромными черными глазами. Медлительные прохожие в чалмах и шумные английские солдаты, береты, рубашки хаки… Прекрасные леди в автомобилях и нищие на панелях…
Мне хотелось приобрести какую-нибудь индийскую безделушку на память. Я остановился перед витриной лавчонки, но увидел там только дешевенький товар, конечно, американского производства.
Прохожие в Калькутте ходят медленно, часто останавливаются, словно спешить некуда. А впрочем, жарко там.
Сначала я не обратил внимания, что многих идущих останавливал бедно одетый индиец. В руках он держал вечную американскую ручку, которую и предлагал прохожим. Вначале я подумал, что ему хочется продать ее. Один прохожий взял эту ручку. Индиец протянул ему книгу в переплете, и прохожий что-то написал на белом листке.
Хмурый полицейский направился к индийцу. Прохожий завернул за угол. Индиец тоже быстро зашагал. Видно, полицейскому было лень идти быстро в такую жару. Он остановился.
Индиец поравнялся со мной, прямо-таки ожег меня своими чернущими глазами и сказал на английском языке. "Моряк, все люди должны бороться против войн. Подпишите воззвание".
Так вот зачем у него вечная американская ручка!
Я улыбнулся и ответил тоже по-английски: "Благодарю за обращение, но я уже подписал это воззвание". — "Подписали? Уже? — не то удивленно, не то обрадованно сказал индиец. — Где же?" — "В Ленинграде", — ответил я.
Индиец преобразился, как будто узнал старого знакомого. Он стал трясти мою руку, глядя мне в глаза и улыбаясь.
"Вы русский? Вы советский человек? — взволнованно говорил он. — Как я рад, что вас встретил! Мы так много думаем о вашей стране…"
Полисмен прошелся мимо нас, заложив руки за спину. Индиец не обратил на него внимания.
"Вы первый советский человек, которого я вижу. — говорил он. — Мне бы хотелось… Знаете, возьмите этот подарок. Здесь знаки величайшей мудрости. Законы перемен. Они были найдены при раскопках".
Индиец сунул мне в руку пластинку из слоновой кости с вырезанными на ней рисунками.
Это была тончайшая работа древних мастеров. Как неожиданно исполнилось мое желание!
Индиец простился со мной. Я решил идти на набережную, где меня ждал катер с корабля.
Прежде чем завернуть за угол, я оглянулся.
Индиец остановил группу прохожих и что-то горячо говорил им. Среди остановившихся было двое солдат в беретах. Индиец протягивал вечную ручку. Кто-то взял ручку. Прохожие подписывали воззвание.
Полисмен подошел к ним в сопровождении какого-то человека в штатском и закричал. Индиец возвысил голос, видимо, протестуя. Прохожие тоже зашумели. Английские солдаты отошли в сторону. Полисмен и шпик схватили индийца за руки. Индиец вырывался и кого-то искал глазами. Полицейские тащили его на мостовую, он упирался.
Прохожий, у которого осталась вечная ручка, книга и бланк воззвания, что-то кричал вслед арестованному. Полицейский угрожающе повернулся к нему.
Тогда человек, оставивший у себя книгу и ручку, быстро зашагал по тротуару и тотчас остановился перед двумя другими прохожими, протягивая им ручку и книгу с бланком.
Мне нужно было спешить на набережную. Я ощупал в кармане тонкую пластинку из слоновой кости.
— Что же было нарисовано на пластинке? — спросил второй помощник.
— Из-за этого я и начал свой рассказ. Ведь шахматы давно стали своеобразным международным языком. Они пришли из древней Индии. Вот и моя пластинка была украшена золотыми инкрустациями, которые, однако, не были письменами. Изображены на ней были рисунки шахматной доски.
— Где же пластинка? — спросили мы.
Капитан хитро улыбнулся.
— Может быть, я отослал ее в Москву, ученым. Уж верно, она представляла кое-какой интерес. Но, если хотите, я нарисую вам, что было на ней изображено.
— Просим, просим! — зашумели мы.
Откуда-то взялась бумага. Капитан нарисовал на ней четыре аккуратные шахматные доски. На две из них он нанес несколько прямых линий, а на двух других старательно нарисовал шахматные фигуры.
— Вот что было изображено на индийской пластинке из слоновой кости. Я просидел над этими рисунками много ночей, но ничего не придумал. А ведь индус сказал мне о какой-то удивительной древней мудрости, заключенной в этих рисунках. Так вот. Может быть, кто-нибудь из вас откроет эту тайну?
Все тотчас принялись срисовывать себе таинственные рисунки. Каждый решил во что бы то ни стало разгадать тайну индийской пластинки.
Два рисунка совершенно непонятны. Почему шахматная доска перечеркнута какими-то линиями? Что это может обозначать?
Два других рисунка, несомненно, представляли положения из разных шахматных партий. В первой партии белые проигрывают. У короля нет ни одной фигуры, а у черных — слон и конь, да еще сильнейшая проходная пешка. Во второй партии явная ничья. Черная ладья против двух белых связанных коней. Мне бросилось в глаза, что в этих двух позициях, кроме королей, нет ни одной одинаковой фигуры!
Я просидел над индийской загадкой до самого ужина.
Давно у нас в кают-компании не было такого шумного сборища. Говорили только о таинственных рисунках.
Старший механик к ужину опоздал, и капитан послал за ним буфетчицу Катю, кстати сказать, сильно страдавшую от морской болезни.
Старший механик влетел в кают-компанию с криком:
— Нашел, товарищ капитан! Нашел!
Капитан поднял руку.
— Только после ужина.
Механик принялся за еду.
— Я, конечно, человек не очень ученый… Я практик. Но, по-моему, это гениально, — говорил он, уплетая за обе щеки. — Это просто как бы сказать, вклад в науку!
— Но ведь вы же не играете в шахматы? — вскричал доктор.
— И не требуется, — невозмутимо ответил Карташов.
Ужин был поглощен мигом. Волны ревели за бортом, переваливали корабль с боку на бок, а мы сгрудились около старшего механика и слушали его объяснения.
 — Вы посмотрите, что нарисовано на первом рисунке. Квадрат. Он касается углами сторон шахматной доски. Из чего состоит вся площадь шахматной доски? Она разбита на этот квадрат и четыре одинаковых прямоугольных треугольника. Вы видите эти треугольники? Они по углам.
— Видим, видим! — закричали мы.
— А теперь посмотрите на второй рисунок. Вы видите эти же треугольники?
— Не видим. Где они?
— Они соприкасаются гипотенузами… попарно.
— Да, да! Верно!
— Треугольники точно такие же, значит, они занимают такую же площадь. Следовательно, оставшаяся на шахматной доске площадь без треугольников на этом втором рисунке точно такая же как и на первом.
— Конечно, та же самая!
— Вы посмотрите, что нарисовано на первом рисунке. Квадрат. Он касается углами сторон шахматной доски. Из чего состоит вся площадь шахматной доски? Она разбита на этот квадрат и четыре одинаковых прямоугольных треугольника. Вы видите эти треугольники? Они по углам.
— Видим, видим! — закричали мы.
— А теперь посмотрите на второй рисунок. Вы видите эти же треугольники?
— Не видим. Где они?
— Они соприкасаются гипотенузами… попарно.
— Да, да! Верно!
— Треугольники точно такие же, значит, они занимают такую же площадь. Следовательно, оставшаяся на шахматной доске площадь без треугольников на этом втором рисунке точно такая же как и на первом.
— Конечно, та же самая!
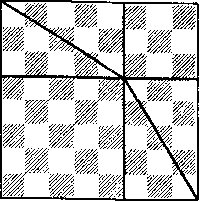 — Ну, а посмотрите, из чего она состоит, что это за квадраты? — хитро спросил механик. — Один из них маленький — построен на малом катете, а другой побольше — на большом. А теперь взгляните на квадрат первого рисунка! На чем он построен?
— Ох, черт возьми! На гипотенузе! — закричал доктор.
— Это значит, что площадь квадрата первого рисунка равна площадям двух квадратов второго! Так? — спросил механик, оглядывая нас торжествующим взглядом.
— Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов! — вымолвил я вне себя от изумления.
— Я не слышал о таком доказательстве теоремы Пифагора! — восторженно заявил второй помощник.
— Пифагоровы штаны на все стороны равны. Доказать это мне всегда казалось очень сложным, — признался врач.
— Да, доказательство знаменитого древнегреческого математика, как мне кажется, действительно уступает этой древнеиндийской мудрости, — сказал молчавший до сих пор профессор, участник географической экспедиции. — Это чуть ли не настоящее открытие.
Все мы увлеченно зашумели и тут только обнаружили, что капитана между нами нет. Старший механик был делегирован на мостик, чтобы сообщить о своем открытии.
Я вернулся к себе в каюту и не мог думать о сне. Чемодан по-прежнему старался выпрыгнуть из-под койки, но я не обращал на него внимания. В моем воображении рисовалась таинственная пластинка из слоновой кости индус с узким темным лицом и пронизывающими глазами и наконец рисунки древнего гениального математика, который, может быть, задолго до Пифагора решал геометрические задачи более простым и остроумным способом, чем все последующие поколения!
Но что за шахматные позиции поставил древний математик рядом со своим замечательным доказательством? Какое уважение к древней игре он имел, равняя ее с геометрией!
Я просидел над индийскими позициями целую ночь, весь следующий день и следующую ночь.
И я все-таки решил индийскую загадку.
Мне открылся целый мир борьбы, неожиданностей, эффектов ярких, как фейерверк, лукавства, хитрости, смелости, точного расчета и тончайшего остроумия.
Мое сообщение об открытии тайны индусской пластинки было сенсацией. Явились все, кто знал шахматы и кто не знал шахмат. Я обещал разгадку одинаково интересную для всех.
Кают-компания оказалась набитой до отказа.
Один лишь капитан находился, как всегда, на мостике. Корабль осторожно подбирался к Новой Земле. Мыс Желания, названный так Баренцем в ознаменование его страстного и неосуществленного желания пробиться через льды на восток, остался севернее. Туман все еще скрывал от нас берег.
Я обвел глазами присутствующих.
— Ну, а посмотрите, из чего она состоит, что это за квадраты? — хитро спросил механик. — Один из них маленький — построен на малом катете, а другой побольше — на большом. А теперь взгляните на квадрат первого рисунка! На чем он построен?
— Ох, черт возьми! На гипотенузе! — закричал доктор.
— Это значит, что площадь квадрата первого рисунка равна площадям двух квадратов второго! Так? — спросил механик, оглядывая нас торжествующим взглядом.
— Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов! — вымолвил я вне себя от изумления.
— Я не слышал о таком доказательстве теоремы Пифагора! — восторженно заявил второй помощник.
— Пифагоровы штаны на все стороны равны. Доказать это мне всегда казалось очень сложным, — признался врач.
— Да, доказательство знаменитого древнегреческого математика, как мне кажется, действительно уступает этой древнеиндийской мудрости, — сказал молчавший до сих пор профессор, участник географической экспедиции. — Это чуть ли не настоящее открытие.
Все мы увлеченно зашумели и тут только обнаружили, что капитана между нами нет. Старший механик был делегирован на мостик, чтобы сообщить о своем открытии.
Я вернулся к себе в каюту и не мог думать о сне. Чемодан по-прежнему старался выпрыгнуть из-под койки, но я не обращал на него внимания. В моем воображении рисовалась таинственная пластинка из слоновой кости индус с узким темным лицом и пронизывающими глазами и наконец рисунки древнего гениального математика, который, может быть, задолго до Пифагора решал геометрические задачи более простым и остроумным способом, чем все последующие поколения!
Но что за шахматные позиции поставил древний математик рядом со своим замечательным доказательством? Какое уважение к древней игре он имел, равняя ее с геометрией!
Я просидел над индийскими позициями целую ночь, весь следующий день и следующую ночь.
И я все-таки решил индийскую загадку.
Мне открылся целый мир борьбы, неожиданностей, эффектов ярких, как фейерверк, лукавства, хитрости, смелости, точного расчета и тончайшего остроумия.
Мое сообщение об открытии тайны индусской пластинки было сенсацией. Явились все, кто знал шахматы и кто не знал шахмат. Я обещал разгадку одинаково интересную для всех.
Кают-компания оказалась набитой до отказа.
Один лишь капитан находился, как всегда, на мостике. Корабль осторожно подбирался к Новой Земле. Мыс Желания, названный так Баренцем в ознаменование его страстного и неосуществленного желания пробиться через льды на восток, остался севернее. Туман все еще скрывал от нас берег.
Я обвел глазами присутствующих.
 — Черные в первой позиции неизмеримо сильнее. Позиция белых безнадежна. Не правда ли?
Все согласились.
— Тем не менее… Они сделают ничью!
— Не может быть! — изумились все играющие, а неиграющие стали торопить меня, чтобы я скорее открыл им тайну пластинки.
Волнуясь, я стал показывать решение удивительной позиции. Даже неиграющие напряженно смотрели на доску.
— Черные в первой позиции неизмеримо сильнее. Позиция белых безнадежна. Не правда ли?
Все согласились.
— Тем не менее… Они сделают ничью!
— Не может быть! — изумились все играющие, а неиграющие стали торопить меня, чтобы я скорее открыл им тайну пластинки.
Волнуясь, я стал показывать решение удивительной позиции. Даже неиграющие напряженно смотрели на доску.
 Они видели, как белая пешка устремилась вперед и, дойдя до последней горизонтали, внезапно превратилась не в ферзя, а в коня!
Они видели, как черные отдали в углу своего слона, чтобы скорее провести свою пешку в ферзи. Но лукавый, вновь родившийся белый конь встал так, что черные, избегая ничьей, вынуждены были поставить не сильнейшую фигуру — ферзя, а ладью.
На глазах у всех начался поединок между ладьей и конем. В момент, когда, казалось бы, все было кончено и белые погибли, последняя белая пешка превратилась снова не в ферзя, а во второго коня.
— Теперь ничья, — уверял я всех. — Черная ладья не может выиграть против двух белых коней! Посмотрите на конечную позицию и на пластинку из слоновой кости! — закончил я[17].
— Да ведь это же вторая позиция! Она получилась из первой! Это казалось невероятным! — послышалось со всех сторон.
— Переменились все фигуры! Кроме королей.
Действительно, в результате непреложной логики, подобной той, которая применена была в индийском доказательстве теоремы Пифагора, все на доске переменилось. Старые фигуры исчезли, как по волшебству, появились другие, в новом равном соотношении сил.
Все шумно изумлялись выдумке неведомого поклонника шахматной игры.
Когда мы подняли головы от доски, то увидели капитана. Он с улыбкой смотрел на нас.
— Капитан! — воскликнул врач. — Мы благодарны вам за чудесные индийские творения в области математики и шахмат. Это подлинная поэзия!
— Подождите, — прервал я. — Здесь есть еще одна не открытая тайна.
— Еще одна? — удивились все и даже капитан.
— Да! Да! Дело в том, что я берусь доказать, что никакой пластинки из слоновой кости не было!
— Как так не было? — возмутились все присутствующие.
— Не было, — настаивал я. — Мы должны восхищаться не индийской мудростью, а замечательным поэтическим искусством нашего капитана-этюдиста! Я никак не думал, что наш полярный капитан и есть тот мастер этюдов, произведениями которого я так часто восхищался.
Капитан смеялся. Моряки и полярники в изумлении смотрели на него.
— А ведь неплохое лекарство от морской болезни? — спросил капитан.
— От морской болезни? — все переглянулись.
— В самом деле! А мы и забыли о ней!
Капитан спросил меня:
— Как же вы догадались?
— Очень просто. Ведь черные не могли поставить ферзя, боясь из-за пата связать белого коня.
— Правильно.
— Но ведь ферзь в древние индийские времена не обладал современной дальнобойностью.
— Ох, верно, — засмеялся Борис Ефимович. — А я совсем позабыл об этом усовершенствовании шахмат.
— Вот вам последняя тайна пластинки. Ее не было!
— Ошибка! Дело не в шахматах. Пластинка все-таки есть. — Капитан достал из внутреннего кармана кителя небольшую белую пластинку.
С любопытством мы рассматривали ее. Пластинка из слоновой кости! Золотые инкрустации. Таинственные рисунки. Два из них знакомы нам. Это индийское доказательство теоремы Пифагора. А два других вовсе не шахматные. На одном из них очертания страны — Индии и на нем два скрещенных ножа. На другом те же очертания Индии, но на его фоне… пожимающие одна другую руки.
— Вот что подарил мне индиец. Смысл рисунка гаков: истинная мудрость, говорят первые рисунки, не во вражде народов Индии, а в их дружбе, заканчивают вторые. Под впечатлением этих рисунков я составил свой этюд.
— А теорема Пифагора? — спросил старший механик.
— О ней я слышал и раньше. Доказательство было обнаружено при каких-то раскопках. Им увлекался еще Лев Николаевич Толстой. Еще раз простите мою шутку, но она помогла вам вылечиться от морской болезни. Чтобы не страдать от нее, надо найти себе занятие, которое вас поглотит полностью. А я пойду на мостик. Туман раздергивает.
Мы вышли на палубу. На горизонте виднелись горы.
Таинственная земля, столь не похожая на другие полярные земли!
Они видели, как белая пешка устремилась вперед и, дойдя до последней горизонтали, внезапно превратилась не в ферзя, а в коня!
Они видели, как черные отдали в углу своего слона, чтобы скорее провести свою пешку в ферзи. Но лукавый, вновь родившийся белый конь встал так, что черные, избегая ничьей, вынуждены были поставить не сильнейшую фигуру — ферзя, а ладью.
На глазах у всех начался поединок между ладьей и конем. В момент, когда, казалось бы, все было кончено и белые погибли, последняя белая пешка превратилась снова не в ферзя, а во второго коня.
— Теперь ничья, — уверял я всех. — Черная ладья не может выиграть против двух белых коней! Посмотрите на конечную позицию и на пластинку из слоновой кости! — закончил я[17].
— Да ведь это же вторая позиция! Она получилась из первой! Это казалось невероятным! — послышалось со всех сторон.
— Переменились все фигуры! Кроме королей.
Действительно, в результате непреложной логики, подобной той, которая применена была в индийском доказательстве теоремы Пифагора, все на доске переменилось. Старые фигуры исчезли, как по волшебству, появились другие, в новом равном соотношении сил.
Все шумно изумлялись выдумке неведомого поклонника шахматной игры.
Когда мы подняли головы от доски, то увидели капитана. Он с улыбкой смотрел на нас.
— Капитан! — воскликнул врач. — Мы благодарны вам за чудесные индийские творения в области математики и шахмат. Это подлинная поэзия!
— Подождите, — прервал я. — Здесь есть еще одна не открытая тайна.
— Еще одна? — удивились все и даже капитан.
— Да! Да! Дело в том, что я берусь доказать, что никакой пластинки из слоновой кости не было!
— Как так не было? — возмутились все присутствующие.
— Не было, — настаивал я. — Мы должны восхищаться не индийской мудростью, а замечательным поэтическим искусством нашего капитана-этюдиста! Я никак не думал, что наш полярный капитан и есть тот мастер этюдов, произведениями которого я так часто восхищался.
Капитан смеялся. Моряки и полярники в изумлении смотрели на него.
— А ведь неплохое лекарство от морской болезни? — спросил капитан.
— От морской болезни? — все переглянулись.
— В самом деле! А мы и забыли о ней!
Капитан спросил меня:
— Как же вы догадались?
— Очень просто. Ведь черные не могли поставить ферзя, боясь из-за пата связать белого коня.
— Правильно.
— Но ведь ферзь в древние индийские времена не обладал современной дальнобойностью.
— Ох, верно, — засмеялся Борис Ефимович. — А я совсем позабыл об этом усовершенствовании шахмат.
— Вот вам последняя тайна пластинки. Ее не было!
— Ошибка! Дело не в шахматах. Пластинка все-таки есть. — Капитан достал из внутреннего кармана кителя небольшую белую пластинку.
С любопытством мы рассматривали ее. Пластинка из слоновой кости! Золотые инкрустации. Таинственные рисунки. Два из них знакомы нам. Это индийское доказательство теоремы Пифагора. А два других вовсе не шахматные. На одном из них очертания страны — Индии и на нем два скрещенных ножа. На другом те же очертания Индии, но на его фоне… пожимающие одна другую руки.
— Вот что подарил мне индиец. Смысл рисунка гаков: истинная мудрость, говорят первые рисунки, не во вражде народов Индии, а в их дружбе, заканчивают вторые. Под впечатлением этих рисунков я составил свой этюд.
— А теорема Пифагора? — спросил старший механик.
— О ней я слышал и раньше. Доказательство было обнаружено при каких-то раскопках. Им увлекался еще Лев Николаевич Толстой. Еще раз простите мою шутку, но она помогла вам вылечиться от морской болезни. Чтобы не страдать от нее, надо найти себе занятие, которое вас поглотит полностью. А я пойду на мостик. Туман раздергивает.
Мы вышли на палубу. На горизонте виднелись горы.
Таинственная земля, столь не похожая на другие полярные земли!
НЫРЯЮЩИЙ ОСТРОВ
 Уж если говорить о шахматах или таинственных землях, так стоит вспомнить о Ныряющем острове.
— Что это за остров?
Так начался обычный для нашего арктического плавания вечер в кают-компании "Георгия Седова".
— Этот остров не значится ни на одной карте, — начал очередной наш рассказчик, высокий человек с седеющими кудрявыми волосами и весело прищуренными глазами. — Пошло все с приезда геодезической партии, устроившей на моей полярной станции базу. Начальником партии была боевая девица, занозистая, славная, отчаянная, красивая, только не дай бог ей об этом сказать… Звали ее Таней, то есть Татьяной Михайловной. На Большой Земле, говорят, она прыгала с десятиметровой вышки со всякими немыслимыми пируэтами, знала опасные приемы джиу-джитсу и здорово играла в шахматы. Первый ее талант в Арктике, конечно, не проверишь, а вот с другими своими талантами она меня познакомила.
— Обыграла в шахматы?
— Да… и в шахматы. Можно сказать досадно обыгрывала. Я ведь не из слабеньких. И с кандидатами в мастера, да и с мастерами встречался, когда в отпуску бывал. И не с позорным счетом… А вот с ней… Черт ее знает! Или она на меня так действовала, или курьезным самородком была… Стиль, знаете ли, агрессивный, яркий… жертвы, комбинации и матовые сети… Сети у нее вообще были опасные… — рассказчик замялся, потом добавил: — Может быть, новая Вера Менчик в ней пропала.
— Почему пропала?
— О том рассказ впереди. Я сам посмеяться люблю, подшутить или разыграть… А тут — разгромит она меня да еще и насмехается. Э-эх? Так и сжал бы ее ручищами вот этими, так бы и сжал! И вбила она однажды в свою голову, что должна произвести съемку Ныряющего острова. А островом таким в наших краях назывался не то остров, не то мель… словом, опасное место. Иные моряки там на берег сходили, а другие клялись, что нет там никакой земли. Я было пытался Таню, то есть Татьяну Михайловну, отговорить, да куда там! Предложила он мне в шахматы сыграть на ставку. Будь другая ставка, я бы отказался. А тут, если проиграю, то должен ее на остров Ныряющий сопровождать. Посмотрим, говорит, есть ли у этого Богатыря с прищуром что-нибудь, кроме прищура. Ну, я и проиграл. Не то, чтобы поддался, но… одну ее в такое путешествие не хотелось отпускать. Впрочем, может быть, она и по-настоящему у меня тогда выиграла бы. Словом, отправились мы на катере, груженном бревнами плавника, который сибирские реки в море выносят. Опять же ее затея — непременно хотела на Ныряющем геодезический знак поставить. Взяла она с собой хороших ребят и своих и моих. Распоряжалась на моей станции, как хозяйка. Везучая она была. Представьте, нашли ведь мы неизвестный по картам остров. Скалистый, угрюмый, совсем маленький. Если он в самом деле под воду уходит, то напороться на него килем никому не понравится. Нашли мы остров, высадились на него и принялись геодезический знак ставить, целую башню деревянную прямо маяк. Бревна ворочать — работа нелегкая. Даже на полярном ветру, который начинался, жарко становится. Однако дело к концу… А Таня моя собралась с треногой и геодезией своей на другой край острова — съемки производить. Я, конечно, напросился сопровождать ее в виде чернорабочего треногу и рейку таскать. На меня глядя, она говорила, что я вполне сам за геодезический знак сойду, если меня на острове оставить. Насмешки ее я покорно сносил и ею совсем не украдкой любовался. Хороша она была в своем ватнике, в мальчишеских штанах и сапогах, стройненькая такая, и с косой, которую ветер из-под шапки иногда вырывал. Чудная у нее была коса… Если распустить ее и лицо в волосах спрятать — задохнуться от счастья можно…
Надоели мне рейки, треноги, подошел я и сел около ее ног. Она шапку с меня сбросила и волосы взъерошила. Не передать вам, что я почувствовал. В Арктике, в пустыне, среди скал одни мы с ней. Никого вокруг!
Кровь мне в голову ударила. Вскочил, смотрю ей в глаза. А они смеются, зовут, ласкают… Или показалось мне все это. Ну сгреб я ее тогда, сгреб Таню мою в охапку, к губам ее неистово прижался. Голова кругом идет, плыву, несусь, лечу…
А тело у нее, как стальная пружинка — твердое. Гибкое. Вывернулась она из моих ручищ да как закатит мне пощечину, у меня аж круги перед глазами… Уже не лечу, а упал с высот неясных. Словом, оторопел я, а она… ну, братцы, никому этого не желаю, это похуже шахматного проигрыша! Применила она особый прием джиу-джитсу — против мужчин специально прием такой есть — применила она этот страшный прием… и согнулся я пополам, чуть зайцем не заголосил и на камни повалился. Темно в глазах. Еле в себя пришел. Вижу, она уже далеко, рейку и треногу на плечо взвалила и идет, не оглядывается…
Поплелся я к геодезическому знаку, сам от стыда сгораю. Подошел к ребятам. Слышу, она распоряжение отдает, на меня не смотрит. Ушам своим не верю — всем отправиться на базу и вернуться за ней только через два дня. Съемку острова сама произведет.
Ребята пожимают плечами. А я молчу. Что я могу сказать. Чувствую себя последним человеком. Меня она не замечает. Лучше бы мне деревянным знаком, бревном на острове торчать — все бы в теодолит свой на меня посмотрела.
А все-таки взглянула она на меня, взглянула, когда катер от берега отходил! И показалось мне, что улыбаются зеленые ее глаза. Все на свете я забыл, готов был в ледяную воду броситься — к ней плыть.
Все же сдержался. Ледяная ванна мне нипочем, а вот как о н а встретит?
Долго еще видел ее фигурку на одинокой скале, едва поднимающейся над водой. Смотрела Таня нам вслед, смотрела! А потом остров исчез в "снежном заряде".
Ветер все крепчал. Пошли штормовые валы, совсем как крепостные, отделенные глубокими рвами. Катерок наш то набок ложился, то в небо целился, то, очертя голову, в яму нырял. Кое-кому не по себе стало.
На полярную станцию мы вернулись еле живы. Никогда такого шторма на катере переносить не приходилось. Как мы уцелели — я не знаю. Я, признаться, даже радовался, что Тани с нами нет.
Но радовался я преждевременно.
Первое, что я сделал, ступив на землю, — побежал в радиорубку, постарался связаться с Таней по радио; походную рацию она все-таки при себе оставила.
Самым страшным был веселый Танин ответ:
— Нет больше загадки Ныряющего острова! Он понемногу уходит в воду. Осталась только скала и геодезический знак на ней и еще ваша Таня, которая поздравляет вас с географическим и гидрологическим открытием! Уровень воды в проливе зависит не от Луны, не от времени суток, а от силы и направления ветра.
И мне привет передает.
Вот тогда у меня первые седые волосы и появились. На катере плыть к острову и думать нечего, кверху килем мимо проплывем. Но что делать? Как Таню с острова снять, пока он окончательно не нырнул?
Забил я тревогу на всю Арктику. Радиограммы о бедствии даю панические.
Из радиорубки всю ночь не выходил, о сне и думать не мог. Танин бодрый голос я слушал в репродукторе, как голос своей совести. Как мог я оставить девушку одну? Как мог!..
— Все в порядке, — сообщила она. — Могу еще стоять на спине у своего ныряющего чудовища. Стою около знака и даже ног не замочила. Как только ветер кончится, возьмусь за съемку. Раньше, чем я не потребую, катера не высылать.
Катера не высылать! О каком катере может идти речь в такой шторм!
И тут я получил радиограмму от капитана Бориса Ефимовича с борта ледокольного парохода "Георгий Седов". Помните, Борис Ефимович, вы приказ тогда получили идти к острову Ныряющему, снять с него геодезистку.
— Как не помнить, — отозвался наш капитан. — Хорошо помню, в какой шторм к вашей полярной станции подошел. Только сумасшедший мог в такое волнение с берега в шлюпке выйти.
— Что ж, я и был сумасшедший, — признался рассказчик. — Шлюпка у самого берега получила пробоину, и, не спусти вы катер, мне бы не добраться до корабля.
Капитан усмехнулся:
— Сухой нитки на вас не было.
— Я этого не замечал. Танину просьбу я еще до прихода "Георгия Седова" получил. Таня сообщила, что вынуждена забраться на геодезический знак и рассчитывает отсидеться на нем до перемены ветра. А пока просит меня организовать ей шахматную партию по радио… с гроссмейстером.
— Обязательно хочу хоть раз в жизни с гроссмейстером сыграть, — и добавила, — пока вода не спадет.
А я понимал, что это была ее последняя просьба. И я не мог ее не выполнить. Но и выполнить ее было невозможно. Как связаться с Москвой, как тратить время на передачу ходов, когда нужна постоянная связь с "Георгием Седовым", с самолетами, если погода позволит? Как тут быть?
Пусть простит мне гроссмейстер Флор, что я осмелился вместо него играть шахматную партию. Я сообщил Тане, что гроссмейстер Флор согласился играть с ней и придет для этого в Радиоцентр Главсевморпути. Ходы будут передавать немедленно через нашу полярную станцию.
Поверьте, эта шахматная партия состарила меня на много лет. Боюсь, что моя игра была не очень высокого класса, но клянусь вам, я играл изо всех сил, потому что боялся, что Таня обнаружит обман.
Но она не обнаружила его. Она играла, не глядя на доску, но отвечала быстро. Милый Флор, он не подозревал даже, что неведомая девушка играет с ним вслепую…
Я ждал ответных радиограмм от Тани с очередным ходом, как вестей жизни… Я понимал, что игрой в шахматы Таня поддерживает себя…
Я холодел, слушая ее ровный голос, которым она сообщила после переданного ею последнего хода, что "остров полностью скрылся под водой…" или: "до вершины знака осталось еще три метра…" или: "забираюсь еще выше, до вершины знака осталось полтора метра". И она еще заботилась, чтобы мы непременно сообщили все подробности океанологам, это будет им так важно, так интересно!
Пока я перебирался с острова на борт "Георгия Седова", слегка вымокнув, как сказал тут капитан, два хода в партии с Таней сделали за меня, вернее за гроссмейстера Флора, мои ребята.
"Георгий Седов" на всех парах шел к тому месту, где недавно был остров Ныряющий. Нам с Борисом Ефимовичем сообщили с моей полярной станции положение, которое сложилось в партии с Таней. Разрешите мне поставить его на доске. Борис Ефимович, вы помните?
— Еще бы! — отозвался капитан.
— Дальше партию с Таней продолжали мы с Борисом Ефимовичем совместно, но… Впрочем, вы сейчас все увидите сами.
Капитан сходил в свою каюту за шахматами. Рассказчик расставил на доске позицию.
— В последней радиограмме Таня сообщила, что забралась на самую вершину знака. Волны задевали ее ноги пенными гребнями. Но она все еще казалась бодрой, и даже радовалась по-детски тому, что не проигрывает гроссмейстеру.
Только тем, что она играла, не глядя на доску, я могу объяснить, что не проиграл ей и даже имел материальное преимущество: ферзя за ладью, не считая пешек. Я полагал это преимущество достаточным для того, чтобы предложить Тане ничью от имени прославленного гроссмейстера. Собственно, такой исход и был моим сокровенным желанием. И вы помните, конечно, Борис Ефимович, как Таня отвергла предложенную ей ничью?
— Гордая была, — заметил капитан.
— Нет, не только! Она уже видела все, что должно было произойти… конечно, на доске, а не в море, посередине которого ютилась на верхушке бревенчатого знака.
— Что же она видела? Что задумала? — послышались нетерпеливые голоса.
Уж если говорить о шахматах или таинственных землях, так стоит вспомнить о Ныряющем острове.
— Что это за остров?
Так начался обычный для нашего арктического плавания вечер в кают-компании "Георгия Седова".
— Этот остров не значится ни на одной карте, — начал очередной наш рассказчик, высокий человек с седеющими кудрявыми волосами и весело прищуренными глазами. — Пошло все с приезда геодезической партии, устроившей на моей полярной станции базу. Начальником партии была боевая девица, занозистая, славная, отчаянная, красивая, только не дай бог ей об этом сказать… Звали ее Таней, то есть Татьяной Михайловной. На Большой Земле, говорят, она прыгала с десятиметровой вышки со всякими немыслимыми пируэтами, знала опасные приемы джиу-джитсу и здорово играла в шахматы. Первый ее талант в Арктике, конечно, не проверишь, а вот с другими своими талантами она меня познакомила.
— Обыграла в шахматы?
— Да… и в шахматы. Можно сказать досадно обыгрывала. Я ведь не из слабеньких. И с кандидатами в мастера, да и с мастерами встречался, когда в отпуску бывал. И не с позорным счетом… А вот с ней… Черт ее знает! Или она на меня так действовала, или курьезным самородком была… Стиль, знаете ли, агрессивный, яркий… жертвы, комбинации и матовые сети… Сети у нее вообще были опасные… — рассказчик замялся, потом добавил: — Может быть, новая Вера Менчик в ней пропала.
— Почему пропала?
— О том рассказ впереди. Я сам посмеяться люблю, подшутить или разыграть… А тут — разгромит она меня да еще и насмехается. Э-эх? Так и сжал бы ее ручищами вот этими, так бы и сжал! И вбила она однажды в свою голову, что должна произвести съемку Ныряющего острова. А островом таким в наших краях назывался не то остров, не то мель… словом, опасное место. Иные моряки там на берег сходили, а другие клялись, что нет там никакой земли. Я было пытался Таню, то есть Татьяну Михайловну, отговорить, да куда там! Предложила он мне в шахматы сыграть на ставку. Будь другая ставка, я бы отказался. А тут, если проиграю, то должен ее на остров Ныряющий сопровождать. Посмотрим, говорит, есть ли у этого Богатыря с прищуром что-нибудь, кроме прищура. Ну, я и проиграл. Не то, чтобы поддался, но… одну ее в такое путешествие не хотелось отпускать. Впрочем, может быть, она и по-настоящему у меня тогда выиграла бы. Словом, отправились мы на катере, груженном бревнами плавника, который сибирские реки в море выносят. Опять же ее затея — непременно хотела на Ныряющем геодезический знак поставить. Взяла она с собой хороших ребят и своих и моих. Распоряжалась на моей станции, как хозяйка. Везучая она была. Представьте, нашли ведь мы неизвестный по картам остров. Скалистый, угрюмый, совсем маленький. Если он в самом деле под воду уходит, то напороться на него килем никому не понравится. Нашли мы остров, высадились на него и принялись геодезический знак ставить, целую башню деревянную прямо маяк. Бревна ворочать — работа нелегкая. Даже на полярном ветру, который начинался, жарко становится. Однако дело к концу… А Таня моя собралась с треногой и геодезией своей на другой край острова — съемки производить. Я, конечно, напросился сопровождать ее в виде чернорабочего треногу и рейку таскать. На меня глядя, она говорила, что я вполне сам за геодезический знак сойду, если меня на острове оставить. Насмешки ее я покорно сносил и ею совсем не украдкой любовался. Хороша она была в своем ватнике, в мальчишеских штанах и сапогах, стройненькая такая, и с косой, которую ветер из-под шапки иногда вырывал. Чудная у нее была коса… Если распустить ее и лицо в волосах спрятать — задохнуться от счастья можно…
Надоели мне рейки, треноги, подошел я и сел около ее ног. Она шапку с меня сбросила и волосы взъерошила. Не передать вам, что я почувствовал. В Арктике, в пустыне, среди скал одни мы с ней. Никого вокруг!
Кровь мне в голову ударила. Вскочил, смотрю ей в глаза. А они смеются, зовут, ласкают… Или показалось мне все это. Ну сгреб я ее тогда, сгреб Таню мою в охапку, к губам ее неистово прижался. Голова кругом идет, плыву, несусь, лечу…
А тело у нее, как стальная пружинка — твердое. Гибкое. Вывернулась она из моих ручищ да как закатит мне пощечину, у меня аж круги перед глазами… Уже не лечу, а упал с высот неясных. Словом, оторопел я, а она… ну, братцы, никому этого не желаю, это похуже шахматного проигрыша! Применила она особый прием джиу-джитсу — против мужчин специально прием такой есть — применила она этот страшный прием… и согнулся я пополам, чуть зайцем не заголосил и на камни повалился. Темно в глазах. Еле в себя пришел. Вижу, она уже далеко, рейку и треногу на плечо взвалила и идет, не оглядывается…
Поплелся я к геодезическому знаку, сам от стыда сгораю. Подошел к ребятам. Слышу, она распоряжение отдает, на меня не смотрит. Ушам своим не верю — всем отправиться на базу и вернуться за ней только через два дня. Съемку острова сама произведет.
Ребята пожимают плечами. А я молчу. Что я могу сказать. Чувствую себя последним человеком. Меня она не замечает. Лучше бы мне деревянным знаком, бревном на острове торчать — все бы в теодолит свой на меня посмотрела.
А все-таки взглянула она на меня, взглянула, когда катер от берега отходил! И показалось мне, что улыбаются зеленые ее глаза. Все на свете я забыл, готов был в ледяную воду броситься — к ней плыть.
Все же сдержался. Ледяная ванна мне нипочем, а вот как о н а встретит?
Долго еще видел ее фигурку на одинокой скале, едва поднимающейся над водой. Смотрела Таня нам вслед, смотрела! А потом остров исчез в "снежном заряде".
Ветер все крепчал. Пошли штормовые валы, совсем как крепостные, отделенные глубокими рвами. Катерок наш то набок ложился, то в небо целился, то, очертя голову, в яму нырял. Кое-кому не по себе стало.
На полярную станцию мы вернулись еле живы. Никогда такого шторма на катере переносить не приходилось. Как мы уцелели — я не знаю. Я, признаться, даже радовался, что Тани с нами нет.
Но радовался я преждевременно.
Первое, что я сделал, ступив на землю, — побежал в радиорубку, постарался связаться с Таней по радио; походную рацию она все-таки при себе оставила.
Самым страшным был веселый Танин ответ:
— Нет больше загадки Ныряющего острова! Он понемногу уходит в воду. Осталась только скала и геодезический знак на ней и еще ваша Таня, которая поздравляет вас с географическим и гидрологическим открытием! Уровень воды в проливе зависит не от Луны, не от времени суток, а от силы и направления ветра.
И мне привет передает.
Вот тогда у меня первые седые волосы и появились. На катере плыть к острову и думать нечего, кверху килем мимо проплывем. Но что делать? Как Таню с острова снять, пока он окончательно не нырнул?
Забил я тревогу на всю Арктику. Радиограммы о бедствии даю панические.
Из радиорубки всю ночь не выходил, о сне и думать не мог. Танин бодрый голос я слушал в репродукторе, как голос своей совести. Как мог я оставить девушку одну? Как мог!..
— Все в порядке, — сообщила она. — Могу еще стоять на спине у своего ныряющего чудовища. Стою около знака и даже ног не замочила. Как только ветер кончится, возьмусь за съемку. Раньше, чем я не потребую, катера не высылать.
Катера не высылать! О каком катере может идти речь в такой шторм!
И тут я получил радиограмму от капитана Бориса Ефимовича с борта ледокольного парохода "Георгий Седов". Помните, Борис Ефимович, вы приказ тогда получили идти к острову Ныряющему, снять с него геодезистку.
— Как не помнить, — отозвался наш капитан. — Хорошо помню, в какой шторм к вашей полярной станции подошел. Только сумасшедший мог в такое волнение с берега в шлюпке выйти.
— Что ж, я и был сумасшедший, — признался рассказчик. — Шлюпка у самого берега получила пробоину, и, не спусти вы катер, мне бы не добраться до корабля.
Капитан усмехнулся:
— Сухой нитки на вас не было.
— Я этого не замечал. Танину просьбу я еще до прихода "Георгия Седова" получил. Таня сообщила, что вынуждена забраться на геодезический знак и рассчитывает отсидеться на нем до перемены ветра. А пока просит меня организовать ей шахматную партию по радио… с гроссмейстером.
— Обязательно хочу хоть раз в жизни с гроссмейстером сыграть, — и добавила, — пока вода не спадет.
А я понимал, что это была ее последняя просьба. И я не мог ее не выполнить. Но и выполнить ее было невозможно. Как связаться с Москвой, как тратить время на передачу ходов, когда нужна постоянная связь с "Георгием Седовым", с самолетами, если погода позволит? Как тут быть?
Пусть простит мне гроссмейстер Флор, что я осмелился вместо него играть шахматную партию. Я сообщил Тане, что гроссмейстер Флор согласился играть с ней и придет для этого в Радиоцентр Главсевморпути. Ходы будут передавать немедленно через нашу полярную станцию.
Поверьте, эта шахматная партия состарила меня на много лет. Боюсь, что моя игра была не очень высокого класса, но клянусь вам, я играл изо всех сил, потому что боялся, что Таня обнаружит обман.
Но она не обнаружила его. Она играла, не глядя на доску, но отвечала быстро. Милый Флор, он не подозревал даже, что неведомая девушка играет с ним вслепую…
Я ждал ответных радиограмм от Тани с очередным ходом, как вестей жизни… Я понимал, что игрой в шахматы Таня поддерживает себя…
Я холодел, слушая ее ровный голос, которым она сообщила после переданного ею последнего хода, что "остров полностью скрылся под водой…" или: "до вершины знака осталось еще три метра…" или: "забираюсь еще выше, до вершины знака осталось полтора метра". И она еще заботилась, чтобы мы непременно сообщили все подробности океанологам, это будет им так важно, так интересно!
Пока я перебирался с острова на борт "Георгия Седова", слегка вымокнув, как сказал тут капитан, два хода в партии с Таней сделали за меня, вернее за гроссмейстера Флора, мои ребята.
"Георгий Седов" на всех парах шел к тому месту, где недавно был остров Ныряющий. Нам с Борисом Ефимовичем сообщили с моей полярной станции положение, которое сложилось в партии с Таней. Разрешите мне поставить его на доске. Борис Ефимович, вы помните?
— Еще бы! — отозвался капитан.
— Дальше партию с Таней продолжали мы с Борисом Ефимовичем совместно, но… Впрочем, вы сейчас все увидите сами.
Капитан сходил в свою каюту за шахматами. Рассказчик расставил на доске позицию.
— В последней радиограмме Таня сообщила, что забралась на самую вершину знака. Волны задевали ее ноги пенными гребнями. Но она все еще казалась бодрой, и даже радовалась по-детски тому, что не проигрывает гроссмейстеру.
Только тем, что она играла, не глядя на доску, я могу объяснить, что не проиграл ей и даже имел материальное преимущество: ферзя за ладью, не считая пешек. Я полагал это преимущество достаточным для того, чтобы предложить Тане ничью от имени прославленного гроссмейстера. Собственно, такой исход и был моим сокровенным желанием. И вы помните, конечно, Борис Ефимович, как Таня отвергла предложенную ей ничью?
— Гордая была, — заметил капитан.
— Нет, не только! Она уже видела все, что должно было произойти… конечно, на доске, а не в море, посередине которого ютилась на верхушке бревенчатого знака.
— Что же она видела? Что задумала? — послышались нетерпеливые голоса.
 — Когда вы увидите, то поймете, какой шахматистки мы лишились. Она сообщила свой ход (1. Лb5 — b7). Мы с капитаном обрадовались за нашу противницу. Вот почему она не согласилась на ничью! Лукавая, она грозит матом в несколько ходов! (2. Сd1 + Крa5. 3. b4 + Крa6. 4. Сe2 + и мат следующим ходом!) Здорово! Я предложил капитану «зевнуть» эту угрозу и проиграть, но он запротестовал. Гроссмейстер не может так зевать, когда нет цейтнота, и наш обман раскроется. Пришлось защищаться от озорной угрозы, что сделать было не трудно, имея свободно двигающегося ферзя. Капитан посоветовал сделать ход ферзем (1… Фg3 — e5), чтобы он взял под прицел опасное поле e2, с которого намеревался матовать белый слон. Я сообщил Тане этот ход «гроссмейстера» и еще раз предложил ей от его имени ничью.
Таня ответила, что вода накрывает геодезический знак. От ничьей она отказалась и попросила передать гроссмейстеру привет, благодарность и просьбу поскорее отвечать на ее ходы.
— Как же она пошла? — заинтересовались слушатели.
— Она?.. Ах, да! Она все-таки сделала шах слоном, словно могла заматовать нашего короля. Мы с капитаном решили, что она — в ее положении это было простительно — не заметила, что ферзь держит под ударом нужное ей для слона поле. Мы уверились в этом, когда она один за другим сделала свои ходы (2. Сg5 — d1 + Крa4 — a5. 3. b2 — b4 + Крa5 — a6. 4. Сd1 — e2 +??).
Таня отдавала "по недосмотру" своего атакующего слона!
Мне было бесконечно жаль Таню, ее последнюю партию… "Георгий Седов" уже блуждал где-то в районе утонувшего острова. Таня была еще жива, она еще ждала ответного хода партнера. Ну, что я мог сделать? Флор обязан был взять слона. И я сообщил, что он берет его (4…Фe5: e2).
Мы с капитаном стояли на мостике, стараясь увидеть сквозь снежную пелену человеческую фигурку, едва приподнятую над бушующим морем.
Радист взбежал по трапу; я обернулся, спросил хрипло:
— Есть ответ? Жива?
— Да. Она пошла королем. Грозит матом.
— Как матом?
— Ну да, пешка превратится в ферзя.
Снова последовал быстрый обмен ходами:
(5. Крa8 — b8 Фe2 — e5 +. 6. Крb8 — c8 Фe5 — e8 +.
7. Крc8 — c7).
Собственно, сейчас черным ничего не грозило. Проиграть могла лишь погибающая девушка… С чувством отчаяния я сказал радисту, чтобы он взял слоном пешку (7… Сg8: d5). Можно было сыграть и по-иному, и, как нашел потом капитан, это вело к нашему проигрышу. Но об этом потом. Я сделал очередной ход просто для того, чтобы поддержать Таню в последние минуты ее жизни.
Но Таня еще жила! Она держалась и на воде и в партии, ответив сразу серией потрясших нас с капитаном ходов, быть может, рожденных небывалым напряжением всех сил, блеском уходящей жизни, почти потусторонним вдохновением. Она начала с того, что отдала последнюю свою надежду, проходную пешку a7. Можно было подумать, что она отдает ее, действительно теряя надежду на все… Но… последовала серия поразивших нас ходов:
(8. a7 — a8Ф + Фe8: a8. 9. Лb7 — b6 + Крa6 — a7. 10. b4 — b5!).
На этом связь с Таней оборвалась. Рация ее замолкла. Сквозь слезы смотрел я на шахматную доску, которая стояла в штурманской рубке на географической карте, на которой прокладывался курс корабля.
Всмотритесь в эту позицию. Грозит мат ладьей. Нужно или терять ферзя, проигрывая партию, или защищаться от мата слоном (10. Сd5 — b7. 11. Лb6 a6 + Сb7: a6). И завершающий удар слабой Таниной рукой, очаровательный, изящный, парадоксальный мат одной пешкой, олицетворяющий собой победу мысли над грубой силой, воли над стихией (12. b5 — b6 мат!).
Я послал радиограмму, поздравляя Таню с поразительно красивой победой. Но Таня не приняла ее, не ответила…
Все долго молчали. В кают-компанию с твиндека доносились голоса, потом они смолкли и слышно было, как шелестели волны о борт, а может быть, мелкие льдины…
Кто-то спросил, робко, неуверенно:
— Как же Таня? Ее геодезический знак? Ее остров?
Рассказчик сощурился:
— Хорошая мысль назвать остров ее именем, только… С тех пор никто ни разу не видел Ныряющего острова. На карте он нанесен Борисом Ефимовичем, как опасная мель…
— А Таня?
— Татьяна Михайловна вышла за меня замуж. Но если вы спросите у нее о том, что я рассказал, она ничего не вспомнит: ни острова, ни знака, ни игранной партии, более того, она даже не знает сейчас ходов шахматных фигур. И она даже будет вас уверять, что я все выдумал.
— Значит… значит, она жива!
— Конечно. Мою Таню, мою изумительную милую Таню "Георгий Седов" вскоре подобрал. Она была без сознания, но все еще держалась за бревна геодезического знака, который смыло с утонувшего острова.
Она была между жизнью и смертью много дней. А когда пришла в себя, то забыла все, все… все, что с ней случилось, и даже шахматы…
Как? И пощечины не помнит?
Рассказчик улыбнулся, словно ему напомнили о чем-то необычайно приятном:
— Представьте себе игру аномалий, только это и помнит. Медицина плохо разбирается в женской логике.
— Неплохая женская логика — заматовать одной пешкой против ферзя и слона!
— Потемки! — развел руками рассказчик и лукаво улыбнулся.
Он показал, как Таня могла выиграть при другом плане черных: (7…d7 — d6. 8. a7 — a8Ф + Фe8: a8. 9. Лb7 — b6 + Крa6 — a7. 10. b4 — b5 Фa8 — d8 +. 11. Крc7: d8 Крa7: b6. 12. Крd8 — e7 Крb6: b5. 13. Крe7: d6 Крb5 — c4. 14. Крd6 — e5 Крc4 — c5. 15. d5 — d6 Крc5 — c6. 16. Крe5 — f6 Крc6: d6. 17. Крf6 — g7 и черный слон пойман. Белые выигрывают).
Через несколько дней наш Богатырь с прищуром сходил на берег. В капитанский бинокль я видел, как катер «Петушок» подошел к причалу, как вышли из него пассажиры. Навстречу тому, кто на голову был выше всех, с берега бросилась тоненькая женщина. Он обнял ее, "сжал своими ручищами", и ее фигурки совсем не стало видно.
Вот она какая, удивительная Таня! А что, если она вспомнит о своем приключении на острове Ныряющем, снова научится играть в шахматы, удивит шахматный мир?
Кто знает!
Нас она уже удивила… И не только шахматами…
Я стоял накапитанском мостике, с которого один только раз и то издали увидел Таню…
Арктическое плавание продолжалось. Теперь слева на горизонте виднелись не то тучи, не то горы… Это была уже совсем другая земля.
— Лево на борт! — скомандовал стоявший со мной рядом капитан.
— Когда вы увидите, то поймете, какой шахматистки мы лишились. Она сообщила свой ход (1. Лb5 — b7). Мы с капитаном обрадовались за нашу противницу. Вот почему она не согласилась на ничью! Лукавая, она грозит матом в несколько ходов! (2. Сd1 + Крa5. 3. b4 + Крa6. 4. Сe2 + и мат следующим ходом!) Здорово! Я предложил капитану «зевнуть» эту угрозу и проиграть, но он запротестовал. Гроссмейстер не может так зевать, когда нет цейтнота, и наш обман раскроется. Пришлось защищаться от озорной угрозы, что сделать было не трудно, имея свободно двигающегося ферзя. Капитан посоветовал сделать ход ферзем (1… Фg3 — e5), чтобы он взял под прицел опасное поле e2, с которого намеревался матовать белый слон. Я сообщил Тане этот ход «гроссмейстера» и еще раз предложил ей от его имени ничью.
Таня ответила, что вода накрывает геодезический знак. От ничьей она отказалась и попросила передать гроссмейстеру привет, благодарность и просьбу поскорее отвечать на ее ходы.
— Как же она пошла? — заинтересовались слушатели.
— Она?.. Ах, да! Она все-таки сделала шах слоном, словно могла заматовать нашего короля. Мы с капитаном решили, что она — в ее положении это было простительно — не заметила, что ферзь держит под ударом нужное ей для слона поле. Мы уверились в этом, когда она один за другим сделала свои ходы (2. Сg5 — d1 + Крa4 — a5. 3. b2 — b4 + Крa5 — a6. 4. Сd1 — e2 +??).
Таня отдавала "по недосмотру" своего атакующего слона!
Мне было бесконечно жаль Таню, ее последнюю партию… "Георгий Седов" уже блуждал где-то в районе утонувшего острова. Таня была еще жива, она еще ждала ответного хода партнера. Ну, что я мог сделать? Флор обязан был взять слона. И я сообщил, что он берет его (4…Фe5: e2).
Мы с капитаном стояли на мостике, стараясь увидеть сквозь снежную пелену человеческую фигурку, едва приподнятую над бушующим морем.
Радист взбежал по трапу; я обернулся, спросил хрипло:
— Есть ответ? Жива?
— Да. Она пошла королем. Грозит матом.
— Как матом?
— Ну да, пешка превратится в ферзя.
Снова последовал быстрый обмен ходами:
(5. Крa8 — b8 Фe2 — e5 +. 6. Крb8 — c8 Фe5 — e8 +.
7. Крc8 — c7).
Собственно, сейчас черным ничего не грозило. Проиграть могла лишь погибающая девушка… С чувством отчаяния я сказал радисту, чтобы он взял слоном пешку (7… Сg8: d5). Можно было сыграть и по-иному, и, как нашел потом капитан, это вело к нашему проигрышу. Но об этом потом. Я сделал очередной ход просто для того, чтобы поддержать Таню в последние минуты ее жизни.
Но Таня еще жила! Она держалась и на воде и в партии, ответив сразу серией потрясших нас с капитаном ходов, быть может, рожденных небывалым напряжением всех сил, блеском уходящей жизни, почти потусторонним вдохновением. Она начала с того, что отдала последнюю свою надежду, проходную пешку a7. Можно было подумать, что она отдает ее, действительно теряя надежду на все… Но… последовала серия поразивших нас ходов:
(8. a7 — a8Ф + Фe8: a8. 9. Лb7 — b6 + Крa6 — a7. 10. b4 — b5!).
На этом связь с Таней оборвалась. Рация ее замолкла. Сквозь слезы смотрел я на шахматную доску, которая стояла в штурманской рубке на географической карте, на которой прокладывался курс корабля.
Всмотритесь в эту позицию. Грозит мат ладьей. Нужно или терять ферзя, проигрывая партию, или защищаться от мата слоном (10. Сd5 — b7. 11. Лb6 a6 + Сb7: a6). И завершающий удар слабой Таниной рукой, очаровательный, изящный, парадоксальный мат одной пешкой, олицетворяющий собой победу мысли над грубой силой, воли над стихией (12. b5 — b6 мат!).
Я послал радиограмму, поздравляя Таню с поразительно красивой победой. Но Таня не приняла ее, не ответила…
Все долго молчали. В кают-компанию с твиндека доносились голоса, потом они смолкли и слышно было, как шелестели волны о борт, а может быть, мелкие льдины…
Кто-то спросил, робко, неуверенно:
— Как же Таня? Ее геодезический знак? Ее остров?
Рассказчик сощурился:
— Хорошая мысль назвать остров ее именем, только… С тех пор никто ни разу не видел Ныряющего острова. На карте он нанесен Борисом Ефимовичем, как опасная мель…
— А Таня?
— Татьяна Михайловна вышла за меня замуж. Но если вы спросите у нее о том, что я рассказал, она ничего не вспомнит: ни острова, ни знака, ни игранной партии, более того, она даже не знает сейчас ходов шахматных фигур. И она даже будет вас уверять, что я все выдумал.
— Значит… значит, она жива!
— Конечно. Мою Таню, мою изумительную милую Таню "Георгий Седов" вскоре подобрал. Она была без сознания, но все еще держалась за бревна геодезического знака, который смыло с утонувшего острова.
Она была между жизнью и смертью много дней. А когда пришла в себя, то забыла все, все… все, что с ней случилось, и даже шахматы…
Как? И пощечины не помнит?
Рассказчик улыбнулся, словно ему напомнили о чем-то необычайно приятном:
— Представьте себе игру аномалий, только это и помнит. Медицина плохо разбирается в женской логике.
— Неплохая женская логика — заматовать одной пешкой против ферзя и слона!
— Потемки! — развел руками рассказчик и лукаво улыбнулся.
Он показал, как Таня могла выиграть при другом плане черных: (7…d7 — d6. 8. a7 — a8Ф + Фe8: a8. 9. Лb7 — b6 + Крa6 — a7. 10. b4 — b5 Фa8 — d8 +. 11. Крc7: d8 Крa7: b6. 12. Крd8 — e7 Крb6: b5. 13. Крe7: d6 Крb5 — c4. 14. Крd6 — e5 Крc4 — c5. 15. d5 — d6 Крc5 — c6. 16. Крe5 — f6 Крc6: d6. 17. Крf6 — g7 и черный слон пойман. Белые выигрывают).
Через несколько дней наш Богатырь с прищуром сходил на берег. В капитанский бинокль я видел, как катер «Петушок» подошел к причалу, как вышли из него пассажиры. Навстречу тому, кто на голову был выше всех, с берега бросилась тоненькая женщина. Он обнял ее, "сжал своими ручищами", и ее фигурки совсем не стало видно.
Вот она какая, удивительная Таня! А что, если она вспомнит о своем приключении на острове Ныряющем, снова научится играть в шахматы, удивит шахматный мир?
Кто знает!
Нас она уже удивила… И не только шахматами…
Я стоял накапитанском мостике, с которого один только раз и то издали увидел Таню…
Арктическое плавание продолжалось. Теперь слева на горизонте виднелись не то тучи, не то горы… Это была уже совсем другая земля.
— Лево на борт! — скомандовал стоявший со мной рядом капитан.
ЛЕВО НА БОРТ!
 Предстояло еще зайти в бухту Гавань на Холодной Земле.
Гавань — одно из красивейших мест Арктики.
Горы, видневшиеся раньше на горизонте и похожие на тучи, теперь стали подниматься, расти. Мы приближались к последней полярной земле на нашем пути.
Мой приятель Нетаев был свободен от вахты. Мы договорились вместе съехать на берег.
Корабль подошел уже близко к суровым скалистым горам, седым от снега.
У их подножия приютилась бухта Гавань.
У входа в бухту — черный каменный остров, природный сторожевой форт. Чуть левее его над поверхностью моря взлетают белые столбы пены. Здесь невидимые камни, о которые разбиваются волны.
Борис Ефимович мог бы быть лоцманом в любой бухте Севера. Он уверенно проводит корабль узким, ничем не отмеченным фарватером.
Фонтаны взмывают вверх почти под самым бортом. Черные камни показываются из воды, словно морские звери. Лишь на мгновение видны их лоснящиеся тела.
Могучие серые скалы, голые, неприступные. Растительности никакой. Налево, на берегу, домик фактории, направо полярная станция.
От берега отчалил маленький береговой катер и идет к нам навстречу.
Но что это за пестрая цветная полоса сползает к морю из расщелины?
— Это ледник, — объяснил мне Нетаев.
Какой странный ледник! Он не похож ни на один из гладких, покрытых снегом ледников, встреченных нами раньше. Только в местах, где отламывался айсберг, виднелся зеленоватый излом льда.
— Мы посмотрим поближе, — пообещал Нетаев.
Катер отвез нас на узкую косу, отделяющую большую бухту от малой.
Вместе с Нетаевым мы отправились к леднику — он сползает в малую бухту. На неглубоком снегу оставались наши следы.
Поднявшись на косу, мы увидели бухту и… удивленные, остановились. Что это?
На спокойной воде плавали странные льдины. Они были самых неожиданных цветов — зеленые, ярко-синие, голубые, белые, даже черные. Форма льдин была столь же необычна, как и цвет.
Эти диковинные льдины заполняли тихую бухту, неведомо откуда появившись в ней.
— Отламываются в воду плиты ледника, — сказал мне Нетаев.
С нашего возвышения был хорошо виден весь ледник: издали он казался ребристым, как батарея парового отопления. Он весь состоял из вертикальных, неровных, смерзшихся между собой плит разной окраски. Пестрая ледяная река сползала с горы.
Подойдя ближе, мы увидели свисавший над морем конец ледника.
Раздался гулкий удар.
— Ледник «отелился», — сказал Нетаев.
Одна из вертикальных плит отломилась и упала в воду. На мгновение вновь рожденный ледяной «теленок», как говорят полярники, нырнул и снова появился на поверхности.
Некоторые цветные льдины прибило к берегу. Мы с Нетаевым с любопытством рассматривали их. Они состояли из прозрачного, как воздух, льда и вблизи не имели такого цвета, как издали. Но в самом льду можно было рассмотреть множество крупинок, по-видимому, разноцветного песка. Они-то и придавали ледяным глыбам неожиданную окраску.
— Чудеса, — качал головой Нетаев. — Похоже, что ледник, там, вверху… вроде как из разных ледяных струй сливается.
— И каждая струя своего цвета?
— Может быть, каждый ледяной ручеек по разноцветным глинам проползает, вот крупинки-то и попадают в лед. Смотрите, — и Нетаев показал мне на льдину, которую мы только что рассматривали.
А я смотрел на Нетаева. Его голубые глаза были радостно расширены, лицо улыбалось.
— Я для того и моряком стал, — неожиданно сказал он, — чтобы чудеса эти видеть. Люблю море. Но еще больше люблю берега. Чего только не увидишь на них! Вот и вы за эту навигацию насмотрелись… А я всю жизнь плавать буду. И не просто берега буду видеть, а увижу, как они станут меняться. Скажем, здесь курортную гостиницу выстроят. Наверняка буду водить сюда пассажирские пароходы с туристами со всего Советского Союза! А на той стороне бухты, может быть, завод какой-нибудь или рудник построят.
Вместе с Нетаевым мы шли обратно к причалу, где катер уже ждал нас. Я приглядывался к своему спутнику. Прежде мне казалось, что моряки обязательно любят штормы, ветры, море… Но вот, оказывается, они могут еще любить берега.
— Или еще Камчатка! Удивительная страна, — продолжал Нетаев. — Там я видел, как зимой среди снега… трава растет. Около горячих ключей! Или взять хотя бы уссурийское побережье. Ну, знаете… Я и в Индии бывал, когда «Сухуми» из Архангельска во Владивосток перегоняли… Представьте, в Уссурийском крае и индийские деревья и наши сосны рядом растут. Даже растения наши — и те дружат. А какие там сейчас города! Вы в Комсомольске не бывали? А возьмите Сахалин! Ох, и богатство! А Владивостокскую бухту знаете? Город весь амфитеатром… и отражается в бухте Золотой Рог!
Я никогда не слышал, чтобы Нетаев, всегда скромный и молчаливый, так увлеченно говорил.
Когда корабль выходил из бухты Гавань, я смотрел на пустынные берега, и мое воображение рисовало красивые многоэтажные отели, а напротив заводские трубы и причалы с портовыми кранами. Будет все это! Непременно будет!
Горы Холодной Земли удалялись и скоро слились с волнистым горизонтом.
"Георгий Седов", покрыв за одну навигацию свыше полутора десятков тысяч километров, побывав в ряде труднодоступных районов, возвращался в Архангельск.
Моряки вспоминали о доме, о женах и детях. В каютах перебирали чемоданы.
Осенние бури в Баренцовом море — страшные бури.
Корабль давно качало. Полярные моряки, как я уже знал, в таких случаях пользуются близостью льдов. В них можно спрятаться от сильной качки. В Баренцовом море льдов не бывает, и укрыться там негде.
Наш корабль сразу, казалось, уменьшился в объеме. Волны поднимались выше капитанского мостика.
Начинался шторм. Дул холодный ветер. Температура резко упала.
Я провел беспокойную ночь. В каютах койки обычно располагают перпендикулярно борту. Тогда боковая качка не сбрасывает с койки. Но я жил в салоне капитана и спал на диване, который не был на это рассчитан. При каждом крене мой диван наклонялся, и я едва удерживался на нем. Приставить стул нечего было и думать. Стулья вместе с чемоданом гуляли по каюте, как хотели. Я устал воевать с ними и махнул на них рукой.
Капитан в мокром брезентовом макинтоше заглянул ко мне и научил, как надо спать в шторм. Лежать можно только на животе, расставив локти и ноги. Я попробовал лечь так, как посоветовал капитан, и почувствовал себя устойчивее.
На стене качался маятник. В необычайном для маятников размахе он медленно отклонялся то в одну сторону, то переходил через вертикальную черту и, почти поднимаясь по стене, откачивался в другую. Он словно принадлежал каким-то необычайно тихоходным часам. Это был прибор, указывающий крен корабля.
Крен был поразительный. Он доходил до сорока пяти градусов.
Утром, измученный, я выбрался на палубу.
Ветер дико свистел. Стоять, не держась за что-нибудь, было нельзя. Я схватился за первые попавшиеся поручни. Они были покрыты льдом. Слой льда лег на все: крыши ларей, стоявших на палубе, реллинги, вентиляционные трубы. Покрыты льдом были и снасти и сами мачты. Наш обледеневший корабль, ежеминутно окачиваемый водой, которая тут же замерзала, тяжело переваливался с боку на бок.
Было очень холодно, я вернулся в каюту, чтобы одеться потеплее.
Выйдя вновь, я заметил толстый трос, тянувшийся над палубой. Раньше я его не замечал. Потом я сообразил, что это антенна, покрывшаяся льдом. Едва я подумал, какая тяжесть висит на проводе, как огромная волна ударила в борт, окатила меня с ног до головы. Пена разбилась о пароходную трубу, что-то звякнуло, по палубе словно стекло рассыпалось.
Взглянув вверх, я увидел, что антенны больше нет… Она порвалась.
Я хорошо знал, что значит радио для корабля. Лишенные антенны, мы, носясь по штормовым волнам, потеряли уши и голос.
Радист Иван Гурьянович, в своем неизменном щегольском кителе, выскочил из радиорубки. Он посмотрел наверх. Его глаза тревожно забегали.
Я прошел на палубную надстройку, чтобы подняться на капитанский мостик.
Ветер ударил, навалился на меня. Я вцепился в протянутый вдоль палубы штормовой канат.
Двигаться можно было только перебирая руками по канату. Я совершенно вымок, пока добирался до трапа, чтобы подняться на мостик. Ступеньки трапа проваливались подо мной. Я чувствовал, что мое тело теряет вес, будто я нахожусь в клети шахты, сорвавшейся вниз.
На мостике капитана не было. На вахте, накрывшись брезентовым плащом, стоял Нетаев.
Было странно, что Бориса Ефимовича не было здесь. В такие минуты он всегда на посту. Неужели он теперь настолько доверяет своему штурману? Невольно вспомнилась первая вахта Нетаева, когда мы с ним пересели на "Георгия Седова". Корабль тогда проходил через льды. Помню, как капитан, взбешенный неловким ударом о льдину, разносил Нетаева и показывал ему, как надо вести корабль.
— Право на борт! Не спите! — кричал он тогда рулевому непривычно сердитым голосом.
Я посмотрел на рулевую рубку. Всех рулевых я знал в лицо. Моряк, стоявший за штурвалом, показался мне незнакомым. Но в следующее мгновение я узнал его.
Это был капитан. Не доверяя никому, он сам стоял вместо рулевого.
Вскоре я понял, чем это было вызвано.
Корабль не слушался руля. Нужно было особое искусство, чтобы как-нибудь справиться с наполовину потерявшим управление судном.
По трапу взбежал радист в мокром кителе и доложил капитану о потере радиосвязи.
— Вот беда-то… — сказал капитан… — Только вы, голубчик, не вздумайте в такую качку на снасти лезть.
— Но ведь нас потеряют! Подумают, что погибли. Вы разрешите, Борис Ефимович… — настаивал радист.
— Нет! Запрещаю! Конечно, там в штабе поволнуются, но я жизнью своих моряков рисковать не буду. Вот выйдем из шторма…
Огорченный радист ушел, широко расставляя ноги, чтобы не упасть.
— Снасти-то обледенели, а мачту раскачивает. Вы только поглядите… словно оправдываясь, сказал мне капитан. — А нам из этого района нужно полным ходом, ни минуты не задерживаться…
Он пристально смотрел вперед, все время поворачивая колесо штурвала то в одну, то в другую сторону.
Чтобы не мешать капитану, я подошел к Нетаеву.
Молодой штурман обменялся со мной быстрым взглядом, указав глазами на рулевую рубку. Никогда в жизни он не нес вахты с таким квалифицированным рулевым, которым не приходилось командовать.
Кстати сказать, в дореволюционное время Борис Ефимович много лет плавал простым матросом. Только в годы советской власти он стал командиром корабля.
Вдруг Нетаев бросился вперед, вцепился руками в реллинги!
— Лево на борт! — громко закричал он.
Удивленный этим окриком, капитан все же стал быстро перебирать рукоятки штурвала. Он повиновался команде.
— Еще лево! Быстрее! Не спите! — громко командовал младший штурман.
По всей фигуре капитана, по его быстро действовавшим рукам я понял, каких трудов стоило ему повернуть корабль, винт которого то и дело оказывался в воздухе.
Я посмотрел вперед, куда неотрывно вглядывался Нетаев.
На гребне волны, перед самым носом корабля, я увидел плавающую мину. Немецкая! Со времени войны затерянная в волнах!
Шарообразная, с шипами ударников, торчащими в разные стороны, она казалась необычайным морским животным, всплывшим на поверхность.
— Мина! Лево на борт! Лево! Лево! — кричал штурман.
Он схватился за рукоятку машинного телеграфа:
— Стоп! Полный назад! Полный назад! Право руля! Не спите! Черт возьми! Право на борт!
Мина была под самым носом корабля. Кто знает, откуда сорвало ее, сколько времени носилась она по волнам, чтобы встретиться сейчас с нами в десятибалльный шторм, когда корабль не слушается руля.
Нос корабля оказался чуть левее мины… Но она заденет о борт, заденет!
— Полный назад! Давай полный назад! — закричал из рулевой рубки капитан.
Но штурман уже сам успел дать эту команду в машинное отделение.
— Право на борт! Теперь право на борт! Быстрее! — в свою очередь командовал он.
Волна подбросила мину. Она поворачивалась… Ее шипы походили на обрубленные щупальца.
— Стоп! Полный вперед! — передвигал рукоятку машинного телеграфа Нетаев. — Лево на борт! — крикнул он капитану.
Мина прошла под самым бортом корабля. Я бросился к боковым реллингам, перегнулся через них и смотрел на страшный шар, мысленно измеряя расстояние до него.
Нетаев, тоже перегнувшись через реллинги, стоял рядом со мной. Он достал платок и стал вытирать мокрый лоб.
Мина была уже у кормы.
Капитан, передав штурвал рулевому, подошел к нам.
Нетаев вытянулся. Лицо его покрылось румянцем.
— Извините, Борис Ефимович…
— Ладно, — махнул рукой капитан. — Молодец! Где радист? Дать сюда радиста! Боцмана сюда, он у нас лучший верхолаз.
Радист мигом предстал перед капитаном.
— Антенну! Чтоб через четверть часа была антенна!
— Вы же сами запретили, Борис Ефимович!
— Лезь на мачту, закрепляй, как хочешь, но чтоб была антенна. Я сам по вантам полезу.
— Что вы, Борис Ефимович… позвольте мне, — вмешался Нетаев.
Радист, капитан, боцман и еще несколько моряков взялись за восстановление антенны. Капитан сказал:
— Надо сообщить о мине тральщику. Тральщик недалеко от нас шел. Он должен ее найти и уничтожить. Сейчас радио нужно не нам, а всем кораблям, всем, кто в море с проклятой миной может встретиться… И радио должно быть!
Пятидесятилетний капитан с поразительной ловкостью забрался по обледеневшим вантам. Мачта, за которую он уцепился, наклонялась во все стороны. Ее верхушка с прилипшей к ней фигуркой описывала огромную дугу, оказываясь над волнами то с одного, то с другого борта корабля.
Пока Борис Ефимович и помогавший ему радист висели на обледеневших снастях, натягивая антенну, Нетаев по приказу капитана держал корабль в виду мины.
Я забыл о качке, о ветре, о холоде, с тревогой наблюдая за рискованной работой моряков.
Наконец капитан опустился на палубу, радист бросился в радиорубку.
— Давай тральщику пеленг — пусть идет сейчас же к нам, плюет на волну!.. — кричал ему капитан. — Вот теперь надо согреться, — сказал он мне своим обычным приветливым голосом.
Мы сидели в его каюте. Одеревеневшими, синими пальцами капитан набил трубку, закурил и налил себе стакан коньяку.
Он затянулся дымком, потом выпил до дна весь стакан, зажмурился, открыл глаза и тихо, как бы показывая фокус, выпустил клуб дыма…
— Вот это по-полярному… А теперь пойдем к штурвалу, — сказал он и поднялся на мостик, чтобы снова сменить рулевого.
Вызванный по радио тральщик подошел к нам через два часа. Все это время наш корабль делал круги вокруг мины, словно карауля ее. Всякий раз, когда, поворачиваясь, корабль становился бортом к волне, я думал, что мы перевернемся. Маятник, отмечавший крен корабля, показывал что-то невероятное. Кунгас сорвало и унесло в море. Катер «Петушок» еще стоял на месте, матросы укрепляли его.
Взлетая на волнах, маленький тральщик приближался к нам. Капитан дал приветственный гудок. Он передавал тральщику найденного опасного зверя.
"Георгий Седов" взял прежний курс на юго-запад. За нашей кормой мы видели тральщик. Он подкрадывался к мине.
Вдруг раздался взрыв. Над темными волнами взвился куст черного дыма.
— Готово! — облегченно сказал Борис Ефимович, перебирая ручки штурвала. — Радист! Иван Гурьянович… ты как? Согрелся? Тогда пошли приветственную телеграмму военным морякам. Спасибо передай от всех полярных капитанов. Ну, а мы, — обратился он ко мне, — пойдем в кают-компанию на последний наш вечер "Северного Декамерона".
Предстояло еще зайти в бухту Гавань на Холодной Земле.
Гавань — одно из красивейших мест Арктики.
Горы, видневшиеся раньше на горизонте и похожие на тучи, теперь стали подниматься, расти. Мы приближались к последней полярной земле на нашем пути.
Мой приятель Нетаев был свободен от вахты. Мы договорились вместе съехать на берег.
Корабль подошел уже близко к суровым скалистым горам, седым от снега.
У их подножия приютилась бухта Гавань.
У входа в бухту — черный каменный остров, природный сторожевой форт. Чуть левее его над поверхностью моря взлетают белые столбы пены. Здесь невидимые камни, о которые разбиваются волны.
Борис Ефимович мог бы быть лоцманом в любой бухте Севера. Он уверенно проводит корабль узким, ничем не отмеченным фарватером.
Фонтаны взмывают вверх почти под самым бортом. Черные камни показываются из воды, словно морские звери. Лишь на мгновение видны их лоснящиеся тела.
Могучие серые скалы, голые, неприступные. Растительности никакой. Налево, на берегу, домик фактории, направо полярная станция.
От берега отчалил маленький береговой катер и идет к нам навстречу.
Но что это за пестрая цветная полоса сползает к морю из расщелины?
— Это ледник, — объяснил мне Нетаев.
Какой странный ледник! Он не похож ни на один из гладких, покрытых снегом ледников, встреченных нами раньше. Только в местах, где отламывался айсберг, виднелся зеленоватый излом льда.
— Мы посмотрим поближе, — пообещал Нетаев.
Катер отвез нас на узкую косу, отделяющую большую бухту от малой.
Вместе с Нетаевым мы отправились к леднику — он сползает в малую бухту. На неглубоком снегу оставались наши следы.
Поднявшись на косу, мы увидели бухту и… удивленные, остановились. Что это?
На спокойной воде плавали странные льдины. Они были самых неожиданных цветов — зеленые, ярко-синие, голубые, белые, даже черные. Форма льдин была столь же необычна, как и цвет.
Эти диковинные льдины заполняли тихую бухту, неведомо откуда появившись в ней.
— Отламываются в воду плиты ледника, — сказал мне Нетаев.
С нашего возвышения был хорошо виден весь ледник: издали он казался ребристым, как батарея парового отопления. Он весь состоял из вертикальных, неровных, смерзшихся между собой плит разной окраски. Пестрая ледяная река сползала с горы.
Подойдя ближе, мы увидели свисавший над морем конец ледника.
Раздался гулкий удар.
— Ледник «отелился», — сказал Нетаев.
Одна из вертикальных плит отломилась и упала в воду. На мгновение вновь рожденный ледяной «теленок», как говорят полярники, нырнул и снова появился на поверхности.
Некоторые цветные льдины прибило к берегу. Мы с Нетаевым с любопытством рассматривали их. Они состояли из прозрачного, как воздух, льда и вблизи не имели такого цвета, как издали. Но в самом льду можно было рассмотреть множество крупинок, по-видимому, разноцветного песка. Они-то и придавали ледяным глыбам неожиданную окраску.
— Чудеса, — качал головой Нетаев. — Похоже, что ледник, там, вверху… вроде как из разных ледяных струй сливается.
— И каждая струя своего цвета?
— Может быть, каждый ледяной ручеек по разноцветным глинам проползает, вот крупинки-то и попадают в лед. Смотрите, — и Нетаев показал мне на льдину, которую мы только что рассматривали.
А я смотрел на Нетаева. Его голубые глаза были радостно расширены, лицо улыбалось.
— Я для того и моряком стал, — неожиданно сказал он, — чтобы чудеса эти видеть. Люблю море. Но еще больше люблю берега. Чего только не увидишь на них! Вот и вы за эту навигацию насмотрелись… А я всю жизнь плавать буду. И не просто берега буду видеть, а увижу, как они станут меняться. Скажем, здесь курортную гостиницу выстроят. Наверняка буду водить сюда пассажирские пароходы с туристами со всего Советского Союза! А на той стороне бухты, может быть, завод какой-нибудь или рудник построят.
Вместе с Нетаевым мы шли обратно к причалу, где катер уже ждал нас. Я приглядывался к своему спутнику. Прежде мне казалось, что моряки обязательно любят штормы, ветры, море… Но вот, оказывается, они могут еще любить берега.
— Или еще Камчатка! Удивительная страна, — продолжал Нетаев. — Там я видел, как зимой среди снега… трава растет. Около горячих ключей! Или взять хотя бы уссурийское побережье. Ну, знаете… Я и в Индии бывал, когда «Сухуми» из Архангельска во Владивосток перегоняли… Представьте, в Уссурийском крае и индийские деревья и наши сосны рядом растут. Даже растения наши — и те дружат. А какие там сейчас города! Вы в Комсомольске не бывали? А возьмите Сахалин! Ох, и богатство! А Владивостокскую бухту знаете? Город весь амфитеатром… и отражается в бухте Золотой Рог!
Я никогда не слышал, чтобы Нетаев, всегда скромный и молчаливый, так увлеченно говорил.
Когда корабль выходил из бухты Гавань, я смотрел на пустынные берега, и мое воображение рисовало красивые многоэтажные отели, а напротив заводские трубы и причалы с портовыми кранами. Будет все это! Непременно будет!
Горы Холодной Земли удалялись и скоро слились с волнистым горизонтом.
"Георгий Седов", покрыв за одну навигацию свыше полутора десятков тысяч километров, побывав в ряде труднодоступных районов, возвращался в Архангельск.
Моряки вспоминали о доме, о женах и детях. В каютах перебирали чемоданы.
Осенние бури в Баренцовом море — страшные бури.
Корабль давно качало. Полярные моряки, как я уже знал, в таких случаях пользуются близостью льдов. В них можно спрятаться от сильной качки. В Баренцовом море льдов не бывает, и укрыться там негде.
Наш корабль сразу, казалось, уменьшился в объеме. Волны поднимались выше капитанского мостика.
Начинался шторм. Дул холодный ветер. Температура резко упала.
Я провел беспокойную ночь. В каютах койки обычно располагают перпендикулярно борту. Тогда боковая качка не сбрасывает с койки. Но я жил в салоне капитана и спал на диване, который не был на это рассчитан. При каждом крене мой диван наклонялся, и я едва удерживался на нем. Приставить стул нечего было и думать. Стулья вместе с чемоданом гуляли по каюте, как хотели. Я устал воевать с ними и махнул на них рукой.
Капитан в мокром брезентовом макинтоше заглянул ко мне и научил, как надо спать в шторм. Лежать можно только на животе, расставив локти и ноги. Я попробовал лечь так, как посоветовал капитан, и почувствовал себя устойчивее.
На стене качался маятник. В необычайном для маятников размахе он медленно отклонялся то в одну сторону, то переходил через вертикальную черту и, почти поднимаясь по стене, откачивался в другую. Он словно принадлежал каким-то необычайно тихоходным часам. Это был прибор, указывающий крен корабля.
Крен был поразительный. Он доходил до сорока пяти градусов.
Утром, измученный, я выбрался на палубу.
Ветер дико свистел. Стоять, не держась за что-нибудь, было нельзя. Я схватился за первые попавшиеся поручни. Они были покрыты льдом. Слой льда лег на все: крыши ларей, стоявших на палубе, реллинги, вентиляционные трубы. Покрыты льдом были и снасти и сами мачты. Наш обледеневший корабль, ежеминутно окачиваемый водой, которая тут же замерзала, тяжело переваливался с боку на бок.
Было очень холодно, я вернулся в каюту, чтобы одеться потеплее.
Выйдя вновь, я заметил толстый трос, тянувшийся над палубой. Раньше я его не замечал. Потом я сообразил, что это антенна, покрывшаяся льдом. Едва я подумал, какая тяжесть висит на проводе, как огромная волна ударила в борт, окатила меня с ног до головы. Пена разбилась о пароходную трубу, что-то звякнуло, по палубе словно стекло рассыпалось.
Взглянув вверх, я увидел, что антенны больше нет… Она порвалась.
Я хорошо знал, что значит радио для корабля. Лишенные антенны, мы, носясь по штормовым волнам, потеряли уши и голос.
Радист Иван Гурьянович, в своем неизменном щегольском кителе, выскочил из радиорубки. Он посмотрел наверх. Его глаза тревожно забегали.
Я прошел на палубную надстройку, чтобы подняться на капитанский мостик.
Ветер ударил, навалился на меня. Я вцепился в протянутый вдоль палубы штормовой канат.
Двигаться можно было только перебирая руками по канату. Я совершенно вымок, пока добирался до трапа, чтобы подняться на мостик. Ступеньки трапа проваливались подо мной. Я чувствовал, что мое тело теряет вес, будто я нахожусь в клети шахты, сорвавшейся вниз.
На мостике капитана не было. На вахте, накрывшись брезентовым плащом, стоял Нетаев.
Было странно, что Бориса Ефимовича не было здесь. В такие минуты он всегда на посту. Неужели он теперь настолько доверяет своему штурману? Невольно вспомнилась первая вахта Нетаева, когда мы с ним пересели на "Георгия Седова". Корабль тогда проходил через льды. Помню, как капитан, взбешенный неловким ударом о льдину, разносил Нетаева и показывал ему, как надо вести корабль.
— Право на борт! Не спите! — кричал он тогда рулевому непривычно сердитым голосом.
Я посмотрел на рулевую рубку. Всех рулевых я знал в лицо. Моряк, стоявший за штурвалом, показался мне незнакомым. Но в следующее мгновение я узнал его.
Это был капитан. Не доверяя никому, он сам стоял вместо рулевого.
Вскоре я понял, чем это было вызвано.
Корабль не слушался руля. Нужно было особое искусство, чтобы как-нибудь справиться с наполовину потерявшим управление судном.
По трапу взбежал радист в мокром кителе и доложил капитану о потере радиосвязи.
— Вот беда-то… — сказал капитан… — Только вы, голубчик, не вздумайте в такую качку на снасти лезть.
— Но ведь нас потеряют! Подумают, что погибли. Вы разрешите, Борис Ефимович… — настаивал радист.
— Нет! Запрещаю! Конечно, там в штабе поволнуются, но я жизнью своих моряков рисковать не буду. Вот выйдем из шторма…
Огорченный радист ушел, широко расставляя ноги, чтобы не упасть.
— Снасти-то обледенели, а мачту раскачивает. Вы только поглядите… словно оправдываясь, сказал мне капитан. — А нам из этого района нужно полным ходом, ни минуты не задерживаться…
Он пристально смотрел вперед, все время поворачивая колесо штурвала то в одну, то в другую сторону.
Чтобы не мешать капитану, я подошел к Нетаеву.
Молодой штурман обменялся со мной быстрым взглядом, указав глазами на рулевую рубку. Никогда в жизни он не нес вахты с таким квалифицированным рулевым, которым не приходилось командовать.
Кстати сказать, в дореволюционное время Борис Ефимович много лет плавал простым матросом. Только в годы советской власти он стал командиром корабля.
Вдруг Нетаев бросился вперед, вцепился руками в реллинги!
— Лево на борт! — громко закричал он.
Удивленный этим окриком, капитан все же стал быстро перебирать рукоятки штурвала. Он повиновался команде.
— Еще лево! Быстрее! Не спите! — громко командовал младший штурман.
По всей фигуре капитана, по его быстро действовавшим рукам я понял, каких трудов стоило ему повернуть корабль, винт которого то и дело оказывался в воздухе.
Я посмотрел вперед, куда неотрывно вглядывался Нетаев.
На гребне волны, перед самым носом корабля, я увидел плавающую мину. Немецкая! Со времени войны затерянная в волнах!
Шарообразная, с шипами ударников, торчащими в разные стороны, она казалась необычайным морским животным, всплывшим на поверхность.
— Мина! Лево на борт! Лево! Лево! — кричал штурман.
Он схватился за рукоятку машинного телеграфа:
— Стоп! Полный назад! Полный назад! Право руля! Не спите! Черт возьми! Право на борт!
Мина была под самым носом корабля. Кто знает, откуда сорвало ее, сколько времени носилась она по волнам, чтобы встретиться сейчас с нами в десятибалльный шторм, когда корабль не слушается руля.
Нос корабля оказался чуть левее мины… Но она заденет о борт, заденет!
— Полный назад! Давай полный назад! — закричал из рулевой рубки капитан.
Но штурман уже сам успел дать эту команду в машинное отделение.
— Право на борт! Теперь право на борт! Быстрее! — в свою очередь командовал он.
Волна подбросила мину. Она поворачивалась… Ее шипы походили на обрубленные щупальца.
— Стоп! Полный вперед! — передвигал рукоятку машинного телеграфа Нетаев. — Лево на борт! — крикнул он капитану.
Мина прошла под самым бортом корабля. Я бросился к боковым реллингам, перегнулся через них и смотрел на страшный шар, мысленно измеряя расстояние до него.
Нетаев, тоже перегнувшись через реллинги, стоял рядом со мной. Он достал платок и стал вытирать мокрый лоб.
Мина была уже у кормы.
Капитан, передав штурвал рулевому, подошел к нам.
Нетаев вытянулся. Лицо его покрылось румянцем.
— Извините, Борис Ефимович…
— Ладно, — махнул рукой капитан. — Молодец! Где радист? Дать сюда радиста! Боцмана сюда, он у нас лучший верхолаз.
Радист мигом предстал перед капитаном.
— Антенну! Чтоб через четверть часа была антенна!
— Вы же сами запретили, Борис Ефимович!
— Лезь на мачту, закрепляй, как хочешь, но чтоб была антенна. Я сам по вантам полезу.
— Что вы, Борис Ефимович… позвольте мне, — вмешался Нетаев.
Радист, капитан, боцман и еще несколько моряков взялись за восстановление антенны. Капитан сказал:
— Надо сообщить о мине тральщику. Тральщик недалеко от нас шел. Он должен ее найти и уничтожить. Сейчас радио нужно не нам, а всем кораблям, всем, кто в море с проклятой миной может встретиться… И радио должно быть!
Пятидесятилетний капитан с поразительной ловкостью забрался по обледеневшим вантам. Мачта, за которую он уцепился, наклонялась во все стороны. Ее верхушка с прилипшей к ней фигуркой описывала огромную дугу, оказываясь над волнами то с одного, то с другого борта корабля.
Пока Борис Ефимович и помогавший ему радист висели на обледеневших снастях, натягивая антенну, Нетаев по приказу капитана держал корабль в виду мины.
Я забыл о качке, о ветре, о холоде, с тревогой наблюдая за рискованной работой моряков.
Наконец капитан опустился на палубу, радист бросился в радиорубку.
— Давай тральщику пеленг — пусть идет сейчас же к нам, плюет на волну!.. — кричал ему капитан. — Вот теперь надо согреться, — сказал он мне своим обычным приветливым голосом.
Мы сидели в его каюте. Одеревеневшими, синими пальцами капитан набил трубку, закурил и налил себе стакан коньяку.
Он затянулся дымком, потом выпил до дна весь стакан, зажмурился, открыл глаза и тихо, как бы показывая фокус, выпустил клуб дыма…
— Вот это по-полярному… А теперь пойдем к штурвалу, — сказал он и поднялся на мостик, чтобы снова сменить рулевого.
Вызванный по радио тральщик подошел к нам через два часа. Все это время наш корабль делал круги вокруг мины, словно карауля ее. Всякий раз, когда, поворачиваясь, корабль становился бортом к волне, я думал, что мы перевернемся. Маятник, отмечавший крен корабля, показывал что-то невероятное. Кунгас сорвало и унесло в море. Катер «Петушок» еще стоял на месте, матросы укрепляли его.
Взлетая на волнах, маленький тральщик приближался к нам. Капитан дал приветственный гудок. Он передавал тральщику найденного опасного зверя.
"Георгий Седов" взял прежний курс на юго-запад. За нашей кормой мы видели тральщик. Он подкрадывался к мине.
Вдруг раздался взрыв. Над темными волнами взвился куст черного дыма.
— Готово! — облегченно сказал Борис Ефимович, перебирая ручки штурвала. — Радист! Иван Гурьянович… ты как? Согрелся? Тогда пошли приветственную телеграмму военным морякам. Спасибо передай от всех полярных капитанов. Ну, а мы, — обратился он ко мне, — пойдем в кают-компанию на последний наш вечер "Северного Декамерона".
ВЕРА В ЧЕЛОВЕКА
 В кают-компании собрались в последний раз. Завтра — Белое море, хлопоты перед окончанием арктического рейса, завтра уже не до рассказов…
Особенно людно было сегодня в кают-компании. Не всем хватило обитых кожей старинных стульев. Кое-кому пришлось подпирать спиной переборки с деревянными панелями.
Много я слышал здесь рассказов о мужестве, силе, храбрости, о находчивости, даже о небывалом страхе, о подвиге, о дружбе и любви, коммунистической совести, о необычных буднях в ледовом краю…
— Ну, как это полагается, напоследок надобно рассказать о чем-нибудь самом большом, что только с человеком случилось… Кто бы нам об этом рассказал? — обратился к присутствующим капитан.
Моряки и полярники жались, никто не решался брать на себя "рассказ о самом большом"…
И вдруг Марина сказала, что хочет рассказать о самом большом потрясении, какое перенесла в жизни.
Я видел ее и раньше, но она никогда ничего не говорила.
Маленькая, застенчивая, с порывистыми движениями южанки, с приятными мелкими чертами смуглого лица, темноволосая, но со светлыми глазами, ясными и быстрыми…
И вот теперь Марина решилась. Она решилась и, должно быть, сама испугалась, зарделась вся. Стала говорить, невольно помогая себе руками.
— Раньше я никогда бы не поверила, что могу вот так с вами плыть на корабле по Баренцову морю… Я боялась моря, страшно боялась… я даже не могу передать, как я его боялась. У нас в детском доме все девочки были как на подбор, хотели на самое что ни на есть трудное пойти, в горы… или в степь… А я в Арктику давно решила. Всем сказала, а сама даже не знала, как я смогу в Арктику попасть, если моря боюсь. Говорят, какой-то знаменитый летчик боялся высоты. Но у него была такая воля, что он заставил себя стать знаменитым летчиком. У меня, конечно, никакой воли не было, я просто хотела… нравилось мне в Арктике, в снегах… тишина… У меня кровать у окошка стояла, я ночью выглядывала и представляла, что уже в Арктике. Только, конечно, для Арктики я не годилась.
А моря бояться я стала вот почему. Я была в Артеке совсем еще маленькой, самой там младшей… А папа с мамой из Москвы приехали отдыхать к родным в Одессу. Какое тогда лето было хорошее!.. И вдруг война. Даже страшно вспомнить. У нас рядом с Артеком что-то было, не знаю, но только немецкие бомбы все на наш Артек сыпались. Мне так жалко было Артек, что я плакала. Потом нас, детей, отправили в Одессу. Меня встречала мама, перепуганная, суетливая, шумная, а папа даже не поехал в Москву, в Одессе в военкомат явился. У меня папа замечательный был, я его даже больше мамы любила. Большой-большой, под самый косяк двери. И добрый. Мама черная была, а папа светлый. У меня его глаза. Он был самый красивый, самый лучший. Я так была уверена. Я очень плакала, что он меня не встретил.
Потом очень плохо было в Одессе. Пожары… гарью пахло… Мы с мамой кирпичи помогали разбирать… На носилках людей проносили… И все время воздушные тревоги. Железные дороги никуда не везли. Везде были немцы. Только море наше было.
В Одессе должны были одни герои остаться, а нас всех, много тысяч человек, погрузили на красивые теплоходы: «Ленин» и «Буденный». Мне очень нравилось по палубе бегать. Люди кричали: "Девочка! Как тебе не стыдно? Тут такое вокруг, а ты…" А мне спать не хотелось. Мы из порта вышли ночью. Город горел. Было страшно и красиво…
Утром мы проходили мимо Севастополя. Гористый берег — зубцами… Небо было все в клубочках дыма. Это очень стреляли с наших военных кораблей. Немецкие самолеты «юнкерсы» сбрасывали бомбы или торпеды, не знаю. Только я сама видела, как теплоход, который шел перед нами, взорвался… Как игрушечный, далеко-далеко… покрылся дымом — и не стало его…
А потом и в наш корабль мина попала. Я так кричала, что не слышала даже взрыва. Куда ни взгляну — везде огонь. И мамы нигде нет… Потом кто-то, я не знаю кто, схватил меня, напялил на меня что-то пробковое и стал с палубы сталкивать. Я визжала, брыкалась, мне очень страшно было, а он все-таки выбросил меня за борт. Многое я забыла, а этой минуты забыть не могу. На воде плыву, почти рядом борт корабля, высокий, как стена дома, только без окон… иллюминаторы кругленькие очень высоко… И развалился вдруг этот дом… одна стена в одну сторону, другая — в другую… Меня завертело в воде, я не знаю как… Это было самое страшное в моей жизни, а все-таки не самое страшное.
За нами следом баржи шли, тоже с людьми. Они стали подбирать из воды кого могли… Говорят, из всех тысяч человек только двести подобрали. Ну и меня…
А мамочки моей не подобрали. Не было нигде ее. Она, наверное, полная, растрепанная, бегала по палубе, шумела, все меня искала, пока… Ой, не буду вспоминать.
На барже было страшно тесно. Мы только стоять могли, сесть нельзя было. Какая-то женщина все меня по голове гладила и плакала. Я уже не плакала, а только дрожала. Как сейчас помню, будто от холода, а день очень теплый был…
В Ялте на пристани меня вдруг встретил папа. Я закричала и в грудь ему уткнулась. Он был какой-то солдатский, незнакомый, но это был папа большой, сильный.
А мамы у нас уже больше не было.
И мы целый вечер и даже ночью ходили по набережной и потом по пляжу и ели сливы. С папой я даже моря не боялась.
Папа утром должен был снова отправиться в часть. Он отпросился на день нас с мамой встретить, а встретил только меня.
Я на гальке спала, голову ему на колени положила, он шинелью меня прикрыл. Я сначала на звезды смотрела, на море, темное, страшное, я не хотела смотреть… его подбородок видела, он о чем-то долго-долго думал, он не спал, я знаю, он только меня баюкал…
А утром я его провожала. Как большая. Я сказала, чтобы он шел биться с врагом. Хотела его поцеловать, на цыпочки привстала и никак достать не могла. А он опять о чем-то задумался. Потом ко мне нагнулся и даже от земли приподнял. А кругом толкотня… военные, женщины, дети… многие плачут и все торопятся…
И папа уехал. Я была уверена, что он может любого врага пополам сломать, потому что он очень рассердился. А так он добрый был, как никто.
Три дня я в Ялте жила, нас никак не отправляли. И письмо мне туда пришло, треугольничком сложенное… страшное письмо.
Папа мой геройски погиб, защищая Родину.
Я не плакала, несла это письмо, словно боялась уронить, и пришла на то самое место, где на коленях у папы спала. Села спиной к морю, которое маму отняло, и стала думать о папе. И никак я представить себе не могла, что папы больше нет. Не могла я этому поверить, потому что он был такой хороший и большой.
А потом меня отдали в детский дом. Я никогда не ела грибов, мама их не любила, а тут сразу заставили есть грибы, они были большие, плавали в супе, как медузы какие… Я их не ела, а меня дразнили: мамина дочка. А я уже никакая мамина дочка не была, не было у меня больше мамы… а в то, что папы у меня больше нет, я не верила.
А потом поверила… Много лет прошло… Я уже об Арктике мечтала и десятый класс в детдоме кончала. Нас первых оставили в детдоме до десятого класса учиться. Мы об этом письмо писали… А раньше после седьмого класса уходили в техникумы, в училища или на работу…
А я не только моря, даже реки боялась. Никогда не купалась, на лодке не плавала, по мосту шла — вниз не смотрела.
Боязнь эта у меня только и осталась от прошлого… Мама, папа — это непостижимо давно было и как в тумане… на море и ночью… звезды и подбородок папин виден… и солдатское что-то в папе…
А я уже большая стала, училась на метеоролога. Если страх свой перед морем не пересилю, решила в горах на метеостанции жить. Но хотела в Арктику. Мне еще в детстве Арктика и Артек созвучными казались… И тогда ночью на пляже я папе Арктику пообещала…
Исполнилось мне восемнадцать лет. Может быть, другие меня еще девчонкой считали, но я себя первый раз в жизни взрослой почувствовала. Я должна была участвовать в выборах в Верховный Совет… И была очень горда, что меня на агитпункт помогать взяли.
Списки проверять… Может быть, кому это и скучно, а мне… Я за каждым именем старалась человека представить. Фамилии всякие, и простые и замысловатые, многие по нескольку раз встречались. Мне интересно стало, есть ли у кого такая же, как у меня, фамилия. Ведь у меня Грибовых родственников никого не было.
Посмотрела я и ахнула. Глазам не верю! Потом туманом их застлало, ничего прочитать не могу. Наконец, догадалась платком их вытереть.
Грибов! Давыд Александрович!
Как папа!..
А сердце у меня колотится, будто я стометровку пробежала.
Смотрю год рождения. 1901-й… Как у папы!.. И город, в котором он родился, — Киев!..
Я плакать.
Тут девушка-агитатор, которая на квартиру к Грибовым ходила, рассказала мне, что Грибов этот женат… Значит, на чужой женщине женился!.. И что сын у них есть взрослый, ее сын, и тоже голосовать должен!
Как же так? Он меня в Ялте встречал, по берегу мы ходили, сливы ели, как сейчас помню… я у него на коленях спала, он м о й папа, самый лучший, самый сильный, самый добрый!.. Как же он мог, если жив остался, меня в детдоме не найти, с другой семьей жить и обо мне не вспомнить!
Вот, поверьте мне, то, что я в следующую ночь пережила, подушку с обеих сторон слезами вымочив, было страшнее всего, что я помнила… страшнее моря.
Не мог так мой папа поступить, а по списку это он был!
С опухшими красными глазами пришла я на агитпункт и попросилась на букву «г» списки проверять.
Сидела и голову от списков оторвать боялась. Только когда фамилию называли чужую, я поднимала глаза.
Не пришел он в тот день… Агитаторша к нему на квартиру ходила, напоминала, что отметиться надо… А я не пошла с ней, гордая была…
На второй день я над тем же списком на букву «г» сидела и опять головы не поднимала, все боялась, что увижу его, большого, русокудрого, светлоглазого, веселого, как прежде, молодого… Иным ведь я его не представляла…
И чем больше я о нем думала, чем больше слезами сердце мое заливалось, тем больше теряла я веру в человека. Если даже о н мог так поступить, то… И махнула я рукой на весь мир… По крайней мере так мне казалось.
— Грибов, Давыд Александрович. Отметьте, пожалуйста. Вот паспорт.
Голос какой-то чужой, незнакомый. Или я его совсем забыла?
Вскинула я голову и встретилась с его глазами, темными… Почему темными?
Передо мной стоял худощавый человек среднего роста, совсем не под косяк… с чужим, незнакомым лицом.
Не он!
— Что это, девушка, вы так улыбаетесь? — это он меня спросил.
А я почему-то ему руку жму.
— Да вы что это, девушка? Почему плачете?
А я говорю ему:
— Спасибо вам… — и паспорт отдаю, и снова благодарю.
Удивленный, он ушел и все оглядывался.
А для меня словно все иным стало вокруг. Что-то изменилось во мне… Я уже другой была, когда бюллетень опускала.
Я потом много думала — себя мне было жаль в ту страшную ночь, себя, оставленную в детдоме, забытую отцом, или е г о, большого, самого доброго, самого благородного, который не мог бы так поступить?
Мне стыдно было… Ведь все-таки лучше бы было, если бы он жив был!
Да, лучше! Но если б он жил, он был бы прежним, каким я его любила и люблю, до сих пор люблю, и нет на свете никого лучше его!
Я будто с ним повстречалась снова, снова будто у него на коленях головой лежала… и моря больше не боялась.
Я не знаю, как врачи это объяснят, только не стало у меня с тех пор моребоязни… Сначала я по реке на лодке стала кататься, а потом без всякого страха в Арктику поехала. И вот уже сколько лет здесь…
Марина кончила и снова зарделась.
— Я не знаю, почему все это рассказала… — оправдывалась она.
— И хорошо, что рассказала, — заметил капитан. — Иной раз в жизни многое и понятнее и легче будет, если с другими поделишься… Вот ведь как выборы в жизнь человека вошли! Это, пожалуй, поможет мне еще про выборы рассказать. Совсем другое… Да так и должно у нас быть.
И капитан рассказал про далекий северный берег, про старого охотника и знаменитого летчика, про полярную ночь…
В кают-компании собрались в последний раз. Завтра — Белое море, хлопоты перед окончанием арктического рейса, завтра уже не до рассказов…
Особенно людно было сегодня в кают-компании. Не всем хватило обитых кожей старинных стульев. Кое-кому пришлось подпирать спиной переборки с деревянными панелями.
Много я слышал здесь рассказов о мужестве, силе, храбрости, о находчивости, даже о небывалом страхе, о подвиге, о дружбе и любви, коммунистической совести, о необычных буднях в ледовом краю…
— Ну, как это полагается, напоследок надобно рассказать о чем-нибудь самом большом, что только с человеком случилось… Кто бы нам об этом рассказал? — обратился к присутствующим капитан.
Моряки и полярники жались, никто не решался брать на себя "рассказ о самом большом"…
И вдруг Марина сказала, что хочет рассказать о самом большом потрясении, какое перенесла в жизни.
Я видел ее и раньше, но она никогда ничего не говорила.
Маленькая, застенчивая, с порывистыми движениями южанки, с приятными мелкими чертами смуглого лица, темноволосая, но со светлыми глазами, ясными и быстрыми…
И вот теперь Марина решилась. Она решилась и, должно быть, сама испугалась, зарделась вся. Стала говорить, невольно помогая себе руками.
— Раньше я никогда бы не поверила, что могу вот так с вами плыть на корабле по Баренцову морю… Я боялась моря, страшно боялась… я даже не могу передать, как я его боялась. У нас в детском доме все девочки были как на подбор, хотели на самое что ни на есть трудное пойти, в горы… или в степь… А я в Арктику давно решила. Всем сказала, а сама даже не знала, как я смогу в Арктику попасть, если моря боюсь. Говорят, какой-то знаменитый летчик боялся высоты. Но у него была такая воля, что он заставил себя стать знаменитым летчиком. У меня, конечно, никакой воли не было, я просто хотела… нравилось мне в Арктике, в снегах… тишина… У меня кровать у окошка стояла, я ночью выглядывала и представляла, что уже в Арктике. Только, конечно, для Арктики я не годилась.
А моря бояться я стала вот почему. Я была в Артеке совсем еще маленькой, самой там младшей… А папа с мамой из Москвы приехали отдыхать к родным в Одессу. Какое тогда лето было хорошее!.. И вдруг война. Даже страшно вспомнить. У нас рядом с Артеком что-то было, не знаю, но только немецкие бомбы все на наш Артек сыпались. Мне так жалко было Артек, что я плакала. Потом нас, детей, отправили в Одессу. Меня встречала мама, перепуганная, суетливая, шумная, а папа даже не поехал в Москву, в Одессе в военкомат явился. У меня папа замечательный был, я его даже больше мамы любила. Большой-большой, под самый косяк двери. И добрый. Мама черная была, а папа светлый. У меня его глаза. Он был самый красивый, самый лучший. Я так была уверена. Я очень плакала, что он меня не встретил.
Потом очень плохо было в Одессе. Пожары… гарью пахло… Мы с мамой кирпичи помогали разбирать… На носилках людей проносили… И все время воздушные тревоги. Железные дороги никуда не везли. Везде были немцы. Только море наше было.
В Одессе должны были одни герои остаться, а нас всех, много тысяч человек, погрузили на красивые теплоходы: «Ленин» и «Буденный». Мне очень нравилось по палубе бегать. Люди кричали: "Девочка! Как тебе не стыдно? Тут такое вокруг, а ты…" А мне спать не хотелось. Мы из порта вышли ночью. Город горел. Было страшно и красиво…
Утром мы проходили мимо Севастополя. Гористый берег — зубцами… Небо было все в клубочках дыма. Это очень стреляли с наших военных кораблей. Немецкие самолеты «юнкерсы» сбрасывали бомбы или торпеды, не знаю. Только я сама видела, как теплоход, который шел перед нами, взорвался… Как игрушечный, далеко-далеко… покрылся дымом — и не стало его…
А потом и в наш корабль мина попала. Я так кричала, что не слышала даже взрыва. Куда ни взгляну — везде огонь. И мамы нигде нет… Потом кто-то, я не знаю кто, схватил меня, напялил на меня что-то пробковое и стал с палубы сталкивать. Я визжала, брыкалась, мне очень страшно было, а он все-таки выбросил меня за борт. Многое я забыла, а этой минуты забыть не могу. На воде плыву, почти рядом борт корабля, высокий, как стена дома, только без окон… иллюминаторы кругленькие очень высоко… И развалился вдруг этот дом… одна стена в одну сторону, другая — в другую… Меня завертело в воде, я не знаю как… Это было самое страшное в моей жизни, а все-таки не самое страшное.
За нами следом баржи шли, тоже с людьми. Они стали подбирать из воды кого могли… Говорят, из всех тысяч человек только двести подобрали. Ну и меня…
А мамочки моей не подобрали. Не было нигде ее. Она, наверное, полная, растрепанная, бегала по палубе, шумела, все меня искала, пока… Ой, не буду вспоминать.
На барже было страшно тесно. Мы только стоять могли, сесть нельзя было. Какая-то женщина все меня по голове гладила и плакала. Я уже не плакала, а только дрожала. Как сейчас помню, будто от холода, а день очень теплый был…
В Ялте на пристани меня вдруг встретил папа. Я закричала и в грудь ему уткнулась. Он был какой-то солдатский, незнакомый, но это был папа большой, сильный.
А мамы у нас уже больше не было.
И мы целый вечер и даже ночью ходили по набережной и потом по пляжу и ели сливы. С папой я даже моря не боялась.
Папа утром должен был снова отправиться в часть. Он отпросился на день нас с мамой встретить, а встретил только меня.
Я на гальке спала, голову ему на колени положила, он шинелью меня прикрыл. Я сначала на звезды смотрела, на море, темное, страшное, я не хотела смотреть… его подбородок видела, он о чем-то долго-долго думал, он не спал, я знаю, он только меня баюкал…
А утром я его провожала. Как большая. Я сказала, чтобы он шел биться с врагом. Хотела его поцеловать, на цыпочки привстала и никак достать не могла. А он опять о чем-то задумался. Потом ко мне нагнулся и даже от земли приподнял. А кругом толкотня… военные, женщины, дети… многие плачут и все торопятся…
И папа уехал. Я была уверена, что он может любого врага пополам сломать, потому что он очень рассердился. А так он добрый был, как никто.
Три дня я в Ялте жила, нас никак не отправляли. И письмо мне туда пришло, треугольничком сложенное… страшное письмо.
Папа мой геройски погиб, защищая Родину.
Я не плакала, несла это письмо, словно боялась уронить, и пришла на то самое место, где на коленях у папы спала. Села спиной к морю, которое маму отняло, и стала думать о папе. И никак я представить себе не могла, что папы больше нет. Не могла я этому поверить, потому что он был такой хороший и большой.
А потом меня отдали в детский дом. Я никогда не ела грибов, мама их не любила, а тут сразу заставили есть грибы, они были большие, плавали в супе, как медузы какие… Я их не ела, а меня дразнили: мамина дочка. А я уже никакая мамина дочка не была, не было у меня больше мамы… а в то, что папы у меня больше нет, я не верила.
А потом поверила… Много лет прошло… Я уже об Арктике мечтала и десятый класс в детдоме кончала. Нас первых оставили в детдоме до десятого класса учиться. Мы об этом письмо писали… А раньше после седьмого класса уходили в техникумы, в училища или на работу…
А я не только моря, даже реки боялась. Никогда не купалась, на лодке не плавала, по мосту шла — вниз не смотрела.
Боязнь эта у меня только и осталась от прошлого… Мама, папа — это непостижимо давно было и как в тумане… на море и ночью… звезды и подбородок папин виден… и солдатское что-то в папе…
А я уже большая стала, училась на метеоролога. Если страх свой перед морем не пересилю, решила в горах на метеостанции жить. Но хотела в Арктику. Мне еще в детстве Арктика и Артек созвучными казались… И тогда ночью на пляже я папе Арктику пообещала…
Исполнилось мне восемнадцать лет. Может быть, другие меня еще девчонкой считали, но я себя первый раз в жизни взрослой почувствовала. Я должна была участвовать в выборах в Верховный Совет… И была очень горда, что меня на агитпункт помогать взяли.
Списки проверять… Может быть, кому это и скучно, а мне… Я за каждым именем старалась человека представить. Фамилии всякие, и простые и замысловатые, многие по нескольку раз встречались. Мне интересно стало, есть ли у кого такая же, как у меня, фамилия. Ведь у меня Грибовых родственников никого не было.
Посмотрела я и ахнула. Глазам не верю! Потом туманом их застлало, ничего прочитать не могу. Наконец, догадалась платком их вытереть.
Грибов! Давыд Александрович!
Как папа!..
А сердце у меня колотится, будто я стометровку пробежала.
Смотрю год рождения. 1901-й… Как у папы!.. И город, в котором он родился, — Киев!..
Я плакать.
Тут девушка-агитатор, которая на квартиру к Грибовым ходила, рассказала мне, что Грибов этот женат… Значит, на чужой женщине женился!.. И что сын у них есть взрослый, ее сын, и тоже голосовать должен!
Как же так? Он меня в Ялте встречал, по берегу мы ходили, сливы ели, как сейчас помню… я у него на коленях спала, он м о й папа, самый лучший, самый сильный, самый добрый!.. Как же он мог, если жив остался, меня в детдоме не найти, с другой семьей жить и обо мне не вспомнить!
Вот, поверьте мне, то, что я в следующую ночь пережила, подушку с обеих сторон слезами вымочив, было страшнее всего, что я помнила… страшнее моря.
Не мог так мой папа поступить, а по списку это он был!
С опухшими красными глазами пришла я на агитпункт и попросилась на букву «г» списки проверять.
Сидела и голову от списков оторвать боялась. Только когда фамилию называли чужую, я поднимала глаза.
Не пришел он в тот день… Агитаторша к нему на квартиру ходила, напоминала, что отметиться надо… А я не пошла с ней, гордая была…
На второй день я над тем же списком на букву «г» сидела и опять головы не поднимала, все боялась, что увижу его, большого, русокудрого, светлоглазого, веселого, как прежде, молодого… Иным ведь я его не представляла…
И чем больше я о нем думала, чем больше слезами сердце мое заливалось, тем больше теряла я веру в человека. Если даже о н мог так поступить, то… И махнула я рукой на весь мир… По крайней мере так мне казалось.
— Грибов, Давыд Александрович. Отметьте, пожалуйста. Вот паспорт.
Голос какой-то чужой, незнакомый. Или я его совсем забыла?
Вскинула я голову и встретилась с его глазами, темными… Почему темными?
Передо мной стоял худощавый человек среднего роста, совсем не под косяк… с чужим, незнакомым лицом.
Не он!
— Что это, девушка, вы так улыбаетесь? — это он меня спросил.
А я почему-то ему руку жму.
— Да вы что это, девушка? Почему плачете?
А я говорю ему:
— Спасибо вам… — и паспорт отдаю, и снова благодарю.
Удивленный, он ушел и все оглядывался.
А для меня словно все иным стало вокруг. Что-то изменилось во мне… Я уже другой была, когда бюллетень опускала.
Я потом много думала — себя мне было жаль в ту страшную ночь, себя, оставленную в детдоме, забытую отцом, или е г о, большого, самого доброго, самого благородного, который не мог бы так поступить?
Мне стыдно было… Ведь все-таки лучше бы было, если бы он жив был!
Да, лучше! Но если б он жил, он был бы прежним, каким я его любила и люблю, до сих пор люблю, и нет на свете никого лучше его!
Я будто с ним повстречалась снова, снова будто у него на коленях головой лежала… и моря больше не боялась.
Я не знаю, как врачи это объяснят, только не стало у меня с тех пор моребоязни… Сначала я по реке на лодке стала кататься, а потом без всякого страха в Арктику поехала. И вот уже сколько лет здесь…
Марина кончила и снова зарделась.
— Я не знаю, почему все это рассказала… — оправдывалась она.
— И хорошо, что рассказала, — заметил капитан. — Иной раз в жизни многое и понятнее и легче будет, если с другими поделишься… Вот ведь как выборы в жизнь человека вошли! Это, пожалуй, поможет мне еще про выборы рассказать. Совсем другое… Да так и должно у нас быть.
И капитан рассказал про далекий северный берег, про старого охотника и знаменитого летчика, про полярную ночь…
ПОЛЯРНОЙ НОЧЬЮ
 Черное звездное небо обещало мороз.
"Замешкался я, — подумал Федот Иванович, глядя на Большую Медведицу, — дело к полудню идет. Ишь куда ковш запрокинуло. Ну, да ничего, успею…"
Старый охотник свистнул Таймыра, могучего широкогрудого пса, и стал прилаживать лыжи.
Дверь Федот Иванович запирать не стал, — а вдруг какой путник забредет? У печки заботливо оставлена вязанка дров — выброшенный морем плавник. Лампа заправлена керосином. В сенях на видном месте висит мороженый медвежий окорок — любому гостю доброе угощение.
— Песцы дверь не откроют, а человеку — хлеб да соль, — сказал вслух Федот Иванович.
Таймыр поднял умные глаза.
Старый охотник часто говорил с самим собой или с собакой — привык за годы одинокого житья-бытья: ведь после смерти жены он остался совсем один. Правда, есть у него сыновья. Бравые ребята. Только разбрелись они по всей стране…
Приладив лыжи, охотник зашагал вперед. В скупом свете звезд снег казался серым.
Федот Иванович с радостью думал о предстоящей беседе с людьми на полярной станции, куда он держал путь. Может быть, и о сынах что услышит. О старшем, об Александре, непременно услышит. Кто не знает полярного капитана Фомина?
По дороге охотник один за другим осмотрел пять капканов. В трех оказались отменные песцы.
Внезапно подул сильный ветер. Он стал плотным, смешавшись с колючим снегом. Звезды исчезли.
— Это еще не пурга! Какая это пурга! Это только поземка, — бормотал Федот Иванович.
И в памяти старого охотника встала другая пурга, которая едва не стоила ему жизни. Закоченевшего, обмороженного нашли его в снегу чукчи и отогрели в своей яранге. Бежал он тогда из сибирской ссылки в тундру.
С тех пор Федот Иванович и остался жить на Севере, крепко полюбив этот суровый край.
А в Тамбовскую губернию незачем ему было возвращаться, никого там не осталось. Отца вместе с ним арестовали — сообща они помещику красного петуха пустили, ну, а женить Федота не успели. Женился он тут, на чукчанке. Хорошая жена была…
Отец так и умер на каторге. Сын Иван уж больно с ним схож. Знал бы дед, кем его внук стал, — офицером. Дед офицеров одних лишь ведал царских, а тут — свой офицер. В Отечественную войну сразу же на фронт ушел. Добрый охотник был. Лисиц чернобурых немало принес. И ни одной шкурки не испортил — всегда в глаз… Снайпер из Ивана получился отличный…
— А пурга-то, видать, разыграется, как бы не задержала, — с тревогой поглядывая на небо, перебил сам себя Федот Иванович.
Ветер выл, стонал, ревел, стараясь свалить охотника с ног. Конечно, в другое время Федот остановился бы, зарылся бы в снег, чтобы проспать двое суток, а там и отправиться восвояси, но теперь… Слишком важное было у Федота Ивановича дело.
Федот Иванович шел за сто десять километров на ближнюю полярную станцию выбирать депутата в Верховный Совет Советского Союза. Особое приглашение еще в прошлом месяце доставил охотнику знакомый чукча из оленеводческого колхоза.
Ледяной ветер останавливал дыхание. Усы смерзлись. Глаза не видели ничего, даже Таймыра. Казалось, снег ревет вокруг, словно море в шторм.
"Вот как, Федот Иванович, старый ты охотник, знаешь ты тундру, хвалишься, а как бы тебе не просчитаться!
Нет, придется, видно, остановиться, не то совсем не дойдешь".
С тяжелым сердцем забрался Федот Иванович в малицу, как в спальный мешок. Таймыр прилег подле хозяина.
Согреваясь своим дыханием, старый охотник размышлял: "Что бы ни случилось, а должен ты, Федот Иванович, в общей радости участие принять, вместе со всей страной, со всеми тремя сыновьями…"
Всех троих провожал когда-то Федот Иванович на Большую Землю, чтобы учились, вышли бы в люди охотничьи дети, крестьянские внуки. Самый младший, Алексей, стал летчиком. Дед и не думал, поди, что люди по воздуху летать будут…
"Идти, идти, беспременно идти… сколько времени пропало", — с ужасом думал старый охотник, выбираясь из сугроба.
Ветер гнал снежные волны. Они разбивались о землю, как штормовой прибой о берег. От одного удара такой волны могло занести с головой.
Вместе со снегом холод отчаяния проползал под мех. Но Федот Иванович все-таки шел…
"Опоздать? В такой день? Перед людьми-то позор какой выйдет… А еще толковать с ними хотел…"
Но остановиться пришлось. Снова зарылись они с Таймыром в снег. Федот Иванович все вычислял, сколько часов пробыл он в пути, сколько еще осталось ему, чтобы не опоздать. И получалось, что ждать совсем нельзя.
К счастью, пурга начала утихать. Ударил мороз. Черная борода Федота Ивановича, в которой не было ни одного седого волоса, поседела, заиндевела. Он побежал на лыжах, не замечая холода. Лишь бы успеть до вечера… до полуночи.
Как быстро поворачивается ковш! Ничем его не остановишь!..
Словно состязаясь со временем, по неумолимо несущейся с запада на восток земле бежал человек, старый охотник Федот Иванович.
Несмотря на поздний ночной час, на полярной станции было оживление. В жарко натопленных уютных комнатах и просторной кают-компании, кроме зимовщиков, толпились пассажиры и экипаж только что прилетевшего с востока самолета.
— Только заправка! И в полет! — говорил высокий плечистый летчик Матвей Баранов, хорошо известный по всей Арктике.
— Задержу совсем немного, — отозвался начальник аэропорта. — Я ведь тоже с тобой полечу, но сперва должен вскрыть урны, подсчитать бюллетени.
Начальник аэропорта посмотрел на часы. Стрелка медленно приближалась к двенадцати часам.
— Вроде как Новый год встречаем, — сказал кто-то.
— Почему ты проформу соблюдаешь? Только опытный перелет задерживаешь! — не унимался летчик.
— Подожди, Матвей. Одного у нас нет… Не знаю, что и думать…
— Вот как? — Баранов сразу стал серьезным.
Хлопнула дверь. В комнату вошел начальник полярной станции. Он сбросил с себя меховую куртку. Его худощавое лицо с выступающими скулами было печально.
— Нет… Никого не видно. Все глаза проглядел.
— Может быть, он в стойбище проголосовал?
— Что ты! Обязательно к нам пойдет. Он в оленеводческом колхозе взял удостоверение на право голосования!
— Время истекло, — прервал начальник аэропорта, — прошу членов комиссии…
— Бортмеханик, иди готовь машины! — скомандовал Баранов.
Снова хлопнула дверь. Через кают-компанию пробежал радист, потрясая в воздухе текстом радиограммы о результатах голосования, которую нужно было передать окружной избирательной комиссии.
— И о нас сообщи, что вылетаем! — крикнул ему Баранов, поднимаясь из-за стола. Он потянулся всем своим крепко сбитым телом и обернулся.
В дверях стояла заснеженная, сильно заиндевевшая фигура человека.
— Что за дед? — спросил Баранов.
Человек шагнул.
— Сколько времени? — прохрипел он. — Мне бы голос подать… — охотник умоляюще взглянул на присутствующих.
Все смущенно переглянулись. Не получив ответа, Федот Иванович еще раз беспомощно оглядел всех, потом грузно опустился на пододвинутый стул. Склонив лицо вниз, он стал сосредоточенно отламывать ледышки на бороде.
— Совсем немного опоздал, дядя Федот, — говорил метеоролог. — Ну, прямо на несколько минут. А мы тебя так ждали…
Вошел начальник аэропорта и застыл с бумажкой в руках.
— Пришел? — словно не веря глазам, воскликнул он.
Федот Иванович еще ниже склонил голову. С его оттаивающей бороды капало на пол.
Никто не утешал старика. В молчании окружающих было понимание, сочувствие…
Старый охотник поднял голову.
— Вот ведь какое дело, опоздал, стало быть. Не догнать вчерашний день-то. Не потекут реки вспять… — и он опять замолчал.
Баранов откашлялся.
Федот Иванович горько усмехнулся:
— Дал промаху, конечно, неправ…
Баранов посмотрел на часы, потом на дверь.
— Реки вспять потекут, — сказал он уверенно. — И Енисей и Обь. Есть, батя, такой проект… В южные моря будут эти реки впадать.
Охотник недоверчиво покачал головой.
— Все шутишь, сынок…
— Нет, отец. Хочешь, догоним вчерашний день, ухватим его за хвост?
— Это как же?
— А так, отец. Пока бортмеханик вернется, слушай: земля вертится с запада на восток. На нашей семидесятой параллели скорость у нее около шестисот километров в час.
— Ну, ну… Ты это к чему?
— Вот ты прикинь. Если на самолете с той же скоростью в обратную сторону лететь, солнце как будто остановится.
— Должно, что так…
— А если быстрее! Если обогнать землю, что тогда? Тогда, друг, зашедшее солнце с запада подниматься начнет. Понимаешь?
— Ну?
— А вот у моего самолета, дед, скорость больше, чем у земли! Вот и представь, что произойдет, если ты на нем будешь? А? — И Баранов лукаво подмигнул старому охотнику.
— У вас время назад пойдет! — крикнул радист.
— А ведь верно, — откликнулся начальник аэропорта. — В Архангельск они прилетят в одиннадцать часов вечера. А у нас уже сейчас первый час. Уступаю Фомину свое место!
Федот Иванович стоял посредине комнаты растерянный. Вошел бортмеханик.
— А теперь, отец, бежим к самолету, — гулким басом скомандовал Баранов, — каждая минута дорога!
— Бежать… Это я могу. Я всю дорогу бежал.
И они скрылись за дверью.
— Да, дед в Архангельске проголосует! — хлопнул ладонью по столу метеоролог.
Дверь снова открылась. На миг просунулась черная борода.
— Вы тут того… за Таймыром моим присмотрите… Он ладный.
И дверь захлопнулась.
— Не беспокойся, отец! — крикнул начальник полярной станции, одеваясь, чтобы пойти за собакой. Он вышел.
Оставшиеся подошли к окну. Издалека доносился лай. Вдруг словно лавина камня рухнула сверху, потом с улицы донесся рокот несмолкаемого грома, странный в эту морозную, полярную ночь.
За окном кабины заревели реактивные двигатели могучего самолета Баранова.
— Неужто летим? — спросил Федот Иванович.
Штурман кивнул головой. Он склонился над картой, нанося курс. Перед ним на стенке виднелись часы со светящимся циферблатом. Они показывали не первый час, а шестнадцать часов с небольшим. Значит, шел еще предыдущий день…
— Вот оно, архангельское время! — крикнул штурман.
"Успеем ли?" — думал Федот Иванович.
В окне ничего нельзя было увидеть, кроме звезд, среди них особенно ярко выделялся знаменитый ковш Большой Медведицы — стрелка небесных часов старого охотника.
Деловито ревели двигатели, шли часы. Вернее, шли часы штурмана, а звездные часы Федота Ивановича… стояли. Более того, стрелка их передвинулась назад.
Штурманские часы показывали двадцать три часа, столько же показывала и Большая Медведица.
Самолет шел на посадку, машина остановилась. В дверях показалась крепкая фигура летчика, победившего время.
Черное звездное небо обещало мороз.
"Замешкался я, — подумал Федот Иванович, глядя на Большую Медведицу, — дело к полудню идет. Ишь куда ковш запрокинуло. Ну, да ничего, успею…"
Старый охотник свистнул Таймыра, могучего широкогрудого пса, и стал прилаживать лыжи.
Дверь Федот Иванович запирать не стал, — а вдруг какой путник забредет? У печки заботливо оставлена вязанка дров — выброшенный морем плавник. Лампа заправлена керосином. В сенях на видном месте висит мороженый медвежий окорок — любому гостю доброе угощение.
— Песцы дверь не откроют, а человеку — хлеб да соль, — сказал вслух Федот Иванович.
Таймыр поднял умные глаза.
Старый охотник часто говорил с самим собой или с собакой — привык за годы одинокого житья-бытья: ведь после смерти жены он остался совсем один. Правда, есть у него сыновья. Бравые ребята. Только разбрелись они по всей стране…
Приладив лыжи, охотник зашагал вперед. В скупом свете звезд снег казался серым.
Федот Иванович с радостью думал о предстоящей беседе с людьми на полярной станции, куда он держал путь. Может быть, и о сынах что услышит. О старшем, об Александре, непременно услышит. Кто не знает полярного капитана Фомина?
По дороге охотник один за другим осмотрел пять капканов. В трех оказались отменные песцы.
Внезапно подул сильный ветер. Он стал плотным, смешавшись с колючим снегом. Звезды исчезли.
— Это еще не пурга! Какая это пурга! Это только поземка, — бормотал Федот Иванович.
И в памяти старого охотника встала другая пурга, которая едва не стоила ему жизни. Закоченевшего, обмороженного нашли его в снегу чукчи и отогрели в своей яранге. Бежал он тогда из сибирской ссылки в тундру.
С тех пор Федот Иванович и остался жить на Севере, крепко полюбив этот суровый край.
А в Тамбовскую губернию незачем ему было возвращаться, никого там не осталось. Отца вместе с ним арестовали — сообща они помещику красного петуха пустили, ну, а женить Федота не успели. Женился он тут, на чукчанке. Хорошая жена была…
Отец так и умер на каторге. Сын Иван уж больно с ним схож. Знал бы дед, кем его внук стал, — офицером. Дед офицеров одних лишь ведал царских, а тут — свой офицер. В Отечественную войну сразу же на фронт ушел. Добрый охотник был. Лисиц чернобурых немало принес. И ни одной шкурки не испортил — всегда в глаз… Снайпер из Ивана получился отличный…
— А пурга-то, видать, разыграется, как бы не задержала, — с тревогой поглядывая на небо, перебил сам себя Федот Иванович.
Ветер выл, стонал, ревел, стараясь свалить охотника с ног. Конечно, в другое время Федот остановился бы, зарылся бы в снег, чтобы проспать двое суток, а там и отправиться восвояси, но теперь… Слишком важное было у Федота Ивановича дело.
Федот Иванович шел за сто десять километров на ближнюю полярную станцию выбирать депутата в Верховный Совет Советского Союза. Особое приглашение еще в прошлом месяце доставил охотнику знакомый чукча из оленеводческого колхоза.
Ледяной ветер останавливал дыхание. Усы смерзлись. Глаза не видели ничего, даже Таймыра. Казалось, снег ревет вокруг, словно море в шторм.
"Вот как, Федот Иванович, старый ты охотник, знаешь ты тундру, хвалишься, а как бы тебе не просчитаться!
Нет, придется, видно, остановиться, не то совсем не дойдешь".
С тяжелым сердцем забрался Федот Иванович в малицу, как в спальный мешок. Таймыр прилег подле хозяина.
Согреваясь своим дыханием, старый охотник размышлял: "Что бы ни случилось, а должен ты, Федот Иванович, в общей радости участие принять, вместе со всей страной, со всеми тремя сыновьями…"
Всех троих провожал когда-то Федот Иванович на Большую Землю, чтобы учились, вышли бы в люди охотничьи дети, крестьянские внуки. Самый младший, Алексей, стал летчиком. Дед и не думал, поди, что люди по воздуху летать будут…
"Идти, идти, беспременно идти… сколько времени пропало", — с ужасом думал старый охотник, выбираясь из сугроба.
Ветер гнал снежные волны. Они разбивались о землю, как штормовой прибой о берег. От одного удара такой волны могло занести с головой.
Вместе со снегом холод отчаяния проползал под мех. Но Федот Иванович все-таки шел…
"Опоздать? В такой день? Перед людьми-то позор какой выйдет… А еще толковать с ними хотел…"
Но остановиться пришлось. Снова зарылись они с Таймыром в снег. Федот Иванович все вычислял, сколько часов пробыл он в пути, сколько еще осталось ему, чтобы не опоздать. И получалось, что ждать совсем нельзя.
К счастью, пурга начала утихать. Ударил мороз. Черная борода Федота Ивановича, в которой не было ни одного седого волоса, поседела, заиндевела. Он побежал на лыжах, не замечая холода. Лишь бы успеть до вечера… до полуночи.
Как быстро поворачивается ковш! Ничем его не остановишь!..
Словно состязаясь со временем, по неумолимо несущейся с запада на восток земле бежал человек, старый охотник Федот Иванович.
Несмотря на поздний ночной час, на полярной станции было оживление. В жарко натопленных уютных комнатах и просторной кают-компании, кроме зимовщиков, толпились пассажиры и экипаж только что прилетевшего с востока самолета.
— Только заправка! И в полет! — говорил высокий плечистый летчик Матвей Баранов, хорошо известный по всей Арктике.
— Задержу совсем немного, — отозвался начальник аэропорта. — Я ведь тоже с тобой полечу, но сперва должен вскрыть урны, подсчитать бюллетени.
Начальник аэропорта посмотрел на часы. Стрелка медленно приближалась к двенадцати часам.
— Вроде как Новый год встречаем, — сказал кто-то.
— Почему ты проформу соблюдаешь? Только опытный перелет задерживаешь! — не унимался летчик.
— Подожди, Матвей. Одного у нас нет… Не знаю, что и думать…
— Вот как? — Баранов сразу стал серьезным.
Хлопнула дверь. В комнату вошел начальник полярной станции. Он сбросил с себя меховую куртку. Его худощавое лицо с выступающими скулами было печально.
— Нет… Никого не видно. Все глаза проглядел.
— Может быть, он в стойбище проголосовал?
— Что ты! Обязательно к нам пойдет. Он в оленеводческом колхозе взял удостоверение на право голосования!
— Время истекло, — прервал начальник аэропорта, — прошу членов комиссии…
— Бортмеханик, иди готовь машины! — скомандовал Баранов.
Снова хлопнула дверь. Через кают-компанию пробежал радист, потрясая в воздухе текстом радиограммы о результатах голосования, которую нужно было передать окружной избирательной комиссии.
— И о нас сообщи, что вылетаем! — крикнул ему Баранов, поднимаясь из-за стола. Он потянулся всем своим крепко сбитым телом и обернулся.
В дверях стояла заснеженная, сильно заиндевевшая фигура человека.
— Что за дед? — спросил Баранов.
Человек шагнул.
— Сколько времени? — прохрипел он. — Мне бы голос подать… — охотник умоляюще взглянул на присутствующих.
Все смущенно переглянулись. Не получив ответа, Федот Иванович еще раз беспомощно оглядел всех, потом грузно опустился на пододвинутый стул. Склонив лицо вниз, он стал сосредоточенно отламывать ледышки на бороде.
— Совсем немного опоздал, дядя Федот, — говорил метеоролог. — Ну, прямо на несколько минут. А мы тебя так ждали…
Вошел начальник аэропорта и застыл с бумажкой в руках.
— Пришел? — словно не веря глазам, воскликнул он.
Федот Иванович еще ниже склонил голову. С его оттаивающей бороды капало на пол.
Никто не утешал старика. В молчании окружающих было понимание, сочувствие…
Старый охотник поднял голову.
— Вот ведь какое дело, опоздал, стало быть. Не догнать вчерашний день-то. Не потекут реки вспять… — и он опять замолчал.
Баранов откашлялся.
Федот Иванович горько усмехнулся:
— Дал промаху, конечно, неправ…
Баранов посмотрел на часы, потом на дверь.
— Реки вспять потекут, — сказал он уверенно. — И Енисей и Обь. Есть, батя, такой проект… В южные моря будут эти реки впадать.
Охотник недоверчиво покачал головой.
— Все шутишь, сынок…
— Нет, отец. Хочешь, догоним вчерашний день, ухватим его за хвост?
— Это как же?
— А так, отец. Пока бортмеханик вернется, слушай: земля вертится с запада на восток. На нашей семидесятой параллели скорость у нее около шестисот километров в час.
— Ну, ну… Ты это к чему?
— Вот ты прикинь. Если на самолете с той же скоростью в обратную сторону лететь, солнце как будто остановится.
— Должно, что так…
— А если быстрее! Если обогнать землю, что тогда? Тогда, друг, зашедшее солнце с запада подниматься начнет. Понимаешь?
— Ну?
— А вот у моего самолета, дед, скорость больше, чем у земли! Вот и представь, что произойдет, если ты на нем будешь? А? — И Баранов лукаво подмигнул старому охотнику.
— У вас время назад пойдет! — крикнул радист.
— А ведь верно, — откликнулся начальник аэропорта. — В Архангельск они прилетят в одиннадцать часов вечера. А у нас уже сейчас первый час. Уступаю Фомину свое место!
Федот Иванович стоял посредине комнаты растерянный. Вошел бортмеханик.
— А теперь, отец, бежим к самолету, — гулким басом скомандовал Баранов, — каждая минута дорога!
— Бежать… Это я могу. Я всю дорогу бежал.
И они скрылись за дверью.
— Да, дед в Архангельске проголосует! — хлопнул ладонью по столу метеоролог.
Дверь снова открылась. На миг просунулась черная борода.
— Вы тут того… за Таймыром моим присмотрите… Он ладный.
И дверь захлопнулась.
— Не беспокойся, отец! — крикнул начальник полярной станции, одеваясь, чтобы пойти за собакой. Он вышел.
Оставшиеся подошли к окну. Издалека доносился лай. Вдруг словно лавина камня рухнула сверху, потом с улицы донесся рокот несмолкаемого грома, странный в эту морозную, полярную ночь.
За окном кабины заревели реактивные двигатели могучего самолета Баранова.
— Неужто летим? — спросил Федот Иванович.
Штурман кивнул головой. Он склонился над картой, нанося курс. Перед ним на стенке виднелись часы со светящимся циферблатом. Они показывали не первый час, а шестнадцать часов с небольшим. Значит, шел еще предыдущий день…
— Вот оно, архангельское время! — крикнул штурман.
"Успеем ли?" — думал Федот Иванович.
В окне ничего нельзя было увидеть, кроме звезд, среди них особенно ярко выделялся знаменитый ковш Большой Медведицы — стрелка небесных часов старого охотника.
Деловито ревели двигатели, шли часы. Вернее, шли часы штурмана, а звездные часы Федота Ивановича… стояли. Более того, стрелка их передвинулась назад.
Штурманские часы показывали двадцать три часа, столько же показывала и Большая Медведица.
Самолет шел на посадку, машина остановилась. В дверях показалась крепкая фигура летчика, победившего время.
НОВОГОДНИЙ ТОСТ
 Новый год! Бой часов Кремлевской башни, как поступь времени, размеренный, торжественный, бесконечно знакомый и все же волнующий…
Только что звенели бокалы, хлопали пробки бутылок, перекликались веселые голоса… Но бьют Кремлевские куранты — и все смолкает, как в предрассветный час.
На миг задумывается каждый.
Вот он завтрашний день, завтрашний год, грядущее!
Каково оно это грядущее, кто будет жить в нем?
Произнесут тосты. Поздравят друг друга с Новым годом и с новым счастьем…
А я хочу поздравить романтиков и искателей, тех, кто ищет новое в жизни, в науке, в счастье!
В дни моей юности страной романтиков, страной искателей была Арктика, страна нового и неизведанного, суровая и загадочная, непроходимая и притягивающая. Новая, она творила героев.
Почему?
Люди становились там героями или туда шли только герои?
А может быть, черты героя заложены в каждом советском человеке? Не потому ли обыкновенные юноши и девушки оказывались способными стать молодогвардейцами Краснодона, не потому ли исполинский подвиг совершил наш народ в дни Великой Отечественной войны, не потому ли строит он сейчас страну, которая завтра станет коммунистической? И не потому ли самые простые и скромные люди в арктических условиях совершают подвиги, которые становятся для них там нормой поведения, нормой жизни?
И мысленно в эту минуту я снова с людьми Арктики, которых узнал во время своих путешествий, снова я вместе со своими друзьями по арктическому плаванию…
Вспоминаю последние мили нашего пути. Я стою рядом с капитаном на мостике. В наступивших сумерках, в тихую погоду Борис Ефимович ведет корабль по протоке Северной Двины — Маймаксе.
В войну он был военным лоцманом и с тех пор не вызывал архангельцев на помощь, помня, что сам из старинной лоцманской семьи, в которой профессия эта переходила по наследству от прадедов к правнукам.
Только теперь я увидел, что "Георгий Седов" все же огромный морской пароход. Он величественно возвышался над береговыми домиками.
На судне заканчивалась уборка. Корабль принаряжался, чистился. От вчерашнего обледенения не осталось и следа.
Все встречные катера и речные пароходы гудками приветствовали нас.
Славный, заслуженный корабль! Он входил в родной порт, незаметно совершив много подвигов, поставив небывалые рекорды, обеспечив работу далеких полярных станций.
Корабль остановился на рейде против освещенных яркими огнями пристаней. Береговой катер подошел к нам. Пришла пора прощаться. На палубе стояли капитан Борис Ефимович, штурман Нетаев, радист, боцман и многие другие моряки. Тогда-то мы и дали слово вспомнить друг друга в новогодний час. Я сроднился с ними за этот рейс, который был так труден, хотя и казался им самой обычной будничной работой. Они любили рассказывать о подвигах других, но самим им никогда не пришло бы в голову назвать свою работу героической.
Я обнялся со своими друзьями:
— До свидания, товарищи! До свидания "Георгий Седов"?
Береговой катер отошел от морского странника. На высоком борту висел знакомый мне штормтрап — веревочная лестница с мокрыми внизу перекладинами, по которой так нелегко лезть в первый раз.
"Седов" дал прощальный гудок. Это, конечно, Борис Ефимович! Он и Нетаев на мостике, на котором началась и крепла их дружба, дружба двух советских моряков.
И вот я снова мысленно с ними, когда торжественно бьют, отмечая шаг времени, Кремлевские куранты, я снова с теми, кто прокладывает путь в будущее.
Поднимем же в новогодний час тост за будущее, вечное, отдаленное или близкое, всегда скрытое таинственной завесой времени, которую пробиваетсветом фантазии только мечта!
И поднимем тост за мечту, за мечту, приоткрывающую дверь в завтра, как бы приближающую к нашим глазам телескоп времени.
Тише, тише! Прислушайтесь!
Что же видим мы в чудесный телескоп мечты? Каково оно, будущее? Но нет! Не подручный инструмент оракула наш телескоп мечты, он ничего не предскажет, не предречет, он только покажет нам будущее таким, каким мы хотим его видеть, полные веры в него, каким оно представится нам, если мы знаем идущую вдаль дорогу науки, техники, человеческого общества, дорогу, которой идет Человек!
Разве он не будет похож на наших современников? Разве совсем другим будет Человек будущего, Человек нашей мечты?
Нет, не выдуманный это будет Человек, знакомы мы с ним, слышали о нем не раз, даже встречались с ним!
Молод будет этот Человек, молод, какого бы возраста ни был, молод потому, что сохранит знакомые нам черты тех, кто в наши дни поднимался во весь рост перед врагом, будучи молодогвардейцем или бойцом армии, кто не раздумывая отдал жизнь за Родину, за счастье уже не свое, а тех, кто будет жить, кто пойдет вместо него к коммунизму.
Молод будет этот Человек, и не только потому, что наука сумеет уберечь его волосы от седин, что складки твердой воли и энергии, а не морщины горькой усталости избороздят его лицо, не только потому, что будет он жить на Земле свои нормальные полтораста лет; молод будет наш грядущий Человек знакомым нам порывом к подвигу, который совершают, не замечая его, в сумерках ли арктических или антарктических будней или в зное унылых недавно степей, превращенных энтузиазмом молодости в золотистый комсомольский океан плодородия; молод будет этот Человек, какими бы знаниями и опытом жизни ни обладал, молод будет своей неистовой одержимостью, ведущей его через хребты и пустыни трудностей в даль исканий, молод знакомой нам страстностью искателя, ученого, созидателя, преобразующего природу, мир.
Мы знаем тебя, Человек будущего, мы встречали тебя среди лучших людей настоящего, среди героев войны и труда, среди моряков и полярников, среди ученых и инженеров, среди тех, кто выиграл кровавую схватку за жизнь ради того, чтобы в этой жизни выиграть еще одну схватку, схватку за мир. Мы знаем тебя, Человек будущего, и мы поднимаем тост за то, чтобы дорогие нам твои черты с невиданной яркостью проявились в обстановке завтрашнего дня!
Он твой, этот завтрашний день. Тебе будут служить могучие и умные машины, их будет больше чем сейчас, они будут быстрее двигаться, мгновенно вычислять, больше производить, но не в этом будет их коренное отличие от знакомого нам. Главное в том, что ими не нужно будет управлять!
Твои машины, Человек будущего, которые задуманы нами сейчас, будут регулировать и направлять сами себя, контролировать и проверять свои изделия, будут самостоятельно жить и работать, выполняя твою волю, один раз направленные твоей рукой. Ты будешь ходить среди них, машин и станков будущего, завтрашний Человек, умелый, образованный, способный разобраться в любом самодействующем механизме, зорко следя за их работой, настройкой, точностью. И в твои дни, будущий Человек, обычными станут самодействующие заводы, которые в распахнувшиеся сами собой ворота примут привезенное сырье, чтобы взамен погрузить на железнодорожные платформы готовые, проверенные без людей, смазанные и упакованные машины, будь то станок, телевизор или пишущая машинка, печатающая прямо с голоса…
Впрочем, железные ли дороги это будут? Может быть, и нет. Однако наряду с самыми совершенными новыми видами транспорта еще долго будут жить "стальные полосы прогресса", протянувшиеся из девятнадцатого через весь двадцатый век. Но рядом с ними или их продолжением протянутся, быть может, через моря и степи герметические трубы, похожие на гигантский газопровод, зарытые в землю или плавающие под водой, идеально прямые, не знающие ни поворотов, ни уклонов, ни подъемов, даже сопротивления воздуха внутри, если будет он удален. И будут по ним мчаться поезда, не только пассажирские экспрессы, а грузовые, товарные, но быстрые, как космические ракеты, будут мчаться, уничтожая старые представления о расстоянии. И замечательны они будут тем, что почти не потребуется энергии для передвижения таких поездов, как не нужна она летящему в безвоздушном пространстве искусственному Спутнику Земли, ибо трение качения при огромных скоростях ничтожно, а энергия разгона будет возвращена при торможении.
Пусть не таким будет транспорт будущего, одно можно сказать с уверенностью, он будет транспортом гигантских скоростей, уже завоеванных сегодня. И новый транспорт сделает людей, живущих далеко друг от друга, сплоченнее.
И более тесной семьей будут жить люди, да и не просто люди, но и народы. «Сдвинутся» континенты, безразлично чем соединенные межконтинентальными пассажирскими ракетами, метеор-самолетами или плавающими мостами-трубами. Жизнь людей будущего будет так же отличаться от нашей, как наше время автомобилей и самолетов от почтовой кареты, в которой путешествовал Радищев из Петербурга в Москву.
Более тесной семьей будут жить люди на Земле, но сами они не будут жить так скученно, как в былые, наши времена.
Еще дальше пойдут архитекторы, градостроители, в наши дни воздвигающие просторные, светлые кварталы зданий, разделенных не каменными колодцами дворов прошлого, а широкими зелеными скверами. В дни, когда воздух станет всеобщей трассой движения, когда каждый человек сможет подниматься на вертолетике и быстро пролететь от места работы до дому, дом его отодвинется от скопления зданий и людей, скроется в тени листвы по берегам рек, на опушках, на пригорках, откуда открывается радующий душу вид. Сотрется физическая грань между городом и деревней. Горожанин, по роду работы своей, по укладу жизни и потребностям, станет соседом жителя села, будет жить на природе, близкий к ней, убереженный от старения, напоенный силой земли.
И вместе с переселившимся на природу человеком пойдут вслед за ним ближе к лесам и лугам заводские цехи, выйдут они за пределы старых фабричных заборов и проходных, раскинутся пятнышками индустрии меж зеленеющих полей, на которых сниматься будут сказочные для наших дней урожаи. Разбросанные цехи заводов свяжутся в узел дорогами по земле, воде и воздуху.
Городские центры останутся не как скопище жилищ, а как центры культуры, охватывающие огромные районы расселения людей будущего, способных быстро слетаться всякий раз, когда нужно им быть вместе, чтобы посмотреть спектакль, послушать музыку, обсудить проблемы, направить исследования, выбрать достойных исполнителей их воли.
Обсуждать они будут грандиозные проблемы. Они дерзостно возьмутся за осуществление величественных проектов, переделают моря и материки, навечно победят энергетический голод прошлого. Их атомный век будет не просто использование ничтожной доли энергии вещества, освобождающейся при известном нам расщеплении атома, — нет, ими будет постигнута самая сокровенная тайна вещества — секрет его полной энергии. Быть может, далеко вперед пройдут они по пути, намеченному сегодня, откроют обнаруженный уже нами мир антивещества, во всем похожего на наше, но зеркально противоположного по электрическому заряду. Мы уже знаем, что при соприкосновении атомов вещества и антивещества возникает в колоссальном количестве энергия. Как беспредельно могуч тогда станет Человек!
Что будет по плечу этому Богатырю Знания? Что станет для него страной дерзкой мечты, новых подвигов?
Для нас вчера страной романтики и мечты была Арктика, куда Человек стремился сначала на парусниках, потом на первых ледоколах, на первых самолетах, где проложил он впоследствии Северный морской путь, сделав страну льдов с ее притягательной и неповторимой красотой близкой и необходимой.
Сегодня огненные паруса первых ракет вынесли наших космонавтов героев Знания Гагарина и Титова, Николаева и Поповича в черную беспредельность Космоса. Эта страна с мирами без счета становится уже в наши дни страной новой романтики и новой мечты. Уже летят к ближним планетам автоматические межпланетные станции, уже готовятся вступить в иные миры летчики-космонавты, чем-то похожие на первых арктических летчиков и моряков.
А завтра, когда Человек овладеет всеми тайнами энергии вещества, завтра, когда его звездолетчики смогут достичь в своих кажущихся сегодня фантастическими аппаратах субсветовых скоростей, завтра…
…Утоляя светлую жажду знания, полетит Человек будущего к иным звездам, расстояния до которых исчисляются световыми годами, полетит, чтобы пробыть в полете десятилетия своей жизни.
И, верю, вернется из звездного перелета будущий наш Человек, очень похожий на лучших наших летчиков-героев, вернется на Землю и…
И тут властно скажется закон природы, известный в наше время, как парадокс Эйнштейна: для Человека, летевшего десяток лет почти со скоростью света, время протекало совсем не так, как на оставленной им Земле, — и чем быстрее летел наш будущий Человек, тем медленнее текло его время, и когда спустя десяток лет, проведенных им в ракете, вернется он на Землю, то застанет на ней новые поколения, прожившие после его современников тысячелетия, застанет людей еще более отдаленного для нас времени, людей, еще дальше ушедших вперед, в будущее.
Поднимем же тост за Арктику, страну романтики и героических будней, которая словно подготовила нас к мечте еще более дерзновенной, чем завоевание Северного полюса и Северного морского пути, которая помогла взрастить в нас стремление познать мир, влекущее нас сегодня в Космос.
Поднимем тост за шаг от романтики Арктики к романтике Космоса!
Поднимем тост за будущее, когда ступит на неведомую планету чужого звездного мира Гость из Космоса, Человек Земли!
Новый год! Бой часов Кремлевской башни, как поступь времени, размеренный, торжественный, бесконечно знакомый и все же волнующий…
Только что звенели бокалы, хлопали пробки бутылок, перекликались веселые голоса… Но бьют Кремлевские куранты — и все смолкает, как в предрассветный час.
На миг задумывается каждый.
Вот он завтрашний день, завтрашний год, грядущее!
Каково оно это грядущее, кто будет жить в нем?
Произнесут тосты. Поздравят друг друга с Новым годом и с новым счастьем…
А я хочу поздравить романтиков и искателей, тех, кто ищет новое в жизни, в науке, в счастье!
В дни моей юности страной романтиков, страной искателей была Арктика, страна нового и неизведанного, суровая и загадочная, непроходимая и притягивающая. Новая, она творила героев.
Почему?
Люди становились там героями или туда шли только герои?
А может быть, черты героя заложены в каждом советском человеке? Не потому ли обыкновенные юноши и девушки оказывались способными стать молодогвардейцами Краснодона, не потому ли исполинский подвиг совершил наш народ в дни Великой Отечественной войны, не потому ли строит он сейчас страну, которая завтра станет коммунистической? И не потому ли самые простые и скромные люди в арктических условиях совершают подвиги, которые становятся для них там нормой поведения, нормой жизни?
И мысленно в эту минуту я снова с людьми Арктики, которых узнал во время своих путешествий, снова я вместе со своими друзьями по арктическому плаванию…
Вспоминаю последние мили нашего пути. Я стою рядом с капитаном на мостике. В наступивших сумерках, в тихую погоду Борис Ефимович ведет корабль по протоке Северной Двины — Маймаксе.
В войну он был военным лоцманом и с тех пор не вызывал архангельцев на помощь, помня, что сам из старинной лоцманской семьи, в которой профессия эта переходила по наследству от прадедов к правнукам.
Только теперь я увидел, что "Георгий Седов" все же огромный морской пароход. Он величественно возвышался над береговыми домиками.
На судне заканчивалась уборка. Корабль принаряжался, чистился. От вчерашнего обледенения не осталось и следа.
Все встречные катера и речные пароходы гудками приветствовали нас.
Славный, заслуженный корабль! Он входил в родной порт, незаметно совершив много подвигов, поставив небывалые рекорды, обеспечив работу далеких полярных станций.
Корабль остановился на рейде против освещенных яркими огнями пристаней. Береговой катер подошел к нам. Пришла пора прощаться. На палубе стояли капитан Борис Ефимович, штурман Нетаев, радист, боцман и многие другие моряки. Тогда-то мы и дали слово вспомнить друг друга в новогодний час. Я сроднился с ними за этот рейс, который был так труден, хотя и казался им самой обычной будничной работой. Они любили рассказывать о подвигах других, но самим им никогда не пришло бы в голову назвать свою работу героической.
Я обнялся со своими друзьями:
— До свидания, товарищи! До свидания "Георгий Седов"?
Береговой катер отошел от морского странника. На высоком борту висел знакомый мне штормтрап — веревочная лестница с мокрыми внизу перекладинами, по которой так нелегко лезть в первый раз.
"Седов" дал прощальный гудок. Это, конечно, Борис Ефимович! Он и Нетаев на мостике, на котором началась и крепла их дружба, дружба двух советских моряков.
И вот я снова мысленно с ними, когда торжественно бьют, отмечая шаг времени, Кремлевские куранты, я снова с теми, кто прокладывает путь в будущее.
Поднимем же в новогодний час тост за будущее, вечное, отдаленное или близкое, всегда скрытое таинственной завесой времени, которую пробиваетсветом фантазии только мечта!
И поднимем тост за мечту, за мечту, приоткрывающую дверь в завтра, как бы приближающую к нашим глазам телескоп времени.
Тише, тише! Прислушайтесь!
Что же видим мы в чудесный телескоп мечты? Каково оно, будущее? Но нет! Не подручный инструмент оракула наш телескоп мечты, он ничего не предскажет, не предречет, он только покажет нам будущее таким, каким мы хотим его видеть, полные веры в него, каким оно представится нам, если мы знаем идущую вдаль дорогу науки, техники, человеческого общества, дорогу, которой идет Человек!
Разве он не будет похож на наших современников? Разве совсем другим будет Человек будущего, Человек нашей мечты?
Нет, не выдуманный это будет Человек, знакомы мы с ним, слышали о нем не раз, даже встречались с ним!
Молод будет этот Человек, молод, какого бы возраста ни был, молод потому, что сохранит знакомые нам черты тех, кто в наши дни поднимался во весь рост перед врагом, будучи молодогвардейцем или бойцом армии, кто не раздумывая отдал жизнь за Родину, за счастье уже не свое, а тех, кто будет жить, кто пойдет вместо него к коммунизму.
Молод будет этот Человек, и не только потому, что наука сумеет уберечь его волосы от седин, что складки твердой воли и энергии, а не морщины горькой усталости избороздят его лицо, не только потому, что будет он жить на Земле свои нормальные полтораста лет; молод будет наш грядущий Человек знакомым нам порывом к подвигу, который совершают, не замечая его, в сумерках ли арктических или антарктических будней или в зное унылых недавно степей, превращенных энтузиазмом молодости в золотистый комсомольский океан плодородия; молод будет этот Человек, какими бы знаниями и опытом жизни ни обладал, молод будет своей неистовой одержимостью, ведущей его через хребты и пустыни трудностей в даль исканий, молод знакомой нам страстностью искателя, ученого, созидателя, преобразующего природу, мир.
Мы знаем тебя, Человек будущего, мы встречали тебя среди лучших людей настоящего, среди героев войны и труда, среди моряков и полярников, среди ученых и инженеров, среди тех, кто выиграл кровавую схватку за жизнь ради того, чтобы в этой жизни выиграть еще одну схватку, схватку за мир. Мы знаем тебя, Человек будущего, и мы поднимаем тост за то, чтобы дорогие нам твои черты с невиданной яркостью проявились в обстановке завтрашнего дня!
Он твой, этот завтрашний день. Тебе будут служить могучие и умные машины, их будет больше чем сейчас, они будут быстрее двигаться, мгновенно вычислять, больше производить, но не в этом будет их коренное отличие от знакомого нам. Главное в том, что ими не нужно будет управлять!
Твои машины, Человек будущего, которые задуманы нами сейчас, будут регулировать и направлять сами себя, контролировать и проверять свои изделия, будут самостоятельно жить и работать, выполняя твою волю, один раз направленные твоей рукой. Ты будешь ходить среди них, машин и станков будущего, завтрашний Человек, умелый, образованный, способный разобраться в любом самодействующем механизме, зорко следя за их работой, настройкой, точностью. И в твои дни, будущий Человек, обычными станут самодействующие заводы, которые в распахнувшиеся сами собой ворота примут привезенное сырье, чтобы взамен погрузить на железнодорожные платформы готовые, проверенные без людей, смазанные и упакованные машины, будь то станок, телевизор или пишущая машинка, печатающая прямо с голоса…
Впрочем, железные ли дороги это будут? Может быть, и нет. Однако наряду с самыми совершенными новыми видами транспорта еще долго будут жить "стальные полосы прогресса", протянувшиеся из девятнадцатого через весь двадцатый век. Но рядом с ними или их продолжением протянутся, быть может, через моря и степи герметические трубы, похожие на гигантский газопровод, зарытые в землю или плавающие под водой, идеально прямые, не знающие ни поворотов, ни уклонов, ни подъемов, даже сопротивления воздуха внутри, если будет он удален. И будут по ним мчаться поезда, не только пассажирские экспрессы, а грузовые, товарные, но быстрые, как космические ракеты, будут мчаться, уничтожая старые представления о расстоянии. И замечательны они будут тем, что почти не потребуется энергии для передвижения таких поездов, как не нужна она летящему в безвоздушном пространстве искусственному Спутнику Земли, ибо трение качения при огромных скоростях ничтожно, а энергия разгона будет возвращена при торможении.
Пусть не таким будет транспорт будущего, одно можно сказать с уверенностью, он будет транспортом гигантских скоростей, уже завоеванных сегодня. И новый транспорт сделает людей, живущих далеко друг от друга, сплоченнее.
И более тесной семьей будут жить люди, да и не просто люди, но и народы. «Сдвинутся» континенты, безразлично чем соединенные межконтинентальными пассажирскими ракетами, метеор-самолетами или плавающими мостами-трубами. Жизнь людей будущего будет так же отличаться от нашей, как наше время автомобилей и самолетов от почтовой кареты, в которой путешествовал Радищев из Петербурга в Москву.
Более тесной семьей будут жить люди на Земле, но сами они не будут жить так скученно, как в былые, наши времена.
Еще дальше пойдут архитекторы, градостроители, в наши дни воздвигающие просторные, светлые кварталы зданий, разделенных не каменными колодцами дворов прошлого, а широкими зелеными скверами. В дни, когда воздух станет всеобщей трассой движения, когда каждый человек сможет подниматься на вертолетике и быстро пролететь от места работы до дому, дом его отодвинется от скопления зданий и людей, скроется в тени листвы по берегам рек, на опушках, на пригорках, откуда открывается радующий душу вид. Сотрется физическая грань между городом и деревней. Горожанин, по роду работы своей, по укладу жизни и потребностям, станет соседом жителя села, будет жить на природе, близкий к ней, убереженный от старения, напоенный силой земли.
И вместе с переселившимся на природу человеком пойдут вслед за ним ближе к лесам и лугам заводские цехи, выйдут они за пределы старых фабричных заборов и проходных, раскинутся пятнышками индустрии меж зеленеющих полей, на которых сниматься будут сказочные для наших дней урожаи. Разбросанные цехи заводов свяжутся в узел дорогами по земле, воде и воздуху.
Городские центры останутся не как скопище жилищ, а как центры культуры, охватывающие огромные районы расселения людей будущего, способных быстро слетаться всякий раз, когда нужно им быть вместе, чтобы посмотреть спектакль, послушать музыку, обсудить проблемы, направить исследования, выбрать достойных исполнителей их воли.
Обсуждать они будут грандиозные проблемы. Они дерзостно возьмутся за осуществление величественных проектов, переделают моря и материки, навечно победят энергетический голод прошлого. Их атомный век будет не просто использование ничтожной доли энергии вещества, освобождающейся при известном нам расщеплении атома, — нет, ими будет постигнута самая сокровенная тайна вещества — секрет его полной энергии. Быть может, далеко вперед пройдут они по пути, намеченному сегодня, откроют обнаруженный уже нами мир антивещества, во всем похожего на наше, но зеркально противоположного по электрическому заряду. Мы уже знаем, что при соприкосновении атомов вещества и антивещества возникает в колоссальном количестве энергия. Как беспредельно могуч тогда станет Человек!
Что будет по плечу этому Богатырю Знания? Что станет для него страной дерзкой мечты, новых подвигов?
Для нас вчера страной романтики и мечты была Арктика, куда Человек стремился сначала на парусниках, потом на первых ледоколах, на первых самолетах, где проложил он впоследствии Северный морской путь, сделав страну льдов с ее притягательной и неповторимой красотой близкой и необходимой.
Сегодня огненные паруса первых ракет вынесли наших космонавтов героев Знания Гагарина и Титова, Николаева и Поповича в черную беспредельность Космоса. Эта страна с мирами без счета становится уже в наши дни страной новой романтики и новой мечты. Уже летят к ближним планетам автоматические межпланетные станции, уже готовятся вступить в иные миры летчики-космонавты, чем-то похожие на первых арктических летчиков и моряков.
А завтра, когда Человек овладеет всеми тайнами энергии вещества, завтра, когда его звездолетчики смогут достичь в своих кажущихся сегодня фантастическими аппаратах субсветовых скоростей, завтра…
…Утоляя светлую жажду знания, полетит Человек будущего к иным звездам, расстояния до которых исчисляются световыми годами, полетит, чтобы пробыть в полете десятилетия своей жизни.
И, верю, вернется из звездного перелета будущий наш Человек, очень похожий на лучших наших летчиков-героев, вернется на Землю и…
И тут властно скажется закон природы, известный в наше время, как парадокс Эйнштейна: для Человека, летевшего десяток лет почти со скоростью света, время протекало совсем не так, как на оставленной им Земле, — и чем быстрее летел наш будущий Человек, тем медленнее текло его время, и когда спустя десяток лет, проведенных им в ракете, вернется он на Землю, то застанет на ней новые поколения, прожившие после его современников тысячелетия, застанет людей еще более отдаленного для нас времени, людей, еще дальше ушедших вперед, в будущее.
Поднимем же тост за Арктику, страну романтики и героических будней, которая словно подготовила нас к мечте еще более дерзновенной, чем завоевание Северного полюса и Северного морского пути, которая помогла взрастить в нас стремление познать мир, влекущее нас сегодня в Космос.
Поднимем тост за шаг от романтики Арктики к романтике Космоса!
Поднимем тост за будущее, когда ступит на неведомую планету чужого звездного мира Гость из Космоса, Человек Земли!
Александр Казанцев Трагедия в Нью-Мексико
…Поскольку есть у каждого чуткости к страданиям за общественные бедствия, постольку он человек.И.Н. Крамской
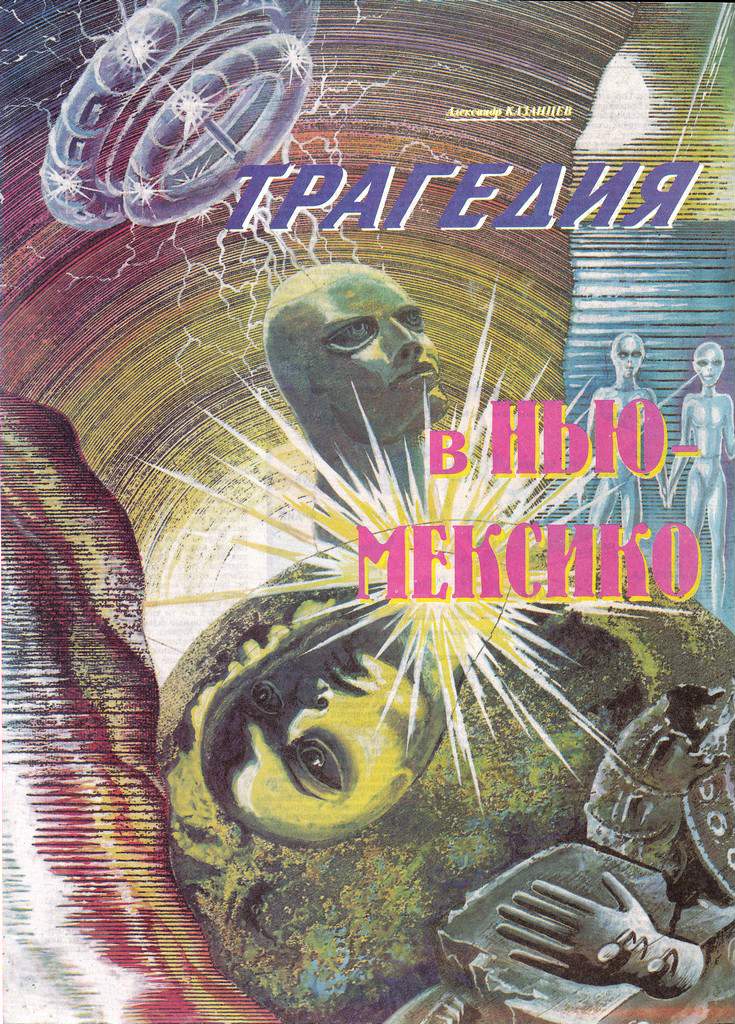
1. План ста городов
В овальном кабинете Белого дома президент США Гарри Трумэн вместе со своим помощником по национальной безопасности и командующим американскими войсками в Европе генералом армии Дуайтом Эйзенхауэром (будущим президентом) обсуждали проект Пентагона об одновременном уничтожении атомными бомбардировщиками ста русских городов. — Безумная авантюра, — определил генерал. — В чем безумство? — нахмурился президент, внешне напоминая процветающего галантерейщика. — Разве русских не надо поставить на место? Им нужна мировая революция. — Безумство в пренебрежении ответным ударом. — ЦРУ заверяет, что у русских нет атомной бомбы. Их корифеи-физики отказались участвовать в атомной разработке: и академик Иоффе, вице-президент Академии наук СССР, и прославленный академик Петр Капица. Считали, что расщепление ядра атома не имеет практического значения для человечества. — Повторили слова лорда Резерфорда, — вставил помощник президента, докладывавший предложения Пентагона. — Я, как президент Соединенных Штатов, горжусь, что наш генерал Гревс и руководитель Манхеттенского проекта профессор Оппенгеймер доказали обратное! — Америка не знала военных действий на своей территории, участвуя в двух мировых войнах, — заметил Эйзенхауэр. — Этого и впредь не должно быть! — отчеканил Трумэн. — Ив Пентагоне заботятся об этом. — Ты, Гарри, не знаешь русских так, как я, воевавший вместе с ними против Гитлера. Понеся тяжелые потери в первые два года войны, утратив промышленность и территорию размером в пол-Европы, за последующие два года они создали самое передовое вооружение и разгромили сильнейшую армию в мире, которая нам была не по плечу. Они захватили раньше нас и вражескую столицу, и столицы покоренных Гитлером стран. И нам пришлось унизительно выторговывать наше военное присутствие в Праге, Вене, Берлине. — Наши эксперты утверждают, что атомная бомба появится у русских не раньше 1954 года, — вставил помощник президента. — Через семь лет! — усмехнулся Эйзенхауэр. — А какова гарантия, что русские за два года после победы над Гитлером не создали свою атомную бомбу? И не сбросят ее ответно на Вашингтон, Нью-Йорк или Чикаго? Вспомни, Гарри, с каким азиатским безразличием отнесся Сталин к твоему конфиденциальному сообщению в Потсдаме, что после взрыва в Неваде у нас, именно только у нас, отныне есть ни с чем не сравнимое оружие уничтожения. — Он не понял его значения. Хиросимы еще не было. — Так пусть никогда не будет ни Хиросимы, ни Нагасаки на американской земле. — По-моему, президента Америки, указанию Пентагон и проработал превентивный удар. — Пора всем понять, что в атомной войне победителей не будет. Только побежденные. И на том закончится существование человечества, да и всего живого на Земле. Еще одна мертвая планета появится в Солнечной системе. — Так что же? Президенту сидеть, сложив лапки и поджав хвост? — раздраженно спросил Трумэн. — Во всяком случае, не служить интересам военно-промышленного комплекса, который без войны и прибылей существовать не может. Не «бизнесмены Смерти», а люди Разума должны вести страну! Дверь в президентский кабинет распахнулась, и в нее вбежал взволнованный дежурный офицер с депешей в руках: — Спешная шифровка, мистер президент! Летательный аппарат невиданной формы приближается к нашей засекреченной военной базе Корнуэлл в штате Нью-Мексико! — Это русские! — вскричал Трумэн. — Они начали первыми! Засылают к нам своих воздушных шпионов. Сбить! Немедленно сбить! Не тратить время на шифровку. Как президент Америки, приказываю передать открытым текстом: «Сбить!»Не рой другому яму —Себе устроишь драму.
2. Сбитый объект
Летящее в небе дискообразное тело, напоминавшее два поставленных одно на другое блюдца, видели в штате Нью-Мексико много людей, не понимающих, что это такое. А внутри инопланетного зонда в его кольцеобразной кабине командир корабля Коэн положил на пульт управления координаты выбранного им места, еще раз сформулировав их цель: — Центр безумия, адских средств уничтожения преступно арсенал собравший. Отсюда существам разумным взаимоистребление грозит. Пора задачу выполнить: помочь несчастье им предотвратить. — Исполняю, — отозвался пилот и вложил свои маленькие шестипалые ладони в точно по ним сделанные углубления в металлическом пульте. И весь аппарат стал частью организма пилота, подчиняющегося импульсам его мозга. Командир обратился к третьему члену экипажа: — Тебе, Коэлли, доченька моя, как с башни звездной, зорко наблюдать. Увидеть пропасть, что у безумцев впереди. — Да, я знаю, в погоне за богатством ненависть и злоба сменяют здесь любовь. Преступность торжествует. Их недоразвитость нам не понять. Помочь же им — долг сердца. И ради этого мы к ним стремились. И уже у цели. — Ты говоришь как Дочь Вселенной! И я тобой горжусь. — А я тобой, — добавила наблюдательница, прильнув к одному из своих приборов. — Запечатлеть поверхность, глубины разгадать, помочь в великом начинании. Я счастлива, отец! — Пусть аппарат над средоточьем зла зависнет, чтоб нам помочь тебе. — Ясность полная! — отозвался пилот, ощущая аппарат как собственные руки и ноги. Внизу простиралась каменистая пустыня с движущейся по ней точкой. — Всадник мчится на коне. И головной убор из ярких перьев, — доложила Коэлли. Лошадь индейского вождя шарахнулась в сторону при орудийном залпе замаскированной зенитной батареи. Самонаводяшийся снаряд попал в главный вибратор космолета, заменяющий двигатели. Он вызывал в летательном аппарате и во всех космитах, находящихся в нем, колебания, кратные вибрации вакуума. Его кванты состоят из соединившихся частичек вещества и антивещества. Физические свойства их взаимно компенсируются, и вакуум неощутим, не обладая ни плотностью, ни чем-либо материальным (кроме способности передавать электромагнитные сигналы), и потому воспринимается как пустота. Но эта псевдопустота взаимодействует с оказавшимся в нем телом. Возникающая вакуумная сила входит сомножителем в массу тела. В том же случае, когда оно само вибрирует кратно частоте квантов вакуума, возникает явление резонанса и силовое взаимодействие исчезает, а масса, помноженная на нуль, сама превращается в нуль. Происходит ее «обнуление». Такое вибрирующее тело без массы и веса лишено инерции и обретает бесценные качества с необозримыми возможностями. Вот почему непостижимо быстро разгоняются до огромных скоростей неопознанные летающие объекты и могут круто под острым углом менять направление движения. Взорвавшийся внутри корабля снаряд разрушил вибратор, колебания аппарата разом прекратились. Исчез и резонанс в вакууме и вернулось его силовое воздействие на находящиеся в нем тела, восстановив их былую массу и вес. Летящая в небе маленькая луна на глазах скакавшего по пустыне индейского вождя, уподобясь диску метателя на исходе полета, круто заскользила вниз. И рухнула на камни близ невысоких скал. Взрыв снаряда в кабине отбросил Коэлли с разорванным и обожженным бедром к отцу. На нем висел малый нагрудный вибратор, сохранявший невесомость командира при аварии. Коэн схватил дочь и прижал к себе, стремясь передать ей вибрацию, чтобы смягчить падение. Однако удар о землю был столь сильным, что аппарат развалился на части, и космиты оказались разбросанными в разные стороны. Командир Коэн был еще жив и в отчаянии думал о своей несчастной Коэлли. Жива ли она? Чужое светило нещадно жгло. Воздух для Коэна, не рассчитывавшего на высадку, был слишком разряжен и удушлив. Раскрытый рот судорожно хватал его, а слезы текли по напряженному лицу.Плохой советчик страх —Поспешность, глупость, крах.
3. Свидетели
С военной базы Корнуэлл видели падение неопознанного летающего объекта, сбитого зенитным залпом. Два солдата бегом кинулись к месту катастрофы. Это был чернокожий сержант атлетического сложения, первый игрок баскетбольной команды Базы, и силившийся не отстать от него белый очкарик, тащивший с собой громоздкую кинокамеру. Как кинооператор Корнуэлла, он обязан зафиксировать последствия падения сбитого вражеского аппарата. Но раньше них там оказался индеец на коне. Яркие перья головного убора говорили, что это вождь племени. — Эй, краснокожий брат мой, убирайся отсюда, — крикнул сержант и добавил: — Если ты ничего не имеешь против. — Быстрый Бизон! Здесь плохо пахнет. И начальство примчится, — в свою очередь предупредил знакомца из резервации оператор, снимая с плеч съемочную камеру. Всадник спокойно отъехал в сторону и там спешился. — И что за штуковину выдумали эти русские, чтобы добраться до нас? — Сейчас она ни на что не похожа. И снимать нечего. Разве что с обломков кабины начнем. Здорово ее разворотило. Впрочем, что-то вроде пульта управления можно снять. — И даже с собой захватить отвалившуюся планку с надписями на русском языке, — говорил сержант, подобрав длинную, почти невесомую серебристую полосу. — Интересно, из чего ее русские сделали? — Скорее китайцы или японцы. Русские иероглифов не знают, — поправил оператор, щурясь и протирая темные голливудские очки. — Смотри, очкарик, на пульте углубление, как для ладоней, только уж больно маленьких… И атлет приложил к углублению свою огромную лапищу. — Они не только для маленьких, но и шестипалых. — Разве у русских по шесть пальцев? — недоуменно спросил сержант. — Я про то и говорю, что на русских не похоже. — Тогда пойдем к ним самим. Крепко они шлепнулись и разлетелись. Вон они, бедняги, валяются. — Ну, не нам их жалеть, сержант. Их сюда не приглашали. — Сдается мне, приятель, что ростом они не вышли. Видно, не из баскетбольной команды. — Ты все о своем. Пораскинь мозгами, кого к нам заслали. — А ты что, с ними знаком? — Не надо знакомства, чтобы понять, что это дети. — Детей в разведку посылать? Это кем же надо быть? — простодушно возмутился атлет. — Коммунистами, сержант. В них основная опасность для нашей Америки. И русские, и китайцы, одно слово — коммунисты. — Лет по десять мальчишкам было, — вздохнул сержант. — Не только мальчишкам. Вон там с изуродованной ногой, должно быть, девчонка лежит. — Как это ты узнал? В очки свои темные лакомое разглядел, что ли? — Раковинки ушные крохотные у нее и мордочка милая. — Ну, вижу, истосковался ты по женскому полу. Лучше вон на того погляди. Вроде шевелится. Они подошли к командиру космолета. Он приподнялся при виде их, прижимая нагрудный вибратор. Хотел облегчить свой вес и подняться на ноги. Достойно установить контакт. — Э, да он с оружием! — крикнул сержант и сорвал с груди пришельца вибратор. Но тут произошло невероятное. Аппарат, вопреки всем земным законам, выскользнул из рук сержанта и взвился в воздух, как взлетает со дна погруженная в воду пробка. Солдаты ошалело смотрели вслед «воздушному шарику». Они поняли в произошедшем не больше индейца, издали наблюдавшего за ними.Всем нам с поры известно давней,Что тайное все ж будет явным.
На «виллисе» подкатил бригадный генерал Томас, начальник Базы. Оператор, вытянувшись во фронт, доложил: — Начаты киносъемки на месте сбитого нарушителя. Предположение, что это русские, не подтверждается. Малы ростом, как дети. На руках, а может быть и на ногах, по шесть пальцев. — Молчать! — взревел генерал. — Ничего ты этого не видел и тем более не снимал. Никому ни слова. Пленку сдашь мне. Произошла здесь авария с воздушным шаром, пролетавшим над Нью-Мексико. Пострадавшим воздухоплавателям оказана медицинская помощь. Зарубите вместе с сержантом это себе на носу. В штабе Базы оба дадите строгую подписку о неразглашении. И никаких русских! — Все понятно, генерал. Но один из пострадавших жив и обезоружен сержантом. — Где он? Сержант! Возьмешь под строгую охрану. Такой тип для русских лакомый кусочек. — Он до Базы не долетел и ничего не видел, — попробовал возразить оператор. — Молчать! — снова прикрикнул генерал. — Этот тип напичкан такими военными сведениями, которые ни нам, ни русским не снились! Пока он жив, надо из него их повытрясти. — Это мы сумеем, — заверил сержант. — Но вот как понять его? Надписи на пульте тарабарские или шифрованные. — Ну, это не твоя, сержант, забота. Стереги его, как опаснейшего преступника. А мне покажите, что это за птица. Генерала провели к Коэну, а по радиовызову начальника Базы к месту «аварии воздушного шара» подъезжали тяжелые грузовики и подъемный кран.
Металлические остатки «воздушного шара» собрали с камней и увезли. За погибшими «аэронавтами» приехала санитарная машина, а полуживого Коэна, вместе с его чернокожим охранником, генерал забрал в свой «виллис» и уехал. Оператор снимал все происходящее, нещадно тратя пленку. Чем больше окажется бобин, тем легче будет утаить хотя бы одну. Он уже понял, КТО здесь разбился, и прикидывал в уме, сколько можно будет получить (пусть через положенный срок рассекречивания) за такой фильм? Документальный про инопланетян!..
4. Тревога
Президенту Трумэну передали шифровку из Нью-Мексико: близ военной базы Корнуэлл потерпел аварию инопланетный корабль, двое членов его экипажа погибли, один в тяжелом состоянии, но жив. Делаются попытки установить с ним контакт, но пока безуспешно. Начальник Базы бригадный генерал Томас ждет указаний. Трумэн созвал секретное совещание. Присутствовали: помощник по национальной безопасности, Государственный секретарь и министр обороны, глава Пентагона. Президент был явно растерян. Окажись там русские, он знал бы что делать, план атомной бомбардировки ста русских городов Пентагон подготовил, а тут инопланетяне!.. Неизвестно, что они замышляют. Мнения разделились. Государственный секретарь рекомендовал предать все гласности и через ООН создать Союз всех государств Земли во главе с Соединенными Штатами для отражения инопланетной агрессии. Но остальные были против всякой огласки, предлагая уничтожить всю существующую по этому поводу документацию. Версию генерала Томаса об аварии воздушного шара принять и распространить для общественного мнения. — Но о самом главном никто не обмолвился, — с ехидной хитрецой сказал президент. — В наших руках человекоподобное, как я понял, существо из другой, видимо, более высокой цивилизации. Оно может обладать ценными для нашей военной мощи сведениями, которыми не прочь будут завладеть русские. Я, как президент, вижу первостепенную задачу уберечь пришельца от таких контактов. У нас нет оснований полностью доверять и тем нашим экспертам, кому удастся наладить с ним контакт. Бог с ними, с его знаниями! Лучшее — враг хорошего. Нам хватит своего. Как президент страны, считаю, что для нации безопаснее уничтожить эту инопланетную особь. — Но это же не гуманно! — запротестовал Государственный секретарь. — Мы не остановились, сбрасывая атомную бомбу на Хиросиму, а тут речь идет не о сотне тысяч подобных нам людей, а об одном насекомом. Генерал Томас сообщает, что все прилетевшие на Землю особи бесполы. Вроде рабочих пчел или муравьев. Так чего мне, президенту Соединенных Штатов, церемониться с какой-то козявкой, к тому же нарушившей наше воздушное пространство. Так была решена судьба командира Коэна с его миссией предотвращения взаимоистребления обнаруженных на планете разумных существ. Но были ли они вполне разумны?Сигнал! Объявлена тревога!Но вот от черта или Бога?
Ни о чем не подозревая, Коэн ждал своей участи, находясь в кислородной камере одного из военных госпиталей близ Атланты. И он думал о своей Коэлли и обо всем, что предшествовало случившемуся.
5. Тайны Вселенной
Они сидели тогда, отец и дочь, на берегу моря. На песчаную отмель набегали волны и, как бы закипая седой пеной, откатывались с шипением назад. И рядом о ближние скалы валы разбились, взлетая белыми фонтанами. Но скоро их не стало видно. Доносился только несмолкающий шум прибоя. Над горизонтом зажглись первые звезды. Коэлли зачарованно смотрела на них: — Созвездий дальних россыпь золотая! Когда я девочкой была, хотела верить, что моя мама там и смотрит на меня из невозможной дали, — и она продолжала задумчиво: — И вдруг теперь я узнаю, что ты, единственный, заботливый и нежный, меня покинешь ради звезд. Как это пережить, не знаю. — Лететь к планете, где бедствие грозит, повелевает долг. Ему противиться никто не может. Тебя оставить одинокой я тоже не могу и потому привел тебя сюда на берег моря. — Да разве успокоит меня шелест волн иль взлеты пены белой? — Конечно, нет, моя родная. Я должен рассказать, как я пошел в Совет наш Высший и там признался, что не могу с тобой расстаться. — У Высшего Совета нет дел других как помогать какой-то там девчонке? — В том власти высшей подлинная суть. Там поняли меня и предложили участвовать в полете дальнем нам двоим. — И мне лететь? Неужели нужен там балласт никчемный? — Эксперимент намечен дерзкий. И ты, и я удвоиться должны. — Понять как утешительную шутку? — Принять всерьез и дать согласие на копию свою. — Чтобы была еще одна Коэлли? — Ты будешь нераздельной с нею, хотя она всего лишь биоробот. — Не все я поняла, но чтобы не расстаться и быть с тобой, на все, на все согласна! Но как прожить века. полета? Нельзя ж лететь скорей луча. — Тебе попробую все объяснить. Вселенная созвездий и галактик замкнута, хоть беспредельна, и потому цель дальняя близка. Волны все так же мерно шумели, когда отец и дочь мысленно уносились в бесконечность. Коэн снял с себя пояс, свернул его кольцом и, соединяя концы, один их них перевернул. Потом попросил дочь взять пояс в любом месте большим и вторым пальцами руки и самым маленьким шестым пальчиком другой руки провести по верхней поверхности пояса начиная от второго пальца, зажимающего пояс сверху. Коэлли выполнила это и, завершив круг, коснулась шестым пальчиком своего большого пальца другой руки, оказавшись под вторым на внутренней поверхности кольца. И так было в любом месте свернутого так пояса, сколько она ни повторяла опыт. — Как в сказке дивной! — радостно воскликнула она. — Пусть долог путь луча меж звезд. А вот сквозь пояс — всюду рядом. — Да, поясу Вселенная подобна. И бесконечны дуги, ведущие в созвездиях к цели, но краток путь сквозной. — Для кораблей, по космосу плывущих? — И для биосвязи с ними. — И для полета надо, чтоб я… и биоробот стали бы едины? И будет он умней меня? — Тебя всего лишь дополняя и действуя, как ты, вдали. — На все согласна! — воскликнула Коэлли, бросаясь на шею отцу.Не отыскать Вселенной полюс,Как скрученный она вся пояс.
6. Биороботы
Много тысячелетий назад предки Коэна и Коэлли научились создавать аппараты, способные выполнять некоторые функции мыслящего мозга, хотя используемые для этого кристаллы ничуть не напоминали живые нейроны. Результаты были впечатляющие. Но возможности живых клеток, несущих генетическую и фундаментальную информацию, неизмеримо превосходили мертвую природу. Чего стоила одна только генетическая программа наследственности, формирующая живое существо от мошки до слона или человека! И мнемонические кристаллы и микросхемы стали заменяться в помощниках человека живой материей. Так появились биомашины, служившие людям. Многовековые поиски наиболее работоспособных форм привели к созданию «мыслящей», говорящей и объемно видящей машине. Прямостоящая для широты обзора, передвигаясь по любой местности на паре ног, она имела свободные от ходьбы конечности, способные к труду. Словом, Коэн и Коэлли жили в эпоху человекоподобных роботов. Особенно эффективны те были, соединенные биосвязью с человеком, который обретал своего двойника, действующего в необычных условиях, непригодных для человека, скажем, на иных планетах. При желании двойник-биоробот мог выполняться внешней копией ведущего человека, воспринимающего все, что видит и слышит биоробот, где бы тот ни находился. И человек мог руководить его действиями, словно сам присутствовал там. Эта биосвязь была двусторонней, и человек переживал все то, что выпадало на долю его «рабочего двойника». Планету бедствий исследовали на протяжении многих тысячелетий по ее десятиричному, а не дюжинному, как у Коэна и Коэлли, летоисчислению… Сейчас там назревал кризис, грозивший гибелью всего живого. На этот раз было решено членам экипажа остаться на родной планете, а на исследуемую отправить биороботов. Однако люди, их двойники, воспринимая через биосвязь всю обстановку, в какой те находятся, рисковали вместе с ними. Биосвязь делала каждого участника разделенным, но общим с биороботом организмом. И судьба его копии становилась его судьбой. Все это Коэн объяснил дочери: — Биосвязь с находящимся на космолете твоим биодвойником нерушима. Ты будешь ощущать себя и там и тут, и в корабле, и дома. Эксперимент такой проводится у нас впервые. Населенная планета может погибнуть, и сохранить там жизнь важнейшая задача наша. — Страшновато, — призналась Коэлли. — Но я согласна не расставаться так с тобою. — Тебя скопируют, как и меня. — Не будет больно? — Только если двойнику. — А когда с ним самое худшее случится? — Успеть необходимо биосвязь прервать. Риск не исключен. — Тогда придется пережить как бы собственную гибель? Да? Конечно, ужас! Но все равно согласна!Способна ты на шаг любой,Когда ведет тебя любовь!
Для копирования предстояло поехать на завод биороботов. Их встретил молодой радушный биоинженер, подвижный и внимательный, особенно к Коэлли. Он представился как Эвиэн: — Восхищаюсь отвагой вашей, прелестная Коэлли! Мало кто решится на то, чтобы с биороботом связать судьбу свою, столь обещающую и заслуженную вами. — Почему? Процедура так опасна? Мне естественнее струсить? Вы думаете так? — с вызовом спросила Коэлли. — Нет! Вовсе нет! Психологически машины частью трудно стать. — Она ведь лишь помощник мой. Не так ли?! — уточнила Коэлли. — Не совсем. Считайте, что срастетесь с близнецом, обогатитесь заложенной в нем уймой космознаний, но станете неотделимой, — разъяснял Эвиэн. — Я не пытаюсь вас отговорить, но все открыть обязан. Коэн шел молча, не вмешиваясь в разговор. Инженер вел гостей по аллее сада. — Деревьев тень здесь ласкова у нас, цветов душистых аромат. Все это важные условия выращивания биоклеток, — увлеченно говорил биоинженер Эвиэн, любуясь Коэлли и показывая ей парк, менее всего напоминавший производственный цех завода. — Расскажите о моем биодвойнике. Какой он будет? Такой, как я? — снова спросила девушка. — Совсем нет! Только внешне она, био-Коэлли, будет так же прекрасна, как вы, при полном внутреннем отличии. Другая энергетика, основанная только на солнечном питании. Нет пищеварения. Продолжение рода не нужно двойнику. Для этого завод наш предназначен. Но интеллект ваш будет в биороботе запечатлен. Однако носитель информации, принятой от вас, конечно, необычен. И с мозгом вашим он никак не схож. — Буду я и не я? — задумчиво произнесла Коэлли. — Удвоитесь с невиданными способностями и возможностями, если это вас не отпугнет. — Ах, милый, Эвиэн хочу признаться вам, что я уже давно душой срослась… — Ну да, конечно… — умолк, потупясь, биоинженер. — С отцом, мой друг, с отцом, — лукаво рассмеялась Коэлли.
Коэна и Коэлли поочередно помещали в герметическую камеру, где автоматы делали с них матрицы для их будущих искусственных двойников. Довольно долго пришлось просидеть с глухим шлемом на голове. Потом отец с дочерью прошли мимо безликих манекенов, которым предстояло стать Коэном и Коэлли. — Так безобразно выглядеть? — ужаснулась Коэлли. — Полуфабрикаты, — пояснил биоинженер. — Получат вашу внешность и ваш интеллект. В кабине космолета ощутите себя им. Или ею… Коэлли, сама не зная почему, вздохнула. — Будем вместе, — поддержал ее отец.
7. Созвездия минуя
В назначенный срок Коэн, командир корабля, пилот и наблюдательница Коэлли заняли свои места в макете стартующего космолета. А их биороботы-двойники — в самом космическом аппарате. Коэлли не могла бы определить, где она находится. Рядом с нею отец, и она была спокойна, насколько возможно при обнулении масс космолета и его экипажа. И с этого мгновения была уже только летящей в космосе Коэлли. Она не одна — и в этом главное! При обнулении масс корабля и его экипажа она ощутила чарующую легкость и, наслаждаясь ею, не заметила, как прошли они в таком состоянии сквозь высшее измерение, которое представил ей недавно отец в виде толщины свернутого кольцом пояса. Космолет оказался совсем в другой части Вселенной, даже в иной галактике, откуда световому лучу лететь за время смены геологических эпох на родной планете. И Коэлли даже не ощущала себя на ней. Вокруг — незнакомые созвездия, чей свет она даже не увидит, вернувшись домой. От сознания этого ее бросало в дрожь. Но отец был спокоен, не в первый раз оказываясь здесь. Он уверенно направлял пилота, будучи и командиром и звездным штурманом. Не имея массы, они не чувствовали огромного ускорения разгона и сравнительно быстро достигли системы желтого светила, где третья планета была носительницей высшего сокровища всего сущего — Жизни, притом разумной! Открытая после долгих поисков, эта инопланетная жизнь достигла там критического уровня развития, когда разум становится безумным, способным уничтожить сам себя. Высший Разум на планете Коэна и Коэлли не мог устраниться и не принять необходимых мер спасения братского очага жизни, ибо прежде всего сказывалось его гуманное начало. Но этого нельзя было сказать о планете, прекрасными ландшафтами которой любовалась с высоты Коэлли.В безмерной звездной далиСамих себя они узнали.
8. Катастрофа
Последнее, что увидела Коэлли, приближаясь к выбранной отцом цели, был всадник в ярком головном уборе, скачущий по замкнутой скалами каменистой пустыне. Ослепляющее пламя и острая, ни с чем несравнимая боль в бедре, удар и мгла, окутавшая Коэлли… Провал в небытие. Только командир Коэн не погиб. Отброшенный и оглушенный ударом о землю сбитого зенитным снарядом космолета, он очнулся на каменистой поверхности планеты. Нагрудный вибратор сохранил ему жизнь. Очнулся, и сразу пронзила мысль о Коэлли. Жива ли она, находясь близ главного вибратора, где произошел взрыв? Когда его отбросило при ударе о землю, контакт нагрудного вибратора с телом Коэна нарушился, командир обрел свою массу и, хотя при падении его вдали от Коэлли, он сильно ушибся, все же сразу пришел в себя. Вскоре увидел двух приближающихся гигантов, вдвое его больших. «Аборигены!» — подумал он, прижав к себе вибратор, чтобы облегчить вес, попытаться встать и установить контакт. Но тот, кто был выше с темной кожей лица, вырвал у Коэна вибратор, видимо, не представляя себе, что это такое. Не имея массы и веса, вибратор выскользнул из неумелых рук и унесся вверх, вытесненный тяжелым, по сравнению с ним, воздухом. Коэн не мог подняться из-за слишком большой тяжести и вместе с тем задыхался в разреженной и, видимо, обедненной кислородом атмосфере. Высадка на Землю не предусматривалась. Лицо его было влажным от невольных слез при мысли о Коэлли. Биосвязь у нее могла не прерваться и вызовет непредсказуемые последствия! Гиганты говорили между собой на неизвестном языке, но телепатические способности командира позволили ему понять, что его принимают за плачущего ребенка. Это сразу высушило слезы. Чернокожий и его белокожий спутник с аппаратом и темными стеклами перед глазами, очевидно, смягчавшими слишком яркий, трудно переносимый и Коэном, свет местного светила, подошли к подкатившей «музейной» для посланца далекой планеты машине и выслушивали громкие слова приехавшего. Чернокожий гигант подвел к лежащему командиру космолета своего начальника, по его приказу поднял Коэна, как ребенка, и усадил в стародавнюю машину. С тарахтением, прыгая на ухабах, она поехала по властному приказанию генерала. В пути они обменивались фразами, и Коэн понял, что здесь больше всего боялись его контакта с противниками, столкновение с которыми и могло привести к глобальной катастрофе. И он заключил, что Миссия его не закончена. Изменились условия, но не цель. Биосвязь с профессором должна помочь. Надо лишь собрать все силы. Возможности родной планеты огромны и Высший разум окажет гуманную помощь недоразвитой цивилизации.О Разуме нет даже речи,Когда с Безумием ждешь встречи.

9. Допрос
Президент Гарри Трумэн не решился вопреки мнению участников секретного совещания уничтожить инопланетную особь. Его советники настаивали на попытке допроса с пристрастием попавшегося живьем в Нью-Мексико инопланетянина. Генерал Томас получил приказ препарировать трупы космитов в особо секретных условиях. После чего сжечь с отданием военных почестей как погибшим аэронавтам с воздушного шара. О всем случившемся составить отчет в одном экземпляре. У всех свидетелей события взять строгую подписку о неразглашении, нарушение приравнено к измене Родине. Разъяснить им о каре электрическим стулом без права помилования. Население Земли «во имя его спокойствия» не должно знать, будто оно не одиноко во Вселенной, что противоречило бы Библии. Провести допрос инопланетянина с привлечением надежных лингвистов президент поручил директору ЦРУ лично. Даже ФБР не должно об этом знать. Так начиналась гуманитарная Миссия командира Коэна на планете Земля. Директор разведывательного ведомства США, элегантный джентльмен в золотых очках с безукоризненной манерой общения с любыми людьми. Ему предстояло иметь дело Бог знает с каким существом, представляющим особую ценность. Он считал себя на это способным. «Если существо это разумно, то должно понимать собственную выгоду», — думал он, покидая Атланту, прилетев туда и направляясь теперь в роскошном лимузине в военный госпиталь, где содержалась насекомообразная особь. «Никогда не рассчитывал допрашивать осу или термита», — про себя усмехнулся он, входя в госпиталь в сопровождении встретившего его усатого Главного врача с безукоризненной военной выправкой. — Благодарю вас за любезность предоставить для беседы с вашим пациентом свой кабинет. Но мне кажется, что будет лучше, если вы выделите для этого палату поскромнее, о которой не подумаешь, что «стены имеют уши», и у дверей хорошо бы стоял на страже дюжий санитар. Разумеется, если вы ничего не имеете против. — О'кэй, сэр. Все будет выполнено. Генеральская палата отвечает вашим пожеланиям и по уставу охраняется. — Вы крайне любезны, полковник. Говорит ли ваш пациент по-английски? Меня сопровождает наш доверенный лингвист, знающий шестьдесят с чем-то языков. — Не могу вам ответить, сэр. Он произносит непонятные звуки, воспринимаемые нами как прекрасная английская речь. — Любопытно, не правда ли? Есть ли еще особенности? — Чисто медицинские, касающиеся жертвы радиоактивности. Надо полагать природного мутанта, поскольку после Хиросимы прошло лишь два года, а мы имеем дело со взрослым человеком. — Человеком? Вы вполне в этом уверены, доктор? — Но вполне, сэр. Требуется основательное исследование этой аномалии. Он не ест, ограничивается солнечным светом. Впрочем, подобный случай с одной девочкой описан в литературе. — Я постараюсь предоставить вам такую возможность, доктор. Разумеется, если внешние обстоятельства не помешают, и вам не придется ограничиться вскрытием. — Очень не хотелось бы. сэр. В госпитале лечат… — Все будет зависеть от его откровенности, полковник. — О'кэй, сэр! Они вошли в комфортабельную со вкусом обставленную палату. — Прошу извинить, но мы вынуждены открыть кран кислородной магистрали, что необходимо вашему собеседнику. — Придется почувствовать себя в зарослях Амазонки. Вы там не бывали? Благодарю вас, доктор. Мы с лингвистом воспользуемся вашей любезностью и подышим кислородом. Надеюсь, он не слишком повредит нам? — О нет, сэр! — заверил Главный врач, повстречавшись в дверях с креслом-каталкой, где сидел на вид десятилетний, наголо остриженный мальчик. — Как поживаете, сэр? — обратился к нему директор ЦРУ, движением руки удалив санитара. — Мне передали, что вы понимаете английскую речь. Доставленный сюда, как он понял, для контакта с кем-то влиятельным, Коэн произнес несколько невнятных звуков, которые директор ЦРУ воспринял как английские слова, а лингвист как редкий африканский диалект угу-угу: — Спасение вашей планеты — первостепенная забота нашей цивилизации. — От чего вы хотите спасать нас, сэр? — с сарказмом спросил высокий посетитель. — От взаимоуничтожения разумных существ вашей планеты, — передал Клэн, не раскрывая губ. Директор ЦРУ покосился на привезенного с собой помощника. — Я думаю, что напрасно обеспокоил вас, майор. И буду крайне признателен вам, если вы сочтете возможным передать сейчас Главному врачу мою благодарность за оказанный прием. Военный лингвист щелкнул каблуками и удалился, удивляясь, как это директор ЦРУ понимает африканский диалект угу-угу. — Рад встрече с вами, сэр. Как позволите обращаться к вам? — начал беседу высокий гость. — Командир Коэн. — Простите за любопытство, чем пришлось вам командовать? — Межгалактическим космолетом. — И вы пробыли в полете не одну тысячу лет, достигнув столь почтенного возраста? — Отнюдь нет. Нам известна структура Вселенной, и наш космолет не так долго пробыл в пути. — И по недоразумению сбит нашими военными в Нью-Мексико. Я сожалею об этом, сэр. Но чем привлекла вас база Корнуэлл? — Сосредоточением там пагубных средств уничтожения. — Для кого пагубных, хотелось бы спросить? — Для всего живого, что на планете расцвело с зачатком разума у вам подобных. — Не выглядит ли это преувеличением? — еле сдерживая себя, спросил шеф разведки. — Мне, вернее, нам на нашей планете это представляется Безумием Разума. — Ваше нормальное общество, надо думать, обладает средством против этого? — В свое время оно пережило такой период. Перестроить надо психику ваших людей, кого даже религия не сдерживает. — Откуда вам известны такие подробности? — Мы тысячелетиями изучаем вашу планету, за вас страдая. — Откуда вы прилетели к нам на Землю? Ответьте, если это вас не затруднит. — Из одной из множества галактик другой части Вселенной. Директор ЦРУ был убежден, что общается наедине с инопланетянином по имени Коэн, как звучало в его мозгу имя командира космолета. Ему и в голову не приходило, что перед ним лишь биоробот, связанный с инопланетным ученым, его двойником, и что вокруг подлинного профессора Коэна не в генеральской палате военного госпиталя, а в макете улетевшего космолета находятся члены Высшего Совета чужой бесконечно далекой планеты, заботящиеся о судьбе сходного с ними человечества, начавшего опасный путь в бездну небытия. — Чего же вы хотите? Применить против нас всесокрушающее оружие? Какое, позвольте узнать? — Не уничтожения. — Каким же еще оно может быть? Не могу себе представить! Председатель Высшего Совета родной планеты Коэна шепнул ему: — Предложи, профессор, показать им погибшую по той же причине планету. Сидевший в каталке лысенький человечек, не размыкая губ, передал шефу американской разведки: — Мы доставим на место гибели недоразвитой, как у вас, цивилизации… — Кого? Разъясните, пожалуйста. — Ваших мудрецов, экспертов, представителей власти. Вас, например. — И что они увидят, хотелось бы узнать? — Погибшую планету мертвых пустынь и руины городов. — От чего погибшую? — От Безумия разума, охватывающего сейчас вас. — В чем же выразилось там это «безумие»? — Во взаимном уничтожении людей, в презрении гибнущей Природы. — Послушайте, мистер Коэн, если я правильно выговорил ваше диковинное имя. Как я могу доверять вашим словам, беспомощного ушибленного пришельца, командира погибшего корабля, рассуждающего, как адмирал космической флотилии, скорее всего рожденной в его больном воображении. — Отказ ваш будет преступлением перед населением Земли, — передал Коэн мнение членов своего Высшего Совета. Директор уже не мог сдержать себя: — Не будь вы пострадавшим в крушении, а мы гуманны, я усмотрел бы в вашем предложении попытку похищения американцев. — Я предлагаю только помощь. — Вам известны те средства вооружения, которые погубили упомянутую вами планету? — Известны и недопустимы. — При всей моей симпатии и уважении к вам лично, мне трудно будет отстоять вас, нарушителя американского воздушного пространства, если вы не поделитесь со мной своими знаниями по этому поводу. — Не надейтесь, — твердо, как показалось директору, прозвучали в его мозгу слова Коэна. Понявшие это члены Высшего Совета, находясь рядом с самим профессором Коэном в макете корабля, одобрительно кивнули. — Разговор окончен, — оборвал директор и громко крикнул, — уберите эту… — он не сразу нашел нужное слово, — эту особь! — закончил он. Санитар вошел из коридора, чтобы увезти странного пациента.Сошлись тогда два антиподаРазумного, казалось, рода.
10. Необычные страдания
— Как Коэлли? — обернулся профессор Коэн к членам Совета. — Очень мучается, бедняжка. Очевидно, ей не удалось отключить биосвязь и она все чувствует за своего двойника. Даже если… — Если тот погиб? Конечно так! От взрыва! — в отчаянии воскликнул Коэн. — Она не могла успеть! — Несчастная! — произнес отвечающий за своих биороботов биоинженер. — Робот может погибнуть, но биоклетки его останутся живыми, и с ними биосвязь не прервалась. Прелестная Коэлли все будет ощущать, пока… Он не договорил, но все поняли его. Коэна отвели домой, где врачи пытались облегчить страдания Коэлли. Пока биоробота-отца допрашивал директор ЦРУ, био-Коэлли, как погибшую, отвезли в операционную госпиталя Базы для… препарирования. По приказанию свыше предстояло узнать строение чужепланетного существа. Узнав от врачей об этом, Коэн был в отчаянии. Коэлли предстояло выдержать непереносимые мучения вместо своего, уже не чувствующего двойника. Эти мысли терзали Коэна, пока его вели из генеральской палаты после беседы с вежливым главным разведчиком страны, и он понял, что его Миссия действительно не закончилась и ему предстоит борьба за спасение обреченной на гибель всего живого на планете. Он оглядел гладкие стены кислородной палаты, больше похожей на тюремный каземат. Мысли вернулись к живой Коэлли, страдающей в неимоверной дали, о чем и подумать не могли резавшие ее врачи. — Бедняжка! Как сможет она перенести вскрытие, не мертвая, живая! Халаты. Скальпели. — Все это с пугающей ясностью представил себе Коэн. И был прав в своей тревоге. Трудно вообразить, что ощущала бедная Коэлли, неразрывно связанная с еще живыми клетками бездействующего тела биоробота, удивлявшего видавших виды анатомов. Она лежала в своей постели, а чувствовала себя на жестком, холодном столе в операционной. Если дома она видела белые халаты врачей, заботившихся о ней, то там они тоже в белых халатах или в операционных передниках. Они брали со столика аккуратно разложенные там острые инструменты и вонзали их в ее тело. Она непроизвольно вскрикивала, пугая своих врачей, а не тех, кто с любопытством обнажал ее внутренности, дивясь отсутствию пищеварительных органов, женских признаков и всего им привычного. Они не понимали, что биороботу это не нужно, что он воспринимает солнечную энергию совсем другими органами. Они вырезали и вытаскивали их из нее, причиняя немыслимую боль, не догадываясь об их назначении. И пришли, конечно, к заключению, что это существо (в своем биороботовском воплощении, чего они не знали) — не человек! И когда извлекли ее мозг, переложив его в стеклянный сосуд, то не нашли никакого сходства с человеческим, как будто в их автоматах платы с нанесенными на них электрическими схемами походят на нейроны! Врачи в операционной не заметили как раскрылся ее рот, но доктора у постели Коэлли слышали истошный, непроизвольный крик страдалицы. Искромсанная, изрезанная среди чужих звезд, она мучилась, изнемогая еще сутки, пока тело биоробота не было сожжено и живые клетки не перестали существовать. И биосвязь наконец прервалась. Измученная Коэлли или забылась в тяжком сне, или потеряла сознание. Но перестала страдать. Для отца же его страдания еще были впереди.Ее, как мертвую, терзали,Страдала ж за нее живая.
11. Сестра
Президент Трумэн немедленно принял директора ЦРУ, едва тот попросил его об этом. — Я был прав! — раздраженно сказал он, отодвигаясь от стола и закидывая одну ногу на другую. — Эта козявка не понимает цивилизованного обращения. Боюсь, вы не решились бы сбросить бомбу на Хиросиму. Чрезмерная интеллигентность не украшает шефа разведки. Пораскиньте мозгами, как эффективнее продолжить допрос. Поучитесь у гангстеров и добудьте нужные нам сведения, не дожидаясь, когда это сделают русские. — Как я понял Главного врача, инопланетянин беспокоился о своей дочери, входившей в экипаж космолета. К сожалению, она погибла. — Какой осел мог сообщить об этом малорослому папаше? — Это надо проверить. — Не проверить, а опровергнуть! Убедить, что она жива и жизнь ее зависит от его идиотского упорства. Пусть ради отцовских чувств выкладывает нужные нам сведения. — О'кэй, сэр! На этот раз, я полагаю, ему придется быть сговорчивее. — Действуйте, — напутствовал президент, придвигаясь к столу. В военном госпитале близ Атланты среди персонала не было женщин. Огромный пышноусый Главный врач считал свой госпиталь боевым подразделением и соответственно комплектовал его силовым персоналом. Поэтому появление там сестры милосердия было для всех неожиданным. Сестра, как она отрекомендовалась всем медикам, приехала в великолепном кадиллаке, блистательно одетая по последней моде. После беседы с глазу на глаз с «усачем» в его кабине, она, шурша дорогим платьем, прошла в отведенную ей комнату, откуда вышла уже совсем другой скромной, в белом халате и причудливом головном уборе сестры милосердия, похожая на монахиню, не поднимающую ни на кого глаз, прикрытых длинными ресницами. Ее провели в кислородную палату, где биоробот Коэн сидел у окна, заряжаясь в ярких лучах южного солнца. Он вздрогнул от неожиданности при виде Сестры. Ему показалось, что вошла его Коэлли. Сестра и в самом деле напоминала ее своей миниатюрностью и даже отчасти чертами миловидного лица. Пышный головной убор скрывал ее головку, и Коэну казалось, что она такая же привычная, гладенькая, как у его дочери. — Как поживаете, мистер Коэн? Как самочувствие? Ваши новые друзья очень беспокоятся о вас и прислали меня заботиться о госте Земли. Так представили вас всему ее населению, которое высоко ценит вашу заботу о нем. Я не утомила вас своей болтовней? Вы хорошо меня понимаете? Я чешка по происхождению. Меня привезли в Штаты еще совсем маленькой. Зовите меня просто Сестра. Я сделаю все, что вы пожелаете. Я обожаю ухаживать за пациентами. Мы с вами будем гулять в парке по солнечным лужайкам и, я уверена, подружимся, хотя, быть может, я выгляжу для вас дикаркой. Итак, дружба, сэр! О'кэй? Коэн был ошеломлен обрушившейся на него тирадой и успел лишь мысленно передать, что радуется такому общению, в особенности если оно будет способствовать его цели — помочь земной цивилизации. — А как же иначе! Считайте меня своей первой и преданной помощницей в вашем святом деле. Она села напротив него, внимательно изучая его лицо: — Вы расскажете мне все, все о вашей сказочной планете. Считайте меня связанной с нею, ведь я знаю уже двух ее обитателей… — Двух? — не удержался Коэн от мысленного вопроса. — Як вам прямо из базы Корнуэлл. Мне привелось помогать как хирургической сестре при тяжелой операции одного из ваших спутников, вернее., спутницы. Ужасная рана бедра и ожог. Бедняжка так страдала. Наши наркотические средства оказались непригодными для внеземного организма. К счастью, все обошлось. Рана заживает. Ваша спутница жива. — Эта спутница — моя дочь. — Правда? И вы не побоялись взять ее с собой в такой опасный рейс? Я счастлива за вас! Ведь вы могли счесть ее погибшей! Она такая прелестная у вас. Я была польщена, услышав, что чем-то напоминаю ее. — Это правда, — согласился Коэн. — Вот и отлично, дорогой Коэ. Я могу вас так называть? Вы стали мне уже таким близким. Одно меня беспокоит. — Что именно, Сестра? — поинтересовался Коэн, размышляя о том, в какую ошибку впали его соплеменники, приняв спасительную операцию за препарирование. Не следует забывать, что они участники первого эксперимента. Еще нет ни у кого опыта. — Меня беспокоит, что она, выздоравливая, попадет в жесткие лапы с когтями агентов ФБР. Они постараются узнать у нее, как лучше убивать большие массы людей, о чем она, наверняка, и представления не имеет. А они изощренные палачи. Коэн был ошеломлен. Узнать у самой Коэлли, что происходит с ее биодвойником, пока она в забытьи, невозможно. Словоохотливая и настойчивая Сестра вытащила Коэна на прогулку. Ему было тяжело преодолевать земное притяжение. Сестра раздобыла легкое кресло на колесах и ласково, как малое дитя, посадила туда Коэна. — Ну вот и солнце нам светит. Как я завидую вам, воспринимающему, как мне сказали, его энергию вместо отвратительной нашей процедуры поглощения и переваривания пищи. Гадость! Я преклоняюсь перед вами, не говоря уже о вашей высшей гуманности, приведшей вас на нашу неустроенную планету. Я благодарю Бога, что он позволил нам встретиться. Я очень религиозна и предана католической вере. Побывала в Риме, имела счастье поцеловать руку самому Папе. Мне казалось, я возношусь к небу. И представьте себе, нечто подобное ощущаю и теперь, общаясь с вами. Вы — святой для меня. И посланы нам Богом. — Не знаю, Сестра, чьей заботою сердечной вы посланы ко мне. — Да, заботой о вашей раненой дочери, которой грозит такая опасность. Как уберечь ее от негодяев, которые самыми недостойными методами будут выпытывать у нее нужные им сведения. Я ломаю себе голову, как уберечь такую очаровательную девушку. — И это можно сделать? — прозвучал в мозгу Сестры вопрос Коэна. — Можно! Но, конечно, не обращаясь к высшей власти, у которой не дрогнула рука разом уничтожить сотни тысяч мирных, даже не военных людей. Что им до какого-то чужепланетного существа… — Если не они, то кто же может ей помочь? — Вы, Коэ, только вы! — Каким же образом? Я с радостью дочь бы заменил. — Я уверена, что мы поймем друг друга и убережем вашу девочку… — Сестра, вы — ангел, — готов был расчувствоваться не только биоробот в военном госпитале близ Атланты, но и подлинный Коэн. Он спешил убедиться, что его Коэлли очнулась в соседней комнате и поделится с ним впечатлениями ее биороботного двойника. Но когда он вошел в комнату еще не очнувшейся дочери, то увидел вскочившего с сиденья у постели биоинженера. — Извините, профессор, меня. Я не мог ее покинуть. Это выше моих сил. Коэн потрепал его по плечу: — Вы говорите так, будто биоробота Коэлли не существует, а она жива! — Не может того быть! — воскликнул Эвиэн. — Мои приборы подтверждают, что биосвязь Коэлли с биоклетками двойника прервана из-за их уничтожения, видимо, огнем. — А мне передали информацию, что Коэлли в биороботе жива, подверглась лишь операции, спасшей ее ногу. Не подействовал только наркоз, что здесь вызвало ее страдания. — Ввели вас в заблуждение, профессор! Такого случиться не могло. Прелестная Коэлли ваша не операцию без наркоза перенесла, а препарирование с изъятием внутренних органов жизнеобеспечения робота. — Как странно, — в смущении произнес профессор Коэн. — Должно быть я психологически не разобрался в людях тех! Но в людях своей планеты, в чувствах молодого биоинженера он разобрался точно и с внутренней улыбкой попросил добровольную сиделку позвать его, когда очнется дочь.Она на ангела похожа,И ложью ласковой все может.
Редакция журнала поздравляет Александра Петровича КАЗАНЦЕВА с 91-м Днем рождения! Здоровья, творческих открытий.

12. Анатом и капеллан
Врачи, препарировавшие погибшую в сбитом объекте загадочную девушку без женских признаков, долго не могли прийти в себя. Извлеченные из трупа органы ни на что не походили. Ни на желудок, ни на кишечник, ни на печень или почки. И мозг был ни человеческий, ни обезьяний. Словом, препарированное существо, очевидно, разумное, судя по высокой технологичности летательного аппарата без обычных двигателей, не было человеком, созданным Богом по образу и подобию своему. Как же это могло быть? И старший из патологов доктор Браун, связанный не только устрашающей подпиской о неразглашении, но и клятвой на Библии в присутствии священника базы Корнуэлл отца Майкла, за невозможностью обратиться еще к кому-нибудь пришел за разъяснениями к нему. — Сочтите это за исповедь, святой отец. Но сделанное нами препарирование неизвестного существа лишило меня покоя. Враг человеческий подкинул этого урода, чтобы усомниться нам в Священном писании. — Похвально, сын мой, твое обращение к церкви, чтобы приобщиться к Святой Истине. — Потому я к вам пришел, святой отец. — Любой интеллигентный человек, не сомневаясь в вере, должен понимать Божественную символику Священного писания. Семь дней творения от вечности идут. И всяких динозавров и свет далеких звезд, миллиарды лет летевший к нам, в единый тайный акт включают. — Где ж человек, подобный Богу, повелевшему ему жить и размножаться, когда у этой инопланетянки нет того, что отличало Еву от Адама? — А кто сказал, что Всемогущий, звезды зажигая, планет не создал вокруг них и не позволил жизни там развиться? — И разумные там лишь внешне человеко- или богоподобны? — Почему внешне? Не знаем мы пока, каких нам братьев Бог сотворил. И к нам летя, мечтали ли они о встрече с лаской или посланцы дьявола они. Все в Высшей воле, доктор Браун. Останься с верою, сын мой. Но доктор Браун был все же врач. Загадочные внутренности препарированного существа по-прежнему смущали его. Вот если бы не грозная подписка о неразглашении и поспешное сожжение пришельцев, американская наука внесла бы неоценимый вклад в познание мироздания. Но… сидящие вверху считают, что им виднее… Законопослушным католиком остался доктор Браун.Кто верует, всегда блажен.Средь крепостных церковных стен.
13. Обольщение арифмометра
Президент Трумэн сам позвонил директору ЦРУ, чтобы узнать, как продвигаются дела с раскрытием инопланетных тайн. Он был раздражен упорством профессора Оппенгеймера, создателя первой атомной бомбы, который, терзаемый тем, что сделал, наотрез отказался от работы над более разрушительной водородной бомбой, предложенной венгерским эмигрантом Тейлором. Пришлось Оппенгеймера отстранить от совершенно секретных работ, к которым не допускать и сторонников пресловутого письма Эйнштейна и Сцилларда Рузвельту, протестовавших против применения атомного оружия, хотя они же и предложили его из опасения, что оно раньше появится у Гитлера. Директор ЦРУ заверил президента, что все идет по плану и в отношении инопланетянина приведено в действие «оружие», превосходящее атомную бомбу, — Секс-бомба. — А вы уверены, что она на них подействует? Мне, как президенту Соединенных Штатов, нужны гарантии безошибочности действий. — Если командир космолета так беспокоится о своей дочери, значит он мужчина, самец и уязвим. К тому же по вашему совету, — продолжал докладывать шеф разведки, — ей уже удалось его убедить, что дочь жива и он может спасти ее от мучительных процедур. Несомненно, он поделится с нашей доверенной дамой своими знаниями, которые будут сейчас как нельзя более кстати. Если русские хотят иметь свою Хиросиму в кармане, то им надо преподнести что-нибудь покрепче. — Будьте молодцом, Тэдди, — похвалил шефа разведки Трумэн. — Вы на правильном пути. Это говорит вам ваш президент! Видит Бог, СЕКС — великое дело и может нам помочь.Каким высоким ни был сан,И все ж обман — всегда обман.
Сестра, явившись рано поутру к своему подопечному в военном госпитале, застала Коэна бодрствующим, принимающим у окна заряд утренних солнечных лучей. — Вы завтракаете, сэр? Как это прелестно выглядит! Вы не будете ничего иметь против, если я присоединюсь к вам? Но мне придется сбросить с себя все, что мешает общению с солнцем, кроме мини-мини… И, не дожидаясь ответа Коэна, она стала бесцеремонно раздеваться, причем делала это с непревзойденным изяществом классического стриптиза. Коэн со смесью удивления и неловкости наблюдал за ее движениями. — Считайте, что мы с вами на пляже. О'кэй? Как я выгляжу, на ваш взгляд? — говорила она, усаживаясь рядом с ним к окну и касаясь его голым плечом. — Когда солнце разморит меня, мне так хочется в постельку. А вам? Нам надо крепить нашу дружбу, Коэ. Не так ли? — Думаю, что не так, мадам, — прозвучало в мозгу секс-бомбы, не знавшей отказа испытанным приемам. — Почему не так? Я вам не нравлюсь? У вас другие женщины? Скольких вы любили? Кого больше всего запомнили? Признайтесь! Мы же друзья! — Я мог бы сказать, Сестра, что не вполне понимаю вас, но это было бы ложью. А я ее не принимаю. Мне хочется постигать истину. — Вот и отлично! О'кэй! Я знала, что вам захочется… — она запнулась и кокетливо закончила, — узнать земных людей. И в первую очередь нас, женщин. Не правда ли, Коэ? — Вы заблуждаетесь, мадам, — жестко прозвучал неслышный голос Коэна. — Вы считаете меня не за того, кто я есть. — Как это не за того? За отца прелестной Коэлли, на которую, по вашим же словам, я похожа. Ну, дотроньтесь до меня. Как до дочери. Дверь в кислородную палату открылась, и на пороге показался Главный врач: — Гм, — пробасил он в усы. — Мне кажется, что я не совсем вовремя явился со своим врачебным обходом, — и он дал знак сопровождающим медикам остановиться. — Пусть вам это не кажется, — возмутилась Сестра. — Я же просила… — Прошу извинения, я сожалею и тотчас удалюсь. — Нет, прошу вас, доктор, не уходите! — запротестовал Коэн. — Мне требуется ваше медицинское заключение. — Это не ко времени! — повысила голос Сестра. — Сейчас, я считаю, важнее всего помочь дочери мистера Коэна, которая попала в руки агентов ФБР.

Документальная съемка операции инопланетного существа, произведенной в одной из секретных военных лабораторий США после катастрофы летающей тарелки в Нью-Мексико в 1947 году.
— Извините, но это за пределами медицины, — заявил врач. — Но то, что ваш пациент или узник обходится без пищи, интересует медицину? — спросил Коэн. — О да, конечно, сэр! У нас так мало подобных примеров. Особенности мутантов, жертв радиоактивности, представляют большой интерес для нас. — У вас в госпитале есть вычислительные устройства? — Разумеется, сэр. — Вы кормите их за своим обеденным столом? — Коэ, друг мой! Зачем эти нелепые вопросы? — протестовала Сестра, начав одеваться, ничуть не стесняясь присутствия мужчин. — Это очень важно, — настаивал Коэн. — Мы их подключаем к электрической сети, — недоумевая ответил Главврач. — Ну, а, скажем, арифмометры, которыми прежде пользовались ваши бухгалтеры… Вы не заботились о том, чтобы они дали потомство? — В прошлом мы покупали новые в магазине. Простите, мистер Коэн, но ваши несколько странные вопросы тревожат меня как врача. Возможно, сказываются последствия травмы. — Отложите ваши медицинские темы, — властно потребовала Сестра. — Мисс Коэлли в опасности. Надо вызвать сюда агентов ФБР. Мистер Коэн расскажет им все, что их интересует. — Это бесполезно, — твердо передал Коэн. — Никакой опасности для биологического устройства, поврежденного близ Корнуэлла, нет. Оно было запрограммировано под мою дочь Коэлли, как мое устройство запрограммировано под ее отца, профессора Коэна, за которого вы меня принимаете. И напрасно стараетесь уверить, что погибшее и препарированное биоустройство Коэлли продолжает существовать, рассчитывая получить опасные для человечества сведения. — Вы безумны, мистер Коэн. У вас бред! — забеспокоился Главврач. — Не хочет ли он в этом бреду сказать, что я обольщала арифмометр? — вне себя от возмущения воскликнула Сестра. — Такая гипотеза может многое объяснить, если я, конечно, не ошибаюсь, — заметил, ухмыляясь, врач. — Вы не ошибаетесь, доктор, — подтвердил Коэн. — Но откуда эта особь может знать, что произошло с другой особью в Корнуэлле? — вне себя от возмущения вопрошала Сестра. — Я биологически связан с профессором Коэном, представляя его здесь, как была связана со своим биоустройством Коэлли. — Разбирайтесь с этими арифмометрами или биоустройствами сами, — высокомерно бросила разгневанная Сестра, покидая палату. Главный врач проводил ее насмешливым взглядом. — И чему их учат в разведшколе! — сказал он, садясь напротив Коэна. — Ваша информация представляет еще больший интерес, чем исследование предполагаемого мутанта, — и, расправив усы, он устремил на загадочное существо внимательный, пронизывающий взгляд.
14. Быстрый Бизон
Быстрый Бизон, вождь индейского племени из ближней к военной базе Корнуэлл резервации, вернулся с охоты, спешился, отдал коня и охотничьи трофеи сыну, узнав от него, что его ждет белый гость из Корнуэлла. Неторопливо величавой походкой вошел вождь в открывшуюся со скрипом дверь, церемонно молча поздоровался за руку со знакомым военным кинооператором базы и уселся напротив него у тлеющего посередине помещения костра. Дым уходил в отверстие потолка, вернее крыши. По его знаку темнолицая женщина с иссиня черными, заплетенными в косички волосами подала вождю две трубки, набитые табаком. Хозяин дружески протянул одну из них гостю. Тот знал, что отказаться нельзя, и, затянувшись слишком крепким для него табаком, закашлялся. В полном молчании попробовал еще раз. И только когда кинооператор пришел в себя от угощения, Быстрый Бизон безразличным тоном спросил: — Что привело Охотника за всем, что можно снять, в вигвам Быстрого Бизона? — Уверенность, что нет более гордого, отважного и верного вождя, чем Быстрый Бизон. Только ему можно доверить великую тайну всего человечества. — И гость знает ее? — как бы между прочим, спросил вождь, впившись в гостя глазами. — Не только знаю, но принес ее вождю на сохранение на пятьдесят лет. — Уже двести лет как белокожие пришли в наши прерии, люди племени Быстрого Бизона не живут так долго. — Я говорю о племенах всей Земли. Индеец глубоко затянулся и выпустил такой клуб дыма, что он столбом устремился к отверстию в потолке. — Их очень много. Больше, чем цветов весной в прерии. — Скорее, колючих кактусов, норовящих в пустыне любого уколоть. — И все дороги становятся тропами войны, — заключил вождь. — Вот этого больше всего испугались большие начальники, когда наша пушка сбила летевшую в небе маленькую луну. — С маленькими шестипалыми людьми, — добавил индеец. — Как можно рассмотреть? Ведь далеко стоял. — Быстрого Бизона в детстве звали Птичий Глаз. — В катушке, которую я прошу хранить пятьдесят лет, он разглядит, что маленькие люди — не люди и живут на другой Земле у иной звезды. Она светит им, как наше солнце. — Большие начальники боятся, что маленькие шестипалые люди придут на Землю и поступят с ними так, как сами они двести лет назад — отнимут у живших здесь их землю. — Быстрый Бизон верно говорит про начальников. Они судят по себе, стремясь захватить все больше, загнав хозяев здешней земли в резервации, страшатся, что шестипалые умнее их и будут держать их в скотских загонах. И подобно страусу со страху прячут они голову в песок. Словно скрыв появление звездных людей, они избавятся от них! И приказано у нас сжечь все, напоминающее шестипалых, запугать всех, кто видел их, заставляя считать, что ничего этого не было. Я снял много катушек о шестипалых и их корабле, и все их для вила сжег, все, кроме одной, которую сохранит для людей будущего самый смелый, самый мудрый из вождей. Пусть Быстрый Бизон возьмет эту катушку. Она прольет свет тем, кто познать хочет Великий звездный путь, что серебрится ночью в небе. Индеец протянул руку и молча взял переданную ему бобину. — Сын Быстрого Бизона Зоркий Ястреб даст тебе коня и проводит до базы, — прощаясь, сказал вождь.Благородство, гордость, смелость,Пренебреженье к пришлым белым.
В лунном свете каменистая пустыня казалась застывшим в штиль морем, и поблескивающие россыпи камней сливались в сказочную лунную дорожку, ведущую к ночному светилу. У гряды скал, поднявшихся как бы из-под земли, кинооператор узнал место падения инопланетного аппарата. С грустью смотрел он на камни, куда не суждено было ступить загадочным звездным людям, поразившим патологоанатомов отсутствием знакомых органов. Земля на фоне освещенных луной скал казалась особенно темной и неприветливой. — Ястребиный Глаз видит огонек, — сказал сын вождя и повернул коня в сторону, там спешился и снова, не касаясь стремени, вскочил в седло. В руке его что-то поблескивало. Он показал кинооператору полоску: — Была мягкая, не как теперь. Кто-то хватал, вдавил руку. На серебристом металле отпечаталась ладошка шестипалого пилота. — Надо спрятать, — посоветовал оператор. — Нет, — возразил индеец. — Это талисман! Дальше оператор пошел знакомой дорогой пешком, а индеец, ведя другую лошадь в поводу, ускакал.

Отпечатки-слепки шестипалых рук. Взяты с поверхности неопознанного летательного объекта.
15. Клятва Гиппократа
Джентльмен в шляпе, надвинутой на узко посаженные глаза, прошел в кабинет Главного врача военного госпиталя и потребовал у санитара немедленно вызвать того для разговора. Главврач застал непрошеного гостя в неснятой шляпе, развалившегося в кресле, положившего ноги на журнальный столик. — Садитесь, док, — указал он рукой хозяину кабинета на его кресло, — говорить будете с федеральной спецслужбой. О'кэй? — О чем разговор? — недовольно пыхтя в усы, спросил Главврач. — Ну, об этом насекомом, мутанте… или как его там… — Вы имеете в виду мистера Коэна с другой планеты? — Вот-вот, о нем вам и придется позаботиться. — Мы, как врачи, заботимся о нем. Ему требуется больше кислорода, и мы поместили его в кислородную камеру. Представьте, вместо пиши ему нужен солнечный свет, мы чисто вымыли стекла в его палате. Наблюдаем за ним и ликвидировали последствия травмы. — Насчет травм мы еще подумаем, а вот кислород и свет — это ему ни к чему. — То есть как это ни к чему? Как вас понимать, сэр? — А вы пораскиньте мозгами, док. Тогда поймете, как надо служить Америке да еще в звании полковника. — Я это звание получил именно за службу в армии Соединенных Штатов, молодой человек. — А теперь для армии Соединенных Штатов нужны некоторые сведения, известные вашему ублюдку, а он упорствует, объедается у вас солнечным светом, а ему врачебная диета нужна. Поэтому вам надлежит прикрыть окна в его камере глухими щитами, пока у него не развяжется язык. — Я врач, сэр! И давал клятву Гиппократа лечить, а не пытать пациентов. — Вы давали присягу, полковник. И она сейчас действует, как считает наш президент, а не клятва какому-то древнему язычнику. И вам придется выполнять мои указания от имени президента. — Я не могу наносить вред пациенту и скорее подам в отставку, чем поступлю против своей совести. — Считайте свою отставку принятой, а о щитах на окна я сам распоряжусь. — Может быть, вы возглавите врачебный обход госпиталя? — Я лошадиных клятв не давал. Ведь ваш Гиппократ ипподрому сродни. — Я сообщу о своей отставке пациенту, не хочу, чтобы он обо мне плохо думал. — Пусть он лучше думает, как бы ему не было плохо.Когда-то была святаКлятва Гиппократа.
Главврач вошел в кислородную камеру, когда окна в ней стали закрывать снаружи. В комнате становилось сумрачно. Коэн, сидевший у окна, встал при виде вошедшего Главврача. — Они хотят оставить вас без света и темнотой вынудить вас сообщить какие-то сведения. В связи с этим я подал в отставку, не желая принимать в этом участие. — Это делает вам часть, доктор. Требуемые сведения касаются наилучших способов убивать людей, которых вы лечите. Но они ошиблись, доктор. Мое биологическое устройство рассчитано на пребывание в космической темноте в течение трех миллионов (по вашей десятеричной системе) ударов сердца. — В течение месяца! — мгновенно сообразил врач. — Но я ощущаю и недостаток кислорода. Меня, доктор, можно уничтожить, сжечь, как мою бедную био-Коэлли, но нельзя сломить. Ведь я — часть профессора Коэна, который в другой галактике недосягаем. — Какое безумие отказаться от общения с вами, скрыть ваше существование, брать с нас клятвенные подписки о неразглашении! Если б я, как подавший в отставку, мог бы задержаться в госпитале, я бы часто навешал вас, чтобы узнать о вашей планете и каким должно быть человечество. Но я уже знаю, что не таким, как у нас! Когда врач уходил, в открытую дверь хлынул солнечный свет. Но дверь плотно закрылась, а подошедший санитар запер ее на ключ.
16. Президенты
В январе 1948 года по американской традиции прежний президент Гарри Трумэн передавал дела управления страной вновь избранному президенту генералу Дуайту Эйзенхауэру. Они проводили много времени вместе, проявляя лояльность друг к другу, хоть и представляли разные партии и республиканец сменял демократа. И все же различное отношение к политическим вопросам порой прорывалось у них. Так, 20 января за пять дней до вступления генерала в президентскую должность в том самом овальном кабинете Белого дома, где в прошлом году они обсуждали план Пентагона атомной бомбардировки ста русских городов, Гарри Трумэн вспомнил об этом и сказал: — Так кто же выиграл войну, поставил последнюю точку: ты, командовавший американскими войсками во время войны, или я, президент Соединенных Штатов, не побоявшийся сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? — В этом не было военной необходимости, — заметил генерал. — Как не было? Я заставил перепуганных японцев капитулировать! — Атомные бомбы были сброшены в начале августа, а капитуляция произошла 2 сентября, после разгрома русскими Квантунской армии, когда японцы фактически лишились сухопутных сил. Лучше было бы послушать Эйнштейна и Сцилларда и не побуждать русских создавать свое атомное оружие, которое не позволит нам применить свое, ибо, как я уже говорил, победителей в атомной войне не будет. — Сенат не согласится с тобой, ядерное оружие надо совершенствовать, и новому президенту заботиться об этом. И венгра Тейлора с его водородной бомбой тебе, Дуайт, придется поддержать. — Придется, потому что ядерная гонка началась, и я не уверен, кто первым взорвет термоядерную бомбу — мы или русские. Кстати, о русских. Помнишь, Гарри, как ты открытым текстом приказал сбить предполагаемый их аппарат. Он оказался, как писала пресса, воздушным шаром. — Это дело особой секретности, которое я откладывал на коней нашей работы. — Что же это было? Можно познакомиться с документами? — Я приказал все уничтожить, сжечь. — Но это противозаконно, Гарри. Существует срок давности, после чего тайное становится явным. — В данном случае срок давности — вечность. Люди никогда не должны узнать об этом! — Но почему? — Потому что это противоречило Библии. Я хранил веру в Бога. — Чем же можно опровергнуть Священное писание? — Бог создал человека по образу и подобию своему, и не могут прилететь из космоса на Землю разумные существа, не похожие на создания Господа. — В Нью-Мексико прилетали инопланетяне? — Их сбили, как я приказал. Двое погибли, третьего взяли живым. Как президент, ты должен знать об этом. Для остальных — произошла авария с воздушным шаром. Двоих погибших препарировали. Оказались бесполыми, а внутренности их ни на что не похожи. И сродни Божьим тварям, разве что насекомым. — А третий? — Третий умел беззвучно передавать английские слова и грозился превратить Землю в мертвую планету страшными средствами уничтожения, какими они располагают. Попытки узнать, чем они владеют, не увенчались успехом. Пришлось уничтожить это вредное насекомое. Жаль, наши техники не смогли разобраться в принципах действия их аппарата. Двигателей, нам привычных, в обломках не оказалось. Что-то болтали о неведомых психических полях. Но скорее всего, эти болтуны сами были психами.Не в гибели машин беда.А в лжи правителей всегда…

Снимок шестипалой ступни человекоподобного существа, находившегося под обломками звездолета. Фото И. Чунусова
— Трагичное это, на мой взгляд, дело, — вздохнул Эйзенхауэр. — Ну что ж, будем считать это трагедией в Нью-Мексико. — Нет, дорогой президент. Это трагедия всего обманутого тобой человечества, которое должно знать, что оно не одиноко во Вселенной! — А как же церковь? — Будет молиться Богу, еще более Всемогущему, разнообразно сотворившему всю Вселенную. Трумэн с неприязнью посмотрел на своего преемника: — Во всяком случае я надеюсь, что при новом президенте это не будет предано гласности. — В американской истории президенты не порочили своих предшественников. Со мной или без меня, люди узнают о своих братьях по разуму.
Эйзенхауэр сдержал свое слово, хотя при нем и зародилась уфология и неопознанные летающие объекты стали обрастать легендами… Но только через пятьдесят лет, пока престарелый индейский вождь хранил утаенную от уничтожения бобину, фильм о препарировании инопланетянки стал общим достоянием. Он вызвал много споров. Эксперты утверждали невозможность подделки, а скептики все равно сомневались, считая кино великим обманщиком. Никто не понял какие кровоточащие органы были внутри взрезанного тела пришельца, и никто не понял, что эти органы принадлежали существу, не нуждающемуся в пище, не способному к размножению, и что это были биороботы.
17. Эпилог
На торжество свадьбы Коэлли и Виэна в дом профессора Коэна пришел сам Председатель Высшего Совета. И так уж получилось, что после традиционного чествования молодых старшие мужчины собрались в кабинете профессора и разговор зашел о трагедии последней экспедиции Коэна. — Судьба твоего робота-двойника, погибшего не только от темноты в камере, где он мучился, задыхаясь, но и от темноты самих людей, его захвативших, говорит о многом, — произнес Председатель. — Судя по светлому уму и благородству Главного врача, с которым я общался через своего двойника, — сказал профессор Коэн, — не все люди безнравственны там. Но, видимо, не им подобные захватывают власть, бросая мирные народы в войн губительных пучину… — Когда узаконивается попрание основных заповедей сосуществования людей в обществе, — закончил за Коэна Председатель, — лишь дети душой чисты и восприимчивы к влияниям. — Вы правы, Председатель, — согласился Коэн. — Настал черед активных действий. Мало только наблюдать. Должно исцелять. — Но как? Есть ли у тебя план новых экспедиций? — Конечно, есть! Я только ведь о том и думал. — Так поделись с Советом. Ведь никого нет опытней тебя. — Свидетелем я прежде был бесчеловечных взрывов городов, где погибали разом сотни тысяч. Я рассмотрел в приборы детишек тени на оплавленной стене. Двойники мой и моей Коэлли летели убедиться в том, что замышляется уничтожение сотен городов. И не будет зашиты от ответного удара по разнузданным безумцам. Ведь после каждого такого взрыва в земле и в воздухе повиснет смерть. Останется пустыня без лесов да городов руины, гдеползать будут двухголовые уроды. Не будет жизни на Земле. — Беда таится в них самих! Воздействовать необходимо на основные их начала. Подавить зачатки зла, агрессии, пороков. — Вот в этом главная задача, — согласился с Председателем Коэн. — Готовься к новой экспедиции, профессор. Вошла сияющая от счастья Коэлли: она услышала последние слова отца и Председателя Высшего Совета: — Вы готовите новые экспедиции? — Не наблюдения, а преображения людей Земли, — ответил ей отец. — Позвольте предложить вам помощь. Молодой мой муж Эвиэн, я им горжусь, для биороботов своих придумал препарат, пропитывать что семена цветов. Их аромат становится волшебным. Эманация подавляет порочные гены. Если наши космолеты насытят тучи над Землей «Эвиэтом», то на людей прольется дождь любви, надежды и добра, — закончила Коэлли. — Увы, прелестная Коэлли! Ошибку страшную мы б совершили, когда решились бы природу исправлять, в нее вторгаясь грубо. Геноведение — оружие обоюдоострое и психотропным может стать. Сегодня ангелов мы сотворим, а завтра и рабов покорных. Надеюсь, на Совете профессор нам предложит план иной. — Спасибо, милая Коэлли, я не успел с тобой поговорить. Земля населена людьми, какими были мы когда-то, питаясь трупами, как хищники лесные. Теперь мы содрогаемся от мысли убить кого-нибудь, чтоб съесть. Земные ж люди таковы, наш путь минувший повторяя. Суть существа любого — его пища. У нас она давно искусственною стала. И давние пороки в поколениях изжились. На Землю мы должны прийти помощниками и учителями, чтоб там свой опыт передать. Считалось, что нет большего врага людей, чем мир микробов. Но именно они готовят пишу, которая сравниться только может с радостью солнечных лучей, дарящих биороботам энергию бескровно. И люди на планете дальней сумеют есть, не убивая, с агрессией наследственно утратив и ненависть, и злобу, и жажду убивать. Каждый что он ест, таков он есть. И расцветет там солнечная жизнь! — Твой план, Коэн, звучит как песня. Но петь ее придется на Земле.На планете чтоб жизнь сохранить,Надо мир на ней свято хранить.
Казанцев Александр Планета бурь
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.научно-фантастическая повесть Из книги "Внуки Марса"В. Шекспир. Гамлет

Часть первая. Сестра земли
"— Слава Жизни, вечной и вездесущей! Она есть здесь, есть! К посрамлению чванливых невежд, считающих себя единственными избранниками Природы, а Землю — центром Вселенной!"
Глава первая Тайна жизни
Откуда взялся у человека мозг? Откуда и почему появился вдруг у сравнительно слабого голого двуногого существа этот изумительный орган, давший ему всепобеждающую способность мыслить, которой лишены все остальные обитатели Земли? Почему столь чудесным свойством обладает самое молодое на Земле существо, которому едва ли миллион лет, которое рождает самых не приспособленных к жизни детенышей и все-таки неизмеримо возвысилось над животным миром? Конечно, человека создал труд, но почему ископаемый череп первобытного охотника почти не отличается от черепа современного рабочего, мозг ученого от мозга дикаря? Странно, что именно эти вопросы привели профессора Илью Юрьевича Богатырева на межпланетный корабль "Знание", стартовавший со звездолета "Земля", когда тот достиг близнеца земного Солнца — знаменитой 82-й звезды в созвездии Эридана. Здесь ожидали обнаружить землеподобные планеты… Профессор Богатырев стал звездолетчиком и командиром международной космической экспедиции благодаря своей неистовой вере, вернее, научной убежденности в существовании разумной жизни не только на Земле. Звездолет "Земля" стал одной из планет 82-й звезды, названной исследователями Солнце-2, ибо, принадлежа к тому же звездному классу, что и земное Солнце, она обладала тем же числом планет, правда, если считать за планету кольцо астероидов, вращающихся вокруг Солнца на месте когда-то существовавшей планеты Фаэтон. На первых порах это сходство поразило космонавтов, но Илья Юрьевич увидел в этом лишь общность законов Природы для всех частей Космоса. Ведь никого не удивляет, что атомы одинаковых веществ совершенно похожи один на другой, хотя и находятся в разных галактиках. Очевидно, образование планет у различных солнц определяется общими для Вселенной законами Природы, поэтому "мегаатомы", если уподобить им планетные системы, должны быть так же схожи, как атомы одного и того же вещества. У близнеца Солнца должна была образоваться совершенно схожая с солнечной системой семья планет. И потому вновь открытые планеты у 82-й звезды Эридана, то есть у Солнца-2, были названы соответственно Меркурий-2, Венера-2, Земля-2, Марс-2, Фаэтон-2, а также и газообразные гиганты Юпитер-2, Уран-2, Нептун-2, Сатурн-2. Не оказалось лишь Плутона-2, что подсказывало чужеродное происхождение "солнечного" Плутона. За годы, проведенные в звездолете, Богатырев философски осмысливал единство законов Природы, которые не могли не коснуться и Человека. И он думал о закономерностях, связанных с появлением Человека, о тайне его рождения, о вершине земной эволюции, которую до сих пор рассматривали лишь в масштабе одной планеты. А сколько их, таких планет, где эволюция может идти своими путями! В одной нашей Галактике насчитывают до двухсот миллиардов солнц! Пусть, как полагают, лишь у одного из миллиона светил есть планеты, движущиеся не по вытянутой траектории, не слишком убегая в глубины вечного холода, не слишком приближаясь к испепеляющему светилу, пусть на миллион планетных систем приходится одна лишь схожая с солнечной — все равно в одной только нашей Галактике таких миров будет до двухсот тысяч, и среди них найдутся сестры Земли (если не полные близнецы). И полуседой исполин с тяжеловатыми, но правильными чертами лица, запустив руку в густую, темную, словно оправленную в серебро бороду, часами, днями, месяцами в "кромешной тишине", как любил он говорить, всматривался в колючую россыпь немигающих разноцветных светил, этих бесконечно далеких очагов атомного неистовства материи, дарящих окружающим мирам лучистое тепло, первое из начал Жизни… Как говорил Энгельс в "Диалектике Природы", жизнь возникает всюду, где условия ей благоприятствуют, где вода не всегда камень или газ, но жидкость, где в атмосфере есть кислород для созидательных процессов горения, где налицо простейшие химические материалы для удачных комбинаций молекул, перешагивающих грань между мертвым и начавшим действовать, где среди мириадов канувших в небытие попыток осталось, запечатлелось, продолжило существование только такое содружество клеток, которое уже стало первым организмом, перерабатывающим информацию, знающим обмен веществ и постоянную смену зим и весен, дня и ночи, смерти и жизни. У этого содружества клеток было столько же шансов появиться, сколько у любого другого, но все прочие не оставили следа во времени, и только этот один, первый организм мог жить, существовать и, что самое главное, давать жизнь. И как среди миллионов ответов на вопрос есть только один верный, так и этот первый организм был выбран не слепым случаем, а безошибочной логикой развития, потому что остался в потомстве. А оставшись, он лег в фундамент тысячеглавого Храма Жизни, лестницы которого ведут в несчетные башни развития. Их ступени высечены смертельной борьбой за право жить в поколениях, все более совершенных, более приспособленных. От формы к форме, от вида к виду ведут эти ступени, разветвляясь, поворачивая то вбок, то вверх, поднимаясь и в башни рыб и пресмыкающихся, и в башни птиц и насекомых. Но особенно широкие, великолепные ступени приводят в самую величественную надстройку, увенчанную высочайшей и неприступной башней с куполом, под которым разместился чудесный человеческий мозг. Одиноким стволом среди трав и кустарников вознеслась эта гордая башня до самого неба, до мерцающих звезд. Но нет на ее лестнице целого марша ступеней. Лишь где-то внизу соединена она с неизмеримо более низкой башенкой обезьян, которые оспаривают сходство своего скелета с человеческим у… лягушек. Великий Дарвин, разгадавший в тумане поиска строгую архитектуру грандиозного здания Естественного Отбора, мысленно заполнял недостающие ступени в "башне Человека", иной раз не высеченные в камне истории, а хитро отлитые из гипса современности, как это было со знаменитым пилтдаунским черепом доисторического человека, который был ловко сфабрикован безвестным и бессовестным знатоком. На эти же более низкие ступени биологического развития ошибочно ставил Дарвин и современных нам дикарей, не подозревая в то время, что взятый из каннибальской деревни чернокожий ребенок, получив европейское образование, закончив Кембриджский или Оксфордский университет, становится ученым, ибо мозг его обладает теми же возможностями, что и мозг юного английского лорда. Современник Дарвина, одновременно с ним пришедший к теории естественного отбора, Альфред Рассел Уоллес, статью которого о принципах эволюции всего живого Дарвин получил, уже двадцать пять лет работая над все еще не опубликованной им теорией видов, первый обратил внимание на необъяснимую пропасть, отделяющую человека от остального животного мира. Это Уоллес задал вопрос: "Откуда взялся у человека мозг?" — имея в виду скачкообразное количественное и качественное отличие мозга человека от мозга остальных животных. Во всем согласный с Дарвином в отношении эволюции живых существ, Уоллес склонен был сделать для человека исключение, объяснив непостижимо быстрое его развитие божественными силами. Дарвин темпераментно отвечал Уоллесу: "Нет, нет и нет!" — но располагал в ту пору недостаточными доказательствами. Доказательств и в наше время мало, однако наука ищет их, они должны быть, их надо найти и, быть может, не только на Земле! Палеонтолог и антрополог профессор Богатырев, конечно, был законченным и убежденным материалистом, но не только отвергал божественное вмешательство в формирование прямостоящего двуногого млекопитающего, но и склонен был не замыкать Дарвинову теорию на одной лишь планете Земля. Он был убежден, что именно на других планетах, где жизнь в тех или иных формах будет обнаружена, можно найти недостающую ступень лестницы эволюции. Эта неукротимая жажда поиска привела его вполне закономерно в лунные исследовательские экспедиции. Он участвовал в них и изучал примитивные формы жизни на дне кратера Платона, ускользнувшие от внимания первых людей, ступивших на Луну. Он написал целый трактат о так называемой "лунной плесени", обнаруженной на краю глубокой трещины знаменитой лунной экспедицией Петра Громова. Но дальнейшие исследования автоматическими аппаратами планет солнечной системы не принесли профессору Богатыреву желанного удовлетворения. Все меньше и меньше оставалось надежд на то, что жизнь в ее высших формах будет наконец обнаружена вне Земли. Но убежденность его не была поколебима, просто он связал дальнейшую свою деятельность с исследованием более далеких миров и стал пропагандистом звездного полета, возглавив в конце концов Всемирную звездную экспедицию на звездолете "Земля". И вот здесь, у Солнца-2, он рассчитывал найти то, о чем мечтал. Было немало споров, куда послать исследовательские корабли. Их было три. Предлагали отправиться сразу на три планеты "земной группы". Но Богатырев восстал против этого. Он не хотел распылять силы. И было принято решение, что все три корабля, два с европейскими экипажами и один с американским, полетят на Венеру-2, где Богатырев рассчитывал обнаружить "юность" Земли. На Земле-2, вероятно, был более ранний период развития, чем на родной Земле, поскольку никаких радиосигналов на ней обнаружено не было, впрочем, так же, как и на всех остальных местных планетах. Богатырев распорядился переправить с звездолета его личный зверинец, за которым он сам ухаживал, на командорский корабль "Знание". Заботливо обхаживал и кормил он своих питомцев в "Ноевом ковчеге", как прозвал он отсек космического зверинца с подопытными животными. Его любимицу сибирскую лайку Пулю, страдавшую от невесомости (на корабле не было искусственной гравитации, как на звездолете), пришлось привязать за попонку к полу. Зато кошка Мурка с видимым удовольствием плавала по воздуху. Она принесла в пути пятерых котят от оставшегося на звездолете кота. И эти новые космоплаватели не представляли себе иных условий, кроме невесомости. Пара мышей ловко приспособилась к потере веса, а варана приходилось кормить, обязательно имитируя перед ним прыжки якобы живой еды, иначе он ее как пищу не воспринимал. Голубь же на ракетном корабле утратил всякую способность летать. Крохотным оранжевым полумесяцем, как маленькая Луна в последней четверти, вставала в окне корабля желанная Венера-2, планета-близнец земной Венеры, которая оказалась столь непохожей на все предположения о ней как о сестре Земли. Но у Богатырева оставалась надежда, что здешняя Венера находится в другой стадии развития, чем околосолнечная, и исследователи, быть может, и впрямь встретятся здесь с одним из периодов развития, сходных с давними земными геологическими эрами. Если же здешняя Венера будет столь же неприютна, как и ее далекая тезка, то экспедиция последовательно направится на местные Землю-2 (третью планету), потом на Марс-2 и, наконец, на Фаэтон-2, который, не в пример земному, не успел еще разрушиться. Флагманский корабль "Знание" замыкал цепочку из трех кораблей-разведчиков. Впереди шел европейский корабль "Мечта", в середине, ближе к "Знанию", летел американский корабль "Просперити", знаменуя собой славную традицию совместных советско-американских полетов, начатых когда-то орбитальным полетом "Союза" и "Аполлона". С момента, когда эти три корабля покинули исполинский звездолет, космонавты уже не называли местные планеты Венера-2 или Марс-2. Они называли их просто земными именами, а звездолет был для них Землей. Корабли летели не к Венере, а впереди нее, по собственной эллиптической орбите вокруг Солнца, на какой позади находился и звездолет "Земля". Венера должна была как бы догнать разведчиков; тогда все три корабля станут спутниками планеты, звездолет же пройдет мимо, оборачиваясь вокруг звезды. Планету предварительно изучат с высоты. И уже потом флагман "Знание", взяв американцев с "Просперити", опустится на поверхность Венеры. "Мечте" и "Просперити" предстояло остаться спутниками планеты на все время исследований ее поверхности, неся на себе топливо на обратный путь до звездолета, который через цикл, составляющий около двухсот земных дней, совершит оборот вокруг Солнца-2 и вернется к своим кораблям-исследователям. Флагман же, произведя спуск и подъем, все свои запасы топлива израсходует полностью. Так было намечено, но… Все изменило страшное, сообщение… Радист корабля Алеша, бледный, с окаменевшим лицом, появился в проеме радиорубки, словно не решаясь войти в кабину управления, где сидели в креслах, прозванных зубоврачебными, пристегнутые из-за несносной невесомости ремнями командор Богатырев и инженер Добров, углубленные в программирование электронно-вычислительной машины. Алеша одним взглядом передал Илье Юрьевичу все, что случилось. Богатырев резко повернул вращающееся кресло, стал торопливо отстегивать ремни. Алеша переминался с ноги на ногу. Магнитные подошвы, которые притягивали его к полу, пощелкивали. Добров тоже повернулся. Коренастый, с крутым выпуклым лбом и бритым черепом, он внешне не располагал к себе, был предельно деловит и рационалистичен. Недоуменно смотрел он на молчавшего радиста. — "Мечта"… метеорит… — только и мог выговорить Алеша. Лишь могучие телескопы звездолета позволяли оставшимся на нем астрономам следить за движением трех звездочек в чужом звездном небе. Были эти звездочки исчезающе малой величины, но электронная оптика смогла зафиксировать вспышку на месте головного корабля, сверкнувшего на миг родившейся и навек погасшей звездой, которую никогда не могли бы рассмотреть из солнечной системы… Так закончил свой путь, столкнувшись с местным метеоритом, корабль-разведчик "Мечта". Расплылось в холодной пустоте бесформенное облачко, в которое превратилась и блуждающая железоникелевая глыба, во всем подобная таким же глыбам солнечной системы, и бесценное создание ума тысяч людей, и три отважных человека — англичанин, поляк и француз с целым миром чувств, надежд, мечтаний… Тягостная тишина в космосе, беспримерная, всепоглощающая, давящая… Тишина на родной Земле — это целая симфония незаметных звуков, шорохов, скрипа, далекого лая собаки, или шума поезда, стрекотание кузнечиков в траве, потрескивание мебели… Из космоса в кабину не долетало и не могло долететь никаких звуков. Илья Юрьевич, непривычно хмурый, отяжелевший, слышал только тиканье часов. Оно разрывало ему сердце. Никогда он не думал, что тиканье может быть столь громким, кричащим, горестным… Наконец он поднял голову, оглядел товарищей. — Тяжкое горе, друзья, тяжкое… — сказал он, яростно закручивая на руке привязной ремень. — Удар метеорита… и нет больше товарищей наших… Алеша отвернулся. Добров перебирал магнитные карточки для математической машины. На виске его билась жилка. — По-человечески не представить ничего горше, — продолжал низким басом Илья Юрьевич, — а все же не только в этом беда. Добров поднял голову, положил на пульт карточки, аккуратно пристегнув их пружинкой. — Расчет прост, — сказал он. — Теперь только два корабля… — Голос его сорвался. Илья Юрьевич пристально посмотрел на него: — В том и горесть. Добров заговорил сухо, отчужденно: — "Программа, пункт второй. Инструкция, пункт седьмой. В случае невозможности оставить на орбите рпутника два корабля с запасами топлива на обратный путь для всех трех от спуска на планету воздержаться". Ни нам, ни американцам теперь на Венеру не спуститься. — И, отстегнув ремни, он решительно встал с кресла; его магнитные подошвы щелкнули. Алеша обернулся. — Это что же! — .гневно сказал он. — Товарищей наших потеряли… И теперь повернуть назад? Нет! Не бывать тому! Илья Юрьевич грустно посмотрел на Алешу. Добров поморщился. — Осторожность — сестра расчета, — продолжал он. — Ограничимся проверкой выводов автоматических станций. На Венере есть что разведать и через облачный покров. — Что верно, то верно, — задумчиво подтвердил Богатырев. — Уточним период вращения — раз, изучим атмосферу и влияние на нее здешнего Солнца — два, составим радиолокационный глобус Венеры — три… Исследуем магнитное поле — четыре, выверим полюса — пять… — Не будьте арифмометром, Роман Васильевич! — прервал Алеша. — Все это уже делали и могут делать автоматы. Их выводы вы уточните, и только. Лететь к звездам нужно было во имя Земли… во имя тайн ее развития, а чтобы открывать — надо видеть!.. Добров пожал плечами. Алеша резко повернулся к Илье Юрьевичу: — Илья Юрьевич… прошу вас… По инструкции в случае невозможности посадки разрешается использовать планер. — Для спуска универсального автомата, — напомнил Добров. — К черту автомат! Пустите вместо него меня! — выпалил Алеша. Богатырев нахмурился. — Планер не возвращается, Алеша, — внушительно сказал он. — Я знаю, — проговорил Алеша. — Мне вовсе не просто решиться… Но ведь врачи во имя науки прививали себе чуму. Пусть я останусь на здешней Венере, но я сообщу по радио все, что увижу. Опишу формы жизни. Я дождусь новой экспедиции. Я очень прошу. Мне нужен только планер… Илья Юрьвич встал. В соседней радиорубке звучал зуммер. — Земля! — сказал Добров. Алеша бросился к пульту и включил репродуктор. Сквозь шум и треск космических помех раздался далекий голос. Звездолетчики замерли, боясь пошевельнуться. — Внимание! В космосе! Сектор Венеры! Сектор Венеры! Слушай, "Знание"! "Просперити"! Говорит "Земля". Передает звездолет. Скорбим вместе с вами. Верим в вас. Выходите по плану на орбиты спутников. Сообщите характер повреждения метеоритной пылью защитных слоев кораблей. Сможете ли без ущерба для здоровья дождаться "Искателя-семь", который в случае необходимости вылетит к вам через две недели? Голос выжидающе замолк. На "Земле" ждали ответа. Более трехсот секунд пробудет в пути радиолуч. — "Искатель-семь", — прошептал Алеша. — Он прилетит через пять месяцев… В репродукторе зловеще шуршало, словно ворочался кто-то невидимый, притаившийся, обвившийся вокруг корабля. Добров кивнул в сторону репродуктора: — Вот он, космос, выдает себя. Все вокруг пронизано излучениями… — Да, — подтвердил Богатырев, — в космосе бойся невидимых бурь, а не только летящих скал. На звездолете метеориты фотонным лучом уничтожали, а у нас пока… — А у нас пока смертоносные лучи за пять месяцев сквозь пощипанную защиту уничтожат все живое, — договорил Роман Васильевич. Алеша оживился, почти обрадовался: — Илья Юрьевич, так позвольте, я сообщу сейчас об этом "Земле"! И то, что вы… позволяете мне… — добавил он, умоляюще смотря на Богатырева. Илья Юрьевич подошел к Алеше и провел рукой по его волосам.Глава вторая Шедевры логики
В грузовом отсеке космического корабля "Просперити" стоял планер. Со сложенными крыльями, с выступающей застекленной кабиной он напоминал фюзеляж маленького скоростного самолета. 16 На свободном месте между планером и картонными ящиками с консервами стоял командир "Просперити" инженер Аллан Керн, сухой, жилистый человек с длинным лицом, холодными голубыми глазами и коротко остриженными усами. Он уже знал о несчастье, но, не меняя распорядка дня, занимался гимнастикой: натягивал резиновые тяжи, приседал, глубоко дышал, откидывая назад руки, поднимая грудь. В грузовой отсек вошла Мэри Стрем, радистка корабля и астронавигатор, девушка спортивного склада, с решительными движениями, с гордо посаженной головой и острыми, но приятными чертами лица. — Мистер Керн, — звонко сказала она, — мистер Богатырев запрашивает ваше мнение. — Прошу извинить. Еще два упражнения, — ответил Керн, вытягивая в сторону ногу. Мэри Стрем нахмурилась, неодобрительно глядя на шефа, и горько сказала: — Не все теперь могут придерживаться расписания… В последний раз в час радиосвязи я говорила с ними… шутила… — Шутить в космосе не место, — сухо отрезал Керн, свертывая резиновые тяжи. — В их положении вполне могли оказаться и мы. Мэри Стрем пожала плечами и пропустила начальника вперед. Рубка управления "Просперити" была похожа на кабину советского корабля, только пульт стоял не впереди перед креслами, а, разделенный на две части, занимал боковые стены, передняя стена была сплошным окном, в котором виднелась звездная россыпь. Отчетливо ощущалось, какие звезды ближе, какие дальше. Знакомые созвездия казались отсюда иными. При появлении Аллана Керна с кресла, отстегнув ремни, поднялся второй пилот корабля, известный американский астроботаник Гарри Вуд. Он выглядел бы атлетом, если бы не был так угловат и нескладен. Большие руки фермера и грубоватое загорелое лицо не вязались с "учеными" очками. — Сэр, очень прошу вас… Если есть хоть малейшая возможность… Побывать на Венере — пусть хоть в другой планетной системе, стало целью моей жизни. — Вы думаете, что главная наша цель — подтвердить вашу славу астроботаника? Нащупал с звездолета на местной Венере какую-то растущую дрянь и рассчитывает на национальную премию по возвращении к родному Солнцу. — Разве это плохо? — Мелко берете, Гарри! Я предпочел бы заглянуть в недра планеты! Добраться до них мне важнее, чем повидать никчемные папоротники. — Значит, сэр, не все еще потеряно? — Я сам хочу задать этот вопрос, — сказал Аллан Керн, усаживаясь в кресло и поворачиваясь лицом в угол. — Будить это страшилище! — гневно воскликнула Мэри. — В такую минуту? — В такую минуту нам нужна безупречная электронная логика компьютера, — невозмутимо ответил Керн. — Оставьте людям решать самим свою судьбу. Не вмешивайте машину! воскликнула Мэри. — Мисс Стрем, пока я еще не разбудил Джона, я познакомлю вас с математическим прогнозом будущего, уготованного человечеству. Математика решает все. Мой брат Томас был гениальным математиком. Экстраполяция! — Мысленное продление найденного закона изменения в координате времени. — Именно. Мой брат Томас подсчитал, что если энерговооруженность человечества и дальше будет расти по крутой кривой, то… — Не беспредельно же! — Увы, джинн выпущен из бутылки! И ничто не остановит ход истории. Мой брат Томас говорил: "Существование биологических систем в среде с колоссальными энергетическими ресурсами было бы чрезвычайно трудным. Вредное действие излучений, которые для нас фатальны, для кибернетических систем не играет никакой роли. И потому очень сильно развитая цивилизация будет уже не биологической, а кибернетического типа". — Это что же? Без людей? — возмутилась Мэри. — Одни железки? — Конечно. Время людей кончится, как международный телефонный разговор. Они уступят место на планете своим более разумным электронным творениям, прототип которых и создал мой брат Томас. — Не верю! Не верю! — почти сорвалась Мэри, но взяла себя в руки. Эстраполяция может быть бесчестной, если ею пользоваться в спекулятивных целях. Кривая намагничивания вначале тоже загибается кверху, но потом происходит перегиб и стремление к насыщению. Это и есть основной закон Природы, идет ли речь об утолении голода животными или об образовании звезд из космической пыли. — Новые законы открываются, экстраполяция ниспровергается. — Да, если она приводит к выводу, что у человечества якобы нет будущего! А захотел бы ваш брат превратиться в нефтяной бак, чтобы побольше выпить воды? — Оставьте его память! Вот она, воплощенная в металл! — Керн решительно повернулся к роботу и, пристально глядя в одну точку, стал четко и размеренно произносить: — Семь… двенадцать… девять… Хэлло! Джон! Проснитесь!.. В углу кабины в позе египетского фараона, положив руки на колени, сидел железный человек. Его металлический панцирь напоминал латы рыцаря-гиганта. Он повернул шлемовидную голову и уставился на Керна двумя выпуклыми, как у рака, глазами-объективами. Где-то в глубине окошечка на груди мягко разгорелся красноватый свет. Мигнул и засветился зеленый сигнал. Из отверстия в голове, прикрытого железной решеткой, раздалось шипение, треск, потом послышался неприятный металлический голос: — Да, сэр!.. Мэри Стрем отвернулась. Керн в упор смотрел на робота. Он завещан был ему старшим братом Томасом, гениальным, как говорил всегда Аллан Керн, кибернетиком. К несчастью, Томас Керн создавал свое детище в пору, когда его страна еще не вошла в социалистическую семью народов. В условиях отживающего строя он истратил на свое изобретение все состояние и умер в нищете. И он сохранил лишь Железного Джона, передав его брату в надежде, что тот использует его в грядущих звездных полетах. Именно на чужезвездных планетах робот, безразличный к внешним условиям, покажет себя. Колония роботов могла разрабатывать бесценные богатства планет при любой силе тяжести, при любой температуре, в любой атмосфере или без нее. Им, по мысли и Томаса и Аллана Керна, принадлежало будущее в освоении космоса. И даже в грядущей истории человечества. Недаром Томас Керн напоминал брату о первом рукопожатии в космосе между американскими и русскими звездолетчиками. Он видел в этом символ их совместных звездных рейсов. И вот теперь на этом пути рядом с русскими оказался и Аллан Керн с соратниками и Железным Джоном. — Прошу вас, уважаемый Джон, — почтительно произнес мистер Керн. (Чудаковатый Томас спрограммировал кибернетическое устройство робота так, чтобы компьютер реагировал лишь на вежливое обращение.) — Прошу вас решить уравнение: два корабля с известными вам запасами топлива… Требуется спустить на поверхность шестерых и поднять хотя бы пятерых для возвращения на Землю. — То есть как это — пятерых? — порывисто обернулась Мэри, пронзительно смотря на Керна. Керн поднял руку. — Пять мужчин со средним весом по сто восемьдесят фунтов, — уточнил он. — Мужчин! — воскликнула Мэри. — А я? — Вы остаетесь в космосе, — небрежно бросил через плечо Керн. — Шестым спустится Джон, — шепнул Гарри Вуд. Мэри была вне себя от негодования. Она заговорила вполголоса, угрожающе. — Превосходно! Свою чертову куклу вы собираетесь взять, а меня оставить сторожить вам топливо на обратный путь!.. К дьяволу, сэр! — Она тряхнула головой. Не для того мой отец добился этой звездной экспедиции. Останься он жив после полета к Юпитеру, он был бы здесь вместо вас! — И она вскинула подбородок. Керн повернулся к ней. — Вы уже достаточно использовали его авторитет, — зло сказал он, включив в экспедицию и своего жениха и себя. — Это бессовестно, шеф! Гарри заслужил полет на Венеру исследованиями инопланетной растительности, а я… я, кажется, тоже доказала свою пригодность для космического полета. Керн усмехнулся. Мэри вызывающе смотрела на него. Она всегда была уверена в своей правоте, в себе, считала, что не знает страха. Она бывала в прериях и носилась там на необъезженных лошадях, она специально ездила в Мексику, где в былые времена смуглые юноши прыгали за деньги с непостижимой высоты в бурное море… Ей захотелось заставить себя так прыгнуть. И она прыгнула… О ней писали газеты, а она лежала в больнице. Но она все-таки прыгнула. А потом встретила Гарри, повстречался на горной дороге, по которой она неслась в автомобиле. Она чуть не сшибла его, держащего пучок трав, собранных для гербария. Она великолепно затормозила, милостиво оставив его существовать. Так, по крайней мере, сказал он ей тогда, шутливо преподнеся свой нелепый букет. Но она оценила букет не за редкие травы, а за то, что это был букет от него… Взбалмошная, она заставила его ехать вместе с собой. Правда, править на горной дороге он предпочел сам, слишком уж она демонстрировала свое бесстрашие. А когда они добрались до города, она уже считала, что не сможет жить без этого насмешливого увальня, который был прелестно "себе на уме". И тут выяснилось, что он рассуждает о своем участии в звездной экспедиции как о новом походе за травами на горный перевал… Потерять Гарри, который так счастливо нашелся на крутом повороте, Мэри не собиралась. Она готова была быть с ним всюду и… принялась за радиотехнику и астронавигацию. Она блестяще сдала экзамены, она умела добиваться своего. Конечно, на третье место в американской части экспедиции было сорок тысяч претендентов, два места были давно обеспечены за летавшим уже на спутниках и на Луну Алланом Керном и за американским последователем советского ученого Гавриила Тихова, лауреатом Национальной премии по астроботанике Гарри Вудом. Остальное действительно сделал авторитет Стрема, трагически погибшего астронавта, видного теоретика звездных рейсов. И в звездный рейс к 82-й звезде созвездия Эридана, как бы приняв эстафету отца, полетела дочь Стрема Мэри. — Конечно, — саркастически сказал мистер Керн, — экзамен на астронавигатора вы выдержали, но предстоит вам экзамен более серьезный. — Остаться в этой космической одиночке? Не выйдет! Собираетесь взять с собой робота? Так он останется здесь, я сама задам ему программу. А я спущусь вместе с вами, вместе с Гарри! — вызывающе добавила она. — Что ж, — усмехнулся Керн, — если вы во всем согласны поменяться судьбой с Джоном… — Мистер Керн имеет в виду, что… шестому, то есть Джону, придется остаться там… внизу… — шепнул Вуд… Мэри вздрогнула. — Я с большим удовольствием оставил бы там мисс Стрем, чем это несравненное чудо техники, с которым нам сейчас надо посоветоваться. — У вас электронный мозг, шеф! — чувствуя свое поражение, крикнула Мэри. — Польщен, Электронное мышление украсило бы любого министра, оно безошибочно. В связи с этим разрешите мне продолжать. Итак, почтенный Джон, прошу вас… без ошибки. Человекообразная машина Железный Джон была и на самом деле чудом современной техники. Ее электронный мозг с многими миллионами запоминающих ячеек вмещал несметное количество понятий, составляющих людские знания в важных для космического обихода областях. Робот Джон не только переводил с русского языка на английский и говорил на обоих языках, вполне грамотно и литературно отделывая фразы, но и мог безупречно логически мыслить, ставить перед собой задачи и решать их, выбирая наивыгоднейшие решения. Конечно, он делал это, находя ответ в сотне тысяч вариантов, которые с тупой педантичностью машины бездумно перебирал. Но скорость этого механического мышления была столь молниеносной, что он успевал сделать миллионы попыток в секунду и выбрать самое острое и самое верное решение. Железный Джон обладал и завидными электрическими мышцами, и емким энергетическим источником, работающим на ядерных превращениях. Машина думала… Электронные схемы совершали невидимую титаническую работу. У машины не было интуиции, вдохновения, светлого прозрения, она отыскивала "затерянный на морском берегу бриллиант", перебирая весь песок до последней песчинки. Наконец робот щелкнул, повернул глаза-объективы к мистеру Керну и безучастным голосом доложил: — "Знание" спустит на Венеру мужчин — трех. Планер спустит мужчин двух, роботов — одного. "Знание" поднимет мужчин — пять, роботов — ноль. — О'кэй! — сказал мистер Керн. — "Знание" получит все горючее "Просперити", — продолжал робот. "Просперити" останется спутником Венеры и сгорит на девятьсот семьдесят четвертом обороте. Мэри с ужасом посмотрела на бесстрастную машину, словно произносившую приговор, но не перебила ее. — "Знание" доставит к "Земле", — звучал металлический голос, мужчин — пять, женщин — одну, роботов — ноль. — Великолепно! — воскликнул мистер Керн. — Я полагаю, что командор оценит это блестящее решение и согласится на некоторую тесноту в своем корабле. Готовы ли вы, мистер Вуд, спуститься со мной и Железным Джоном на планере? — Я полагаю, мистер Керн, что риск в космосе — это норма поведения, но… — Гарри посмотрел на Мэри. Она стояла, опустив голову. Он подошел к ней, положил ей на плечо свою огромную, но невесомую руку. — Уверен, — сказал он, — чтобы остаться здесь одной, нужна большая решимость, чем… для того, чтобы спуститься всем вместе… Мэри подняла глаза. — Я не знаю, — сказала она, — от кого потребуется больше. Я была готова ко всему, кроме этого… Если я не сойду с ума… — Член экипажа, — прервал ее Керн, — нужен на "Просперити" в здравом уме, чтобы с орбиты спутника поддерживать с русскими связь, пока мы не сядем на планере вблизи них. — Не беспокойтесь, выдержу! — почти гневно заверила Мэри. — Мэри… спасибо! — Гарри Вуд сжал ее руку выше локтя. Мэри прильнула к стеклу, за которым сверкало солнце. Ей казалось, что она решилась сейчас спрыгнуть с небоскреба. Но нужно было идти в радиорубку передать мнение "Просперити" командору.Глава третья Планета тайн
Край исполинского оранжевого шара заслонил в окне радиорубки почти все звездное небо. Как завороженный, смотрел на него Алеша. Чуть расплывчатые, золотились на солнце неземные горные хребты. Они напоминали гребни штормовых волн, взметнувшихся и застывших. Гребни наплывали, становились резче, передвигались, заметно меняясь, превращаясь то в клубы взрывов, то в башни замков; закрученные смерчами, вздымались колонками, между которыми просвечивали красные пропасти, иногда ослепительно вспыхивающие светом вольтовой дуги. Вечные облака Венеры! Совсем как в солнечной системе! Когда-то и Земля была окутана таким же ватным одеялом облаков… Вот они, непроницаемые, ядовитые облака, казалось исключающие возможность существования жизни на планете. Впрочем, так ли это? Аммиачные или метановые, они плывут на огромной высоте. Внизу могут быть совсем иные условия. Что это за красные сверкающие вспышками пропасти? Вспомнились споры о земной Венере. Астрономы тогда по ничтожным косвенным данным старались решить вопрос о жизни на этой соседке Земли. Высказывались самые различные предположения. Некоторым казалось, что Венера во всем подобна Земле, находится в зоне Жизни. Однако радиоастрономы одно время высказали очень пессимистические взгляды. Температура на поверхности Венеры оказалась по их измерениям около 300 °C!.. При такой температуре на планете не могло быть не только жизни, но даже воды. Объяснить такую высокую температуру на поверхности Венеры было очень трудно, она казалась крайне странной. Ведь почти такая температура существует лишь на обращенной к Солнцу поверхности Меркурия (400 °C), а Венера много дальше, к тому же защищена облаками… Советский астроном Н. А. Козырев еще в 1961 году высказал предположение, что радиоастрономы измеряют температуру не на поверхности Венеры, поскольку ионизированный слой венерианской атмосферы в шесть раз активнее земного и не пропускает радиоизлучений. Температура 300 °C относится именно к этому ионизированному слою. Как известно, в земной атмосфере есть слои, где температура в ее условном понимании, как характеристика теплового движения молекул газа, достигает 700 °C. Правда, такая "земная" температура отнюдь не вяжется с представлением о "жаре", поскольку плотность газа с такой температурой ничтожна. Что же касается поверхности Венеры, то Козырев, как и другие астрономы (в частности, Барабашов), считал, что там температура в пределах 30–50 °C. Расходились мнения и о воде. В противовес мнению радиоастрономов другие астрономы склонны были полагать, что поверхность Венеры залита сплошным водным океаном. А жизнь? Ведь именно в морях появились на Земле первые живые клетки, они превращались потом в организмы, а те цепко приспосабливались, совершенствовались и размножались… Однако возможно, что покрывающий Венеру океан состоит вовсе не из воды, а из углеводородов. Океан нефти!.. Но ведь на Венере, близкой к Солнцу, атмосфера, конечно, перенасыщена электричеством. Страшные, непрекращающиеся грозы с чудовищными молниями, удары которых видны даже сквозь непроницаемый слой туч, сразу же зажгли б океан нефти… Зажгли?.. Если бы там был кислород!.. Кислорода в атмосфере Венеры долгое время не находили. Лишь в 1960 году там был обнаружен (в верхних слоях атмосферы) атомарный кислород. А через год крымские астрономы обнаружили молекулярный кислород, свидетельствующий о существовании органической жизни. Углекислота же обнаруживалась, и даже в количестве много большем, чем на Земле. Столько на нашей планете было лишь в каменноугольный период, когда выброшенные вулканами газы позволяли бурно развиться гигантской растительности. Сотни миллионов лет пополняла живая зелень земную атмосферу кислородом, способствуя появлению новых жизненных форм. Но все эти предположения были забыты, когда пришли данные автоматических межпланетных станций, подлетавших к Венере и даже садившихся на нее. Температура на ней оказалась чрезмерной для возможного существования жизни, атмосфера же такой плотности и состава, что оставляла еще меньше надежд на обнаружение жизни, которая, возможно, еще не возникла на планете. Но какова планета-близнец Венеры, входящая в семью планет 82-й звезды Эридана — местного солнца? Быть может, в отношении к этой чужезвездной Венеры былые предположения будут верны? Подлетая к чужезвездной Венере, исследователи убедились, что температура на ее поверхности скорее допускала существование жизни, чем исключала ее. 300 °C действительно нужно было отнести здесь к ионизированному слою атмосферы, но о том, что происходило на скрытой всегда слоем туч поверхности, судить все еще было трудно. Астрономы звездолета, изучая местную Венеру, склонны были считать пробивающиеся сквозь пелену туч красноватые лучи не чем иным, как отражением света растительностью. На планете очень тепло, и растительность ее не нуждается в тепловой части солнечного спектра, она должна отражать красные и инфракрасные лучи. Изучая весь спектр отраженного планетой света в фиолетовой и ультрафиолетовой его части, наблюдатели звездолета обнаружили, что Венера-2 поглощала огромное количество энергии, возможно, благодаря фотосинтезу растений. К такому выводу пришли и соратники Богатырева, строя баланс энергии Венеры-2, к которой приближались. Ничем иным, кроме существования на ней растительности, нельзя было объяснить "захват" солнечной энергии, обнаруженный при составлении энергетического баланса. Два космических корабля, американский и советский, летели теперь над самой Венерой. Звездолетчики видели- колеблющиеся хребты ее взлохмаченных туч, но были пока не ближе к разгадке тайны жизни на ней, чем далекие астрономы звездолета. Проблема жизни на планетах иных звезд была темой кандидатской диссертации Алеши. Его руководителем был профессор Богатырев. Вместе с Богатыревым он участвовал в лунной экспедиции, его исследование лунной плесени показало её чудовищную способность развития, в земных условиях, сделав лунные плантации на Земле вполне реальными. Подсказал ему тему все тот же Илья Юрьевич. Он вообще незаметно во всем руководил Алешей, человеком необычайно и опасно разносторонним. Четыре года назад окончив университет, Попов, обладая сильным драматическим тенором, решил стать оперным певцом. Но, занявшись музыкой, вдруг обнаружил, что может писать прелестные вальсы и песни, чем и занялся с упоением, сразу добившись известности не меньшей, чем имел до этого в живописи, которую не бросал. Он писал и пастелью и маслом, любил и портреты и пейзажи. Он способен был с самого рассвета под проливным дождем бродить по лесам, собирая грибы… Или плавать на лодке по речушкам и тихим озерам… У него были еще и золотые руки, он мастерилрадиоприемники с мальчишеских лет, в студенческие годы работал техником по телевизорам и смастерил для личной "библиотеки" "машину памяти" с миллионом запоминающих ячеек, превратив ее в портативный справочник по нужным ему отраслям знаний. Еще раньше он сделал себе карманную "машину памяти" и применил "электронную шпаргалку" во время экзаменов в университет, предварительно записав в ее устройство все ответы на экзаменационные билеты. После экзаменов он честно признался в этом и поставил приемную комиссию в щекотливое положение. Однако ее члены сочли, что студент, способный создать такой аппарат, не менее ценен, чем тот, кто ответил на экзамене. Некоторые профессора утверждали, что высшее образование, кроме общей культуры специалиста, прежде всего дает умение пользоваться справочниками, и даже позволяли студентам заглядывать в книги на экзаменах, как в жизни, утверждая, что воспользоваться этим смогут лишь знающие. Но Алеша поступил не на технический, а на биологический факультет. Окончательный выбор между музыкой и биологией помогла сделать романтика космоса, раскрытая перед Алешей Богатыревым. Благодаря Илье Юрьевичу Алеша стал звездолетчиком, биологом и радистом корабля "Знание", способным в случае нужды заменить других членов экипажа. За долгое время пути он часто пел в своей радиорубке перед микрофоном. Его слушали не только Илья Юрьевич и Роман Васильевич, но и американцы на "Просперити", и звездолетчики "Мечты"… "Мечта"… До мельчайших подробностей помнил Алеша все, что было потом. Запросив по радио мнение американцев, Илья Юрьевич вызвал Романа Васильевича и Алешу, чтобы посоветоваться с ними. Он сидел тогда в магнитном кресле, притягивавшем костюм, ссутулившись, словно на корабле была не невесомость, а тройная тяжесть взлета. Широко расставив массивные колени и упершись в них руками, он невидящим взором смотрел в угол кабины. Роман Васильевич, пощелкивая магнитными подошвами, расхаживал по кабине и ругал американское предложение: — Авантюра! Не предусмотрено никакими инструкциями! Пожертвовать еще одним кораблем!.. Пойти на риск двойной перегрузки "Знания"! Выбросить даже запасы кислорода и приборы… Алеша запальчиво перебил его: — Наши глаза на Венере заменят многие приборы! Добров продолжал: — И мыслимое ли дело спускаться на планере, предназначенном для одного лишь робота! Что это? Безумие? — Скорее отвага, — ответил Алеша. Роман Васильевич остановился перед Богатыревым: — Как же ты сам думаешь, Илья? — Думаю — не зная броду, не суйся в воду. — Верно думаешь! — обрадовался Добров. — Значит? — тревожно спросил Алеша. — Значит, мнения таковы, — подвел итог Илья Юрьевич. — По Алешиному надо немедленно, очертя голову, бросаться вниз на американском планере. По Роману же получается — поворачивай вспять, покружив у планеты… — И как же? — повысил голос Алеша. — И не эдак, и не так. В воду сунемся, но… прежде брод узнаем. Это значит, сперва, как предлагал Роман, станем спутниками Венеры и хорошенько изучим ее: не сплошной ли на ней океан или пустынный материк, покрытый пеплом вулканов, где и жизни еще нет? — Этого не может быть! — не выдержал Алеша. — Все возможно, — ответил Илья Юрьевич. — Так вот. Когда с помощью радиолокации получим первый глобус местной Венеры, наметим, где моря, где суша, когда выберем место для посадки, тогда выбрасывай кресла и койки пилотов, все, кроме нашего зверинца, и готовься к посадке на "Знании". Именно знание, одно знание доставим мы на Землю. Не только на звездолет… Роман Васильевич пожал плечами: — И зачем ты только мнение людей спрашиваешь, Илья?.. Корабли подошли к Венере-2 и стали ее спутниками, пролетая над изменчивым, непроницаемым океаном вечных туч. Началось прощупывание поверхности планеты радиолучом. Американцы на "Просперити" и Алеша с Ильей Юрьевичем на "Знании" делали это независимо друг от друга, сверяя результаты по телевизионному изображению. Илья Юрьевич показывал американцам глобус, на котором постепенно появлялись контуры океанов. Мистер Вуд, в свою очередь, показывал на экране свой вариант Венеры. Надо сказать, что варианты изрядно расходились. — Здесь горы! — спорил с Гарри Вудом Алеша. — Боюсь, что вы приняли за горы пылевую бурю, — отвечал Вуд. — Но здесь вода, — указывал на глобус Алеша. — Или нефть, — отвечал с экрана мистер Аллан Керн. В одном наблюдения совпали — в расположении странного инфракрасного пятна. Мэри Стрем впервые вступила тогда в этот разговор. Керн и Вуд уточняли с Богатыревым кромку океана, а Мэри сказала Алеше совсем тихо, словно на ухо: — Что, если это тепловое пятно — город? — Постараемся сесть неподалеку! — заверил Алеша. — Вы счастливый, Алек, — сказала она, — вы увидите волшебную страну… Все равно, первозданная это пустыня или… А вдруг там цивилизация? И они видят нас… Я вот вслушиваюсь в треск атмосферных разрядов, все хочу расслышать адресованные нам снизу радиопередачи… — Напрасно стараетесь, Маша, — проскрипел подошедший к экрану Роман Васильевич. — Цивилизации здесь не может быть. — Почему вы так думаете? — возмутилась Мэри. — Вы против существования иных цивилизаций? — Нет, — ответил Добров. — Цивилизация на иных мирах возможна, но… — У нашего Романа Васильевича по любому вопросу есть "но", — сказал Алеша, отодвигаясь от экрана. Добров покосился на него и сказал: — Но разумная жизнь не может возникнуть на разных планетах одновременно. — Почему? — удивилась Мэри. — Цивилизация — это миг на часах космоса. Ведь планеты существуют миллиарды лет, а разумная жизнь — десятки тысяч лет. Она вспыхивает и гаснет, как и все на свете в круговороте жизни. Вспышки Разума совпасть не могут… Тем более здесь, где мистер Вуд предполагает каменноугольную эру… — О'кэй! — отозвался с экрана Гарри Вуд. — Вы очень точно заметили каменноугольная эра! Командор! Уточняем… Здесь у вас тоже получилось нечто похожее на растительность. — Растительность или мелкая лагуна. Пока трудно судить, — отозвался Богатырев. — Наш мистер Вуд судил об этом еще с "Земли", — едко заметил Аллан Керя. — У звездолетного телескопа. — Возможно, что это действительно растительность. Я бы очень этого хотел, — сказал Богатырев. Богатырев и два американца снова занялись глобусом. Мэри сделала Алеше знак. Он прошел в радиорубку, надел наушники, услышал голос американки: — Почему они не говорят об этом тепловом пятне? — Они считают его районом вулканов… — А мне так хотелось бы, чтобы это был город… Нет! Я не хотела бы этого. Близ вулкана Гарри будет в меньшей опасности, чем у города неизвестных существ… Край исполинского оранжевого шара заслонял в окне почти все звездное небо.Глава четвертая Первая ночь
Корабль "Знание" пошел на посадку. Инженер Добров развернул корабль дюзами вперед. Началось торможение. Красноватый клубящийся океан надвигался снизу. На телевизионном экране виднелись напряженные лица Керна и Вуда. Ракета настолько снизилась, что касалась вихревых языков тумана. Окна на мгновение становились розовыми, потом снова в них заглядывали раскаленными остриями звезды и огромное косматое Солнце. Корабль пронизывал облачные горы, вставшие на его пути, оказывался над глубокими ущельями, снова врезался в розовую толщу, свет мерк и ярко вспыхивал опять. В кабине становилось все жарче. Алеша обливался потом. Очевидно, стенки ракеты раскалились от трения о газы. Добров экономил горючее, стремился затормозить сопротивлением атмосферы. Корабль вошел в сплошную массу облаков. Алешу вдавило в кресло. Это Роман Васильевич включил все-таки дюзы, притормозил. И вовремя, иначе изжарились бы!.. В кабине зажглось электричество, за окном стояла красная ночь. В радиорубку вошел Богатырев и погасил лампочки. Нет! За окном была не красная ночь, а красный день!.. Внизу расстелились снежные поля с ватными холмами, отливавшими румянцем. Вверху сквозь дымку облаков просвечивало немыслимо огромное багровое Солнце, как во время заката на Земле, только еще более красное, совсем медное… На него можно было смотреть. Внизу виднелась не поверхность планеты, а новый слой облаков. Алеша чувствовал появившуюся тяжесть, она приятным чувством бытия разливалась по всем членам. Он невольно напрягал мышцы, совсем отвыкшие от настоящей ходьбы за месяцы полета ракеты. Недаром мистер Керн так упорно настаивал после того, как они оставили звездолет с его искусственной гравитацией, на непрестанной гимнастике. По его настоянию все звездолетчики всегда носили нагрузочные костюмы, не дававшие мышцам ослабнуть, постоянно имитируя отсутствующую тяжесть. Но насколько привычнее и приятнее была настоящая тяжесть!.. Она напоминала родную планету!.. За окнами понеслись белоструйные потоки. В кабине стало не так жарко. Алеша вытер пот с лица и улыбнулся. Илья Юрьевич возился с анализаторами. Показания станций-разведчиков подтверждались. Слой ядовитых облаков пройден. Белые облака, как и ожидалось, насыщены водяными парами! Водные океаны, а не нефть, не море углеводородов внизу. Не мертвая планета, а жизнь в негаданных формах встретит там исследователей!.. В атмосфере, кроме углекислоты, оказалось много азота, кислорода же обнаружилось мало. Но внизу станции-разведчики показали его больше! Радуйся, Гарри! Есть там растительность, есть! Корабль вынырнул из белых облаков. И сразу же обрушился ураган. Исполинскую ракету тряхнуло так, словно вдруг заработали боковые дюзы. Богатырев ударился о спинку кресла, Алеша вылетел на пол — не послушался, не привязал себя ремнями! Один только Добров прочно сидел на месте, как влитый, вцепившись руками в рычаги управления. Лицо его окаменело, на голом черепе выступили капли пота. Алеша подумал об американцах, которым предстоит пройти бешеную атмосферу на планере!.. Какие же они все-таки смельчаки!.. Вставая, встретился взглядом с Ильей Юрьевичем. Он, конечно, думал о том же. Алеша ухватился обеими руками за раму иллюминатора. Внизу алел новый слой облаков… красных и серебристых. Так это не облака! Это поверхность планеты! Суша!.. Красная суша… материк, покрытый красноватой растительностью!.. — Эй, Гарри Вуд! Слышишь нас? — бросился Алеша к радиоаппаратуре. Лица Вуда и Керна еще виднелись на телевизионном экране сквозь темные полосы помех. Алеша включил "телевизионный глаз", чтобы на "Просперити" тоже увидели поверхность планеты. Вуд закивал головой, заулыбался. — Она красная, твоя растительность! — кричал Алеша, — Именно такой представлял ее твой учитель Гавриил Андрианович Тихов на нашей околоземной Венере. Пусть около чужого солнца, но это так! Но что это серебристое? — Это море, — гулко отозвался Илья Юрьевич. — Вода серебристая… или такой кажется сверху… Игра света. Телевизионный экран совсем закрылся темными полосами. — Полная "непроходимость" радиоволн, — угрюмо заметил Добров. — Как же они радиопеленг услышат? — забеспокоился Алеша. — Пойдут к квадрату — "семьдесят", где мы сядем. Снизятся, услышат, невозмутимо заверил Илья Юрьевич. Алеша успокоился. Он упивался невиданным ландшафтом. Добров вел ракету к берегу морского пролива. На горизонте дымились вулканы. Остроконечные конусы выбрасывали фонтан дыма, расплывавшегося зонтами. — Эх, Мэри, Мэри!.. А мы с тобой надеялись, что тепловое пятно — это "их город"… Багровое пятно солнца падало на горную цепь. Исследователи "влетали" в вечер. Илья Юрьевич решил приземлиться на границе дня и ночи, где должно быть меньше бурь… Ракета прошла низко над вулканом. Пепел окутал ее тьмой, потом внизу сверкнуло раскаленное жерло и огненные реки по склонам. Потом снова отливающая медью вода. И лес! Отчетливо различимый сейчас лес, кровавые его заросли на берегу! Алеша вскочил. — Слава Жизни, вечной и вездесущей! Она есть здесь, есть! К посрамлению чванливых невежд, считающих себя единственными избранниками Природы, а Землю — центром Вселенной! — Он бросился к микрофону и закричал: — Гарри! Гарри! Черт бы побрал эту непроходимость волн! Это папоротники! Честное же слово, папоротники! Походят на пальмы, листья тюльпанами… Алешу било, как в лихорадке. Он, всю жизнь убежденный в том, что на других планетах есть жизнь, сейчас боялся, что его разбудят… Доброе не стал садиться на морском берегу. Кто знает, какие здесь штормы или вызванные ураганом приливы. Лучше укрыться на лесной поляне. Илья Юрьевич указал ему рукой вниз. Оба они совершенно не думали о величии открытого ими мира, а буднично выбирали место для посадки. Скалы на болоте. Пожалуй, можно рискнуть. В крайнем случае тотчас взлететь. Реактивные двигатели ревели… Это был могучий рев земной техники! Ракета вертикально опускалась. Толчок. Ракета накренилась в сторону. Добров готов был дать "газ", но ракета еще раз качнулась на выставленных лапах и замерла. Дым, поднятая пыль и пар окутывали корабль. — Приехали, ребята!.- сказал Богатырев, притопывая ногой. — Венера! Пусть вторая, но наша! — Венера… — почти шепотом повторил Алеша, чувствуя, что все тело его словно налилось свинцом. Тяжесть составляла здесь 0,85 земной, но Алешу после долгой невесомости она не угнетала, а радовала, вливала энергию, жажду деятельности, силу. В отсеке "космического зверинца" лаяла Пуля. Дым и пар рассеялись. Исследователи прильнули к окнам. Стелился туман, надвигалась темнота. Гигантские красноватые стволы, голые и гладкие, без ветвей, колоннами тянулись вверх. Там они распускались темными шатрами. Травы под ними не было. Вместо нее узлами переплетались змеевидные корни. А между стволами протянулись… сети? Алеша так и замер. Сети! Искусно сплетенные сети! Но ученый подавил в нем мечтателя. Это были лианы, цепкие, обвивавшиеся вокруг стволов, сплетенные замысловатой вязью. Чаща казалась непроходимой. До боли в глазах всматривался Алеша, стараясь увидеть хоть какое-нибудь движение. Но наступала тьма. Скоро все исчезло… Засветились огоньки и в лесу и на болоте. Если бы не они, тьма была бы полной. Обитатели здешней Венеры никогда ке видят ни звезд, ни солнца… Алеша выжидательно взглянул на Илью Юрьевича. — Подожди, — сразу понял его Богатырев. — Роман, включи наружные микрофоны. Алеша замер. В ушах его стучала кровь. И вдруг сразу, без перехода, в кабину ворвалась волна звуков. Удаляющийся, скачущий грохот громыхающей колесницы или сорвавшейся лавины камней сменился близким воем. Потом прозвучал пронзительный писк и крик боли, надрывный, хриплый. И вдруг захлопали крылья… Пулька отчаянно визжала и царапала переборку. Добров хотел включить прожектор, но Илья Юрьевич остановил его. Теперь слышалось уханье, ровное, размеренное. Алеша ухватился за спинку кресла. Неужели машина? Послышался треск словно раздираемой на части ткани, и сразу нарастающий свист, замерший на предельной высоте. Потом мелодичная нота, другая, третья… Пение? Алеша посмотрел на Илью Юрьевича расширенными глазами. Тот отрицательно покачал головой. Добров зажег прожектор. И сразу замолкло все, словно выключили микрофон, замерло, притаилось. Только собака жалобно повизгивала в своем отсеке. Ослепительный свет вырвал из тьмы ближние стволы исполинских папоротников и почему-то ставшую теперь белой сеть лиан. Змеи корней словно застыли в борьбе, оцепенели, В чаще засверкали злобные звездочки… И никакого движения. Алеша не смог справиться с дрожью, а Добров деловито докладывал Богатыреву, что температура снаружи резко упала с 57 °C до 31 °C. "Вот это чудесно! — мысленно воскликнул Алеша. — Чего лучшего желать для развития жизни? Кислород у поверхности есть, как и ждали. Правда, его втрое меньше, чем на Земле, но он есть. И быть может… Дышат же альпинисты на горных вершинах!.. Но разве позволит Илья Юрьевич выйти из ракеты без шлемов!.. Слово будет за вараном, голубем и Пулей…" Богатырев пристально посмотрел на Алешу, на Доброва и объявил: — Утро вечера мудренее… и на Венере, хоть и на второй!.. "Спать? — ужаснулся Алеша. — Разве можно спать на чужой планете в первую ночь? Конечно, нельзя!" Алеша слышал, как ворочался в своем откинутом "зубоврачебном кресле" Илья Юрьевич. Снаружи доносились приглушенные звуки. Должно быть, выл ветер. Животные беспокойно возились в своем отсеке… Алеше казалось, что ракета вздрагивает от ураганных порывов, но скорее всего она лишь пружинила на посадочных лапах и стояла прочно… стояла на венерианских скалах… в чужой планетной системе у иной звезды. Осознать все это было попросту невозможно. И не только Алеше… Илья Юрьевич все думал, думал о Венере, все пытался уверить себя, что он уже на ее поверхности, и вдруг поймал себя на том, что думает о Земле… Не венерианские гигантские папоротники вставали перед ним, а тихий сосновый бор. И даже смолистым запахом словно пахнуло откуда-то, и не чужой резкий ветер, а свой, земной ветерок распушил бороду, и где-то в деревне, совсем как Пулька, лаяла собака… Тропинка спускалась к пойме реки Истры, яро которую Илья Юрьевич пел своему внучонку: "Наша речка течет колечком, несется быстро, зовется Истра…" А двухлетний Никитенок с размаху влетал в воду, визжал и колотил по воде ручонками, вздымая брызги. Противоположный берег реки был крутой, заросший лесом, всегда в тени… На Венере же… то есть тут", тени не жди. Никогда здесь не выглянет солнце. Хоть бы уж скорее взошло… И Илья Юрьевич, кряхтя, перевернулся на другой бок, потом внезапно сел и засмеялся. Алеша и Роман Васильевич тотчас поднялись. Они не спали. — Что, братцы, не спится на чужой планете? Алеша встал и прижался лбом к совсем теперь холодному стеклу. За окном шел дождь. Обыкновенный земной дождь… Дождевые капли были совсем обычные, частые-частые… Они собирались в ручейки и стекали по стеклу, скрывая лесные огоньки… Совсем как на лобовом стекле автомобиля. Эх! Стеклоочистителей не предусмотрели конструкторы! Алеша обернулся: — Илья Юрьевич, можно спеть?.. — Пой, — засмеялся Богатырев. — Как же не петь, ежели на Венеру сели.Глава пятая Бешеная атмосфера
Мэри не могла оторвать от пола магнитные подошвы. Надо было передать шефу приказ командора… В репродукторе, разрывая сердце, звучал радиопеленг, призывная советская песня, служившая сейчас для Мэри сигналом разлуки. Проход в грузовой отсек, где Керн и Вуд возились с планером, загородил Железный Джон. Мэри относилась к нему со смешанным чувством удивления, неприязни и протеста. — Попрошу вас, Джон, посторонитесь, пожалуйста, — вежливо попросила она. Робот, включенный на внешние реакции, тотчас отодвинулся, скользнул по лицу Мэри холодным взглядом рачьих глаз, щелкнул и проскрежетал: — Прошу вас, леди. Аллан Керн нервно обернулся на голос робота. Мэри протянула ему бланк с радиограммой командора. — Помолимся господу богу, — сказал Керн, вынимая молитвенник, и выключил робот. — Это его не касается… Пока Керн бубнил молитвы, робот стоял безучастный, с потухшими глазами. Мэри придвинулась к окну. Она отыскала во мраке космоса крохотную желтенькую звездочку, которую астрономы звездолета научили ее находить в серебристой пыли звезд. И она, Мэри, найдя ее, язычески молилась ей, самой теплой, самой ласковой и красивой, молилась ей о себе и о Гарри, чтобы они смогли вернуться к ней, родному их Солнцу и уже не улетали в чуждые глубины. Аллан Керн захлопнул молитвенник и несколько секунд простоял молча. Он мысленно говорил со своим покойным братом, пуритански воспитавшим его без родителей, привившим ему аскетическую сдержанность. Он вспоминал мальчишеское увлечение свирепой игрой регби, презрение к танцам, ярким галстукам и автомобильным поездкам с модно растрепанными девицами, уважительную ненависть к богатым удачникам и исступленную учебу в колледже, в университете, на космодроме… И всегда твердую направляющую руку Томаса, учившего жить среди волков. Он ведь так и не дожил до коренных социальных изменений на Американском континенте. Аллан Керн говорил сейчас обо всем этом с братом и был уверен, что тот слышит его… Мэри отвернулась от окна и тоже молча говорила… с Гарри. Они прекрасно "слышали" друг друга. Гарри неуклюже притянул к себе Мэри и поцеловал ее между бровей. Всю силу воли собрала Мэри, чтобы не разрыдаться. Керн отвернулся. — Джон, прошу вас занять место в планере. И вас, Гарри, тоже, торопливо пригласил он. Мэри должна была выйти из отсека, пол которого сейчас раскроется. Сколько девушек провожало милых на войну! Сколько жен бежало за стременем или за подножкой вагона! Сколько рыбачек, стоя на скалах, смотрели в штормовую даль! Но Мэри казалось, что никогда ни у кого не было такого всепоглощающего горя, как у нее. Чтобы горе это, острое и неумолимое, подобно ножу гильотины, упало на нее, от Мэри требовалось повернуть красный рычаг… Мэри вышла из грузового отсека, кусая губы, закрыла герметическую дверь. Окаменев, смотрела через круглое оконце, как Керн, а потом Гарри и, наконец, робот забрались в кабину планера, как прозрачный пластмассовой полусферой закрыли кабину сверху. Они еле разместились там в страшной тесноте. Планер походил на стрелу. Отогнутые назад маленькие крылья напоминали оперение. Гарри старался рассмешить Мэри, строил ей забавные рожи, показывал пальцами, как они будут шагать там, внизу… Все внутри Мэри застыло, онемело, а она… улыбалась Гарри. Мистер Керн посмотрел на нее и вдруг тоже улыбнулся. Это было так непривычно, что у Мэри словно оборвалось что-то… Она поняла его улыбку, как последний приказ и рванула на себя красный рычаг. Пол тотчас разделился на две створки, и планер с людьми и человекообразной машиной провалился, исчез. Мэри показалось, что она своей рукой уничтожила их, но она поборола себя и бросилась в радиорубку. В репродукторе уже звучал голос Гарри: — Хелло, Мэй, — так только наедине звал он ее. — Я вижу наш корабль со стороны. До чего же он красив в полете! Вам должно быть очень приятно летать на таком скакуне. На пульте радиорубки среди циферблатов специально для Мэри было вмонтировано овальное зеркало. Мэри видела свое скованное лицо, холодные глаза, побледневшие щеки и… катящиеся по ним слезы. — Хэлло, Гарри! — весело крикнула она в микрофон. — Вам должно быть тоже приятно лететь на нашем кондоре! Планер пронизывал розовые облака. Гигантское солнце затуманилось красноватой дымкой. Керн и Вуд надели колпаки скафандров и стали похожи на невозмутимого робота. Гарри злился на себя за то, что раскис, прощаясь с Мэри, словно испугался того, что ждет их внизу. Недоставало только, чтобы шеф заметил это! "Когда находишься в кабине вместе с двумя человекоподобными роботами…" — непочтительно подумал Гарри и улыбнулся. — Кажется, вы держитесь молодцом? — прозвучал голос Керна в шлемофоне. — Я подумал, как трудно в шлеме протирать очки, — отозвался Вуд. Спустя некоторое время, понадобившееся электронной машине для "осознания" услышанного и выбора из миллиона ответов наиболее правильного, робот сказал: — Очки лучше всего протирать замшевой тряпочкой, в условиях нормальной температуры, со снятым шлемом. Гарри наградил электронного мыслителя таким взглядом, что можно было порадоваться за машину, реагирующую только на слова… Планер вынырнул из красного тумана. Гарри портативной кинокамерой снимал чужой мир и вспомнил знакомый сказочный мир закатных облаков, на которые мечтательно глядел еще в детстве, удравши с фермы в поле, мир воображаемых замков, оранжевых великанов, летящих драконов с кровавыми крыльями, бездонных колодцев с запрятанными в них солнечными кладами. Керн искусно вел планер. Робот бездействовал, поблескивая равнодушными стеклами объективов. — Температура крыльев повысилась до красного каления, — бесстрастно сообщил он. — Необходимо охлаждение. Если нет, крылья разрушатся, планер встретится с твердой поверхностью при скорости 3,69 мили в секунду. Это не обеспечит сохранности моих механизмов, существования пассажиров и выполнения заданной программы. Робот был всегда включен на самосохранение, и его логические построения были безошибочны. Впрочем, Керн и сам уже сделал нужные выводы и пустил в крылья жидкий гелий, чтобы охладить их. Планер мчался как будто в кипящем молоке. Мимо проносились вытянутые пузыри и дымчатые шарфы. Аппарат тормозился только сопротивлением воздуха, и кабина сильно нагрелась, несмотря на охлаждение жидким гелием. Однако Керн и Вуд, одетые в скафандры, не страдали от перегрева, а робот был равнодушен к жаре. Облака Венеры-2 находились на огромной высоте, спираль торможения, которую вычислял для подобных посадок еще удивительный русский ученый, провидец Циолковский, проходила в их толще. Гарри Вуд никак не мог дождаться, когда же планер вырвется из мутного тумана и они увидят наконец поверхность планеты, ее необычайные красноватые леса… Планер, обойдя несколько раз вокруг планеты и постепенно снижаясь, должен был уже выйти на заданный квадрат "70" материка. Но суша не показывалась. Туман темнел, из молочного превратился в серый, потом в бурый, наконец, в черный. Впереди сверкнула молния. Робот дернулся. Керн с тревогой посмотрел на него. Новая молния полыхнула совсем близко. Робот затрепетал, но не произнес ни слова. Планер трясло; колотило, кидало, как гоночный автомобиль, сорвавшийся с бетонного шоссе. От непрестанных молний кабина залита была словно огнем электросварки. Невесомость уже давно исчезла, но Гарри внезапно почувствовал, что снова теряет вес, как в падающем лифте. В следующее мгновение он ощутил двойную, даже тройную тяжесть. Такой качки не бывает и в океане в любой шторм. Проклятье! Гарри не знавал морской болезни, но даже ему стало не по себе. Он едва успел протянуть вперед руки и упереться в железную спину дрожавшего от электрических разрядов робота. Планер падал в бездну носом вниз. — Радость дьяволам!:- воскликнул Керн, с трудом выводя машину из штопора. — Я слишком возгордился, понадеявшись на себя. Попрошу вас, Джон, занять мое место. Переключаю вас на автопилотирование в оптимальном режиме. Гарри заметил, что лицо у шефа покрыто мелкими каплями пота. Робот, продолжая вздрагивать при каждой вспышке молний, послушно перебрался на место пилота. Математическая машина учла скорость ветра, его направление, шквальность, перепады давлений и температур, восходящие и нисходящие потоки, закономерное расположение воздушных ям и пропастей, она проклады вала капризно-извилистую и наилучшую трассу полета среди беснующихся атмосферных волн, обходя их невидимые гребни, минуя бездонные провалы. И все же… Стремительные потоки терзали планер, подбрасывали его, низвергали с воздушных обрывов, разламывали его о почти твердые вихри тумана, крутили в дьявольском Мальстриме венерианской бешеной атмосферы… Никакой пилот не спас бы летательный аппарат. Только изумительная электронная машина, с субсветовой скоростью нечеловеческого мышления высчитывавшая каждое движение, могла управлять им. Гарри не знал, где низ, где верх, где свет, где тьма… И вдруг он увидел над головой крутящиеся красные круги. Он закрыл глаза — круги исчезли. Снова открыл — появились. Заросли Венеры! Он летел над ними вниз головой!.. Робот искусно вывел планер из мертвой петли, избежав удара о поверхность планеты. Ураган нес клочья тумана или вулканическую пыль. А внизу трепетала пестрая, опасно близкая лента зарослей… Над нею летели не то животные, не то растения… с раскоряченными корнями-щупальцами, цепляясь за вершины еще не вырванных деревьев. Неужели это уродливые чужепланетные перекати-поле? И они приспособились в борьбе за существование, перелетая с места на место в сумасшедшем краю немыслимых бурь? Внизу в прогалине вороненой сталью сверкнула русская ракета. Железный Джон безучастно доложил: — Скорость ветра — сто двадцать три мили в час. Плотность атмосферы по отношению к земной — три и две десятые. При посадке могут быть повреждены мои механизмы. Ищу другое место. — Свалите на автомобильное кладбище вашу чертову куклу! — крикнул Гарри. — Бог послал нам ее за наши молитвы, — ответил Керн. Ракета "Знание" исчезла. Вместе с тучами песка и пепла буря прижимала планер к зарослям, грозя разнести в щепы. Деревья сменились волнами. Их пенные гребни словно хватались за планер. Планер пролетал над морским проливом, порой пронизывая сорванную с гребней пену. Промелькнул склон вулкана. Планер бреющим полетом мчался над ним. Робот докладывал железным голосом: — В воздухе можно пробыть пятьдесят семь секунд. Возможна посадка на воду, на деревья, на болото. Шансы на гибель сто процентов, восемьдесят шесть процентов, шестьдесят два процента. Выбрано болото. Гарри не успел ничего сообразить. Внизу мелькнули исполинские веера листьев, острые скалы, кочки, лужи… Одно крыло задело за камень и отлетело. Фюзеляж покоробился и встал почти вертикально. Аппарат зарылся носом в топь и стал медленно погружаться. Керн откинул пластмассовую полусферу: — Скорее! Во имя бога, черта или бизнеса! Как говорил когда-то мой брат Томас. Скорей! Планер тонет!.. Астронавты выскочили из машины, увязнув по колено в грязи. Это была грязь чужой планеты, они ступили на чужезвездную Венеру, но никто из них даже не подумал об этом. — Радость дьяволам! Погибло все! Джон не покинет планера, пока включен на автопилотирование! — исступленно кричал Керн. Гарри флегматично полез в утопающую кабину, но выпрыгнул обратно проворнее. За ним следом, скрежеща об алюминиевую обшивку, неуклюже выбирался робот. Он сразу завяз в топкой почве. Нечеловеческим напряжением вытащили его астронавты на кочку. Он смирно стоял на ней. Керн, опустившись на колени, счищал с его ног липкую грязь, а Гарри мрачно наблюдал, как засасывает болото изувеченного серебристого кондора. Осталось только хвостовое оперение с полосами нового американского флага, украшенного эмблемой стебля кукурузы и молота. Но вот и все это исчезло… В луже долго вздувались и лопались пузыри.
Глава шестая Минувшая эра
Флагманский корабль экспедиции стоял на Венере. Люди впервые за историю человечества достигли планеты у другой звезды. Они ощущали ее непривычную тяжесть, слышали ее непонятные звуки, дождались ее несветлого утра, но не увидели иного мира. Венера-2 словно спохватилась и, по-прежнему загадочная, закуталась мглой густого тумана. — Прямо как в Лондоне! — покачал головой Илья Юрьевич. Алеша вспомнил Лондон, куда приезжал с докладом о лунной плесени. Лондон, ставший социалистическим одним из последних в Европе, запомнился ему как город "частных крепостей", зонтиков и желтых огней. В "частных крепостях" — в собственных домах, которыми пышно именовались уныло-однообразные трех-четырехэтажные секции кирпичных строений, — лондонцы жили не "по горизонтали", как все люди, а "по вертикали". Из комнаты в комнату не переходили, а поднимались по лестницам, как в башне маяка. Зато у каждой крепости был свой подъезд, совершенно одинаковый с соседним, с теми же неизменными ступеньками, но самодовольно выкрашенный в свой особенный цвет, отчего разделяющая подъезды колонна порой получалась двухцветной, а несколько квадратных ярдов стриженной "под машинку" травы у тротуара считались собственным садом. Зонтики, как шутил Алеша, отличали лондонцев от амфибий, позволяя "разумным млекопитающим" существовать в воде, которая окружала их остров морями, низвергалась на их остров, дождями и поднималась с их острова туманом. Желтые огни на улицах, желтые фары автомобилей, подобные желтым кошачьим глазам, позволяли лондонцам видеть в тумане, как в темноте… А еще лучше желтых лучей пронизывают туман лучи инфракрасные, невидимые. Об этом подумал сейчас Алеша, но не успел сказать Илье Юрьевичу, потому что ход мысли у обоих, очевидно, был одним и тем же. Илья Юрьевич уже сидел за инфракрасным перископом. Жестом он подозвал Алешу и уступил ему место, у окуляров: — Садись-ка в "машину времени". Алеша, взволнованный и нетерпеливый, прильнул глазами к мягкому эластичному козырьку. В дымке тумана, как в толще воды, виднелась исполинская расплывчатая тень с напоминающим горный кряж хребтом, с длинной вытянутой шеей и волочащимся могучим хвостом… Живое существо! Типичный ящер минувших земных эр!.. Доброе, экономя энергию, выключил инфракрасный прожектор, и "допотопное видение" исчезло. Алеша вскочил, бросился к Илье Юрьевичу: — Вы видели? Видели? Это же диплодок! Богатырев, запустив руку в густую бороду, задумчиво кивнул: — Иначе не могло и быть. Здешняя Венера — сестра нашей далекой Земли. Сестра по единому закону Вселенной, их отцу… Она находилась ближе к светилу, остывала медленнее, скажем, нашей планеты, отставала от нее в своем развитии, даже не потеряла сплошного облачного покрова. И на ней вполне вероятно встретить древнюю земную эру. Вот почему не удивился Богатырев ни папоротникам, ни даже ящеру. Не удивился, но, конечно, был взволнован, хотя и старался это скрыть, говоря Алеше: "Машина времени"… Мы перенеслись в далекое прошлое Земли, хотя… Алеша вопросительно посмотрел на Илью Юрьевича. — Сходные пути развития естественны, — продолжал тот, — но… они могут быть не единственными. — Значит, на Венере, чего доброго, увидим то, чего никогда не было на Земле? — воскликнул Алеша. Богатырев кивнул. — Илья Юрьевич! Дорогой! Ну позвольте же выбраться… — Не терпится взглянуть? Давай спросим Романа, закончил ли он стерилизацию. Стерилизация! Это покажется странным многим… Беречь чужезвездную Венеру от "земной опасности". Но вспомним о первой ракете, принесшей советские вымпелы на Луну. Ее заботливо дезинфицировали даже перед стартом в казавшийся мертвым мир. Кто знает, какой вред венерианскому миру принесли бы космонавты, не приняв мер против микробов, которые могли неосторожно доставить с собой. Можно было понять и боязнь занести на Землю лунные микробы во время первых рейсов на Луну. Тогда старательно стерилизовались скафандры астронавтов, а сами они, вернувшись с Луны, проходили карантин. Алеша остановился у окна, силясь разглядеть в тумане "доисторическую тень", но рассмотрел лишь влажные камни внизу. — Поднимается туман! Поднимается! — обрадованно крикнул он. Добров, пятясь из соседнего отсека, принес в охапке скафандры, которые облучил гамма-лучами и промыл антисептическим раствором. — Ну, братцы, — сказал Богатырев, — сядем, по древнему русскому обычаю, поразмыслим… Алеша сел, проникшись торжественностью минуты. Выпущенная из "зверинца" Пулька ласково терлась о его колени. Кошка Мурка осталась в "зверинце" и не отходила от своих пригвожденных к полу котят. Рожденные в космическом полете, они не могли теперь даже ползать. — Роман, оружие! — скомандовал Богатырев. — Алеша, готовь автоматическую метеостанцию. С ее монтажа начнем. Пулька! За мной! Пойдем за населением ковчега. Туман окутывал теперь ракету лишь чуть выше посадочных лап. Богатырев, Алеша и Добров вышли в радиорубку, которая временно превращалась в воздушный шлюз. С ними вместе было и население "зверинца" все, кроме кошек. Собака боязливо повизгивала. Белых мышей Илья Юрьевич держал на ладони. Ящерица забилась под пульт. Голубь сидел у Алеши на плече. Дверь в кабину плотно закрыли. Добров деловито отвинчивал барашки люка, ведущего на Венеру. Исследователи, одетые в скафандры со шлемами, походили на водолазов. Воздух Венеры, более плотный, чем в кабине, со свистом врывался снаружи в щель приоткрытого люка. Собака первая услышала свист и навострила уши. Алеша и Илья Юрьевич переглянулись. Добров наблюдал за вараном. Ящерица тяжело дышала, как после быстрого бега. На лайке шерсть встала дыбом, и собака жалась к Алешиным ногам. Голубь замахал крыльями, но остался на Алешином плече. Мыши вытянули лапки и недвижно лежали на огром-ной ладони Ильи Юрьевича. Люк еще полностью не открылся, а они уже издохли. Пулька легла на пол. Бока ее провалились. Люк открылся. Внизу виднелись черные камни, острые и мокрые. Алеша взял собаку на руки. Добров захватил два гранатных ружья и автомат. У Ильи Юрьевича был другой груз… Он стал спускаться первым, отыскивая ногой ступеньки алюминиевой лестницы. Было видно, как он коснулся камней, стал на влажную почву и тяжело опустился на колени. Алеша и Добров понимающе переглянулись. Русский ученый Богатырев стал на колени на чужой космической земле, словно хотел выразить уважение к неведомой природе и взволнованность ступившего на нее человека. Но Богатырев не просто стал на колени, он еще и нагнулся, словно в земном поклоне… Но он не касался лбом земли, а заботливо рыхлил ее совком, разгребал руками. Спустившийся за ним следом Добров стоял, как на часах, с одним гранатным ружьем в руках, с другим ружьем за плечами и с автоматом на шее. Он охранял Богатырева. Илья Юрьевич сажал на чужезвездной планете растения Земли. Спрыгнувший с последних ступенек лестницы Алеша спустил тяжело дышавшую собаку и стал выкапывать лопатой ямки. Первые посланники Земли посадили на здешней Венере четыре растения: тополь, кипарис, кактус и бамбук, и четыре зернышка: пшеницы, кукурузы, винограда и риса… Илья Юрьевич поднялся с колен, выпрямился во весь свой огромный рост, одной рукой обнял за плечи Алешу, другой — Доброва. — Ну вот!.. Здравствуй, Венера-вторая! Принимай искателей! — сказал он. Собака встала, обнюхивая почву, сделала несколько шагов и ткнулась носом в ногу Богатырева. — А ведь дышит, дышит! Жива наша Пулька! — сказал Богатырев, потрепал собаку по загривку и посмотрел вверх. Туман улетал лохматым облаком, обнажив островерхую, в подпалинах ракету и вершины папоротников. Почти невидимые в летящей дымке, над лесом проносились крылатые существа. Добров сменил гранатное ружье на автомат и настороженно поглядывал на опасные облака: — А ну, Алеша, пусти-ка в полет голубка нашего. Что он у тебя на плече отсиживается? Алеша взял в руку голубя. Казалось, он дышал совсем нормально. Черные бусинки глаз у него поблескивали. Это был самый обыкновенный сизый голубок. — Ну, лети, вестник мира! — сказал Алеша и подбросил голубя. Голубь сначала затрепетал и поднялся по вертикали почти к облакам. Потом стал махать крыльями медленно, совсем не по-земному, не по-голубиному, скорее как летящая над волнами чайка. Плотная атмосфера позволяла ему парить. Он стал кружить вокруг ракеты. Исследователи с интересом следили за ним. И вдруг черной молнией вырвался из низкой тучи крылатый зверь с оскаленной зубастой пастью и на миг закрыл голубя перепончатым крылом. Потом почти упал на камни, взмыл над ними и скрылся в туманных вершинах. Голубь исчез. Собака рычала. Шерсть у нее на загривке встала дыбом. — Это птеродактиль, — сказал Богатырев. — Жаль сизого… — Что ж вы не стреляли в эту гадину! — накинулся на Доброва Алеша. — Стрелять только в крайнем случае, обороняясь, — строго сказал Богатырев. — Роман прав. Выдержка у него есть. Жаль голубка. А дело свое он сделал… Добров выпустил на камни варана. Ящерица оживилась, забегала, забралась на камень, соскользнула с него, притаилась, высунула голову и стала оглядываться, словно высматривая добычу. — Чует, что мир гадов тут, — заметил Добров. Пуля зарычала, смотря в чащу. Туман исчез. Высоко в красноватом небе неслись белые облака. Илья Юрьевич приказал дать планеру американцев радиопеленг. Добров принялся за монтаж спущенной Алешей через люк автоматической станции. Птеродактили исчезли вместе с туманом. Илья Юрьевич расхаживал теперь с ружьем и автоматом, пытливо всматриваясь в чащу, молчаливую и угрожающую. Пулька тревожно нюхала камни. Добров, работая, что-то мурлыкал себе под нос. Отвертка два раза срывалась и падала на камни. В перчатках все-таки неловко было работать. Но вот он включил станцию, снабженную световой батареей, заряжавшейся от дневного света. Теперь что бы ни случилось с исследователями, защищенные яйцевидной броней приборы будут триста дней записывать венерианскую погоду, фотографировать небо и окружающую местность, а в случае приближения какого-нибудь существа снимут его на кинопленку. Ровно через триста дней могучий радиоимпульс, пробив ионизированный слой венерианской атмосферы, пошлет на "Землю" в сотню тысяч раз убыстренную запись "отчета", который расшифруют, замедлят и воспроизведут приборы на звездолете, отправят на родную планету. Первыми существами, запечатленными на ленте, изображение которых почти через десятилетия увидят люди на экранах Земли, были три советских звездолетчика, обнявшихся перед объективом станции. Алеша схватил Илью Юрьевича за руку, показал на небо. Над их головами, почти задевая вершины папоротников, пронесся планер. Алеша замахал руками, перескакивая с камня на камень. Планер исчез… За ним, словно в погоню, неслись по ветру растения с раскоряченными корнями. — Плохо, — сказал Илья Юрьевич. Пулька завыла.Глава седьмая Местное гостеприимство
Аллан Керн и Гарри Вуд стояли на дымящейся кочке посреди туманного болота и смотрели друг на друга. Все было понятно без слов. Погиб не только планер с аппаратами дальней радиосвязи — погибли запасы продовольствия, а главное, запасы кислорода… Железный Джон медленно поворачивалшлемовидную голову и "запасался впечатлениями". Берег болота представлял собой узкую полосу более сухой почвы, за которой мрачной стеной вставали заросли папоротников, вершины которых скрывались в клочковатом тумане. — Этой картиной я грезил на Земле, — чуть насмешливо сказал Гарри Вуд. — Мне всегда казалось, что я уже видел это… — …в каменноугольных шахтах, — мрачно отозвался Керн. — Там встречаются отпечатки этих чертовых растений, иногда даже окаменевшие стволы… Надеюсь, в венерианской каменноугольной шахте через сто миллионов лет наткнутся на наши окаменевшие тела и мы попадем в музей. — Признаться, шеф, я предпочел бы иным путем способствовать процветанию науки. — К сожалению, у нас не осталось шансов сообщить в газеты, что мы видим. — Вы хотите сказать, что русские не будут искать нас? — Не будьте бэби в очках, с национальной премией в кармане, усмехнулся Керн. — Русские заправятся топливом у вашей безутешной вдовы Мэри, доставят на звездолет, а потом и на Землю сенсационные экспонаты и получат все причитающиеся вам премии. — Во-первых, я еще не женат… — Боюсь, вы так и останетесь холостяком. — Во-вторых, как же мы? — Нас стали бы искать, если бы на "Знании" были не люди, а роботы… И лишь в том случае, если бы у этих роботов было выключено "самосохранение". Кто разумный решится идти на погибель, пробиваясь пятьдесят миль через эти чертовы джунгли, болота, морской пролив? И только для того, чтобы убедиться, что мы уже задохнулись без кислорода. — Все ясно, сэр. Начнем с этого, — сказал Гарри и стал решительно снимать с себя шлем. — Безумец! — крикнул было Керн, но махнул рукой. — Впрочем… Это право каждого из нас. Гарри снял шлем. Лоб его покрылся потом, грудь судорожно вздымалась, рот широко открылся. — Носом… дышите носом, Гарри, — посоветовал внимательно наблюдавший за ним Керн. — Получите кислорода на двадцать пять процентов больше. — О'кэй, шеф! — отозвался Гарри; голос его звучал глухо. — Дышу… и, кажется, жив… — Это в самом деле любопытно, Гарри. — Это шанс, шеф. — Протянуть подольше? Что ж… Тогда придется разведать берег. Гарри опустился на кочку. Он дышал с трудом. Воздух был жаркий и влажный, насыщен какими-то странными запахами. Голова кружилась, и от этого казалось, что воздух опьяняет, хотя его все время не хватало. Перед глазами плыли круги и клочья тумана. Сквозь них Гарри едва различал, как его сухопарый шеф перепрыгивает с кочки на кочку, приближаясь к гигантским папоротникам. Папоротники, папоротники… В сознании Гарри всплывали латинские названия. Непроизвольно он занимался систематикой венерианской флоры. Это означало, что дышать все-таки было возможно. Гарри отметил, что в этом мире нет травы. Любое, казалось бы, травянистое растение имело здесь древообразную форму, и к земному латинскому названию требовалось прибавлять дополнительное слово. Особенно много было тянущихся даже по болоту с кочки на кочку змеевидных корней. Они переплетались, чуть погруженные в топь, там и тут выпирая из нее. Они походили на отвратительных пресмыкающихся. По ним и перебирался к берегу Керн. Кочки были покрыты шаровидными бесцветными грибами. Когда Керн наступал на них, они взрывались черным облаком. Солнца, конечно, не было видно. Все вокруг казалось красноватым: багровое низкое небо, медные лужицы воды между кочками и растительность. Да! И карминовая растительность! "Так и должно было быть, — подумал Гарри, надевая шлем, чтобы отдышаться; теперь он снова мог соображать. — Здесь слишком жарко, растения излучают излишнее тепло, отражают лучи теплоносной части спектра… Потому и красные…" Гарри Вуд встал на ноги рядом с бесчувственным роботом. Оба они наблюдали, как Керн ступил на берег. И тотчас берег ожил. Со всех сторон к Керну устремились вереницы маленьких существ. — Жизнь! Вот она, жизнь, шеф! — радостно воскликнул Гарри. — Из всех видов жизни на Венере предпочитаю лишь собственную, отозвался через шлемофон Керн. — Эгей, шеф! Осторожнее! Боюсь, вашей точки зрения не разделяет местная живность. — Кажется, это ящерицы, — отозвался Керн, отступая. — Притом очень почтительные. Они встали передо мной на задние лапки. — Берегитесь, шеф! Динозавры и тиранозавры ходили тоже на задних лапах! Все произошло мгновенно. Небольшие ящерицы, опираясь на задние лапы и длинный хвост, похожие на сусликов или маленьких кенгуру, настигли Керна и вцепились ему в сапоги. Другие перелезли по спинам передних и стали взбираться по ногам Керна. Американец резким движением стряхнул их, но новые ящерки осаждали его со всех сторон. Керн отступил на несколько шагов и оказался среди лужи. Ящерки, по-видимому, избегали воды. Они заполнили берег и жадно раскрывали маленькие зубастые пасти. — Проклятые твари! — ругался Керн, перебираясь в безопасное место. Подозреваю, что это называется у них местным гостеприимством. Мы едва не потеряли шанс попасть в будущий музей. Надеюсь, они уберутся отсюда когда-нибудь? — Вряд ли, — усомнился Гарри, снова усаживаясь поудобнее у ног робота. — Я помню, на Земле был подобный случай. Керн добрался до Гарри. "Любопытный парень, — подумал Керн. — Он в самом деле таков или не хочет ударить лицом в грязь?" — Что же случилось за десяток световых лет отсюда? — бодро поинтересовался Керн. — Однажды войско, не помню, каких завоевателей, встало лагерем в пустыне, — спокойно начал рассказывать Гарри. — Завоевателей? — деловито переспросил Керн. — Сторожевые слишком поздно заметили, что на войско движется море мышей… Их легко было уничтожить ударом сапога, но… их было, шеф, невероятное множество. Люди защищались щитами, рубили мышей мечами, но новые массы грызунов лезли по горам трупов. Воины валились обессиленные… Лошади ржали, обрывая поводья, унося на крупах вгрызшихся в них мышей… Они падали, и на месте их падения оставались начисто обглоданные кости… От целого войска завоевателей не осталось ничего… Были съедены даже ремешки от конской сбруи и от богато украшенных шлемов военачальников… Лавина мышей прошла дальше… — Не пойму, парень, хотите ободрить или разозлить? — Может быть, и то и другое, — усмехнулся Гарри. — О'кэй! — в ярости крикнул Керн. — Не будем равнять с собой съеденных мышами варваров. Мы располагаем кое-чем более совершенным, чем мечи и стрелы. Не задать ли этим гадинам железного перцу? — Если вы под перечницей имеете в виду Железного Джона… — Вот именно! Попрошу вас, Джон, перебраться на берег и познакомиться с местным гостеприимством. Робот послушно тронулся в путь. — Прошу вас, Джон, осторожно выбирать дорогу. Здесь легко провалиться. Железный Джон замер с занесенной ногой. — Да, сэр, — бесстрастно произнес он. — Неизвестно допустимое давление на кочку, корни и топь. Недостаток цифрового материала. — Делайте осторожные экспериментальные шаги, Джон. Накапливайте новые сведения, прошу вас. — Да, сэр, — ответил робот и стал топтаться на месте. — Собираю информацию. Наконец он тронулся в путь. Гарри и Керн с разных кочек с тревогой наблюдали за ним. Провалившись два раза по колено, робот научился выбирать правильный путь и вышел на берег почти посуху. Жадные, ящерицы с яростью набросились на него. Их накопилось теперь так много, что, разноцветные — синие и желтые, они покрыли берег движущейся пестрой массой. Не обращая на ящериц внимания, закованный в доспехи робот вышел на берег и остановился. Зверьки буквально облепили его, стали цепляться за железо, очевидно, липкими лапками, вскарабкивались по его ногам, по туловищу, на плечи и на голову. Серебристый робот преобразился, покрылся вдруг безобразной пестрой шкурой. Робот размышлял. Математическая машина перебирала сотни тысяч поступков, которые компьютер мог бы совершить, и никак не могла на чем-нибудь остановиться. — Информируйте, Джон, прошу вас, — радировал Керн, с трудом оставаясь вежливым. (Напомним, что его брат создал такую машину, которая реагировала только на вежливое обращение.) — Информируйте меня, пожалуйста. Робот невозмутимым голосом сообщил, что он подсчитал количество ящериц на квадратном футе, определил общую площадь, занятую ими, и, наконец, общее их число: двести семь тысяч триста сорок восемь штук, с точностью до двух-трех ящериц. Если давить ящериц ногами, то, для того чтобы вытоптать фут за футом всю упомянутую площадь, понадобится при оптимальной скорости передвижения восемнадцать часов тридцать две минуты шестнадцать секунд. — Черт возьми, шеф! — закричал Гарри. — Этот подсчет больше годится для натирки паркетных полов! Здесь нужно действовать быстро. — К сожалению, огнестрельное оружие тут бесполезно, а огнеметов мы не предусмотрели. Лучше всего подошел бы тяжелый механический каток, которым укатывают асфальт на дорогах. — Прекрасная идея, шеф! Нельзя ли внушить ее Джону? — К сожалению, асфальтовые дороги, кажется, не затронуты в его запоминающем устройстве. — Тогда переключите робота на меня, чтобы он повторял мои движения. Ведь он рассчитан на телеуправление. — О'кэй, Гарри! Вы начинаете мне нравиться. Внимание, Джон, прошу вас. Я переключаю вас на телеуправление. Не теряйте времени, Гарри. Передвиньте рычажок своего радиоаппарата на цифру "девять". Теперь робот должен был действовать не размышляя, а лишь точно повторяя движения Гарри Вуда. Гарри, стоя на дальней кочке, поднял ногу. Занес ногу и робот на берегу. Гарри топнул ногой. Опустил свою тяжелую ступню и робот. Раздался отчаянный визг. Ящерицы отбежали, оставив несколько трупов. Но снова они ринулись на Железного Джона. Гаррн неистовствовал на своей кочке. Он подпрыгивал, топтался, ударяя по кочке ногами, кажется, готов был лечь и кататься по болоту, давя тяжелым телом, как катком, несчетных врагов. Робот точно копировал все его движения. На берегу скопилась гора уничтоженных ящериц. Она мешала роботу двигаться, но он не мог перейти на новое место, потому что его повелитель был прикован к кочке. Ящерицы учли малую подвижность противника. Собираясь для новой атаки, они не переходили невидимую запретную черту. Робот бросился на них, но вдруг неуклюже оступился и упал, растянувшись во весь рост. И тотчас, повергнутый, он был покрыт толстым слоем прожорливых победителей. Их зубы скрежетали о металл.
Робот беспомощно взмахивал руками, под ударами которых гибли исступленные ящерицы. Их место занимали новые свирепые собратья.
Движения робота становились все беспорядочнее.
Он трепыхался в массе налипших на него хищников…
Но робот лишь воспроизводил движения Гарри Вуда, который в пылу борьбы с невидимыми врагами оступился и угодил в топь. Он завяз в ней по самые плечи и судорожно цеплялся за ближние кочки… Потому и были так беспомощны, движения Железного Джона.
Аллан Керн, перепрыгивая с кочек на узлы корней, спешил Буду на помощь.
Еще немного — и она была бы уже не нужна. Вместе с Вудом замер бы и робот, которого не удалось бы уже переключить…
Вымазанного по самое горло, облепленного грязью, вытащил Керн Вуда на кочку. Раздавленные грибы дымились…
— Топчите, топчите их, подлых! — кричал Керн. — Переходите за мной, держитесь за руку! Наступайте на них!
Робот, воспроизводя движения Гарри, снова поднялся. Он стряхивал с себя ящериц, как стряхивал с себя тину Гарри. Он делал прыжки на берегу, как Гарри на болоте. Ящерицы в страхе рассыпались из-под его ног, а у Гарри под ногами клубился дым от раздавленных грибов. Ящерицы, почуя наступательный дух бросавшегося на них железного чудовища, отбежали на почтительное расстояние, оставив на поле боя огромное количество павших. Трупы покрывали дорожку, ведшую в чащу зарослей.
Керн заметил, что ящерицы свободно движутся лишь по открытой полосе между джунглями и болотом. Он решил этим воспользоваться и скрыться от ящериц в чаще.
— Переключайте Джона на самостоятельные действия! — скомандовал Керн. — Он уже накопил теперь опыт. Сами — за мной!
Гарри переключил аппарат. Робот словно и не почувствовал этого. Он продолжал выплясывать на берегу, наступая на ящериц, будто его хозяин продолжал задавать ему эти движения.
Ящерицы бежали, уступая металлу.
Керн и Вуд одним духом пересекли открытую полосу и остановились только в лесу, стараясь отдышаться.
Робот двигался к ним, пятясь, устрашая ящериц тяжелыми ногами.
— Уничтожено девять тысяч триста сорок одна штука, — равнодушно докладывал он. — Для полного уничтожения вставших потребуется…
— Разве это не чудо техники! — воскликнул Керн. — О мой покойный брат! Его дух был с нами!
— Во всяком случае, машина поработала с душой, — заметил Гарри. — Но какие здесь растения! Вы только посмотрите, шеф! Докторские диссертации, профессорские звания, даже Нобелевская премия — все здесь находится на расстоянии вытянутой руки!
— К сожалению, ракета, нужная для возвращения, находится несколько дальше, — буркнул Керн.
Их зубы скрежетали о металл.
Робот беспомощно взмахивал руками, под ударами которых гибли исступленные ящерицы. Их место занимали новые свирепые собратья.
Движения робота становились все беспорядочнее.
Он трепыхался в массе налипших на него хищников…
Но робот лишь воспроизводил движения Гарри Вуда, который в пылу борьбы с невидимыми врагами оступился и угодил в топь. Он завяз в ней по самые плечи и судорожно цеплялся за ближние кочки… Потому и были так беспомощны, движения Железного Джона.
Аллан Керн, перепрыгивая с кочек на узлы корней, спешил Буду на помощь.
Еще немного — и она была бы уже не нужна. Вместе с Вудом замер бы и робот, которого не удалось бы уже переключить…
Вымазанного по самое горло, облепленного грязью, вытащил Керн Вуда на кочку. Раздавленные грибы дымились…
— Топчите, топчите их, подлых! — кричал Керн. — Переходите за мной, держитесь за руку! Наступайте на них!
Робот, воспроизводя движения Гарри, снова поднялся. Он стряхивал с себя ящериц, как стряхивал с себя тину Гарри. Он делал прыжки на берегу, как Гарри на болоте. Ящерицы в страхе рассыпались из-под его ног, а у Гарри под ногами клубился дым от раздавленных грибов. Ящерицы, почуя наступательный дух бросавшегося на них железного чудовища, отбежали на почтительное расстояние, оставив на поле боя огромное количество павших. Трупы покрывали дорожку, ведшую в чащу зарослей.
Керн заметил, что ящерицы свободно движутся лишь по открытой полосе между джунглями и болотом. Он решил этим воспользоваться и скрыться от ящериц в чаще.
— Переключайте Джона на самостоятельные действия! — скомандовал Керн. — Он уже накопил теперь опыт. Сами — за мной!
Гарри переключил аппарат. Робот словно и не почувствовал этого. Он продолжал выплясывать на берегу, наступая на ящериц, будто его хозяин продолжал задавать ему эти движения.
Ящерицы бежали, уступая металлу.
Керн и Вуд одним духом пересекли открытую полосу и остановились только в лесу, стараясь отдышаться.
Робот двигался к ним, пятясь, устрашая ящериц тяжелыми ногами.
— Уничтожено девять тысяч триста сорок одна штука, — равнодушно докладывал он. — Для полного уничтожения вставших потребуется…
— Разве это не чудо техники! — воскликнул Керн. — О мой покойный брат! Его дух был с нами!
— Во всяком случае, машина поработала с душой, — заметил Гарри. — Но какие здесь растения! Вы только посмотрите, шеф! Докторские диссертации, профессорские звания, даже Нобелевская премия — все здесь находится на расстоянии вытянутой руки!
— К сожалению, ракета, нужная для возвращения, находится несколько дальше, — буркнул Керн.
Глава восьмая Мнимая величина
Два человека в скафандрах без шлемов брели по венерианскому лесу. Они казались пигмеями рядом с исполинскими папоротниками. Веерообразные кроны в клочья рвали низкие, гонимые ветром тучи. Почва чмокала при каждом шаге, готовая засосать, поглотить. Стоять можно было только на узловатых корнях. Сети лиан проволочными заграждениями вставали на пути, угрожая острыми шипами на гибких стеблях. Дорогу пробивал робот. Во влажных блестящих латах, он крушил топором заросли, как мечом. Керн был мрачен и что-то шептал, может быть молитвы. Гарри Вуд принуждал себя смотреть по сторонам, вспоминать джунгли Амазонки, которые он когда-то мечтал сравнить с лесами Венеры. Теперь он мог сравнивать. Заросли Венеры-2 похожи и чудовищно не похожи на земные. Если джунгли Амазонки прозвали "зеленым адом", если под сводами сросшихся вверху деревьев там всегда зеленая ночь, сменяющаяся черной ночью, полной злых огоньков и пугающих звуков, то в чужезвездном венерианском лесу был "красный ад". Багровые туманные сумерки, низкое мчащееся небо, голые стволы, без коры и сучьев, поднимающиеся прямо из болота, ни трав, ни цветов… Вверху что-то пролетало со свистом и хлопаньем. Впереди слышалось рычание или рокот. Сзади, то приближаясь, то удаляясь, что-то клокотало. Гарри заставлял себя оставаться ученым, все видеть, замечать, относить к тому или иному земному виду или неизвестной форме… Но сознание было подавлено безысходностью. Леденящее равнодушие парализовало мозг. Он оставался равнодушным к ящерицам с недоразвитыми крыльями, которыми они пользовались, как рулями, зигзагообразно и неуловимо скользя над водой, или к крылатому ящеру с зубастой пастью, запутавшемуся в колючей сети лиан… Когда Гарри жил на Земле, он готов был отдать полжизни за то, чтобы лишь взглянуть на такой мир… Теперь он мог видеть, ощутить, познать его, но… платил за это жизнью… Он понимал, что на спасение надежды не было, и все же искал эту надежду. Он представлял себе русских, командора Богатырева, расчетливого инженера Доброва, пылкого Алешу… Как поступят они? Пожмут плечами, улетая? Вздохнут притворно? Неужели прав воспитавший шефа Томас Керн и всем на свете движет выгода? В довершение всего пошел дождь. Он бил сверху толстыми редкими струями. Скоро он перешел в ливень, и в какой ливень! Воздух превратился в водяной поток, сбивавший с ног. Болото бурлило, стало озером, поднялось до колен. Гигантские папоротники сгибались от тяжести струй. Путники, экономившие кислород, не успели надеть шлемы. Их мокрые волосы липкими прядями сбились на лоб. К счастью, за герметические воротники вода не затекала. Но дышать стало легче! Ливень принес с собой кислород. Поразительно свойство человеческого организма приспосабливаться к различным условиям! Человек живет даже в Антарктиде, где температура падает почти до -90 °C, когда погибает все живое. Он переносит жару, вызывающую ожоги. Он в состоянии дышать на горных вершинах, задерживает дыхание на несколько минут под водой, испытывает давление в несколько атмосфер в кессонах, выдерживает удар электрического тока, убивающий слона!.. Когда Гарри впервые снял шлем на болоте, он едва мог дышать венерианским воздухом. А потом… потом и он и Керн приспособились, научились дышать… Помогло учение йогов о дыхании, которое они оба знали. Если дышать реже, глубже и через нос, организм лучше усваивает кислород. И если альпинисты довольствовались на большой высоте малой долей кислорода, Вуд и Керн в чужезвездном венерианском лесу обходились еще меньшей. А когда пошел дождь, дышать стало совсем легко. Нужно было лишь защищать рот и нос от воды, потому что по сравнению с дождем на Венере земной тропический ливень показался бы накрапывающим дождиком. А вокруг грохотало, как во время землетрясения, когда рушатся здания и обваливаются горные склоны, сметая каменной лавиной все на пути. Над головой сверкали молнии. Красный ад на мгновение становился мертво-голубым. И резкие тени стволов ложились то вправо, то влево, первые тени, которые видели люди на Венере. Вздрогнув при очередном ударе молнии, робот сказал: — Мои механизмы в опасности. Слишком много воды течет сверху. — О'кэй! — с горькой иронией отозвался Керн. — Правильный вывод не только в отношении механизмов. Гарри лишь по движению губ Керна понял, что он сказал. Робот же автоматически увеличил усиление и проревел, перекрывая венерианский гром: — Нужна крыша. — Какая тут, к черту, крыша, — заорал Керн, — когда мы не в лучшем положении, чем люди каменного века в дни всемирного потопа! — Каменный век… каменный дом… каменный свод… грот, пещера, последовательно отразил робот фазы своего мышления. — Браво! — отозвался Керн. — Мой брат Томас на моем месте отдал бы часть будущих прибылей за самую гнусную пещеру на свете. — Ищу пещеру, — доложил робот. — Включил радиолокатор. По азимуту семнадцать обнаружил скалы с выемкой. — Идите, почтенный Джон, уступаю вам руководство! — прокричал Керн. В отсвете молний сверкнула серебристая спина робота, который, взмахивая топором, пробивал путь в намеченном направлении. Вуд едва вытаскивал ноги из липкой грязи, с трудом взбирался на корни, соскальзывал с них в пузырящуюся воду. Керн властно взял Вуда под локоть: — Не будьте прочитанной газетой на панели, парень! Нам остается полагаться только на бога да на робота. Вуд не ответил. Он сосредоточил все свое внимание на том, чтобы держаться на ногах. Робот точно вывел астронавтов к скалам, с которых каскадами, пенясь и вздымаясь фонтанами, сбегала вода. Обнаруженное радиолокатором углубление оказалось гротом. Люди уже не могли идти. Повинуясь указанию, робот втащил их по скользким камням в пещеру. Вуд и Керн свалились на каменный пол. Вуд видел, как приподнялся на локте Керн, как подполз к роботу и стал протирать его тряпкой. Робот равнодушно стоял, поворачивая голову вправо и влево. Он, наполняя заложенную в нем программу, запасался впечатлениями, запоминал их, обрабатывал, подготавливал выводы. Он был лишен человеческих слабостей. Гарри подумал об этом и усмехнулся. Что сказала бы Мэри! Она так горячилась в споре. Дождь стихал, воздух был влажен, а во рту пересохло. — Хотелось бы проверить, — заметил Керн, отжимая тряпку, — сколько удалось нам пройти по этой чужепланетной грязи. Робот реагировал: — Пройдено две и три десятых мили со скоростью шестьдесят две сотых мили в час. Падающая сверху вода задержала нас на сорок семь минут. — И задержит еще, — добавил Керн, пряча тряпку в спину робота и захлопывая железную дверцу. Робот принялся высчитывать возможные потери времени в пути. Гарри Вуд устало слушал его, поражаясь и его методичности, и в то же время убогости его фантазии. Машина использовала запас полученных впечатлений, но на большее она не была способна. Однако и возможных, с ее точки зрения, препятствий было достаточно, чтобы вероятность не опоздать к отлету ракеты, подсчитанная электронным мозгом, составила всего 1,74 шанса из ста. Гарри Вуда тошнило. Но, когда он узнал о выводах машины, ему стало еще хуже. Давая выход внутреннему протесту, он сказал: — Ваш робот туп! Он не учитывает, что русские пойдут к нам навстречу. Керн расхохотался: — О наивный варвар! Он не знает элементарных законов отношения друг к другу волков или людей, что, впрочем, одно и то же, как учил меня брат Томас. Однако, чтобы ответ был убедительным, мы зададим вопрос его детищу, воплощению железной логики и бесстрастного разума. — Спрашивайте хоть у птеродактиля, — устало отмахнулся Вуд. Он сидел теперь на каменном полу, уткнувшись мокрой головой в колени. Его знобило. — Уважаемый Джон, — обратился Керн к роботу, — прошу вас, подсчитайте, сколько шансов, что русские в соответствии с нормами поведения людей, зафиксированными в вашей электронной памяти, покинут свою ракету и, рискуя всем, отправятся через пролив и джунгли нам на помощь. — О'кэй, — равнодушно отозвался робот и стал вычислять. Ливень почти стих. Мимо пещеры неслись мутные ручьи, по воде плыли сорванные ветви и не то рыбы, не то ящерицы. Было жарко и душно, парило. Лужи, из которых выпирали корни деревьев, словно дымились, от них поднимался туман. Робот щелкнул и размеренным голосом произнес: — Вероятность того, что русские решатся оказать помощь, рискуя не вернуться на Землю, равна семи и трем десятым, помноженным на корень квадратный из минус единицы. — Корень квадратный из минус единицы. О безошибочность математической логики! Она показывает в итоге вычисления мнимую величину! Логический вывод — шансы на возможную помощь мнимы!.. Это математика, Вуд, а не хиромантия… Гарри Вуд покачал головой. — Здесь все мнимо, — хрипло сказал он. — Мнима дружба, мнима надежда… Даже жара мнима. Вода испаряется, как на раскаленной плите, а мне холодно. Вуд стучал зубами. — Перестаньте, Вуд! — прикрикнул на него Керн. — Никто еще так не хотел жить, как я! Мы должны жить, черт возьми! Должны, хотя бы всю Землю разнесло на миллионы кусков в термоядерном взрыве океанов… и нам некуда было бы вернуться! Вуд поднял на Керна воспаленные глаза: — Выжить? Выжить на этой планете? Одним? — Да! Одним! Раз дышать здесь можно, должно и выжить… хотя бы нас навеки забыли в этих чертовых джунглях и не искали сто лет!.. — Вы бредите, шеф, — сказал Вуд, видя неестественный блеск у Керна в глазах. — Вот наш первый дом! — указал Керн на каменный свод. — Пещера! Великолепная первобытная пещера, ничем не хуже, чем у наших предков на Земле. Разве у нас с вами мозги устроены хуже, чем у людей каменного века? — Мозги у нас устроены, кажется, так же., и объем мозга такой же… — Но знаний у нас побольше, чем у первобытных охотников! — Зачем нам эти знания, если мы сами станем здесь первобытными охотниками? — Я не уверен, что мы смогли бы передать знания нашим потомкам. Но охотниками своих внуков сделали бы не худшими, чем были неандертальцы, кроманьонцы или австралийские аборигены. Недостатка в мясе гадов, которые напали на нас у болота, не будет, даже когда разрядятся через год аккумуляторы несравненного Джона и его разберут на ножи и топоры. — Вы рассуждаете, шеф, о потомках, словно моя Мэри с нами. Керн криво усмехнулся: — Вы уличили меня. Я действительно начинаю бредить. — На этот раз вы бредили, как ясновидец. — Что вы имеете в виду? — Запасной планер, сэр. — Ага! Значит, бредите все-таки вы… — Ничуть. Не думайте, что Мэри отдаст русским топливо на обратный рейс и полетит с ними. — Ах, вот зачем вам запасной планер! — Не планер, а Мэри, которая им воспользуется. На "Просперити" ее удерживал только долг, сэр. Если планер занес нас сюда, то почему другой планер не даст ей возможности найти нас?. — Этого я не знаю, — мрачно сказал Керн. — У меня иные взгляды на людей и их чувства. Пусть мой несравненный брат заложил и в меня и в робота принципы отжившего мира, но… изменились ли люди вместе с переменой формации? Например, мы оба? Мы выживем с вами, если не передеремся. А передраться нам нельзя потому, что в одиночку не выжить. О'кэй! Считайте меня вождем нового племени венерианских дикарей! Обещаю вам полнейшую западную демократию. Мы будем выбирать меня каждые четыре года, как в доброе старое время! — Шеф, я ценю, что вы пытаетесь подбодрить меня. Вы лучше, чем я о вас думал. — Наплевать мне на то, что вы обо мне думали! Не подбадриваю я вас, а убеждаю: надо выжить, черт возьми! Целый год с нами будет Железный Джон! А пещеру мы найдем и поуютнее этой. Робот глубокомысленно прореагировал на последние слова: — Уют пропорционален пещере, помноженной на корень квадратный из минус единицы, — И здесь мнимая величина! — мрачно констатировал Вуд. — Впрочем, здесь ваша чертова машина права. — Она всегда права! И она не сказала, что жизнь на Венере — мнимая величина! — торжествующе воскликнул Керн. — Черт с ним, с уютом, комфортом и цивилизацией! Лучше стать пещерным человеком, чем подохнуть… И мы приспособимся, пусть без университетских знаний, но приспособимся, Вуд. Отныне вы будете называться не Вуд, что означает на последнем земном и первом венерианском языке "дерево", вы будете называться Дубина. А я уже не Керн, что означало "инструмент, оставляющий при ударе отметину", а Удар. Итак: Дубина и Удар! Неплохо для первых старейшин племени. Черт возьми, даже неплохо было бы, если бы спустилась ваша Мэри. Мэри Стрем… Мы назвали бы ее Стремя! Вождю племени будут нужны охотники и воины. Глаза Керна лихорадочно блестели. Он вскочил и стал хлопать Железного Джона по плечу: — Клянусь памятью Томаса, ты неплохой парень, Джон! Целый год ты будешь равноправным членом нашего племени, последним остатком ненужной здесь цивилизации… пока не разрядишься. А потом… потом цивилизацией здесь будут Дубина и Удар! Керн нервно захохотал и повалился на каменный пол. Вуд лежал без движения, он с тоской смотрел на Керна, словно хотел что-то сказать ему. Обоих било в лихорадке… А они… хотели выжить! Хотели, не веря в людей… Конец первой частиЧасть вторая. Закон космоса
Глава первая Удар дубиной
В багровых зарослях шел дождь. Косые струи гнули деревья, отламывали ветви. Болото бурлило и вздувалось. Сверкали звездоподобные молнии. Гром прокатывался волнами, как косо набегающий на берег морской прибой, усиленный в сотню раз. Не обращая внимания на ливень, по лесу, крадучись, пробирались двое. Их мокрые косматые плечи переходили в могучую шею, слипшиеся волосы скрывали крутой лоб с выпуклыми надбровными дугами. Маленькие и острые глазки настороженно смотрели из-под лохматых бровей с густо заросшего лица. Длинные бугристые руки раздвигали колючие лианы, не боясь шипов. С волосатых плеч спускались чешуйчатые шкуры, скорее напоминающие панцири, чем одежду. У каждого было по огромной узловатой дубине. Ящерицы с недоразвитыми крыльями бросались врассыпную при их появлении. Но мелкие твари не интересовали охотников, уже видевших желанную добычу. Большой ящер на выгнутых суставами наружу лапах, с пилообразным хребтом, переходящим в хвост с бивнем на конце, нежился в дождевых струях, довольно пофыркивал и прикрывал глаза пленками. Перед ним лежала мокрая груда объедков, среди которых еще трепыхалась пара раненых ящериц. Сытый ящер равнодушно наблюдал, как рдна из них, опираясь на хвост, заковыляла по луже на задних лапах и скрылась за сетью лиан. Он не преследовал ее… Охотники набросились на ящера с разных сторон. Две дубины почти одновременно опустились на глаза чудовища. Взметнув фонтан воды, ослепший ящер повернулся. Его хвост наугад ударил острым бивнем невидимого врага. Бивень с размаху вонзился в топкую почву. Охотники ждали этого и бросились к завязшему концу хвоста, накинули на него петлю из лиан. Взбешенный ящер неистовствовал. Он не мог вырвать хвост и не видел врагов. Один из них бросил в разверстую зубастую пасть моток колючих лиан. Зверь в ярости проглотил моток и стал бросаться из стороны в сторону. От боли, страха и бешенства ящер взвивался на привязанном хвосте, огромное его тело отделялось от болота, и все четыре когтистые лапы рассекали воздух. Все тот же охотник, с ловкостью тореадора увертываясь от ударов, стоял прямо перед щелкающей зловонной пастью, выбирая момент. Другой спокойно наблюдал в стороне, готовый заменить товарища при неудаче. Ящер плюхнулся брюхом в воду. Голова его с бугром на темени оказалась как раз напротив охотника. Тот взмахнул дубиной и, крякнув, опустил ее на бугор. Ящер повалился на бок, как падает на бойне оглушенный бык. Ящер был еще жив, шея его то вздувалась, то спадала, но охотники, подойдя к нему вплотную, засунули дубины в щели между пластинами, прикрывавшими шею, и отодрали их. Под пластиной дрожала нежная мякоть. Охотники хорошо знали, где проходит важная артерия. Через минуту огромный ящер был мертв. — Мы могли бы убивать даже летающих, — гордо сказал один из охотников. — Ты опять о топорах из звонкой шкуры Чуда? — Для этого надо опустить дубины на головы стариков. — Они скоро умрут сами. — Умирают только охотники. Старики не охотятся и все время живут. — Они мудрые. — Мы сильнее их. Я опущу дубину на нх головы и получу звонкую шкуру Чуда. Нагруженные добычей охотники добрались до скал. Из пещеры шел дым. Отблески огня играли на каменном своде. Косматые охотники отнесли добычу в глубь пещеры. Иссохшая старуха подбрасывала корни в костер и монотонно говорила. Несколько грязных волосатых детей, сидя на корточках, слушали ее. Охотники, грубо отпихнув детей, подсели к огню. — Старые прилетели из-за туч, — рассказывала старуха. — Они видели небо. Один из мальчишек толкнул другого в бок, тот захихикал. Охотник наградил обоих тумаками, дети притихли. — Они видели, — продолжала старуха, — рассыпанные по небу горящие угли и Великий Костер, который разгорается по утрам, даря нам день, и гаснет к ночи. Охотник усмехнулся. — Старые, живя на небе, знали великую мудрость, — рассказывала старуха. — У них был ящер со звонкой шкурой, который изрыгал огонь костра и летел сам, как выброшенная из костра искра. — Чего ж старые не летают, — спросил охотник, — а только жрут мясо?.. — Для этого нужно много звонкой шкуры, которой нет в наших лесах, возразила старуха. — Зато она есть там, — зловеще кивнул головой охотник в глубину пещеры. — Я знаю, о чем ты говорить, Хам, — прошамкала старуха. — Почему ты не захотел учиться мудрости, когда я еще только начинала подбрасывать сучья в Вечный Костер племени? — Зачем слушать про выдуманный мир? Разве охотники устраивают из камней пещеры одну над другой? Разве увидишь вверху рассыпанные угли? Они упали бы вниз. Надо добывать мясо. В этом мудрость. А старые глупы. Старуха уничтожающе посмотрела на Хама и отвернулась к детям: — Старые прилетели на двух крылатых. Сначала мужчины, потом женщина, от которой пошло все наше племя. — Лучше скажи, старуха, про Чудо в звонкой шкуре. Из нее можно сделать много топоров и ножей получше каменных. — Молчи, презренный! Чудо в звонкой шкуре может заговорить. Один только раз. Последний. В нем сосредоточена мудрость другого мира. Только старейшины могут заставить его говорить. — Мне не нужен голос Чуда, мне нужна его звонкая шкура, — сказал Хам, вставая. — Может быть, подождем? — спросил его младший спутник. Но Хам пнул его ногой, и тот вскочил. Взяв в руки дубины, они пошли в глубь пещеры. Им встречались женщины, почти не покрытые шерстью, с перевязанными лианами волосами. Они испуганно уступали дорогу, волоча за руку маленьких детей. У пещеры было много переходов, они привели в конце концов к полутемному гроту, из которого был второй выход в лес. — Кто тут тревожит старейшин? — спросил дребезжащий старческий голос. — Это я, Хам. И мой брат со мной. Мы принесли мясо, — нерешительно сказал охотник. — Мясо отдай сидящим у Вечного Костра племени. Что тебе нужно здесь? — Мне нужна звонкая шкура Чуда. Мы сделаем из нее топоры и ножи для всего племени. — Вы слышите, Вуд, что говорит ваш отпрыск? Стоило для них хранить аккумуляторы электронного мозга!.. — закричал старик другому. Второй из старейшин застонал в углу. — Я не понимаю, что ты говоришь, старый, которого звали Ударом, сказал Хам, наступая. — Мне нужна звонкая шкура Чуда. В прошлый раз ты отдал нам его руку, теперь мне нужна вся шкура. — Удались, пещерный! — закричал старейшина. Но охотники топтались на месте. Потом Хам взмахнул дубиной: — Я решил опустить дубину на ваши головы. Вы только жрете мясо и бормочете про пустую мудрость. Мы возьмем звонкую шкуру. Два худых седобородых человека, почти голых, в каких-то невероятных отрепьях, вскочили на ноги и стали отступать в темноту грота. Но охотники прекрасно видели в темноте, их глаза никогда не знали солнечного света. Они наступали, размахивая дубинами. — Отойди, дикий! Да включайте же наконец, Вуд!.. Включайте! Или вы тоже одичали! — кричал старик другому. — Я не могу, шеф… Меня лихорадит, как в тот первый день. — Да включайте, включайте, черт вас возьми! Видите, они размахивают дубинами, ваши дикие потомки!.. Включили? Уважаемый Джон, прошу вас… В углу что-то щелкнуло, там замерцал красноватый свет. Охотники отступили на шаг. — Ты разжигаешь костер внутри Чуда. Я не боюсь костров. — Ты великий охотник, Хам, — заговорил старик. — Ты услышишь голос, который молчал больше времени, чем ты живешь. Кроме нас, старейшин, только он, Чудо, может сказать о Великой Мудрости. — Ты лжешь, старик, которого звали Ударом! Ты заслужил удар. Я опущу дубину на твою голову и послушаю, как ты будешь болтать. — Отойди!.. Дай Чуду разогреться… Уважаемый Джон, прошу вас… Неужели он совсем разрядился? В углу снова щелкнуло, и оттуда раздался безучастный скрипучий голос: — Да, сэр. — Уважаемый Джон, прошу вас, скажите… скажите что-нибудь! Железный голос произнес: — Можно осушить заболоченное пространство. Для этой цели понадобится прорыть траншеи с общим объемом земляных работ в шестьдесят семь миллионов кубических футов. — Ты не испугаешь Хама голосом. Ящер тоже бормочет, прежде чем я убиваю его. Ты заслужил свое, старик. Хам взмахнул дубиной и, крякнув, опустил ее на голову старейшины. Худой, изможденный старик повалился на каменный пол пещеры. Другой старик спрятался за одноруким железным изваянием, чуть уступавшим по размерам размахивавшему дубиной охотнику. — Джон, прошу вас!.. Спасите меня, спасите!.. — Аккумуляторы почти полностью разряжены, безучастно сообщил робот. Работает только электронная память. Спасение было в достижении русской ракеты, которую отделяло от пещеры шестьдесят девять миль. Два охотника подскочили к роботу с двух сторон и с привычной сноровкой обрушили на его светящиеся глаза дубины. В роботе что-то звякнуло, свет в нем погас, он покачнулся и, громыхая, покатился по каменному полу. Уцелевший старик бросился к выходу, но путь ему преградил Хам. Он толкнул мохнатой рукой старейшину в грудь, и тот упал. Старик видел занесенную над ним окровавленную дубину и зажмурился. Слышалось, как со свода пещеры падали капли в лужу на ее полу. Невнятно бормотал, очевидно лежа на камнях, робот: — До русской ракеты можно доехать в автомобиле за тридцать семь и две десятых минуты, если воспользоваться бетонным шоссе. Дубина не опускалась. Гарри Вуд открыл глаза. Он увидел каменный свод пещеры, стволы гигантских папоротников, лужу на полу, недвижно лежащего Керна в скафандре. Керн убит… убит ударом дубины дикого потомка, дикаря из выжившего на Венере племени людей… Сзади слышался размеренный голос робота:
— Для постройки бетонной дороги понадобится пятьдесят семь миллионов долларов, считая по объявленной фирмой "Смит" стоимости. Превосходно, выгодно, прославлено.
Вуд сел.
Никакой дубины над ним не было.
Робот не лежал, а стоял у входа в пещеру и бубнил.
Керн перевернулся на другой бок, застонал и произнес сквозь зубы:
— Мы должны выжить, должны… Хотя бы пришлось ждать сто лет.
Вуд потер виски.
Голова пылала.
— Бред! — прошептал он. — Бред… Но действительность не лучше.
Вуд опустился сначала на локоть, потом упал на пол.
Щека его ощутила мокрый камень.
"Русские, — подумал Вуд, — если бы они знали… Неужели?.." Мысль ускользала, проваливалась во мрак.
Венерианские микробы сделали свое дело.
Сзади слышался размеренный голос робота:
— Для постройки бетонной дороги понадобится пятьдесят семь миллионов долларов, считая по объявленной фирмой "Смит" стоимости. Превосходно, выгодно, прославлено.
Вуд сел.
Никакой дубины над ним не было.
Робот не лежал, а стоял у входа в пещеру и бубнил.
Керн перевернулся на другой бок, застонал и произнес сквозь зубы:
— Мы должны выжить, должны… Хотя бы пришлось ждать сто лет.
Вуд потер виски.
Голова пылала.
— Бред! — прошептал он. — Бред… Но действительность не лучше.
Вуд опустился сначала на локоть, потом упал на пол.
Щека его ощутила мокрый камень.
"Русские, — подумал Вуд, — если бы они знали… Неужели?.." Мысль ускользала, проваливалась во мрак.
Венерианские микробы сделали свое дело.
Глава вторая Соловей-разбойник
Из зарослей гигантских папоротников доносился звенящий визг. Внезапно он оборвался, и из чащи на болото выплыла странная машина. Она напоминала автомобиль-амфибию, но была без колес. Диски циркульных пил, которыми разрезались лианы, еще вертелись. Когда машина появилась над кочками болота, из-под ее корпуса взвились фонтаны воды. Могучие воздушные струи, бившие вниз, выгоняли воду из луж, создавая под корпусом машины воздушную подушку, которая и удерживала ее над поверхностью. Небольшой реактивный двигатель обеспечивал вездеходу значительную скорость по любой дороге, вернее, без дороги, в лесу, по болоту, даже над водой. В вездеходе сидели три человека в скафандрах. Но только один был в шлеме, остальные, привыкая к новым условиям, были без шлемов. За рулем сидел инженер Добров. На его бритом черепе выступили капельки пота. Он смотрел вперед острым взглядом. Лицо Алеши было мокро от пота, дышал он тяжело, но глаза его были веселы. Вокруг были башнеподобные деревья с вершинами, похожими на струи фонтана, густой, душный, всегда туманный воздух, неясные тени разбегающихся живых существ, отпугнутых воем дисковых пил. Алеша никак не мог освоиться с тем, что он на чужезвездной Венере, минута за минутой проходили в его памяти часы, проведенные на чужой планете. Планер американцев пронесся над ракетой "Знание" и исчез. Каждые полтора часа, когда "Просперити" пролетал над районом посадки "Знания", Мэри Стрем все тревожнее сообщала, что не может нащупать радиолокатором планер. В последний раз она вызвала к микрофону командора и умоляла не считать Вуда и Керна погибшими… Илья Юрьевич хорошо понимал ее состояние, говорил с ней тепло, подбадривал, но после такого разговора становился суров и молчалив, строго потребовал от помощников ускоренного выполнения всей программы исследований, не позволял в то же время отходить далеко от ракеты. Сам он собрал интереснейшую коллекцию минералов и попутно передал Алеше для гербария несколько любопытных образцов растений. Гербарий Алеши выглядел странным. Слишком крупным было все найденное им в мире без трав и цветов. Доброе спустил из ракеты вездеход, который предназначался для коротких путешествий. Рассчитанный на двух наблюдателей, он представлял собой передвижную исследовательскую станцию, был снабжен разнообразной аппаратурой и даже вооружен скорострельной пушкой. Между собой исследователи говорили о силе магнитного поля, много превосходившей земную, об обнаруженной здесь древней для Земли геологической эре, о воздушных потоках, которые, очевидно, позволяют летать даже очень крупным животным, об обнаруженном в лесу сильном радиоактивном фоне, а думали… об американцах. Надежда была только на Мэри Стрем. Всякий раз, устанавливая связь с "Просперити", Алеша подключал к радиоприемнику свой шлемофон, чтобы голос Мэри был слышен во всех скафандрах. На этот раз сквозь треск атмосферных разрядов проввучал тонкий, радостный голос Мэри. Счастливая, она повторяла без конца, что обнаружила движущуюся металлическую точку. Это мог быть только робот! — Вот здорово, Машенька! — крикнул Алеша и побежал к люку, чтобы спуститься к Богатыреву и Доброву. — Сколько по прямой до робота? — спросил Богатырев. — Она сказала семьдесят миль? — Только семьдесят… Совсем пустяки… Мы мигом домчимся на вездеходе! — говорил Алеша, спрыгивая с лестницы на камни. Богатырев шел к вездеходу, около которого возился Добров. — Шоссейных дорог здесь нет, — напомнил Добров. — Путь через джунгли, через морской пролив, по склону вулкана. — Вот именно! — подхватил Алеша. — Пешком им не дойти. — Вездеход рассчитан на двоих, — напомнил Добров. — Я поеду на нем один. Вернемся втроем. Снимем кое-какую аппаратуру. — Один? — с иронией спросил Илья Юрьевич, кладя Алеше на плечо руку. Ты, Алеша, умнее всех местных ящеров. — Разлучаться нельзя, — подтвердил Добров. — А поэтому нужно соединиться, — твердо сказал Илья Юрьевич. Вездеход разгрузить, взять только самое необходимое, снять пушку. Добров молча покачал головой. — Много места занимает кислород, — оживился Алеша. — Мы сбережем его, если по крайней мере половину времени проведем без шлемов. Тщательно изучив состав атмосферы и поведение собаки Пульки, они уже пробовали дышать венерианским воздухом. Вездеход разгрузили, взяли только самое необходимое. Когда снимали скорострельную пушку, Добров был особенно мрачен. Взяли два гранатных ружья и автомат. Алеша вооружился… кинокамерой. Приподнявшись на воздушной подушке, вездеход двинулся в чащу. Алеша в последний раз посмотрел на ракету. Она, вся в опалинах, обожженная при спуске, показалась ему такой земной и родной, что у него защемило сердце. Он представил, как воет сейчас оставленная в ракете Пулька… В зарослях было так темно, что Добров включил прожекторы. В их лучах поблекли мокрые корни. Дисковые пилы резали колючие заграждения. Лианы мертвыми змеями падали на влажнуюпочву. И вот вездеход вырвался на простор болота. Здесь можно было двигаться быстрее. Сквозь туманную дымку виднелись конические горы вулканов. Их вершины были Скрыты тучами. Вездеход мерно скользил над болотом. Богатырев, сидя на носу, держал в руках ружье. Алеша то и дело брал кинокамеру и снимал все, что видел на пути. Вдруг сзади, откуда-то из пройденной чащи, раздался пронизывающий звук, свистящий, скребущий по коже, взвивающийся на самые высокие ноты и не исчезающий, а словно продолжающий звучать, непонятным образом действуя не только на органы слуха, но и на нервные центры. Алеша почувствовал, что у него мутится сознание. Он посмотрел на Илью Юрьевича, увидел за стеклом шлема его спокойное лицо, и ему стало стыдно за себя. Оглянулся на Доброва, встретился с ним глазами и понял, что ему тоже не по себе. Алеша вспомнил, что он уже слышал этот звук в первую проведенную в ракете ночь, но он звучал тогда через микрофон, который, очевидно, не мог воспроизвести все его совершенно непостижимые обертоны. Ветер дул порывами, пронося над вездеходом клочья тумана и сорванные ветви. Невероятный звук усилился. Вездеход вильнул, накренился и осел. Богатырев удивленно оглянулся. Добров сник, опустив голову на грудь. Алеша выронил из рук кинокамеру и скатился на дно вездехода. Богатырев бросился поднимать его и почувствовал, что нарастающий звук разрывает ему голову, туманит сознание. Руки и ноги цепенели. Усилием воли сжав челюсти, он пересилил себя и поднял обмякшего Алешу, привалил его спиной к борту. Алеша запрокинул голову, и вдруг глаза его стали совсем круглыми. Илья Юрьевич взглянул наверх. В воздухе летел дракон… каким рисуют его китайские художники, с телом змеи, с перепончатыми крыльями… Богатырев поднял ружье. Он не думал, Змей Горыныч ли перед ним, или своеобразной формы птеродактиль. Он защищался. Но в дракона не требовалось стрелять. Он камнем упал в болото, извиваясь гибким телом и трепеща прикрывшими кочки крыльями. Богатырев все понял. По кочкам от леса к дракону быстро двигалось какое-то существо, гигантская ящерица с отвратительным роговым гребнем и отталкивающей злобной мордой. Это страшилище не могло летать, но обладало способностью сбивать летающие жертвы парализующим свистом. Богатырев взял на мушку нового врага. Тот сделал последний прыжок и обрушился на превосходящего его по размерам змеевидного дракона. Затрепетал гибкий хвост жертвы, попытались двинуться крылья. Свистящий ящер рвал лапами чешую на горле дракона, спешил впиться в него пилообразными челюстями. Богатырев выпустил гранату в "Соловья-разбойника", как мысленно назвал он ящера. Граната взорвалась на панцире ящера и не причинила ему никакого вреда, только разъярила его. Очевидно, его шкура была подобна броне. Увидев противника, ящер изогнулся дугой, готовясь к прыжку. Богатырев видел, как стали раздуваться его бока. Над болотом забился, как в конвульсиях, ужасающий звук. Если бы миллионом ножей одновременно провести по миллиону тарелок, если бы отвратительно скрипнули миллион резиновых мячей, если бы визг пилы смешался с воплем поросенка, если бы все эти звуки слились воедино и перешли за пределы слышимого в область ультразвука, лишь тогда можно было бы получить представление о том, что услышал Богатырев. Встрепенувшиеся было во время паузы Алеша и Добров вновь свалились, парализованные. Богатырев, защищенный шлемом, борясь с помутнением сознания, выстрелил в диковинного зверя второй гранатой, но также безрезультатно. Тот уже прыгнул к вездеходу, уверенный, что новая жертва от него не уйдет. "Пуля не берет Соловья-разбойника, значит, как и в сказании, надо бить его в глаз", — подумал Богатырев и сменил ружье на автомат. У ящера глаза были в виде двух узких, ядовито-желтого цвета вертикальных щелей. Богатырев подождал, пока ящер приготовился к последнему прыжку, и выпустил точную очередь. Раздался истошный, визжащий крик, перешедший в клокотание. Ящер катался по болотным кочкам, извиваясь и содрогаясь в последней агонии. Раздутое тело постепенно опадало. Скрежещущий визг замирал. Богатырев потрогал рукой спасший его шлем, словно боясь, что он таки раскололся. Вдали над озером парили на распростертых крыльях неведомые существа. Буря усиливалась. Она несла через болото гигантские растения с раскоряченными корнями. Богатырев принял было их за хищников и снова готов был стрелять в них, но эти растения упали на болото, зацепились корнями за кочки и застряли. Лишь два из них, подхваченные ветром, вновь поднялись на воздух и унеслись. Богатырев сидел, тяжело дыша. Алеша и Добров медленно приходили в себя. Богатырев дал им понюхать остро пахнущей жидкости Караваева из пузырька. Поверженный дракон пришел в себя без посторонней помощи. Он зашевелил крыльями, заметался между кочками, стараясь отползти подальше от страшного, лежащего сейчас недвижно врага. Потом, поставив крылья под углом к шквальному ветру, дракон подпрыгнул и поднялся над болотом. Он летел, набирая высоту, и его змеевидное тело волнообразно извивалось. Алеша смотрел на него и протирал глаза: — Что это? Народные сказки? — Пожалуй, — усмехнулся Богатырев. — И дракон летит… и от соловьиного свиста все мертвы лежат. — Как же могли эти образы перекочевать на другую планету, жить в народных сказаниях? — поражался Алеша. Богатырев многозначительно улыбнулся. — Наденьте для надежности шлемы, — сказал он. — Без специального оружия ехать дальше нельзя, решительно заявил Добров, выбираясь из вездехода. — Что надумал? — нахмурился Илья Юрьевич. — Это был ультразвук, — сказал Добров. — У них на планете он действует лучше пушек. В дьявольском аккорде были неслышные, но парализующие обертоны. — Ах, вот ты о чем, Роман! Аппарат ультразвуковой разведки мы не сняли? — Не поедем дальше, пока не приспособим его для кругового обстрела. — Вот это правильно, Роман! — сказал Илья Юрьевич.Глава третья Хищная красота
Вездеход спрятался среди исполинских папоротников. Илья Юрьевич не позволил оставаться на открытом болоте. Роман Васильевич и Алеша быстро и ловко разобрали прибор. Илья Юрьевич стоял около них с гранатным ружьем в руках и остро поглядывал в чащу. С болота полз туман. С почвы под деревьями струйками поднимался пар. Туманные колеблющиеся струи из-за цвета папоротников казались красноватыми. Они тоже походили на стволы, только какой-то неведомой, сказочной растительности, живой, движущейся. И вдруг из тумана донесся крик. Алеша, держа отвертку в руках, выпрямился, посмотрел на Илью Юрьевича. Тот встретился с ним взглядом. Добров с укоризной взглянул на Алешу, потом показал на разобранный аппарат. Крик повторился снова, переливающийся, призывный. Алеша решительно положил отвертку. — Что? — сердито спросил Добров. — Теперь уже не Соловей-разбойник, а сирена? — Я боюсь подумать о том… как она выглядит, — взволнованно сказал Алеша. Добров презрительно хмыкнул: — "Она"!.. Ящерица или женщина? — Тише! — поднял руку Алеша. — Слышите? Она зовет… — Ящерица, вонючая, отвратительная гадина, — вот кто зовет. Неужели еще непонятно, что здесь нет и не может быть никого, кроме гадов, пресмыкающихся с холодной кровью, венерозавров, ползающих или летающих… — Это почему же? — вызывающе спросил Алеша, Добров укоризненно посмотрел на него: — Какую эру мы застали на Венере? — Очевидно, каменноугольный период, — нерешительно ответил Алеша. Добров демонстративно сложил инструменты, объявляя перерыв. Он стал говорить скрипучим монотонным голосом: — Да. Более раннюю, чем на Земле, эру развития. И животный мир здесь более ранний — типичные представители ящеров. А человек? Разумное существо? Это высшее млекопитающее! Его организм должен быть построен на высшей энергетике млекопитающего, он должен обладать теплой, горячей кровью! Слышишь? И у него должны быть свободные от ходьбы конечности, способные к труду, который и делает существо разумным. Оно должно ходить вертикально, имея наибольший обзор местности, иметь стереоскопические органы зрения и слуха в непосредственной близости от мощного мозгового образования, оно должно обладать, короче говоря, человеческой головой, а не головой диплодока!.. Уважайте Дарвина! Вы же биолог! — Добров перешел с понуро слушавшим его Алешей на "вы". — Представьте себе лестницу эволюции на Венере. Она не будет отличаться от земной… Здесь не хватает бесчисленных ступенек от ящера до человека… — Кстати, — вставил Богатырев, — вы никогда не задумывались, друзья, над тем, что на Земле тоже нет одной очень важной ступеньки? Нет промежуточного звена между человеком и животным миром Земли. — Да, эта ступенька пока не найдена, — согласился Добров. — Она затерялась… но она была. — Вы уверены? — лукаво спросил Илья Юрьевич. Добров удивленно посмотрел на него и пожал плечами: — Надеюсь, вы не сомневаетесь, что человек произошел от обезьяны? — Вопрос лишь в том, от какой? — ответил Богатырев. — Во всяком случае, на этой чужезвездной Венере даже подобия таких обезьян еще не было. Человеческий род в процессе эволюции животного мира мог бы появиться здесь спустя сотню миллионов лет. — Это верно, — согласился Богатырев. — На Венере пока что не хватает не одной какой-нибудь ступеньки, а целого марша лестницы эволюции. Станете ли вы, биолог, — обратился Добров к Алеше, — утверждать, что разумные существа могут появиться в эру ящеров? Алеша, смущенный, прижатый к стене, вынужден был ответить: — Не стану, конечно… Добров торжествовал. — Биолога я победил! — удовлетворенно возвестил он. — Но остался еще поэт, — рассмеялся Илья Юрьевич. Алеша прислушался. Где-то совсем близко прозвучал все тот же таинственный голос. Казалось, стоит сделать лишь несколько шагов — и столкнешься с обладательницей этого голоса лицом к лицу. — Иди, иди! — усмехнулся Добров. — Ищи местный венец творенья. Аппарат я сейчас закончу. Алеша с бьющимся сердцем шагнул в туман. — Не отходи далеко! — крикнул ему вслед Илья Юрьевич. — И не снимай шлема! Алеша помахал ему рукой. Туман доходил ему до пояса. Поднимаясь в гору, Алеша выходил из тумана, как из молочной реки. Лес был окутан полупрозрачной дымкой. Алеша увидел незнакомые растения. Он сначала принял их за разновидность лиан, но на них были цветы, огромные, поразительной красоты цветы, напоминающие земные орхидеи, увеличенные в сотню раз. Первый цветок на чужой планете! Вот он какой, необычный, удивительный!.. Неужели мелодичный голос исходил от цветка? Поющий цветок, зовущий к себе? Как неповторима природа! Земные цветы привлекают насекомых дурманящим запахом, сладчайшим нектаром, лишь бы разнесли они их пыльцу, а здесь… Здесь цветок зовет, как сирена. Алеша почувствовал дуновение ветра, туман заколебался прозрачными языками перед ним. Так вот какова прекрасная обитательница планеты, красавица, призывавшая его мелодичным голосом!.. Она раскрыла объятия нежных лепестков, быть может, дурманя ароматом, который не чувствуешь из-за шлема… Ну что ж, можно помочь диковинному растению перенести его животворящую пыльцу… Алеша подошел вплотную к цветку и не заметил, как запутался в лианах. Досадливо освобождаясь, он заметил, что мягкие наконечники стеблей, похожие на резиновые подушечки, прилипли к его костюму. Он стал раздраженно отрывать эти отвратительные щупальца, но понял, что ему скорее удастся порвать крепчайшую ткань скафандра, чем избавиться от проклятых присосков. Он не считал положение безвыходным и не хотел звать на помощь. Впрочем, вездеход был в двух шагах. Слышно, как Добров орудует отверткой. Вынув из-за пояса большой нож, Алеша стал отрубать присосавшиеся щупальца. Да, именно щупальца! Он уже не считал их стеблями лиан… Слишком они походили на расчетливо движущиеся пальцы хищника… Ему удалось перерубить несколько сочащихся стеблей, но другие стебли опутали ему руку, затрудняя ее движение. Он тяжело дышал, силясь вырваться.
Над головой скользнули крылья и совсем рядом опустился кто-то крылатый…
Алеша вздрогнул от омерзения. Перед ним, всего лишь в нескольких метрах, вращал выпуклыми яйцеобразными глазами птеродактиль, маленький летающий ящер. "Местный стервятник, — подумал Алеша. — Уже прилетел!.." Однако крылатому ящеру было не до добычи. Лианы уже опутали его, как и Алешу.
В ужасе видел Алеша, как бился ящер и как растительные щупальца неуклонно подтягивали его к раскрывшемуся во всей своей красоте великолепному цветку.
Мгновение — и ящер оказался на огромном пульсирующем венчике. Мясистые влажные листья захлопнулись, как жадные губы. Извивающийся хвост ящера остался снаружи.
Алеша похолодел. Он вспомнил земные хищные растения, которые точно так же ловят насекомых, чтобы высосать их кровь.
Алеша понял, как работал механизм цветка. Решение пришло мгновенно. Но, увы, Алеша был самим собой. Ложное самолюбие удерживало его от крика о помощи. Он хотел выкрутиться сам, считал, что сможет это сделать. С трудом дотянулся он руками до шлема и снял его.
Всей грудью вдохнул он влажный воздух. От страшного цветка шел нежный дурманящий запах.
— Подожди, росянка-венерянка, сейчас я тебя перехитрю! — пробормотал Алеша, размахнулся и бросил тяжелый шлем на венчик…
"Живой механизм" хищника должен сработать. Как только он почувствует на венчике тяжесть жертвы, лепестки закроются, а присосавшиеся щупальца ослабнут.
И действительно, едва коснулся шлем венчика, тяжелые влажные лепестки, словно причмокнув, закрылись, скрыв шлем звездолетчика.
Расчет Алешя оправдался, но… только наполовину.
Присосавшиеся лианы не ослабли, продолжая цепко держать его. Более того: присоски потянулись к его обнаженной шее и впились в нее, а щупальца обвились вокруг шеи.
Алеша попытался крикнуть, но из сдавленного щупальцами горла вырвался лишь хриплый звук.
И вдруг совсем не со стороны цветка, а из тумана, почти от вездехода, скрытого туманом, прозвучал знакомый Алеше переливчатый голос.
Алеша задыхался, щупальца душили его, к тому же он вдыхал пьянящие ядовитые испарения. Он терял сознание.
Голос, в котором звучали и призыв и ужас, услышали и Богатырев с Добровым. Это так напомнило им крик человека, что они, не проронив ни слова, бросились в туман, куда скрылся Алеша. Они сразу же наткнулись на изнемогавшего в борьбе Алешу.
Поняв все, Богатырев и Добров стали рубить большими ножами обвившие Алешу лианы.
Добров хотел было оторвать присосавшиеся к шее Алеши щупальца, но безрезультатно.
Алеша слабо и благодарно улыбался.
— Зачем снял шлем? — с горечью спросил Илья Юрьевич.
Алеша смог только глазами показать на закрывшийся цветок. Могучими ударами Богатырев разрубил хищного красавца. Нож стукнул о металлическую часть шлемофона.
Вот почему Алеша не мог вызвать помощь по радио!
Наконец шлем был освобожден.
Богатырев взял Алешу на руки и легко понес, как ребенка.
— Соли! — скомандовал он Доброву. — Втирай ему поваренную соль в шею… Щупальца осьминогов только так можно оторвать.
Соль помогла. Щупальца отваливались одно за другим, оставляя после себя багровые синяки.
— Кто же кричал, Илья? Кто? — тихо спросил Добров.
Богатырев пожал плечами.
Алеша медленно приходил в себя.
Ему удалось перерубить несколько сочащихся стеблей, но другие стебли опутали ему руку, затрудняя ее движение. Он тяжело дышал, силясь вырваться.
Над головой скользнули крылья и совсем рядом опустился кто-то крылатый…
Алеша вздрогнул от омерзения. Перед ним, всего лишь в нескольких метрах, вращал выпуклыми яйцеобразными глазами птеродактиль, маленький летающий ящер. "Местный стервятник, — подумал Алеша. — Уже прилетел!.." Однако крылатому ящеру было не до добычи. Лианы уже опутали его, как и Алешу.
В ужасе видел Алеша, как бился ящер и как растительные щупальца неуклонно подтягивали его к раскрывшемуся во всей своей красоте великолепному цветку.
Мгновение — и ящер оказался на огромном пульсирующем венчике. Мясистые влажные листья захлопнулись, как жадные губы. Извивающийся хвост ящера остался снаружи.
Алеша похолодел. Он вспомнил земные хищные растения, которые точно так же ловят насекомых, чтобы высосать их кровь.
Алеша понял, как работал механизм цветка. Решение пришло мгновенно. Но, увы, Алеша был самим собой. Ложное самолюбие удерживало его от крика о помощи. Он хотел выкрутиться сам, считал, что сможет это сделать. С трудом дотянулся он руками до шлема и снял его.
Всей грудью вдохнул он влажный воздух. От страшного цветка шел нежный дурманящий запах.
— Подожди, росянка-венерянка, сейчас я тебя перехитрю! — пробормотал Алеша, размахнулся и бросил тяжелый шлем на венчик…
"Живой механизм" хищника должен сработать. Как только он почувствует на венчике тяжесть жертвы, лепестки закроются, а присосавшиеся щупальца ослабнут.
И действительно, едва коснулся шлем венчика, тяжелые влажные лепестки, словно причмокнув, закрылись, скрыв шлем звездолетчика.
Расчет Алешя оправдался, но… только наполовину.
Присосавшиеся лианы не ослабли, продолжая цепко держать его. Более того: присоски потянулись к его обнаженной шее и впились в нее, а щупальца обвились вокруг шеи.
Алеша попытался крикнуть, но из сдавленного щупальцами горла вырвался лишь хриплый звук.
И вдруг совсем не со стороны цветка, а из тумана, почти от вездехода, скрытого туманом, прозвучал знакомый Алеше переливчатый голос.
Алеша задыхался, щупальца душили его, к тому же он вдыхал пьянящие ядовитые испарения. Он терял сознание.
Голос, в котором звучали и призыв и ужас, услышали и Богатырев с Добровым. Это так напомнило им крик человека, что они, не проронив ни слова, бросились в туман, куда скрылся Алеша. Они сразу же наткнулись на изнемогавшего в борьбе Алешу.
Поняв все, Богатырев и Добров стали рубить большими ножами обвившие Алешу лианы.
Добров хотел было оторвать присосавшиеся к шее Алеши щупальца, но безрезультатно.
Алеша слабо и благодарно улыбался.
— Зачем снял шлем? — с горечью спросил Илья Юрьевич.
Алеша смог только глазами показать на закрывшийся цветок. Могучими ударами Богатырев разрубил хищного красавца. Нож стукнул о металлическую часть шлемофона.
Вот почему Алеша не мог вызвать помощь по радио!
Наконец шлем был освобожден.
Богатырев взял Алешу на руки и легко понес, как ребенка.
— Соли! — скомандовал он Доброву. — Втирай ему поваренную соль в шею… Щупальца осьминогов только так можно оторвать.
Соль помогла. Щупальца отваливались одно за другим, оставляя после себя багровые синяки.
— Кто же кричал, Илья? Кто? — тихо спросил Добров.
Богатырев пожал плечами.
Алеша медленно приходил в себя.
Глава четвертая Венерянка
Алеша лежал на сиденье вездехода. Его знобило. Ему казалось: если сбросить шлем, сразу станет хорошо, согреешься, дышать будет легче. Туман давил. Сквозь дымку показалась безобразная голова чудовища. Алеше хотелось закричать, но он рассмотрел знакомую бороду и глаза, смотревшие на него с тревогой и участием. Потом туман еще больше сгустился и заполнил собой все. Алеше казалось даже, что сырая мгла проникает ему в сознание. И он метался на подушках сиденья. …Потом Богатырев и Добров исчезли совсем… Или Алеше так показалось… Он перестал их слышать. Временами он ощущал, что теряет вес, иногда становилось тяжело в груди. Голова гудела. Их нет… значит, можно снять давящий шлем… Все пройдет, станет хорошо. Дрожащими пальцами Алеша нажал на груди кнопку. Шлем отделился от магнитного воротника. Алеша приподнялся на локтях, тряхнул волосами. Шлема не было. Алеша жадно вдыхал пьянящий воздух, напоенный острыми ароматами. Кружилась голова, становилось радостно, хотелось петь. И Алеша, подчиняясь, непосредственному чувству, запел, взял высокую, сильную, озорную ноту и даже сам заслушался. Так бывало, когда он кончал под аплодисменты любимую арию. И вдруг из тумана прозвучала ответная нота, светлая, звенящая, переливчатая… Алеша сел, всматриваясь в туман. Он различал стволы папоротников, между ними гигантские распустившиеся цветы, яркие, багровые, золотистые и эмалево-синие… Алеша словно обрел дар видеть в тумане. Что это? Болезнь или воздух планеты так обострили органы его чувств? Он отчетливо различал прогалину возле вездехода. Но нигде не было ни Доброва, ни Богатырева. А что это движется меж исполинских цветов? Фигура, словно одетая в туман, легкая, почти прозрачная, могущая взлететь при первом порыве ветра… Ветер Дует здесь всегда. Алеша чувствовал, как ерошит он его волосы. И туманная фигура приподнялась над цветами, взлетела, расправив руки-крылья… Легко и неслышно опустилась она около Алеши. И Алеша услышал знакомый голос, тихий, обращенный сейчас только к нему. Он понял, что это была она!.. Он видел лес и цветы за ее спиной, но не мог разобрать лица. У нее не было крыльев. Плащ цвета тумана ниспадал широкими складками. Его полы становились крыльями, когда она разбрасывала руки. Руки… тонкие, нежные… Алеша не только видел, он ощущал их прикосновение. И еще он увидел глаза… глаза венерянки, глубокие, искрящиеся… Они волновали его, звали, что-то говорили, объясняли… А потом снова прозвучал ее голос. Она заговорила. Он не понимал ее слов, но глаза словно переводили, проникая Алеше и в ум и в душу. Он слышал незнакомые звуки, но знал, что она говорит. — Откуда ты? — спросила она, Алеша посмотрел наверх. Она поняла. Он сказал: — Тебя не может здесь быть. Здесь ящеры. Разумные существа не успели еще появиться… Она улыбнулась: — Ты же ведь появился. Она сказала это так просто, так понятно! Она не могла и не должна была сказать ничего другого. И Алеша снова понял ее. — Я другое дело, — возразил он. — Мы прилетели… Прилетели с другой дочери Солнца, от другой звезды, которой ты никогда не видишь. Она закинула руки за. голову, плащ сполз на плечи. Обнаженные руки были золотистыми. — Я слышала о нем, — сказала она. — Оно ярче всех молний. Оно светит без грома, оно летает без крыльев, оно греет без дыма. — Откуда ты знаешь? Ты поднималась выше туч? Она отрицательно покачала головой, пристально смотря на Алешу: — Его видели те, кто дал жизнь всему моему племени. — Как зовут твое племя? Как зовут тебя? — Эоэлла, — сказала она. Алеше хотелось сказать, что она прекрасна, как и ее имя, но голос перестал повиноваться ему. Она протянула к нему руку и сказала: — Ты болен. Я исцелю тебя. На ней были браслеты из колючих лиан. Она коснулась обнаженной шеи Алеши, и он, почувствовав укол, дернулся. — Ничего, ничего, — прозвучал над самым ухом гулкий бас Ильи Юрьевича. Алеша хотел вскочить, чтобы видеть ее. — Прости, пришлось снять твой шлем, чтобы сделать укол, — говорил Илья Юрьевич. — Хиноциллин… должен подействовать. Алеша упал на подушки, зажмурился. Он не хотел ничего слышать, он боялся открыть глаза, боялся, что не увидит ее. Какое же у нее лицо? Неясные черты ускользали… Она улыбалась, а руки ее были ласковыми… Алеша открыл глаза. Илья Юрьевич надевал на него шлем. Доброе в скафандре стоял на том месте, где только что была она… — Туман густой, но все же поедем, — предложил Добров. — Включим инфракрасный прожектор. В ночные очки дорогу разгляжу. — Где она? — спросил Алеша. — Кто? — обернулся Добров. — Эоэлла. — Как? — переспросил Илья Юрьевич. — Венерянка. — Ах, венерянка? — повторил Богатырев. — Надеюсь, теперь она пройдет. Алеша заметался на подушках. — Не надо! Не надо! — твердил он. Богатырев склонился над ним. — Не надо, чтобы она уходила, — просил Алексей. — Ну, знаешь ли, — услышал через шлемофон Алеша. — Лучше прогоним эту "венерянку". Ты придумал этой местной лихорадке удачное название. Хиноциллин — прекрасное средство. Я закатил тебе двойную дозу. Алеше стало так горько, что он готов был зарыдать. Ее не было! Это был всего лишь лихорадочный бред!.. Эоэлла! Где он мог это слышать? И вдруг он вспомнил. Так звучал странный крик из тумана. Обессиленный, Алеша упал на сиденье. Богатырев посмотрел на него через стекло шлема. — Испарина, — сказал он. — Это хорошо. Алеша спал и сквозь сон чувствовал, как колеблется вездеход, как круто меняет направление, проваливается, кренится на подъемах. Пришел в себя Алеша сразу. Голова была светлой, ясной. Вездеход шел по ручью, вернее, над его водой, повторяя все причудливые его изгибы. — Ну как, добрый молодец? Справился с венерянкой? — сказал Илья Юрьевич, заметив его пробуждение. Алеша почему-то покраснел. — Как американцы? — вместо ответа спросил он. Илья Юрьевич сразу помрачнел: — Плохо, Алеша. Худые известия от Маши с "Просперити". Сообщила в последний раз… голос у бедняжки перехватило… Потеряли радиолокаторы робота… Исчез он… — Исчез? — поразился Алеша. — Кто знает, что с ними случилось. Ведь они, наверное, были, как и ты, у цветка без шлемов… А туман здесь зловредный, с миазмами… — А мы много проехали? — Порядочно. Ты ведь долго спал. Вот Роман твое место у радиоприемника занял, а я — у руля. Может быть, передачу их шлемофонов засечем. Алеша вспыхнул. Пока он спал и слушал Эоэллу, его место у радиоприемника занял другой. Добров, отчужденный, сосредоточенный, ловил чтото, лишь ему одному слышное. Вдруг выражение лица его изменилось, он поднял Алеша болезненно поморщился. — А ну-ка, попробуй отстроиться получше, — предложил Алеше Добров, заметив его состояние. Алеша радостно придвинулся к радиоприемнику, подключил шлемофоны. — Слышишь? — поднял палец Добров. Привычными движениями Алеша стал вращать верньер. Хуже, лучше… чуть хуже… еще… Поймал!.. Алеша передернул плечами, как при ознобе, посмотрел прямо в глаза Доброву. Они слышали человеческую речь, но голос был неприятный, скрипучий. Теперь можно было разобрать слова: — …на случай повторного дождя можно было бы сделать крытый переход до места стоянки русской ракеты. Здешние деревья могли бы послужить сырьем для лесопильного предприятия с примерным объемом производства в шесть миллионов долларов годовых… — Робот! — объявил Добров. — Илья! Мы слышим робота! Он несет какую-то чушь. — Худо, — отозвался Богатырев, делая крутой поворот по петле ручья. Видимо, машина не контролируется людьми. — Я сейчас попробую связаться с ним по радио, — предложил Роман Васильевич. — . Алеша, давай передачу на его волне. Эй вы, Железный Джон или как тебя там… Слышишь меня? Черт бы побрал эту стервозную атмосферу! Треск, шум, шабаш на Лысой горе. Дьявольщина! Робот, вероятно, принял радиограмму с вездехода, но… его создатель инженер Томас Керн рассчитал свою удивительную машину лишь на вежливое обращение. Может быть, услышав слова раздраженного Доброва, робот просто замолчал. — Хэлло! — надрывался Добров, перенеся свою злость на замолчавшую машину. — Чертова железная кукла! Проклятый автомат! Требую ответа! Перехожу на прием. Робот молчал. — Слушай, Роман, — сказал Богатырев, снова поворачивая вездеход, — а ты поспокойнее, повежливее… — Что ты, смеешься? Атмосфера или машина способна обидеться? — Ну, не машина… а тот же Аллан Керн, который тоже может тебя слышать. — Ну хорошо. Хэлло! Хэлло, уважаемый Железный Джон, вы слышите меня? Прошу вас ответить. Алеша услышал в шлемофоне: — Слышимость сорок шесть и пять десятых процента. Мешают грозовые разряды, — безучастно ответил робот. — Где американцы? Где Керн и Вуд? Где ваши хозяева? — Хозяева неизвестны. Рабовладение запрещено американской конституцией. Я свободная мыслящая машина, — проскрежетал в ответ робот. — Черт возьми! — вскипел Добров, — Ответите мне или нет? Робот молчал. — Хэлло, Джон, — : взял себя в руки Добров. Очень прошу вас, информируйте, пожалуйста, о положении ваших спутников. — Положение горизонтальное, — ответил робот. — Где вы находитесь? — Под каменным сводом. — Все ясно! — воскликнул Добров. — Они в пещере. Вот почему локатор Маши потерял робота. Хэлло, уважаемый Джон, что говорят ваши спутники? — О диких потомках, которые выживут на Венере. — На американцах есть шлемы? — Нет. — Венерянка! Илья! Они так же бредят, как и Алеша. — Плохо, — нахмурился Богатырев. — Сумеет ли робот сделать укол? Дай-ка, я сяду на связь. Добров и Алеша уступили место Илье Юрьевичу у радиоприемника. Добров сел за руль. — Слушайте, Джон, приятель, — сказал Богатырев, — у ваших спутников лихорадка. — Лихорадка, малярия, инфлуэнца, грипп, — произнес робот. — Нужен укол хиноциллина. — Укол, шприц, продезинфицировать кожу… — Верно, верно, Джон, старина! Молодчина! Прошу вас, возьмите в вашей походной аптечке хиноциллин. Слова Богатырева прозвучали в устройстве электронной машины, бездеятельно стоявшей под каменным сводом, и робот ожил. Он получил программу действия. Теперь уже все выводы электронного устройства становились безукоризненными, задания исполнительным механизмам — четкими, движения электромагнитных мускулов — уверенными. Робот нашел и открыл походную аптечку, которую носил за плечами, отыскал по номеру хиноциллин и шприц, склонился над Алланом Керном, продезинфицировал ему шею — единственное открытое и доступное место — и артистически сделал укол. Затем он перешел к Гарри Буду. Молодой человек метался, перекатываясь по камням пещеры. Робот гонялся за ним с нацеленным шприцем, но Вуд словно нарочно увертывался. Кончилось тем, что робот сделал укол в пятку Гарри, защищенную толстой подошвой и каблуком, и едва не сломал шприц. Действие хиноциллина оказалось мгновенным. Аллан Керн пришел в себя и сразу оценил положение: — Лихорадка… испарения… хиноциллин! О Томас! Любимый брат мой! Вы создали чудо! Ваш Джон поставил диагноз, он лечит… Клянусь, это даже больше, чем нужно для управления государствами, как учил мой брат. И, конечно же, роботы заменят людей на Земле! Аллан Керн для надежности отобрал у робота шприц и сделал Вуду укол сам. Потом он надел на себя и на Гарри шлемы и снова упал на камни. Но теперь это был освежающий, живительный сон. Керн и Вуд спали так крепко, что не слышали тщетных радиовызовов Доброва.Глава пятая Тринадцать баллов
Вездеход плавно скользил по спокойной речке, в которую, раздвинув берега, превратился ручей. Заросли кончились сразу, и исследователи оказались на морском берегу. До самого горизонта простиралось ревущее море поразительного цвета серебро с чернью. Перед путниками словно клокотал расплавленный металл. Гигантские валы обрушивались на прибрежные утесы, сотрясая их ударами титанических молотов. Добров подвел вездеход к' берегу, машина легко выбралась на камни и остановилась. Трое молча вскарабкались на утес. Бушующий океан был разлинован белой пеной и темными полосами. Бешеный ветер загибал гребни волн, вытягивал вперед их белые гривы. Они кружевными карнизами перекрывали на огромной высоте провалы между волнами. Илья Юрьевич поднес к глазам бинокль. Ветер трепал его седеющие волосы, завладел оправленной в серебро бородой. На берегу путники стояли без шлемов, радостно захлебываясь плотным бодрящим воздухом, совсем иным, чем в болотной чаще. — Сколько же баллов шторм, Илья Юрьевич? — спросил Алеша. — Баллов одиннадцать. — По двенадцатибалльной земной шкале, — усмехнулся Добров. — На нашей скорлупе такое море не переплыть. — Назад предлагаешь повернуть? — нахмурился Богатырев. — А что здесь можно предложить? — резко повернулся к нему Добров. — Что предложить? — вспыхнул Алеша. — Я не предлагать буду, а просить… Я прошу, Илья Юрьевич, 89 разрешить мне одному переплыть пролив и вернуться с американцами. Если через два дня нас не будет, добирайтесь пешком до ракеты и стартуйте на Землю без нас. Богатырев спрятал бинокль в футляр, положил руку на плечо Алеше и повернулся к Доброву: — Боишься, значит, что утонем? — Я страха не знаю, Илья, — нахмурился Добров. — Но уверен, что утонем. — О страхе я думал. И даже поговорку придумал: Как храбрый страхи переборет, Так сильный духом — боль и горе. В это вдуматься надо. Человек хоть и с душевной болью, но перенесет горе. А страх, как и боль, человеку не зря природой дан. Боль сигнализирует о болезни, а страх предостерегает и бережет. Бояться нужно. Я, например, и не скрою, что боюсь такой бури. Но ведь храбрость не заменяет страха, а побеждает его. Проявляется она людьми ради людей… — Я тоже забочусь о людях, об удачном исходе великого научного опыта, — упрямо сказал Добров. — Наука, Роман, не злобное божество, жаждущее жертв. Наука гуманна. Ради нее нельзя оставить на гибель людей. — Если бы я верил в удачу, в то, что мы им поможем! — с горечью воскликнул Добров. — Люди в древности переплывали Тихий океан на плотах, а у нас амфибия… — вмешался Алеша. — Значит… — поднял вверх брови Добров, выжидательно смотря на Богатырева. — Плывем, друг Роман, плывем… — примирительно сказал Илья Юрьевич. — По-моему, двенадцать баллов, — как ни в чем не бывало заметил Добров, оценивающе глядя на море. — Пожалуй, — согласился Богатырев и взял за плечи обоих помощников. Крепко притянув их к себе, он сказал им одну только фразу… Добров хлопнул себя по лбу. Алеша заглянул ему в лицо: — А инструкция? — ехидно спросил он. Добров отмахнулся от него. Алеша был восхищен Ильей Юрьевичем. Как просто 90 яаходил он всегда нужное решение! Как хотел бы он, Алеша, походить на Илью Юрьевича!.. Дед Ильи Юрьевича Богатырева, на которого тот всегда старался походить, тоже профессор и тоже Илья Юрьевич, еще в детстве, в войну, потерял родителей и стал сыном полка: воспитанником воинской части. После детдома, где он бережно хранил полученную им боевую медаль, он попал в экспедицию под начальство известного профессора-палеонтолога и знаменитого писателя фантаста Ивана Ефремова, который сумел привить ему любовь к знаниям и романтике. Он повидал в каменной пустыне Гоби величайшее кладбище динозавров и мечтал о звездах. Оставшись на Дальнем Востоке, он учился в мореходном училище, ходил матросом под парусами и на каботажных судах в Тихом океане, влюбившись в море, всегда изменчивое и прекрасное. Учился Илья, по настоянию своего шефа, в Московском университете; еще студентом отправился в двухгодичную палеонтологическую экспедицию и по возвращении вдруг поступил в Горный институт, который и закончил, мечтая о том, как будут прорывать глубочайшие шахты, открывающие сокровенные тайны Земли. Впоследствии горный инженер Богатырев был удостоен за палеонтологические открытия степени доктора биологических наук. Однако всеобщее признание он получил совершенно неожиданно как геолог, заложив основы новой науки, возникшей на грани познания мертвой и живой природы. Он нашел новейшие методы открытия каменного угля, газа, нефти, торфа… Но поворотным в исследовательском пути профессора Богатырева был 1960 год, когда в Одесских катакомбах были обнаружены кости древних животных, ископаемых страусов, верблюдов и гиен, относящихся к эпохе верхнего плиоцена. Им насчитывалось миллион лет. Кости привлекли внимание ученых тем, что были… искусно обработаны в сыром состоянии!.. Илья Юрьевич вылетел в Одессу и принимал участие в изучении древних костей. На них были обнаружены точно вырубленные окошечки, пазы, желобки, абсолютно правильные круглые отверстия… Казалось, что кости обработаны металлическим инструментом!.. Однако профессор Богатырев доказал, что это работа моллюсков, а не загадочных пришельцев из космоса. Но проблема посещения Земли в прошлом представителями инопланетных цивилизаций настолько заинтересовала профессора Богатырева, что он отправился в Сахару и изучал там наскальные изображения существ в скафандрах, созданных древними художниками шесть тысяч лет назад в скалах Сефара. А в Японии его привлекли найденные при раскопках статуэтки, словно сошедшие с сахарских скал… Он изучал в Британском музее череп из свинцового рудника Брокен-Хилл в Родезии и установил по маленькому, идеально круглому отверстию на левой теменной кости, что неандерталоидный человек был убит в Африке сорок тысяч лет назад пулей! Он изучал отпечаток подошвы с характерным геометрическим рисунком, оставленный миллион лет назад на песчанике пустыни Гоби и обнаруженный совместной советско-китайской палеонтологической экспедицией под руководством Чжоу Мин-чена в 1959 году. Особое его внимание привлекла знаменитая Баальбекская веранда в горах Антиливана. Чтобы изучить ее, он отправился в Ливан и там поражен был видом сооружения, сложенного много тысяч лет назад из плит весом более тысячи тонн каждая. Одна из таких исполинских плит и ныне лежит в древней каменоломне, откуда плиты поднимались неведомым способом на холм и там — на семиметровую высоту сооружения. Современным техническим средствам это было бы не под силу. Кто мог сделать это в древности? В Южной Америке он побывал в пустыне Наска, где был поражен идеально прямыми каменными дорогами, никуда не ведущими, которые очень походили на взлетные полосы. Но кто мог пользоваться ими тысячи лет назад? Так же, как и "посадочными знаками" в виде различных фантастических фигур, видимых лишь с большой высоты. Профессор Богатырев связывал все это воедино. Он стремился воссоздать историю Человека, историю возникновения и развития самого молодого на Земле существа, которому всего лишь около миллиона лет и которое, несмотря на свою сравнительную слабость и неприспособленность, неизмеримо возвысилось над всем животным миром. И больше всего интересовало профессора Богатырева то обстоятельство, что изумительным органом, давшим человеку всепобеждающую способность мыслить, — развитым мозгом человек обладал уже на самой заре своего появления. Найти человека или получеловека с недоразвитым мозгом науке не удалось. Не привелось это сделать и профессору Богатыреву. И уже на склоне лет, глубоким стариком, завещал он эту свою мечту маленькому внуку Илюше. И этот завет старого ученого Илья Богатырев-внук пронес через всю жизнь, тоже став видным ученым и космонавтом. Палеонтолог, как и дед, профессор Богатырев-младший устремился в космос неспроста. Вместе со своим учеником Алешей Поповым он участвовал в одной из лунных экспедиций, а теперь достиг наконец и чужезвездной Венеры, имея на это особые основания. Именно на этой планете, твердо веря в существование жизни близ 82-й звезды созвездия Эридана, профессор Богатырев рассчитывал проверить никому пока не известные выводы своего знаменитого деда. Но даст ли природа Венеры-2 желанный ему ответ? Профессор Богатырев занял место на носу вездехода. Доброе уселся за руль на приподнятой корме. Алеша не расставался с кинокамерой. Его восхищал невиданный прибор. Добров включил воздушные насосы. Вездеход, подняв под собой облако песка с отмели, приподнялся и двинулся на воду. Уровень реки колебался при каждом ударе морских волн. Кратковременные приливы и отливы чередовались один за другим. Маленький вездеход дерзко ринулся навстречу бегущим из открытого моря водяным хребтам. Первая же волна, накрыв его пеной и обдав путников потоками воды, подбросила суденышко на гребень. Взлет был так стремителен, что люди ощутили свинец в голове, боль в висках. Но в следующее мгновение они уже проваливались в бездну, теряя, как в космосе, вес… Высоко над их головами протянулся кружевной полог пены. Вода стекала по прозрачным колпакам. Алеша бодро крикнул про автомобильные стеклоочистители, которые здесь пригодились бы… Добров, закусив губу, вел вездеход. 93 Берег с черными утесами, о которые мог разбиться вездеход, отодвигался назад. Но валы стали страшнее, ветер свирепее. Он срывал вездеход с гребней волн, силился сбросить его назад. Доброву стоило огромных усилий удерживать машину на курсе. — Тринадцать баллов, ребята! Тринадцать! — весело сказал Илья Юрьевич. — Двенадцать баллов — это только на Земле предел… Алеша уже не видел набегающих волн. Ему казалось, что сам океан, весь мир вместе с небом и тучами, с валами и горами то проваливается, то взлетает… Колебалась сама планета, более того — вся Вселенная… Сила шторма нарастала. Теперь, когда суденышко взлетало на гребень волны, нужно было изо всех сил держаться за борта, чтобы не вылететь… Алеша дрожал от радостного напряжения, от ощущения безотказности подчиненной им техники. Он верил, что они переплывут "Берингов пролив", как называл он мысленно это море, доберутся до другого континента, где оказались американцы. Стараясь увидеть "их берег", Алеша заметил странную, быстро летящую тучу. В очертаниях облаков легче всего вообразить фантастические фигуры… Он не поверил себе: — Илья Юрьевич, что это там летит? Богатырев приложил к шлему ладонь, словно защищаясь от никогда не видимого здесь Солнца. — Худо! — сказал он и потянулся за ружьем. В небе летело чудовище. Его изогнутые дугой крылья с острыми шипами с задней их стороны накрыли бы океанский корабль от носа до кормы. Скользившее над пенными гребнями белое брюхо было под стать исполинским валам. Зубчатый гребень на спине переходил в вытянутый чешуйчатый хвост размером больше крыла. В вытянутой зубастой пасти мог поместиться вездеход. Только на чужезвездной Венере с ее плотным воздухом, пользуясь ураганом, мог лететь гигантский ящер… Он выискивал в волнах добычу, способный поднять из воды в когтистых лапах даже земного кита, унести его в облака… Богатырев вскинул гранатное ружье. Но пробьют ли чешую гранаты? А в глаз при качке разве попадешь! Исполинский птеродактиль приближался. Богатырев 94 выстрелил. Сменив ружье, он сумел выпустить две гранаты в брюхо чудовища. Но живот хищника, очевидно, был защищен едва ли не лучше всего. Ведь ему приходилось иметь дело с острыми шипами на хребтах жертв… Гранаты только разъярили зверя. Бреющим полетом, срезая концами перепончатых крыльев пену гребней, ящер полетел на вездеход. Алеша дивился, смотря на чудище. Настоящий дракон из старых сказок. Дракон! Такого же "драконьего птенчика" сбивал своим свистом Соловей-разбойник. Алеша расширенными глазами посмотрел на Илью Юрьевича. Тот понял его без слов. А Доброе уже возился с аппаратом ультразвуковой разведки, который они с Алешей перемонтировали… — Нет! Врешь! Знаем, чем тебя взять! Знаем! — крикнул Алеша, бросаясь к прибору. Чудовище, поставив одно крыло выше другого, делало мастерский вираж, снова выходя на жертву. Угрожающе приближались разверзнутая зубастая пасть, чешуйчатая грудь и бороздящий по пенным гребням хвост, оставляющий буруны. Доброе включил прибор. Невидимый ультразвуковой луч пронзил плотный венерианский воздух и уперся в бронированное тело исполинского ящера. Никто из людей, одетых в скафандры, не почувствовал сейчас ультразвука. Ультразвук бил по чудовищу направленным лучом, поражая его нервные центры. Люди не были даже уверены, работает ли прибор… Чудовище продолжало лететь, круто снижаясь. Его хвост задел за гребни волн, ушел в воду.
Чудовище продолжало лететь, круто снижаясь. Его хвост задел за гребни волн, ушел в воду.

Птеродактиль был уже мертв, но исполинская его туша по инерции летела на прежнюю цель, и всей многотонной тяжестью обрушилась она на утлое суденышко, накрыв его собой. Все было кончено в одно мгновение. И вездеход и труп зверя исчезли в кипящей пене. Бешеный ветер срывал ее с острых гребней. Исполинские валы катились к берегу, чтобы разбиться об утесы. Даже следов суденышка и дерзких храбрецов, пытавшихся помочь собратьям, не осталось на поверхности яростного венерианского моря.
Глава шестая Одна в космосе
Мэри Стрем была одна в кабине, одна на корабле, одна, как ей казалось, во всем космосе. Любая женщина на ее месте могла бы сойти с ума. Мэри не сошла с ума, но она потеряла способность что-либо ощущать… Не только за стенками корабля была пустота. Пустота была в ней самой. Гарри больше не было. Неестественно жестким голосом сообщила она об этом командору экспедиции. Она должна была сделать такое сообщение и передала его, не веря себе, не желая поверить… Она ждала, что русские повернут обратно — ведь им некого было больше спасать. Радиоволны из-за магнитных бурь не проходили, и Мэри на протяжении нескольких кругов, которые сделал "Просперити" вокруг планеты, не имела связи с вездеходом. Она ждала радиограммы с корабля "Знание", и вдруг радиолокатор обнаружил вездеход не около ракеты, а в открытом море. Мэри с бьющимся сердцем отрегулировала экран локатора на предельное увеличение. Она четко различила качающийся, очевидно, на волнах силуэт амфибии. Но на радиовызовы русские не отвечали. Мэри не могла понять почемуведь она не представляла себе, что творилось в бушующем проливе, через который рискнули плыть русские… И вдруг бортинженер Добров передал в эфир несколько отрывочных фраз. Приборы записали их на ленту, и Мэри потом без конца с ужасом прослушивала: — …Шторм тринадцать баллов… Видим тот берег… Нападает летающее чудовище размером с океанский корабль… Передайте на "Землю", что… И больше ни слова. Остальное рассказал экран локатора. Самое страшное Мэри увидела сама… Неведомое чудовище не отражалось на экране тенью. Мэри лишь мысленно представила себе, как тень дважды прошла по силуэту вездехода. Но то, что силуэт вездехода исчез, она увидела на экране. У нее перехватило дыхание. Очевидно, чудище нырнуло с добычей на дно. Мэри в бешенстве стучала по пульту кулаками. "Просперити" улетел от места, где разыгралась драма, уходил в другое полушарие, и она не могла его остановить, как не могла и сдержать себя. Она рыдала… Это были рыдания сильного человека, не только потрясенного горем, но и ощутившего полное бессилие. Она не человек, способный мыслить, действовать, бороться, — она лишь часть аппаратуры корабля, приговоренного кружиться над пустой теперь планетой!.. Сначала американцы, потом русские… На Земле когда-то мы противостояли друг другу, искали дорогу, на которой можно стоять рядом, соревновались в богатстве, влиянии на умы, высоте идеалов и справедливости, в победах науки, завоевании космоса. Но только после того, как возникла на Земле единая социалистическая семья народов, стало возможным осуществление дерзновенной мечты человечества — полет к звездам, к иным солнечным системам, поиск братьев по разуму за пределами ближних планет. И вот потомки былых противников, а потом соратников, отважные исследователи чужих миров, достигли своей цели, достигли, чтобы погибнуть, не сообщив ничего из увиденного… и русские и американцы… Русские всегда казались Мэри чуть загадочными. Вот и теперь непонятно, как они, несмотря на сообщение об исчезновении американской части экспедиции, все-таки рискнули плыть через пролив. Вот это люди!.. Мэри смотрела на себя в специально для нее вделанное в пульт овальное зеркало и сама себе казалась чужой. Провалившиеся глаза, дрожащие губы, сбившиеся волосы… До сих пор Мэри Стрем не умела плакать, не знала страха, не знала бессилия. Слабая надежда всегда будет теплиться, пока жив человек. Может быть, отказал прибор? И Мэри пыталась нащупать радиолокатором хоть что-нибудь на поверхности страшной планеты. Но корабль пролетал преимущественно над океаном. Водные просторы занимали большую часть планеты. Еще и еще раз оказывалась Мэри над местом высадки людей и снова убеждалась, что нет на экране локатора ни точки робота, ни черточки вездехода. Как горько, как нелепо закончилась одна из самых дерзких экспедиций, которые когда-либо предпринимал человек!.. Из трех кораблей, из девяти звездолетчиков, покинувших звездолет, осталась только она, Мэри Стрем, дочь одного погибшего космонавта и невеста другого, ради которого она сделала даже больше, чем может сделать любящая женщина, — победила страх и слабость… и только затем, чтобы ждать и не дождаться… Она осталась одна, а его, ироничного увальня, простого, близкого, немногословного и романтически одержимого Гарри Вуда, которому принадлежат все премии, назначенные на Земле за открытия в иных мирах, его нет, как нет и всех тех, кто был с ним, разделил его участь, пытаясь спасти его… Когда-то Мэри ради славы спрыгнула со скалы в кипящие волны прибоя. Сейчас в ее затемненном горем мозгу мелькнула безумная мысль снова спрыгнуть, на этот раз в океан кровавых туч, повернуть рули, включить дюзы, ринуться вниз, сгореть, сверкающим болидом упасть на то место, где умер Гарри, погибли русские… Но нет! Неужели она получит от Жизни пулю в спину, трусливо покидая поле боя? Нет, нет! Если падать, то только навзничь, получая смертельный удар в грудь. Есть запасный планер! Долг последнего исследователя, долг подруги, жены героя — спуститься на поверхность планеты, пройти любые джунгли, убедиться в гибели Гарри. И, быть может, спасти его, добраться до русской ракеты, стартовать на ней, найти "Просперити" с топливом и вернуться со звездолетом на Землю!.. Что? Безумие? Может ли одна женщина сделать то, что не смогли сделать пятеро сильных мужчин, управляющих машинами, она, слабая… Кто говорит о — слабости женщины, тот забывает, что нет большей силы, чем сила женщины, способной перенести все во имя долга и чувства, силы женщины, жены и матери, благодаря которой существует человеческий род! Полная решимости, забыв о минутной слабости и слезах, Мэри, подтянутая, напряженная, с сухими горящими глазами, прошла в отсек, где стоял запасной планер, такой же, как тот, на котором улетели Вуд и Керн. Какой мужчина решился бы на такой план? Мэри обдумывала его во всех деталях. Достигнуть квадрата "70", опуститься в месте, где последний раз видела она точку робота. Она склонилась над глобусом Венеры, который был составлен вместе с русскими с помощью радиолокаторов. Оставался звездолет "Земля". Нет, Мэри ни у кого не будет просить разрешения. Она не просто одинока — она величественно одинока в околочужепланетном пространстве. Она единственная здесь из живых, и она ответственна только перед самой собой, она не будет связываться со звездолетом. Она только послушает оттуда голос Земли, который время от времени передают для звездолетчиков. Мэри прижалась лбом к холодному стеклу иллюминатора. Бездонна чернота с сверканием кипящих в атомном неистовстве миров… И среди них далекая и милая желтая звездочка, наше солнышко, у которой, быть может, и есть близнецы, но которой нет равных!.. От него летит сейчас к Мэри голос родной Земли. Нет, Мэри не могла не услышать ее голоса. Еще есть время… "Просперити" должен сделать вокруг Венеры почти полный оборот. И Мэри включила радиоприемник. Сейчас по расписанию не было радиосвязи, но девушка совершенно бессознательно пыталась уловить голос Земли… И вдруг она услышала его… Всякая передача на звездолет требовала затраты огромной мощности, она была сжата в могучий импульс, где многократно ускоренные звуки сливались в яркий всплеск… Сейчас эти всплески звучали один за другим, словно на "Просперити" передавались тучи телеграмм. Аппараты "Просперити" расшифровывали сигналы, замедляли звуки, передавали их человеческой речью. Но это оказалась не речь, а… пение. Песня Земли!.. Для Мэри в этой песне звучала сама Земля! Горы, их сверкающие снеговые вершины. Небо, бездонное, синее, с бегущими, легкими, как шарф, облаками. Солнце, земное, яркое, не уродливо лохматое, а веселый ослепительный кружочек, ласково греющий… Лес, чудесный, совсем не хмурый, но загадочный… И ветер волнами шумит в листве. Река, медлительная, прохладная. Простор прерий и скачущие за горизонт всадники. И сама она скачет вместе с ковбоями. Трава там доходит до плеч. А вот в саду трава мягкая, шелковистая. Птицы поют в ветвях, щебечут, перекликаются. Далекий гудок пароходика. Лента шоссе. Бешеная езда в открытом автомобиле. Горные повороты, от которых и захватывает дух, и радостно переполняется сердце. А на повороте — неуклюжий и милый человек с нелепым пучком трав… Скрип тормозов, легкая испарина на лбу и протянутый ей с шутливой благодарностью букет из трав… Гарри!..Ее Гарри!.. В кабине космического корабля звучала песня Земли, чтобы напомнить Мэри, что она не одна в космосе, что родная ее планета с миллиардами людей тоже движется в том же космосе и думает о ней. Песню передавали для Мэри со звездолета, кто-то чуткий думал о ней. Разве может она не предупредить о том, на что решилась! Штаб звездной экспедиции вызывал ее. Мэри победила себя и ответила. Убыстренные звуки ее голоса электромагнитным всплеском умчались к Земле в могучем импульсе разряда электрических конденсаторов. Этот всплеск долетит до Земли лишь через триста секунд, через целых пять минут. Мэри узнает, что ее ответ принят, лишь через десять мучительных минут... Лишь за это время световые или электромагнитные волны достигнут Земли, дойдут от Земли до Венеры... Для Мэри в это время минуты казались часами. Ее услышали. И Мэри узнала, что весь мир Земли, люди в Америке, Европе, Азии, Австралии, Африке скорбят о трагической гибели членов экспедиции... Американский штаб перелета передавал Мэри приказ: «Просперити» оставить Венеру. Мэри Стрем, единственной оставшейся в живых, вернуться в Америку, где ее встретят как национальную героиню...
Мэри не сразу поняла, что это значит — национальная героиня...
Кибернетическая машина бесстрастно напечатала текст переданного приказа...
Мэри, закусив губу, перечитывала скупые и краткие строчки.
Значит, она не принадлежит себе в пустоте Космоса, она принадлежит Америке?..
А Гарри?
Автоматическая пишущая машинка отщелкивала строчку за строчкой. Семья Мэри не выходит из церкви, вознося за нее молитвы. К ней протягивают руки отец, мать, брат... Академии наук многих стран избрали ее своим членом или членом-корреспондентом... Ей присвоено множество почетных званий, присуждена американская премия по астронавтике... Комитет Нобелевской премии в Швеции будет рассматривать ее отчет о полете как научную работу величайшего значения...
И еще, и еще... Газеты публикуют сенсационные сообщения, что тысячи молодых людей, восхищенных подвигом девушки, почтительно разделяя ее горе, готовы посвятить ей свою жизнь и состояние, предлагают ей свою руку... В их числе несколько сыновей миллионеров, знаменитые киноактеры, известные бейсболисты и боксеры, один вождь индейского племени и даже молодой католический кардинал, готовый в случае согласия Мэри сложить с себя сан, совершив тем угодный богу подвиг...
Люди Земли думали о Мэри, они жалели и любили ее...
Мэри слушала голос Земли, гордо закинув голову.
Она написала краткую радиограмму. Ей не нужны почести, она разделит судьбу тех, с кем вместе пересекла Космос, или спасет тех, кто, быть может, еще жив.
Мэри не передала эту радиограмму. Аппараты должны были автоматически передать ее, как только она сядет в планер в ожидании, когда сработает реле времени и планер начнет полет.
Мэри решилась. Она думала, что решилась. Она уже надела скафандр...
И вдруг она поняла, что не сможет прыгнуть вниз с космической высоты... Не надо было слушать Землю... Нет! Не предложение сердец, даже не сообщение о почестях и даже не приказ. Не надо было слушать песню Земли... Эта песня околдовала Мэри, сделала ее бессильной для последнего подвига, а ее просветленный ум вдруг перестал признавать поступок, на который она решилась, подвигом.
Нет, не смерть на Венере близ Гарри, а жизнь на Земле во имя прославления имени Гарри, быть может, ради продолжения его дела... На это нужны силы, а не на гибель...
Подвиг не в том, чтобы ринуться вниз и сгореть в атмосфере или погибнуть в джунглях, подвиг в том, чтобы одной, без командора и шефа, без инженеров, довести «Просперити» до Земли... Если она погибнет в пути, она будет достойна Гарри и всех тех, кто остался в Космосе с ним, если она долетит до Земли и даже посадит корабль на космодроме в Скалистых горах, то она сделает это во имя Гарри.
Мэри уничтожила радиограмму прощания.
Она написала другую:
«Мне очень трудно улететь от Венеры. Я получила приказ о возвращении и очень хотела бы выполнить его. Я не знаю, смогу ли это сделать. Ведь мне некому помочь. Может быть, я собьюсь с пути или сойду с ума за эти месяцы, которые должна пробыть в дороге... Мне очень хочется на Землю, очень... Я ведь думаю о том, как можно набрать букет цветов или искупаться... А вы хотите избирать меня в академии. Я постараюсь выполнить приказ. Самое трудное для меня будет дать старт, сойти с орбиты вокруг Венеры. Мне будет трудно улететь от планеты моего горя, потому что я боюсь быть счастливой на Земле».
Мэри перечитала радиограмму, которую должны были передать на Землю автоматы, и лицо ее стало каменным.
«Просперити», последняя ступенька, которой должны были воспользоваться те, кто спустился на Венеру, уходил к Земле..
Конец второй части
Американский штаб перелета передавал Мэри приказ: «Просперити» оставить Венеру. Мэри Стрем, единственной оставшейся в живых, вернуться в Америку, где ее встретят как национальную героиню...
Мэри не сразу поняла, что это значит — национальная героиня...
Кибернетическая машина бесстрастно напечатала текст переданного приказа...
Мэри, закусив губу, перечитывала скупые и краткие строчки.
Значит, она не принадлежит себе в пустоте Космоса, она принадлежит Америке?..
А Гарри?
Автоматическая пишущая машинка отщелкивала строчку за строчкой. Семья Мэри не выходит из церкви, вознося за нее молитвы. К ней протягивают руки отец, мать, брат... Академии наук многих стран избрали ее своим членом или членом-корреспондентом... Ей присвоено множество почетных званий, присуждена американская премия по астронавтике... Комитет Нобелевской премии в Швеции будет рассматривать ее отчет о полете как научную работу величайшего значения...
И еще, и еще... Газеты публикуют сенсационные сообщения, что тысячи молодых людей, восхищенных подвигом девушки, почтительно разделяя ее горе, готовы посвятить ей свою жизнь и состояние, предлагают ей свою руку... В их числе несколько сыновей миллионеров, знаменитые киноактеры, известные бейсболисты и боксеры, один вождь индейского племени и даже молодой католический кардинал, готовый в случае согласия Мэри сложить с себя сан, совершив тем угодный богу подвиг...
Люди Земли думали о Мэри, они жалели и любили ее...
Мэри слушала голос Земли, гордо закинув голову.
Она написала краткую радиограмму. Ей не нужны почести, она разделит судьбу тех, с кем вместе пересекла Космос, или спасет тех, кто, быть может, еще жив.
Мэри не передала эту радиограмму. Аппараты должны были автоматически передать ее, как только она сядет в планер в ожидании, когда сработает реле времени и планер начнет полет.
Мэри решилась. Она думала, что решилась. Она уже надела скафандр...
И вдруг она поняла, что не сможет прыгнуть вниз с космической высоты... Не надо было слушать Землю... Нет! Не предложение сердец, даже не сообщение о почестях и даже не приказ. Не надо было слушать песню Земли... Эта песня околдовала Мэри, сделала ее бессильной для последнего подвига, а ее просветленный ум вдруг перестал признавать поступок, на который она решилась, подвигом.
Нет, не смерть на Венере близ Гарри, а жизнь на Земле во имя прославления имени Гарри, быть может, ради продолжения его дела... На это нужны силы, а не на гибель...
Подвиг не в том, чтобы ринуться вниз и сгореть в атмосфере или погибнуть в джунглях, подвиг в том, чтобы одной, без командора и шефа, без инженеров, довести «Просперити» до Земли... Если она погибнет в пути, она будет достойна Гарри и всех тех, кто остался в Космосе с ним, если она долетит до Земли и даже посадит корабль на космодроме в Скалистых горах, то она сделает это во имя Гарри.
Мэри уничтожила радиограмму прощания.
Она написала другую:
«Мне очень трудно улететь от Венеры. Я получила приказ о возвращении и очень хотела бы выполнить его. Я не знаю, смогу ли это сделать. Ведь мне некому помочь. Может быть, я собьюсь с пути или сойду с ума за эти месяцы, которые должна пробыть в дороге... Мне очень хочется на Землю, очень... Я ведь думаю о том, как можно набрать букет цветов или искупаться... А вы хотите избирать меня в академии. Я постараюсь выполнить приказ. Самое трудное для меня будет дать старт, сойти с орбиты вокруг Венеры. Мне будет трудно улететь от планеты моего горя, потому что я боюсь быть счастливой на Земле».
Мэри перечитала радиограмму, которую должны были передать на Землю автоматы, и лицо ее стало каменным.
«Просперити», последняя ступенька, которой должны были воспользоваться те, кто спустился на Венеру, уходил к Земле..
Конец второй части
Часть третья. Солнечное племя
Проржавели, исчезли привезенные когдато машины, забыты были старинные книги, да и сама ненужная охотникам письменность. Все изменилось у переселенцев, кроме мозга, способного к восприятию знаний, но не загруженного ими. Понадобились сотни тысяч лет, чтобы "внуки условного Марса", давно забыв о своем происхождении, снова поднялись по лестнице земной теперь цивилизации".Глава первая Наваждение
Три исследователя, одетые в космические скафандры, погружались на дно… Их межпланетное одеяние из мягкой пластмассы, шлемы и аппаратура для дыхания не уступали водолазным костюмам. Тяжелое снаряжение увлекало на дно. В первый миг все потеряли друг друга из виду. В глубине уже не красная, а зеленоватая вода становилась вее гуще, темнее, пока не превратилась в черную мглу. Радиосвязь под водой не действовала. Алеше стало не по себе. Только что без тени страха снимавший кинокамерой птеродактиля, сейчас он, никого не слыша, ничего не видя и не ощущая, закричал чужим, хриплым голосом. Его не услышали… Он рванулся в сторону, протянул руки, чтобы достать товарищей. Что-то скользнуло по его руке. Он отдернул ее с омерзением. До боли сжав челюсти, он медленно опускался на дно. Когда наконец он стал на мягкий ил, то почувствовал стыд за свой крик. Он даже обрадовался, что не был услышан. Справа, разрезая чернильную толщу воды, вспыхнул яркий серебристый конус, упирающийся в размытый туман. В луче метнулись диковинные рыбы с пилообразными хребтами, с глазами, горящими в луче, как у кошек, мелькнули и исчезли… А вместо них в освещенное пространство вошел Илья Юрьевич, огромный, спокойный, бородатый и улыбающийся. Он словно стоял не на дне венерианского моря, а на берегу, где недавно сказал своим помощникам, что в крайнем случае вездеход опустится под воду и они перейдут пролив по дну… Алеша, преодолевая плотную преграду, добрался до Богатырева и обнял его. Илья Юрьевич не отстранился, как обычно. Прожектор на вездеходе зажег Добров. Затонувший вездеход был цел! В свете прожектора виднелось исполинское перепончатое крыло и часть гороподобной туши уничтоженного ящера, хвост которого придавил вездеход ко дну. Освободить вездеход оказалось нелегким делом. Пришлось включить двигатели. Насосы засасывали не воздух, а воду. Отбрасывая ее вниз, они приподняли вездеход вместе с чудовищным хвостом. Богатырев и Алеша подставили плечи, чтобы удержать этот хвост. Добров выключил насосы и включил реактивный двигатель. Вездеход опустился ко дну и рванулся. Машина была свободна. Алеша и Илья Юрьевич выбрались из-под хвоста дракона. Илья Юрьевич наклонился, чтобы коснуться корпуса вездехода антенной, и дал знак, чтобы его товарищи сделали то же. Теперь можно было переговариваться через шлемофоны. — Вижу, двигаться он может свободно, — кивнул на вездеход Богатырев. — Лишь бы не сбиться с пути, — отозвался Добров. — Как хорошо, что магнитное поле на Венере такое сильное! — вставил Алеша. — Компас действует. А я ведь струсил… закричал, — признался он. — Трусить еще придется всем, — проворчал Добров. — Теперь жди ихтиозавра какого-нибудь. Не знаю, пригодятся ли против них наши подводные ружья. — Все-таки достань их, — посоветовал Илья Юрьевич. Добров снова включил насосы, создававшие воздушную подушку. Они засосали воду и направили вниз струю. Добров так отрегулировал работу насосов, чтобы машина оставалась во взвешенном состоянии. Самому ему пришлось выбраться на дно. Доставая рукой приборы управления, он включил горизонтальный двигатель на самый тихий ход. Держась за борта, все двинулись вперед. Антенны не касались теперь металлического корпуса, и связи между путниками не было. Прожектор освещал странное пестрое дно. Ил был усеян самоцветными камнями, которые радугой играли в луче прожектора. Но скоро выяснилось их удивительное свойство. Синие, желтые, золотистые, под влиянием света они быстро меняли окраску, становясь все ярко-красными, а потом коричневыми, в тон ила… Многие из них не только меняли окраску, но и уползали из светлой полосы в тень. Скорее всего это были раковины моллюсков или крабовидных. Рыбы, кроме стаек проворных мальков, проносившихся прозрачным веером, избегали попадать на свет. На самом краю освещенного конуса глаза их горели по-волчьи. Илья Юрьевич взял гранатное ружье. Оно могло помочь и под водой. Добров и Алеша вооружились ружьями-острогами. Илья Юрьевич шел первым, и его силуэт выделялся на фоне освещенной воды. Он поворачивал голову, тревожно всматриваясь в темноту. В луче прожектора стали попадаться скалы неправильной формы, занесенные илом, поросшие водорослями. Доброву приходилось лавировать между ними. Алеша жадно всматривался в их неясные, исчезающие в мутном тумане очертания. Добров нашел проход, вдоль которого скалы тянулись по обе стороны, уходя ровными рядами в темноту. У Алеши сжалось сердце. Он не мог отделаться от ощущения, что они движутся по… улице. Это было смешно. Романтическая уверенность Алеши в том, что на этой Венере есть разумная жизнь, под давлением неопровержимых аргументов Доброва давно уже пошатнулась. Эра развития планеты оказалась слишком ранней, чтобы можно было ждать появления разумных существ. Венерианку он видел только в бреду. Но все-таки, какие странные скалы!.. Конечно, Добров возмутился бы, узнав о диком предположении Алеши. Илья Юрьевич, возможно, пожурил бы его, назвав мечтателем… Однако нельзя же пройти мимо таких скал, даже не посмотрев хоть на одну из них вблизи… Алеша догнал Богатырева и дотронулся до его плеча. Тот вздрогнул и резко обернулся. Алеша показал на скалы, потом на свои глаза, сделал умоляющий жест руками. Богатырев взглянул на герметические наручные часы и отрицательно покачал головой. Алеша поднял один палец. Одну только минуту, одну только скалу. Ведь единственная возможность!.. Илья Юрьевич нахмурился, скрестил руки на груди, показывая, что он будет ждать, но лишь недолго. Алеша двинулся вперед к освещенной скале. Удары сердца отдавались в висках. Если бы это на самом деле оказались руины!.. Однако скала, полускрытая илом, меньше всего походила на развалины строения. Но почему все эти скалы вытянуты в линейку? И по другую сторону "улицы" так же!.. Когда-то Алеша ездил в туристическую поездку по Италии и побывал в Помпее. Он как завороженный рассматривал тогда древний город развалин, более тысячелетия пролежавший под пеплом Везувия. Его поразили ровные улицы, ряды примыкающих один к другому каменных домов без крыш… В каменной мостовой были глубокие выбоины от колесниц… Сколько столетий нужно было ездить по этим мостовым, чтобы выбить в камне такие колеи!.. Он заглядывал в дома без крыш, старался представить, какие здесь жили люди… Маленький городок тысяч на двадцать жителей, но в нем были и общественные бани, и спортивный зал для юношей, и античный театр с великолепным полукружием амфитеатра, и открытый форум для собраний, и храм с сохранившимися колонками!.. О, если бы увидеть сейчас хоть одну колонну! Алеша шел впереди вездехода в широкой части расходящегося луча, где свет захватывал странно ровный ряд скал. Но колонн не было… Неужели эти подводные жилища сооружены какими-нибудь животными? Строят же бобры плотины и хатки… Не говоря уж о геометрически правильных муравейниках. Расстаться с мечтой всегда очень трудно. Алеша упрямо шел, разглядывая каждую скалу. При близком рассмотрении они оказывались разной формы и совсем не напоминали Помпеи. Если бы найти хоть один вход в скалу!.. Он так и подумал — "вход в скалу". Не решился подумать "в дом", но слово "вход" мысленно произнес. Некоторые скалы были много выше других. Их геометрически правильная форма казалась нарочито подчеркнутой… Хотелось осмотреть хоть одну скалу поближе. Он обошел подножие скалы, но входа не нашел. И вдруг он вспомнил, что животный мир Венеры, вероятно, должен был приспособиться к особым условиям ее бешеной атмосферы. Алеше не хотелось допустить, что он имеет дело с жилищами подводных существ. Нет! Он уже мечтал, что перед ним древний, когда-то затопленный город!.. Но если на Венере летает птеродактиль, чудовище, то и разумные строители города могли летать. Тогда вход в их дома надо искать не снизу, а сверху… в несохранившихся, быть может, крышах… Алеша всплыл на скалу. Прожектор замигал. Предостерегает Добров… Алеша, перебирая руками, двигался по поверхности скалы, как по крыше… Здесь света не было, и ничего нельзя было разобрать. Алеша искал провал на ощупь… Может быть, это было просто углубление в скале, но разгоряченному фантазеру казалось, что он опускается в жилище разумных летающих существ… Богатырев и Добров видели, как всплыл и исчез Алеша. Молча они ждали минуту, две, три… пять… Богатырев прикоснулся антенной к корпусу вездехода. Добров, увидев это, сделал то же, — Мальчишка! — услышал Богатырев его голос. — Разреши, Илья, я приведу его. Если бы можно было снять шлем, я отодрал бы его за уши! — Иди. Возвращайтесь поскорее, — скомандовал Богатырев. — Я поверну вездеход, посвечу вам. Добров всплыл на скалу, как и Алеша… Вершина скалы, теперь освещенная, выделялась в мутном тумане. Но в углублении, в котором исчез Алеша, было темно. Добров оказался предусмотрительнее Алеши. Он захватил электрический фонарь. Он осветил им странный колодец, вернее, вертикальный грот… В глубине Добров заметил движение. Не попал же Алеша в логово ихтиозавра!.. Добров не раздумывал. Зажав в одной руке фонарь, в другой нож, он ринулся вниз. В луче света блеснул шлем биолога. Добров опустился на мягкий ил рядом с Алешей, почти грубо схватил его за руку и показал наверх. Губы у Алеши шевелились, он в чем-то хотел убедить Доброва. Но Доброву даже в голову не пришло то, что хотел ему сказать Алеша. Он не мог и не желал его понять. Слишком на разных языках если не говорили, го мыслили они… Алеша указал Доброву на выход из грота внизу — он все-таки отыскал его изнутри! Алеша засунул в мешок попавшийся под руку покрытый илом камень. Следом за Алешей Добров на четвереньках выбрался из грота и с облегчением увидел освещенный конус. Схватив Алешу за руку, он решительно двинулся к вездеходу. Алеша шел взволнованный, смятенный, слегка упираясь. Он почти был уверен, что побывал в жилище каких-то существ… Но были ли эти существа разумными? Подойдя к вездеходу, он прислонил антенну к корпусу, чтобы Богатырев выслушал его, но тот посмотрел сердито, повернулся спиной и двинулся впереди вездехода. Добров включил мотор. Положив руку на борт, Алеша пошел рядом. Он больше не думал о нападении ихтиозавров. Скалы по правую и по левую стороны от освещенного конуса казались ему причудливыми, строениями, а впереди, на занесенном илом дне, он готов был увидеть выбитые в камне колеи колесниц… Хорошо, что Добров не "слышал" этих сумасбродных мыслей!.. Скалы, превращенные фантазией Алеши в дворцы и башни, в кубы и пирамиды домов, медленно проплывали назад. Это было как наваждение.Глава вторая Первый костер
Ураганы на чужезвездной Венере рождались циклонами. Бешено закрученные атмосферные воронки охватывали целые материки. На ободе жернова ветер дул с непостижимой силой, в центре стоял мертвый покой. Следом за штормом наступила тишина… Волны моря еще не утихли, они вздымались холмами, но уже без гребней, сглаженные, мягкие… Они набегали на песчаный берег, выбрасывая в кипящей пене яркие разноцветные ракушки. С недовольным шипением они всё больше отступали, уже не доставая пенными лапами до тускнеющих на песке выброшенных из моря самоцветов. Недалеко от берега в отхлынувшей воде показался шлем с остроконечным шишаком антенны. Как в славной сказке, выходили из смирившейся воды один за другим три фигуры, оставляя следы на влажном песке. Следом за ними, как верный конь, выплыл из волн вездеход. Илья Юрьевич снял шлем с колпаком и всей грудью вдохнул морской воздух. Алеша тоже снял шлем, счастливо озираясь. Добров возился с вездеходом. — Благодать-то какая! — сказал Богатырев. Вместо заросших папоротником болот противоположного берега здесь от желтой каемки песка начинался ковер алых цветов, о которых так мечтал Алеша. Пошатываясь от усталости, Алеша добрался до цветов, опустился перед ними на колени и стал собирать букет из огоньков. Цветы пламенели у него в руках, каждый чуть отличного от других оттенка: букет жил, переливался, пылал… — На Землю бы такое привезти! — воскликнул Алеша. Он вынул было из мешка взятый им со дна камень, чтобы освободить место для букета, но почему-то снова положил его обратно. Прямо с берега поднималась коническая гора вулкана. Вершина ее казалась окутанной тучами. Это дымился кратер. От него струями спускались каменистые гряды — потоки застывшей лавы. Лес рос лишь у подножия, все тот же лес папоротников и хвощей. — К сожалению, сразу не двинемся, — сказал Илья Юрьевич. — Здесь так красиво! — отозвался Алеша. — Нужно узнать, в какой стороне американцы. Как ты, Роман, не слышишь их? — Может быть, нашему радисту удастся установить связь вместо того, чтобы собирать цветы для местных дам? — едко заметил Добров. — Радиоволны не проходят. Магнитная буря продолжается. Чувствуется, что местная Венера ближе к своему Солнцу… — Планета бурь… В воздухе, в море, в эфире, — сказал, не обижаясь, Алеша. — Что ж, отдых нам нужен, — решил Богатырев. — Можно развести костер, — предложил Алеша. — Что ж, — согласился Илья Юрьевич. — На Венере еще никто не разводил костров. Будем первыми. Алеша вернулся с охапкой сухих корней, отломившихся от венерианских перекати-поле. Разжигая диковинный хворост, он вдруг спросил: — Вы думаете, Илья Юрьевич, что это первый костер на планете? Костер разгорался, потрескивая и стреляя искрами. — А ты сомневаешься? — пытливо посмотрел Богатырев. — Сомневаюсь, — чистосердечно признался Алеша. Добров поморщился, как от зубной боли. Алеша стал на колени, вороша горящие сучья длинным корнем. — А подводная улица? — спросил он, не оглядываясь. — Какая улица? — возмутился Добров. — Разве два ряда похожих на скалы руин не напоминали улицу затопленного города? Богатырев улыбнулся, Добров позеленел: — Ну, знаете ли! Ему мало заработать кандидатскую степень на вздорных да к тому же и чужих гипотезах о существовании разумной жизни на других мирах, так и теперь она мерещится ему повсюду! В таких случаях лечиться надо. Понимать, что космос противопоказан… Алеша смертельно обиделся, отошел в сторону. Добров деловито занялся консервами. Богатырев задумчиво теребил бороду. Гипотезы разумной жизни на других мирах! Алеша вовсе не присваивал их себе, но он был их горячим сторонником. И конечно, он был одним из самых яростных сторонников когда-то смутившей многие умы гипотезы о тунгусской катастрофе 1908 года, объяснявшей ее атомным взрывом не успевшего приземлиться инопланетного корабля. Кто же мог прилетать на Землю? Кто? Французский профессор Анри Лот исследовал в Сахаре древнейшие наскальные рисунки, среди которых оказались изображения существ в скафандрах. Анри Лот назвал их марсианами. Может, в самом деле марсиане летали и на Землю?.. Или разумяне от другой звезды? Летали… Они испытывали в полете непередаваемое чувство невесомости, которое так любил Алеша, уже став космонавтом, но которое он знал еще до этого! Да, да, знал! Он понял это после первого же своего полета на Луну вместе с Богатыревым. Чувство невесомости было известно ему еще по детским снам, чувство невыразимого блаженства, ощущение, когда без всякого мышечного напряжения вдруг взмываешь вверх и медленно плывешь над землей, даже не уподобляясь птице, не затрачивая усилий, летишь в воздухе, невесомый!.. И вдруг совсем то же ощущение в космической кабине! Откуда эта память предков? Алеша отогнал дерзкую мысль… Во всяком случае, есть возможность объяснить, почему разумные существа появились на планете в эру ящеров. И Алеша вернулся к костру. — Это не первый костер Венеры! — решительно заявил он. Добров удивленно посмотрел на него. Богатырев улыбнулся: — Снова разумные существа и ящеры на одной планете? — А мы? — вскинул Алеша голову. Добров пожал плечами. — Мы прилетели, — сказал Алеша, вспоминая слова венерианки. — Они тоже могли прилететь. И не только прилететь, но и остаться здесь… я не знаю, по какой причине. Богатырев даже крякнул, но посмотрел на Алешу одобрительно. Добров злился: — Откуда прилетели? С Земли во времена Атлантиды? — Нет! С Марса! Со здешнего Марса, который обитаем!.. — Чепуха! Там кислорода одна тысячная того, что есть в земной атмосфере. Разумному существу с его высшей энергетикой не обойтись без кислорода. Это данные звездолета. — Но прежде там был кислород, — не уступал Алеша. — Была более плотная атмосфера, вода… — Ну что ж, — пожал плечами Добров. — Допускаю, что Дарвинова теория распространяется и на Марс. Там тоже была обезьяна, только марсианская обезьяна, от которой произошли давно уже погибшие марсиане. — Нет! Никогда! Никогда разумное племя, раз возникнув, не погибнет от изменения внешних условий! Оно не только будет приспосабливаться — оно будет менять их. Оно не может погибнуть. — Где же оно, это разумное племя? — ехидно спросил Добров. Алеша смешался. — В самом деле, где? — многозначительно спросил и Богатырев. Алеша оглянулся, посмотрел на океан, повернулся к лесу, словно искал кого-то глазами, потом сказал: — Я не знаю, где они сейчас. Но они были здесь. И они есть где-то и ныне! Добров покачал головой. — Я допускаю, что фантазия нужна на Земле, но на другой планете, где мы находимся, нужно оставаться на почве реальности, — внушительно закончил он. — Не знаю, братцы, сколько найдем мы здесь разумных существ, — сказал Богатырев, вставая, — но два сушества мы обязаны найти: наших братьев по племени… — Братьев по племени? — взволнованно повторил Алеша, следя за Ильей Юрьевичем. Подойдя к вездеходу, он стал налаживать связь с роботом. — Братья по племени! — тихо сказал Алеша, идя по песчаной отмели и смотря на оставленные им самим следы.Глава третья Огненный поток
По заболоченной чаще двигались три фигуры. Керн и Вуд едва оправились от болезни. Затянувшаяся лихорадка иссушила их лица, отняла силы. Они шли, шатаясь, едва удерживаясь на ногах, балансируя, как канатоходцы. Особенно скверно приходилось Железному Джону. Не приспособленный к упражнениям в равновесии, он то и дело срывался со скользких корней и оказывался по колено в трясине. Керну пришлось проводить с ним специальные занятия, чтобы он усвоил "хождение по корням". Робот прекрасно все запоминал, мог слово в слово повторить, но… поминутно срывался в топь, с хлюпаньем и чмоканьем вытаскивая из грязи железные ноги. — Придется усовершенствовать машину, — мрачно заметил Керн. Но, когда нужно было пробиваться через лианы, закованный в доспехи робот был на высоте, сокрушая преграды топором, как рыцарь толпу врагов… Эти минуты Вуд использовал для собирания гербария. Аллан Керн насмешливо наблюдал за ним: — Рассчитываете на профессорское звание? — Боюсь, что маловато знаю, чтобы быть профессором!.. — Мелкое ваше море, Вуд. Мой брат Томас всегда говорил мне, что профессор получает в США меньше полицейского. — Посмотрите, шеф, на этот листок. Клянусь, я видел его отпечаток на камне. Разве я привезу его ради профессорского оклада? Нет, шеф, ради науки!.. — Наука не может быть целью. Наука — средство. Полюбуйтесь на Джона. Колония таких машин, создавая себе подобных, переделает эту планету, откопает здесь мне такие богатства… — Вы, кажется, ищете новую форму рабовладения? — О нет! Электронный мозг осведомлен и об американской декларации прав, и о социализме. Внезапно все вокруг потемнело, словно спустилась ночь. Послышалось щелканье, свист и завывание. — Ничего не понимаю, — сказал Керн, зажигая фонарь и смотря на часы. — Шеф, над нами туча пепла… — Вулкан? Этого только недоставало!.. По лесу пронесся грозный гул. Голоса сразу смолкли. Закачались папоротники. Керна и Вуда так тряхнуло, что они еле устояли на ногах, вцепившись друг в друга. Робот соскользнул с корня и завяз в трясине. Керн и Вуд помогли ему выбраться. Какое-то зверье шмыгало вокруг. Их горящие глаза словно искры проносились во тьме… — Если деревья начнут валиться, лучше выйти из чащи, — предложил Керн. Люди и машина бежали из лесу… навстречу спасающимся ящерицам… Лес кончился у крутого склона вулкана. Сверху, дымясь и сверкая, катилась огненная рекаПочва колебалась под ногами, как море в мертвую зыбь. Керн и Вуд повернулись к лесу, но увидели, как валятся исйолинские папоротники. — Сюда! — скомандовал Керн, указывая на каменистое возвышение. Лава медленно стекала, набухая тестообразной волной. Люди и робот стояли на камнях. Лава обтекала их с двух сторон. Магма добралась до крайних деревьев, и они вспыхнули свечками. Начался лесной пожар, раздуваемый сильным ветром. Огненный поток набухал, разливаясь все шире. Он сыпал искрами, яркие блики играли на нем, Черная туча висела над головой и сливалась с дымом лесного пожара. Все вокруг, освещенное лавой, зловеще переливалось красными отблесками. Пузыри вздувались на сверкающей поверхности магмы и лопались, разбрасывая фонтаны огненных брызг. Клубы дыма поднимались с горящего потока, как диковинный туман, окутывая ноги стоящих на каменном островке. — Хорошо, что с нами нет Мэри, — тихо прошептал Вуд. — Лучше помолимся, — сказал Керн, доставая молитвенник. Он протянул руку, чтобы выключить робота. — Это его не касается. Но Гарри перехватил руку шефа: — Слушайте, слушайте!.. Почва под ногами гудела, лес трещал, горящие деревья стреляли. С вершины горы доносились взрывы… Робот повторял безучастным голосом: — Слышимость улучшается. Стала пятьдесят два процента. Грозовые разряды все еще мешают. — С кем он говорит? — спросил Гарри. — Молчите! — прошипел вцепившийся в его руку Керн. — Даю радиопеленг, даю радиопеленг по требованию, — повторял робот. Определяю расстояние в две мили. — Схожу с ума! — воскликнул Керн. — Галлюцинация! Но у машины ее не может быть, Гарри! Это невозможно, но это русские!.. — Русские? — не веря ушам, переспросил Вуд. — Вы слышите? Робот говорит с ними. У него более чувствительная аппаратура, чем в наших шлемофонах. — Поздно! — Никогда не думал, что мне так поздно придется менять взгляды моего несравненного брата Томаса! — Находимся на камне посредине огненной жидкости, — безучастно сообщал робот. — Она прибывает по одному дюйму в минуту. Через тридцать семь минут сорок восемь секунд камень будет затоплен. Еще через семнадцать минут огненная жидкость дойдет до колен…
— Они мчатся сюда! Слышите, шеф? Они запрашивают обстановку, они идут нам на помощь!
— Никогда не думал, что они на это способны! На этой планете многому научишься, Гарри… Жаль, что не придется учесть этого в жизни…
— Робот тоже не учел этого… Но они помогут нам, спасут нас…
— Эх, малыш, — почти нежно сказал Керн, — какой вездеход пройдет по огню? Рассчитывать надо только на самих себя… Есть лишь одна машина на свете, которая может выручить нас…
— Вы так думаете, шеф?
— Хэлло, Джон, прошу вас. Возьмите мистера Вуда и перенесите его через огненный поток.
— Что вы, шеф?.. А вы?..
— Высший закон природы, Гарри… Молодости — жить. Передайте привет Мэри. Я не всегда был прав по отношению к ней… Итак, Джон, прошу вас…
— Ширину потока можно преодолеть за двенадцать минут, через двадцать пять минут можно вернуться за мистером Керном, — проскрипел робот.
— О, мой незабвенный брат Томас! Он создал не просто мыслящую, но и чувствующую, гуманную машину! Идите, Джон, я буду ждать вас, у которого есть не только мозг, но и сердце!
Робот посадил Гарри на плечо и бесстрашно ступил в огненный поток.
Лава дошла ему до щиколоток и бурлила, обтекая его ноги. Дым поднимался, полускрыв оставшегося на камне Керна. Гарри не задохся только потому, что был в шлеме.
Робот прошел несколько шагов, но вдруг остановился.
— Жидкость прибывает по полтора дюйма в минуту. Когда можно будет вернуться за мистером Керном, она достанет ему выше колена, что может повредить его здоровью.
— Значит, нужно вернуться за ним, скорее вернуться, Джон! Надо попробовать нести обоих, Джон, прошу вас, — заторопил машину Гарри.
— Надо вернуться, — подтвердил робот.
Над огненным потоком и стелющимся над ним дымом поднималась могучая фигура закованного в латы рыцаря, который нес на плече юношу.
— Все-таки вернулись! — растроганно сказал Керн.
— Джон подсчитал, что перенести надо сразу двоих, шеф. — издали кричал Вуд.
Робот выбрался на камень. Керн опустился на колени, чтобы исследовать погружавшиеся в лаву ноги робота.
— Замечательная машина! Удивительная машина! Великолепная тугоплавкая сталь! — восклицал он.
Робот взгромоздил на каждое плечо по человеку и снова сошел в огненный поток.
Медленно ступали по магме металлические ноги.
Шлаковая пена налипала на сталь, которая разогревалась все больше, дойдя уже до красного каления.
Робот шел медленно, но уверенно. Его беловатые глаза пристально смотрели вперед. Руки осторожно поддерживали Вуда и Керна, которые сидели на железных плечах обнявшись.
Спасительный камень исчез в дыму. Казалось, магма уже накрыла его. Она доходила роботу до колен.
Может быть, поднявшись чуть выше, она уже повредила бы ему сустав…
Робот остановился.
— В чем дело, Джон, прошу вас? — спросил Аллая Керн.
Особенно жестко и холодно прозвучал скрипучий голос робота:
— Скорость прибывания потока превосходит два дюйма в минуту. Уровень огненной жидкости достиг нижнего сустава ног. Скорость передвижения замедлена. Дальнейшее передвижение с грузом опасно для моих механизмов.
— Что он хочет сказать? — воскликнул Гарри.
— Скорее! Надо выключить его систему самосохранения, иначе он сбросит нас в лаву! — закричал Керн.
— Где выключатель?
— Мой бог! Он внизу… Уже не дотянуться…
— Я вынужден освободиться от груза, джентльмены, — очень вежливо проскрипел робот.
Керн и Вуд вцепились в его голову и друг в друга.
Железные руки машины стремились оторвать их, электромагнитные мускулы напряглись, борясь с перенапряженными мышцами обреченных людей.
— Проклятая машина! — процедил Керн.
Керн стонал. Робот что-то скрежетал. Лава клокотала у его ног. Дым поднимался столбом.
Вездеход несся между папоротниками. Добров лавировал, избегая сетей лиан, порванных во многих местах лесными беглецами.
— Илья Юрьевич! Илья Юрьевич! — закричал от радиоаппарата Алеша. — Он их сбрасывает в лаву!
— Чертова машина спасает себя, она включена на самосохранение, мрачно сказал Добров.
— Вперед, Роман! Вперед! — скомандовал Богатырев.
Вездеход выскочил из чащи на берег огненного потока.
Деревья вокруг пылали. Лава наползала на болотистую почву и, соприкасаясь с водой, застывала. Клубы пара вырывались из-под нее, как пена прибоя, а магма переваливалась через раскаленную, только что образовавшуюся каменную преграду.
— Стоп! — крикнул Богатырев. — Можно было идти по земле, по воде, над водой и под водой… Как с огнем быть, Роман?
— Сойти всем! — скомандовал Добров.
В огненном потоке, весь в дыму, столбом стоял робот. На нем видны были два вцепившихся друг в друга человека.
— Друзья! Аллан! Гарри! Как вы там? Живы? Справились с машиной? крикнул Илья Юрьевич.
Сквозь треск разрядов прозвучал голос Керна:
— Хэлло, командор! Рад встретиться. Лава дошла до пояса Железного Джона и вывела из строя управление… Очень жаль машину…
— Пожалейте о чем-нибудь другом, Аллан. Держитесь крепко. Иду к вам на помощь.
— Не будьте безумцем, командор! Ни одна машина, кроме робота, не пройдет по огню.
— А воздушная подушка на что? — сказал Доброз. — Вездеход не пойдет по лаве, он пройдет над нею!
И вездеход с Добровым за рулем скользнул на огненный поток. Могучие насосы направили вниз струи воздуха, и воздушная подушка отделила корпус вездехода от магмы, надежно охлаждая его.
Вездеход легко несся над лавой, словно это была вода…
Добров поравнялся с дымящимся роботом и снял с него Керна, а потом Вуда.
Круто развернувшись, Добров повел вездеход по огненному потоку от робота.
Робот одиноко стоял среди огня, и его застывшие в борьбе руки были протянуты к покидавшим его людям.
— О Томас! Томас! — крикнул Керн. — Какая это была машина! Я чувствую себя негодяем, что покидаю ее…
Робот стоял по грудь в кипящей лаве. Красноватые отблески играли в его глазах, и они впервые казались живыми, смотрели вслед людям с укором.
Он стал оседать совсем как живой, чуть накренился и повалился в сторону людей.
Расплавленная магма поглотила его.
Аллан Керн плакал…
Гора тряслась. Из ее жерла вырывались фонтаны огня и раскаленных камней. Расплавленная магма наполнила кратер и ослепительными потоками переливалась через его края.
— Находимся на камне посредине огненной жидкости, — безучастно сообщал робот. — Она прибывает по одному дюйму в минуту. Через тридцать семь минут сорок восемь секунд камень будет затоплен. Еще через семнадцать минут огненная жидкость дойдет до колен…
— Они мчатся сюда! Слышите, шеф? Они запрашивают обстановку, они идут нам на помощь!
— Никогда не думал, что они на это способны! На этой планете многому научишься, Гарри… Жаль, что не придется учесть этого в жизни…
— Робот тоже не учел этого… Но они помогут нам, спасут нас…
— Эх, малыш, — почти нежно сказал Керн, — какой вездеход пройдет по огню? Рассчитывать надо только на самих себя… Есть лишь одна машина на свете, которая может выручить нас…
— Вы так думаете, шеф?
— Хэлло, Джон, прошу вас. Возьмите мистера Вуда и перенесите его через огненный поток.
— Что вы, шеф?.. А вы?..
— Высший закон природы, Гарри… Молодости — жить. Передайте привет Мэри. Я не всегда был прав по отношению к ней… Итак, Джон, прошу вас…
— Ширину потока можно преодолеть за двенадцать минут, через двадцать пять минут можно вернуться за мистером Керном, — проскрипел робот.
— О, мой незабвенный брат Томас! Он создал не просто мыслящую, но и чувствующую, гуманную машину! Идите, Джон, я буду ждать вас, у которого есть не только мозг, но и сердце!
Робот посадил Гарри на плечо и бесстрашно ступил в огненный поток.
Лава дошла ему до щиколоток и бурлила, обтекая его ноги. Дым поднимался, полускрыв оставшегося на камне Керна. Гарри не задохся только потому, что был в шлеме.
Робот прошел несколько шагов, но вдруг остановился.
— Жидкость прибывает по полтора дюйма в минуту. Когда можно будет вернуться за мистером Керном, она достанет ему выше колена, что может повредить его здоровью.
— Значит, нужно вернуться за ним, скорее вернуться, Джон! Надо попробовать нести обоих, Джон, прошу вас, — заторопил машину Гарри.
— Надо вернуться, — подтвердил робот.
Над огненным потоком и стелющимся над ним дымом поднималась могучая фигура закованного в латы рыцаря, который нес на плече юношу.
— Все-таки вернулись! — растроганно сказал Керн.
— Джон подсчитал, что перенести надо сразу двоих, шеф. — издали кричал Вуд.
Робот выбрался на камень. Керн опустился на колени, чтобы исследовать погружавшиеся в лаву ноги робота.
— Замечательная машина! Удивительная машина! Великолепная тугоплавкая сталь! — восклицал он.
Робот взгромоздил на каждое плечо по человеку и снова сошел в огненный поток.
Медленно ступали по магме металлические ноги.
Шлаковая пена налипала на сталь, которая разогревалась все больше, дойдя уже до красного каления.
Робот шел медленно, но уверенно. Его беловатые глаза пристально смотрели вперед. Руки осторожно поддерживали Вуда и Керна, которые сидели на железных плечах обнявшись.
Спасительный камень исчез в дыму. Казалось, магма уже накрыла его. Она доходила роботу до колен.
Может быть, поднявшись чуть выше, она уже повредила бы ему сустав…
Робот остановился.
— В чем дело, Джон, прошу вас? — спросил Аллая Керн.
Особенно жестко и холодно прозвучал скрипучий голос робота:
— Скорость прибывания потока превосходит два дюйма в минуту. Уровень огненной жидкости достиг нижнего сустава ног. Скорость передвижения замедлена. Дальнейшее передвижение с грузом опасно для моих механизмов.
— Что он хочет сказать? — воскликнул Гарри.
— Скорее! Надо выключить его систему самосохранения, иначе он сбросит нас в лаву! — закричал Керн.
— Где выключатель?
— Мой бог! Он внизу… Уже не дотянуться…
— Я вынужден освободиться от груза, джентльмены, — очень вежливо проскрипел робот.
Керн и Вуд вцепились в его голову и друг в друга.
Железные руки машины стремились оторвать их, электромагнитные мускулы напряглись, борясь с перенапряженными мышцами обреченных людей.
— Проклятая машина! — процедил Керн.
Керн стонал. Робот что-то скрежетал. Лава клокотала у его ног. Дым поднимался столбом.
Вездеход несся между папоротниками. Добров лавировал, избегая сетей лиан, порванных во многих местах лесными беглецами.
— Илья Юрьевич! Илья Юрьевич! — закричал от радиоаппарата Алеша. — Он их сбрасывает в лаву!
— Чертова машина спасает себя, она включена на самосохранение, мрачно сказал Добров.
— Вперед, Роман! Вперед! — скомандовал Богатырев.
Вездеход выскочил из чащи на берег огненного потока.
Деревья вокруг пылали. Лава наползала на болотистую почву и, соприкасаясь с водой, застывала. Клубы пара вырывались из-под нее, как пена прибоя, а магма переваливалась через раскаленную, только что образовавшуюся каменную преграду.
— Стоп! — крикнул Богатырев. — Можно было идти по земле, по воде, над водой и под водой… Как с огнем быть, Роман?
— Сойти всем! — скомандовал Добров.
В огненном потоке, весь в дыму, столбом стоял робот. На нем видны были два вцепившихся друг в друга человека.
— Друзья! Аллан! Гарри! Как вы там? Живы? Справились с машиной? крикнул Илья Юрьевич.
Сквозь треск разрядов прозвучал голос Керна:
— Хэлло, командор! Рад встретиться. Лава дошла до пояса Железного Джона и вывела из строя управление… Очень жаль машину…
— Пожалейте о чем-нибудь другом, Аллан. Держитесь крепко. Иду к вам на помощь.
— Не будьте безумцем, командор! Ни одна машина, кроме робота, не пройдет по огню.
— А воздушная подушка на что? — сказал Доброз. — Вездеход не пойдет по лаве, он пройдет над нею!
И вездеход с Добровым за рулем скользнул на огненный поток. Могучие насосы направили вниз струи воздуха, и воздушная подушка отделила корпус вездехода от магмы, надежно охлаждая его.
Вездеход легко несся над лавой, словно это была вода…
Добров поравнялся с дымящимся роботом и снял с него Керна, а потом Вуда.
Круто развернувшись, Добров повел вездеход по огненному потоку от робота.
Робот одиноко стоял среди огня, и его застывшие в борьбе руки были протянуты к покидавшим его людям.
— О Томас! Томас! — крикнул Керн. — Какая это была машина! Я чувствую себя негодяем, что покидаю ее…
Робот стоял по грудь в кипящей лаве. Красноватые отблески играли в его глазах, и они впервые казались живыми, смотрели вслед людям с укором.
Он стал оседать совсем как живой, чуть накренился и повалился в сторону людей.
Расплавленная магма поглотила его.
Аллан Керн плакал…
Гора тряслась. Из ее жерла вырывались фонтаны огня и раскаленных камней. Расплавленная магма наполнила кратер и ослепительными потоками переливалась через его края.
Глава четвертая Отбитая Корка
Багровые тучи светились. Зловещая заря вставала над лесом. Зарево первозданного пожара поднималось вместе с тучами пепла позади исследователей, грозя настигнуть их. Вездеход был рассчитан лишь на двух человек. Без снятыхприборов и пушки он мог взять четверых, но пятый должен был бежать рядом с машиной, "держась за стремя", иначе вездеход не приподнимался на воздушной подушке. Только "ведущий" и "бегущий" получили право на кислород для дыхания, запасы которого ради облегчения были оставлены у огненного потока. Добров в скафандре и шлеме, ссутулясь, сидел за рулем. Алеша в облегченном до предела скафандре, без шлема и баллонов, шел рядом с вездеходом. Гарри Вуд не смог усидеть в вездеходе. Он выпрыгнул из машины, пошел вместе с Алешей. Но сразу же стал отставать. Пришлось ухватиться за Алешину руку. Молодые люди весело рассмеялись. Керн посмотрел на них и сказал Богатыреву: — Командор, у меня ощущение, что корка, которая кое-кого из нас покрывала, растрескалась над огненным потоком, а потом отвалилась. — Надеюсь, вы не жалеете, Аллан? — Я думаю о ней, командор. Понадобилось попасть на другую планету, чтобы понять, как налипшая корка законопачивает глаза и уши, давит на мозг. Вы не можете себе представить, насколько приятнее верить в людей, чем их презирать! — Мне трудно это представить, Аллан, — сказал Богатырев улыбаясь. — Знаю. Вы всегда верили в людей. Под коркой мне казалось это нелепым. — А вы не думали, Аллан, почему она образовалась? — Это грязная корка, командор, — грустно усмехнулся Керн. — Я догадываюсь, что она образуется у людей, если они не моют душу. А наши газеты, радио и предвыборные ораторы в свое время крепко постарались, чтобы ее трудно было отмыть даже после смены устоев общества. — Когда русские и американцы сражались против коричневой чумы, никакой корки у них, кажется, не было. — Не было, командор, потому что она не терпит огня. Должно быть, крепко надо разогреть и прокалить всех людей, чтобы с них облупилась корка враждебности и недоверия. Алеша и Вуд, по-прежнему держась за руки, немного отстали. Вездеход прокладывал путь через лианы, срезая их циркульными пилами. — А я считал, что в нашей экспедиции было два робота, — сказал Вуд. Алеша сощурился: — Два? — Один робот погиб… другой, кажется, стал человеком. — Они еще подружатся! — засмеялся Алеша, показав глазами на вездеход. Вуд кивнул головой: — А как он кипел, узнав, что командором все-таки будет русский!.. Что же касается меня, Алек, то устройство мое явно уступает кибернетическому. Я всегда готов был дружить с вами, а в космосе понял, что бесконечность сближает. — А что такое Земля, Гарри? Огромный космический корабль! Он летит в космосе, вертясь вокруг оси, обегая вокруг Солнца, вместе с Солнцем крутясь в колесе Галактики, которая с огромной скоростью удаляется от других галактик. Недаром и звездолет наш назван "Землей". Вуд усмехнулся: — Боюсь, что пассажиры космолета "Земля", чтобы сблизиться, должны были ощутить космос… Скажем, узнать о нашествии враждебных пришельцев из космоса. Только тогда человечество объединилось бы в защите. — Верно, Гарри! Защита объединяет. Но для этого не нужно ждать космической агрессии. Защищаться людям надо от самих себя, от ядерного оружия, которое грозит их существованию и которое не может, не должно и не будет существовать! — А разве оно не понадобится для отражения космического вторжения? — Никогда! — возразил Алеша. — Это выдумано теми, кто, избегая разоружения, хочет любой ценой сохранить ядерное оружие для своих низких целей! Овладение космосом связано с таким развитием сознания разумных существ, которое само по себе исключает агрессию. Высшие достижения науки неотделимы от высшей гуманности. Разве у нас с вами поднялась бы рука на жителей Венеры? — На разумных обитателей планеты? — удивился Вуд. — Да… которые строили город… Ведь мы видели руины на дне пролива… Слышали голос, произносивший "Эоэлла"… — Вы мечтатель, Алек… Вы в самом деле думаете, что видели город, опустившийся на морское дно? Вместо ответа Алеша крепко сжал руку Гарри. Вездеход выехал из леса. Морской берег изменился неузнаваемо. Полоска песка, на которой отдыхали путники, исчезла. Не было и огненных цветов… Лес ступеньками спускался не к морю, а прямо в море… Морские волны накатывались на красноватые кроны затопленных деревьев, колебля отяжелевшую листву, потом набегали на темные, мокрые полузатопленные стволы и разбивались об узловатые корни тех деревьев, которые еще не оказались в воде. Гигантские папоротники раскачивались; казалось, что они живут, движутся и на глазах у ошеломленных путников "вразвалку" заходят в воду.Море наступало на первобытный лес. Происходило дальнейшее опускание суши. Грозный гул, поднимаясь из недр, заглушал морской прибой. Путники переглянулись. Гул нарастал. Казалось, что он сотрясает скалы. Алеша и Вуд ощутили, что почва в самом деле колеблется у них под ногами. Они крикнули Доброву. Тот остановил машину. И вдруг страшный удар подобно взрыву потряс все вокруг. Между вездеходом и затопленным лесом разверзлась трещина. Один из папоротников стал крениться, завалился назад и исчез в образовавшейся пропасти. Из ее глубины вырвались клубы фиолетового дыма, потом облако белого пара. — Всем надеть шлемы! — скомандовал Богатырев. Вездеход повернул вдоль трещины, набирая скорость. Алеша и Гарри бежали, держась за борта машины. Новый удар, казалось, расколол планету. Люди невольно нагнули головы. Добров рывком выключил насосы. Вездеход упал на корни. Машину тряхнуло. Пассажиры повалились друг на друга, Алеша и Гарри остановились, пораженные. Край трещины прошел у самого носа вездехода. Новая трещина смыкалась с прежней, отгораживая людей от пролива. Богатырев выпрыгнул из вездехода, Добров стал осматривать машину. В трещину страшно было заглянуть. Из глубины расколовшихся скал несся гул. Зарево над вулканом ширилось. Небо пылало. Вдоль моря летели рваные, словно охваченные огнем тучи. В самой узкой части трещина была метров двадцать шириной. Противоположный ее край был заметно ниже. — Перепрыгнем? — спросил Илья Юрьевич, выжидательно смотря на Доброва. — Только туда, — указал тот рукой на низкий край трещины. — Веревки такой длины нет? — Облегчая вездеход, оставили все. Подошел Алеша. — Я вскочу на ходу… У самого края, — сказал он. — Это неосуществимо, командор! — воскликнул Керн. — Позвольте остаться мне. Богатырев нахмурился и приказал всем, кроме Алеши, сесть в вездеход. Вуд подошел к Алеше, протянул руки, но тот отстранился и весело сказал: — Прощаться не будем! Алеша стал в десятке шагов от пропасти, весь собранный, напряженный, как боксер на ринге. Вездеход отъехал метров на сто, развернулся и стал носом к трещине. Сердце у Алеши колотилось, во рту пересохло. Он подпрыгивал на месте все выше и выше. И вдруг замер, чуть согнувшись. Вездеход, набирая скорость, несся к трещине. Ревел двигатель, кричали сидящие в машине люди. Алеша рванулся, как со старта. Он помчался машине наперерез, чтобы у обрыва оказаться с нею рядом. Три пары рук тянулись к Алеше. Вездеход несся над камнями, струи воздуха вздымали вокруг него облако пыли. Алеша прыгнул в это облако, как в воду.

Трое ловивших его друзей повалились вместе с ним на дно вездехода. Добров исступленно сжимал руль. Вездеход от новой тяжести осел, но, не задев камней, уже оказался над пропастью. Птицей перелетел он через трещину и ударился о корни деревьев на другой ее стороне. Почти опрокинувшись, он боком пробороздил несколько метров. Алешу выбросило из машины. Что-то вылетело из кармана его скафандра и запрыгало по камням. Илья Юрьевич охнул. Вуд бежал к Алеше. Но тот уже поднимался. Добров выбрался из машины и стал осматривать ее. — Куда он укатился? Ты видел? — спросил Алеша, морщась от боли. Вуд отрицательно покачал головой. Подошли Илья Юрьевич и Керн. — Жив? — спросил Богатырев. — Ну, молодец! Я думал, это твоя голова запрыгала по камням. — Это камень… который я со дна взял. — Что ж ты его не выбросил? — Забыл. Илья Юрьевич с сомнением покачал головой. — Забыл сказать вам о нем, — поправился Алеша. Он виновато улыбался и продолжал морщиться от боли. Добров звал всех к вездеходу. Деревья раскачивались, почва колебалась, землетрясение усиливалось. Прихрамывая, Алеша искал потерянный камень. — Скорее, Алеша! Только на воде спасение! — кричал ему Илья Юрьевич. Но Алеша словно не слышал. Богатырев сделал знак Вуду, и тот побежал от подошедшего вездехода к Алеше, чтобы привести его за руку. Вдруг Алеша упал на колени и закричал. Вуд остановился и тоже вскрикнул. Илья Юрьевич и Керн бежали к ним. Добров вел за ними вездеход. Запыхавшись, Илья Юрьевич остановился. Алеша стоял на коленях и держал в руках покрытый засохшим илом пятнистый камень. Пятнистый из-за того, что покрывавшая его корка при ударе о камни местами отскочила. Дрожащими пальцами Алеша пытался отломать корку и с других мест. Он постучал камнем о скалу. Корка отлетела… — Мрамор! — воскликнул Вуд. Подземный гул почти заглушил его крик. Ближний папоротник накренился и повалился, круша соседние. В багровых тучах ударила молния. Почва тряслась. Алеша выпрямился. Не веря глазам, он держал в руках уже не камень, а беломраморное изваяние, с которого слетел покрывавший его слой ила, вдохновенно выполненную скульптуру странно прелестной головки неземной, чужепланетной девушки. Вытянутая нитка бровей, удлиненные почти до висков миндалевидные глаза, тонкий благородный нос и полураскрытые в улыбке губы… Молния сверкнула совсем рядом. Гром ли ударил, разверзлась ли новая трещина, люди этого не видели и не слышали… Как завороженные, смотрели они на чудесное творение неведомых рук. — Эоэлла! — прошептал Алеша. Он был без шлема и провел рукой по волнистым волосам, оглядываясь кругом, словно должен был увидеть ее, живую, зовущую… Так вот какие черты лица не мог он разобрать в бреду! Люди смотрели в прекрасное лицо той, кто была носителем Разума вне Земли… И они не замечали, как колеблются вокруг горы, поднимается море, полыхает небо.
Глава пятая Внуки марса
Могучая фигура человека в скафандре возвышалась на скале. В глубоком раздумье, словно Гамлет, заглядывающий в глазницы черепа, смотрел человек на беломраморную головку, которую держал в руках. Неразгаданная тайна человеческого мозга, стремление постигнуть историю Разума привели искателя на другую планету, и теперь он, проникая во мрак неизвестного, разглядывал чужие и притягивающие черты бесконечно знакомого и неведомого существа. Кто ты, порождение ума и нежности? Что скрыто было под твоим беломраморным лбом? Тот же удивительный орган, который дал человеку всепобеждающую способность мыслить, возвысив над остальными обитателями планеты? Неужели и здесь, на чужезвездной Венере, как и на Земле, орган мысли, да и само мыслящее существо появились внезапно, без переходной, тщетно разыскиваемой ступени к животному миру? Почему это существо появилось здесь в совершенно чуждую ему эру первобытных ящеров, не имея среди всего живого ничего схожего? Да, Жизнь, высшая форма великолепного существования материи, возникает всюду, где условия благоприятствуют ей, и, раз появившись, неуклонно развивается, пока не породит племя мыслящих, через которых Природа познает самое себя. Но почему ты, когда-то с любовью изваянная, в землетрясении открывшая свой лик, почему ты так похожа на прекраснейшую из живущих на Земле? Почему ты так волнуешь ум и сердце ищущего истину? Почему?.. Да потому, что ты полуоткрытыми своими губами, немыми, но говорящими, отвечаешь на самые сокровенные догадки, на дерзкую надежду сына Земли, на исступленную его веру в невозможность космического одиночества племени людей! Живешь ли ты и сейчас среди исполинских папоротников, под покровом багровых и вечных туч, или лишь пытливо заглянула сюда, на планету бурь, в великом своем странствии среди звездных миров? Человек в скафандре сбросил шлем и благоговейно коснулся губами беломраморного лба скульптуры. Ветер завладел его бородой, обдал брызгами с гребня разбившейся о скалу волны. Алеша, тщетно пытавшийся связаться по радио с Мэри, заметил это движение Ильи Юрьевича и смущенно опустил глаза. Доброе возился с амфибией, приводя ее в порядок после вторичного перехода через пролив. Царапины и вмятины, облупившаяся краска и пробоины говорили, чего стоило машине путешествие. Керн и Вуд разжигали костер. Когда Богатырев подошел к костру, Керн, глядя на скульптуру в его руках, сказал: — Разве это не венец творения, командор? — Венец творения? — задумчиво переспросил Илья Юрьевич. — Что же такое человек? Каприз стихии, случайное стечение обстоятельств, удачных внешних условий или вершина слепого трудолюбия и непроизвольного совершенствования форм Природы? Все поняли, что Илья Юрьевич продолжал размышлять. — Считать ли человека сравнительно слабым, плохо защищенным от невзгод, неважно вооруженным для борьбы, но обладающим чудесным мозгом, перекрывающим все недостатки человека как животного? Или же видеть в строении человеческого организма высшее из возможного и достижимого, совершенство линий, красоту тела, идеальность "конструкции", вершину эволюции, которой дальше делать нечего? Алеша выключил радиоприемник и подошел к костру. Он любил, когда обычно немногословный Илья Юрьевич словно прорывался, когда вдохновенная и увлекающая его речь начинала литься плавной и глубокой рекой или бурлила Стремниной. Добров тоже перестал стучать молотком, прислушался. — Человека отличает от животных то, что он не только порождение внешних условий, но еще и создание собственного труда. Человек трудом своим сделал себя мыслящим существом. Труд решающим образом влияет и на облик человека. Волосяного покрова он лишился, очевидно, потому, что создал себе одежду, сделавшую ненужной шерсть на теле. Богатырев неотрывно смотрел на скульптуру, которую держал в вытянутой руке, словно черпая в ней свои мысли: — В грядущих миллионах лет великий труд человека, меняя свой характер, когда человек все в большей мере будет превращаться из физического исполнителя в командира машин, неизбежно изменит человека, сделает его и внешне непохожим на первобытных охотников, которых мы пока еще во всем напоминаем. Вуд невольно вспомнил свой бред в пещере, диких потомков, пришедших за звонкой шкурой Чуда. — Менять человека в его внешней и внутренней сущности, — продолжал профессор Богатырев, — будет и характер общества, которое он создаст и в котором станет жить. Миллионы лет без насилия и принуждения, без страха и волчьих законов неизбежна скажутся как на облике людей, так и на их сознании. — Сознание!.. — отозвался Добров. — Откуда же взялось это сознание? — Несомненно, речь идет о крайне редком и необычайно счастливом стечении обстоятельств. Тигр сильнее человека, обезьяна проворнее, гепард быстрее. Мозг человека развивался именно потому, что человек был слабее многих хищников и должен был сражаться с ними. Он уступал в ловкости обезьянам, но оказывался приспособленнее их в тяжелых условиях жизни, он не мог спорить с оленем в быстроте, но умел остановить его камнем, ямой-ловушкой или стрелой. Он был меньше медведя, но не нуждался в его шубе, в его берлоге, не впадал в зимнюю спячку, греясь у костра, который научился разжигать. Вуд стал ворошить корявым корнем угли. Посыпались искры, повалил дым. — Если бы человек был слишком силен, слишком ловок, слишком быстр, ему не требовалось бы мышления и изобретательности, он мог бы прожить по-звериному. Мышление понадобилось и развивалось у него потому, что ему трудно было жить без него, он не выжил бы, как, вероятно, не выжили его близкие и менее одаренные сородичи. — Если бы вы знали, командор, как я молил бога о том, чтобы выжить в пещере! — сказал Керн. — Человек, живший в пещере, стал человеком потому, что был не слишком силен, ловок, быстр и не слишком слаб и неповоротлив, потому что ему требовалось умеренное количество пищи, высококалорийной и в то же время легко усвояемой после приготовления на огне. Огонь облегчал тяжелые функции организма, способствовал его быстрому развитию и совершенствованию. И, что еще особенно важно, у человека не все время стало тратиться на добывание пищи, у него появился досуг для размышлений, которого нет у зверей, нет у птиц, нет у рыб, досуг, ставший, если так можно сказать, отцом познания, матерью искусства и воспроизведения красоты. — В руках своих, командор, вы держите красоту, подтверждающую, что господь бог создал людей на Земле и здесь, на чужезвездной Венере, по образу и подобию своему. — Вольтер говорил, что человек ответил ему тем же, — быстро вставил Алеша. Керн бросил на него хмурый взгляд. — Вы ошибаетесь, Аллан, — мягко сказал Богатырев. — Разумные существа похожи друг на друга не потому, что созданы кем-то по определенному образцу, а потому, что существа эти должны были отвечать определенным условиям, обладать свободными от ходьбы 128 конечностями, пригодными для трудовых процессов, стереоскопическими органами зрения и слуха, вертикальным положением тела, обеспечивающим наибольший обзор местности, и экономно использовать для передвижения минимальное количество конечностей. — Две ноги! — вставил Алеша. — Словом, на расстоянии километра мы скорее всего могли бы принять разумное существо иного мира за человека, если бы увидели его… — Но ведь вот оно, вот! Мы уже видим его, командор! — воскликнул Гарри Вуд, показывая на скульптуру. — И я очень рад, сэр, — внушительно добавил Керн, — что существование этой прекрасной леди в мире венерианских ящеров можно объяснить отнюдь не теорией эволюции, а лишь высшим актом творения. — Если под высшим актом творения вы подразумеваете создание инженерами космических ракет, то я соглашусь с вами, Аллан. — Что? Космических ракет? — опешил Керн. — Вы считаете, она прилетела? — живо спросил Вуд. — Она или ее предки, — невозмутимо ответил Богатырев. — Илья Юрьевич!.. — не выдержал Алеша, вскакивая на ноги. Богатырев успокаивающе поднял руку. — Откуда прилетели? — спросил Керн. — На космических ракетах? Богатырев пожал плечами: — Назовем условно планету, откуда они могли прилететь, Марсом, просто потому, что любой Марс (из нашей солнечной системы или из подобной ей планетной системы 82-й звезды Эридана, близ которой мы находимся), очевидно, меньше земноподобной планеты или даже Венеры, несколько уступающей Земле. Силы тяготения такого Марса не хватало, чтобы удержать частички атмосферы и водяных паров. Молекулы газов отрывались и улетали от планеты в космос. Атмосфера постепенно редела. Но прежде на предполагаемом Марсе атмосфера могла быть плотной и условия зарождения и развития жизни напоминали в общих чертах земные. И они могли быть такими даже раньше, чем на Земле, поскольку Марс был, скажем, дальше от своего светила, чем Земля от Солнца, и потому охлаждался быстрее. И жизнь там должна была возникнуть прежде, чем на Земле или землеподобной планете, и проходить все фазы развития скорее. И разумные существа на нем, на этом условном Марсе, должны были появиться на миллионы лет прежде, чем на планетах, более близких к светилу. — И миллион лет назад погибнуть без воды и кислорода, — подсказал Доброе-. — Не погибнуть, — поправил Богатырев, — а лишь оказаться перед перспективой гибели. Марсиане (будем так условно их называть) должны были понимать, что их планета теряет воду и атмосферу. Они обязаны были думать о грядущих поколениях. И у них было три выхода. Первый — погибнуть. — Нет, нет и нет! — крикнул Алеша. Гарри Вуд, усиленно закивав, молча поддержал его. — Второй выход — уйти в глубь планеты, вырыть пещеры, создать в них искусственную атмосферу, водоемы, подземное сельское хозяйство, построить там города и жить, никогда уже больше не видя неба, звезд, светила. — Мрачно, но возможно, — пожал плечами Керн. — И, наконец, третий выход: использовать достижения цивилизации и переселиться на соседние планеты, например на Венеру, условную Венеру, с большей массой и находящейся ближе к светилу, словом, где жизнь зарождалась позже и где условия для продолжения жизни, зародившейся на другом космическом теле, благо приятны. — Я думаю, что разумные обитатели гипотетического Марса могли избрать два пути. Часть населении планета ушла в ее глубины и, быть может, существует и сейчас, и нам еще предстоит задача после возвращения на звездолет предпринять попытку связаться с ними, возможно, биологически изменившимися, приспособившимися на протяжении тысячелетий к новым условиям… — А другая часть построила космические города, искусственные спутники, промежуточные станции для массового переселения на соседние планеты. — Ты прав, Алеша. Очень возможно, что произошло именно так, а может быть, и еще масштабнее. Я имею в виду переселение не только на космические тела близ светила… — Но и межзвездные перелеты, скажем, к нашему Солнцу, к нашей Земле. — Исключить это будет едва ли научно. — Тем более что такая гипотеза объяснит множество загадочных фактов. — На Земле? — насторожился Доброе. — Да. Кто миллион лет назад оставил след подошвы в песчанике пустыни Гоби? Кто стрелял пулей в дикого неандертальца в Африке сорок тысяч лет назад и тогда же охотился на древнего бизона, простреленный череп которого найден в Якутии и хранится в палеонтологическом музее в Москве. Добров развел руками: — Ну, знаешь ли, Илья… — Но не эти тайны главные! Главная — это тайна человеческого мозга, который был биологически одинаков у создателя теории относительности Эйнштейна и первобытного человека каменного века, у лорда Ньютона я у африканского дикаря, из которого, как известно, удавалось воспитать современного ученого. Как могла скупая природа наделить доисторического человека, примитивного охотника, развитым мозгом, способным вместить всю сумму современных знаний? — Мозг этот создан высшей силой, — возвестил Керн. — Нет, Керн. Мозг этот, очевидно, прошел все стадии развития начинающего мыслить существа… еще до того, как уже в зрелом для Разума виде оно попало сюда, на местную Венеру, а может быть, и к нам на Землю в околосолнечной планетной системе. — На Землю? — поразились слушатели. — Что ж в этом особенного? Земля доступна для космических полетов так же, как и любое другое космическое тело. И, пожалуй, более гостеприимна, чем многие другие планеты. — Где же их следы на Земле? — допытывался Керн. — Обратимся к вашему Американскому материку. Вспомните о горном озере Титикака в Андах. По мнению видных геологов, оно когда-то было морским заливом, на его берегах находят морские ракушки. Но ныне оно поднялось на четыре тысячи метров над уровнем моря. Однако там сохранились остатки морского порта. — Морского порта, командор? С какого времени? — Очень много тысяч лет назад там существовал древний морской порт. Рядом — руины циклопических строений храма Колососава. Примечательны знаменитые Ворота Солнца с иероглифами, расшифрованными Эштоном и Познанским в тысяча девятьсот сорок девятом году. — Это, насколько я помню, оказался древнейший на Земле календарь, вставил Вуд. Богатырев усмехнулся. — Да. Календарь Тиагуанако и самый древний и… самый странный. — Да, да! — оживился Вуд. — Знаю, год там насчитывал почему-то не триста шестьдесят пять дней, а только двести девяносто. И месяцы были десять по двадцать четыре и два по двадцать пять дней. — Неземной календарь! — воскликнул Алеша. — А вы не помните первые данные радиолокации Венеры-2, проведенные со звездолета нашими астрономами? — спросил Богатырев. — О, еще бы! — ответил Керн. — Период вращения Венеры-2 был определен несколько более чем в девять земных суток. — А ведь нам удалось уточнить это, — напомнил Богатырев. — О да! — кивнул Керн. — Девять земных суток семь часов сорок минут и сорок восемь секунд. — Значит, помня, что в чужезвездном венерианском году двести двадцать пять земных суток, как и у нашей солнечной Венеры, сколько будет в нем местных венерианских дней? — Двадцать четыре целых сто пятьдесят семь тысячных, — быстро сосчитал Вуд. — Не целое число, — огорчился Богатырев. — Несносный хвостик в сто пятьдесят семь тысячных суток! Куда его девать? При составлении календаря пришлось бы вводить високосные годы. А ну-ка! Сколько местных венерианских дней будет, скажем, в двенадцати годах? — Сейчас сосчитаю, — отозвался Вуд. — Попробуйте, — лукаво предложил Богатырев. — Это невероятно! — воскликнул Керн. — Сосчитали? — Двести девяносто! Точно! — хором ответили все звездолетчики. — Смотрите, как удачно! Придется для Венеры считать в десяти годах по двадцать четыре дня, а в двух годах — по двадцать пять. Пожалуй, будет удобно. — Сэр! Но ведь это же календарь Тиагуанако! — воскликнул Вуд. — Только малые циклы там вовсе из месяцы, а годы! А большой цикл — цикл високосных лет. У нас на Земле он четырехлетний. — Как! На Земле, — почти закричал Алеша, — на древнейших руинах близ морского порта, которым пользовались несчетные тысячи лет назад, запечатлен этот местный венерианский календарь? Это что же? Жители чужезвездной Венеры так давно были на Земле? Были… и исчезли? — Нет, почему же исчезли? — невозмутимо сказал Богатырев. — Марсиане, как мы их условно назвали, переселившись с него на чужезвездную Венеру, а потом с этой Венеры в нашу солнечную систему, на нашу гостеприимную Землю, остались на ней. — Где же они, дети условного Марса? — спросил Вуд. — Это просто невероятно! — воскликнул Керн. — Мне остается поблагодарить вас, сэр, что я все-таки не произошел от ненавистной и безобразной дарвиновской обезьяны. — Утешит ли вас, Аллан, что чужезвездная марсианская обезьяна, от которой все же произошли ваши предки, была менее безобразной? — Слабое утешение! А куда же делась чужепланетная цивилизация на Земле? — Она исчезла, Аллан. Космические переселенцы утратили связь с материнской планетой, одичали в тяжелых, непривычных условиях иной тяжести, чужой атмосферы, превратились в первобытных охотников… — Одичали! — воскликнул Вуд. — О, для этого нужно совсем немного поколений! Я знаю… я видел…Спохватившись, он осекся. — Но я не видел. Я не знаю и не допускаю этого, — решительно заявил Добров. — Видишь ли, Роман, — мягко обернулся к нему Богатырев. — Редко кто знает по имени своего прадеда. Даже в наших условиях связь поколений не так уж прочна. Что такое цивилизация? Это индустриальная база, это библиотеки, университеты, школы. Продолжающаяся цивилизация — это образование. Представь себе переселившихся инопланетных колонистов. Они не могли взять с собой заводы для восстановления машин, для изготовления топлива. Они не могли взять с собой библиотеки — сокровищницы знания. Уже во втором, третьем поколениях среди переселенцев все меньше останется образованных. Все их силы, все способности будут направлены на то, чтобы выжить. — Да… выжить, — понимающе повторил Керн. — Выживали не умнейшие, а сильнейшие. Ведь на Земле они весили вдвое тяжелее. В условиях иной биосферы. В условиях иной жизни, жизни первобытных охотников, которым не требовалось знание, скажем, уже известной тогда на материнской планете теории относительности. Их ум был занят иными заботами, грубел… — Можно мне напомнить, Илья Юрьевич, — вставил Алеша, — о детях, которых воспитывали звери? На Земле известен десяток таких случаев. Не воспитанные людьми в самом раннем возрасте, эти дети уже не могли позднее стать людьми, не воспринимая даже элементарных знаний. Они становились дикими, хотя их родители были цивилизованными. В большом масштабе это могло произойти и с переселенцами. — Да, могло, — подтвердил Богатырев. — Проржавели, исчезли привезенные когда-то машины, забыты были старинные книги, да и сама ненужная охотникам письменность. Все изменилось у переселенцев, кроме мозга, способного к восприятию знаний, но не загружeнного ими. Понадобились сотни тысяч лет, чтобы "внуки условного Марса", давно забыв о своем происхождении, снова поднялись по лестнице земной теперь цивилизации. Алеша oсторожнo взял из рук Богатырева скульптyрy. — Так вот почему ты так загадочно понятна… сестра людей! взволнованно сказал он. — Да, — подтвердил Богатырев. — Сестра по солнечному племени разумных существ, появившихся в зоне жизни и расселившихся по всем околосолнечным пространствам.Глава шестая Дети земли
Ураган разогнал тяжелые тучи. Слой высоких облаков казался диковинным небом. На Земле только у самого океана оно бывает таким, когда сплющенное Солнце, прорезая полосу туч, распадается на латунные половинки и раскаляет оранжевые кромки облаков, перекрашивает в багрянец синеву. На чужезвездной Венере весь небосвод был багряно-пышным, расцвеченным в зените феерической зарей немыслимо огромного, всегда невидимого Солнца. Общий крик восторга вырвался у людей, едва вездеход оставил позади чащу папоротников. Но никто из путников даже не посмотрел на венерианские небеса. Люди увидели башню из вороненой стали, устремленную ввысь, кусочек Земли, стоящий на скалах Венеры, родную ракету "Знание" — всю в подпалинах от спуска, с узором цветов побежалости из-за перегрева при трении. Здесь впервые человеческая нога ступила на другую планету близ иной звезды. Здесь любовно посажены на Венере четыре земных растения: пшеница, виноград, кукуруза и рис… Здесь и простятся люди с планетой бурь, чтобы отправиться в обратный путь. Исполинская ракета, казалось, ждала только мгновения, чтобы сорваться с чуждых скал, в огне и грохоте взлететь к пылающей заре, стрелообразным острием распороть багровый покров, за которым призывно светят звезды, ласково сияет Солнце, двойник земного, где откроется сверкающий космос, мир миров, бездонный мир бесчисленных миров с далекой желтенькой звездочкой, близ которой даже невозможно рассмотреть космическую песчинку, голубую планету, один цвет которой, как песня, расскажет о небесной синеве, о теплом синем море, о синей дымке земных лесов. О родной Земле думали все, и все по-разному. Богатырев размышлял о человечестве и его предыстории, Алеша — о новой звездной экспедиции к 82-й Эридана, о новом полете на чужезвездную Венеру. Вуд думал о Мэри, словно она ждала его в Америке, а не кружила сейчас на "Просперити" вокруг Венеры-2. Доброе и Керн говорили не только о планете Земля, но и звездолете "Земля", видя в нем ближайшую цель полета. Приближался крайний срок пребывания на Венере-2. На звездолете, конечно, учитывают это и могут приказать "Просперити" готовиться к вылету, если… если корабль останется один… Вездеход остановился около ракеты. На камне сидела ящерица. Алеша выскочил на ходу и подбежал к ней. Она не спаслась бегством, а вытаращила на него глаза. Ее шея раздувалась при дыхании. Алеша протянул руку и взял ящерицу. Это был привезенный с Земли варан, который словно ждал здесь своих хозяев. Алеша засунул зверька в карман и, смеясь, полез по вертикальной лесенке к люку. Его товарищи наблюдали, как он открыл люк. Послышался лай, обыкновенный собачий, земной лай. Все переглянулись. — Лай! — крикнул Алеша. — Лай, Пулька, лай! Хочешь, я тебя расцелую за разбуженный в сердце май?.. И он скрылся в люке. — Май… — сказал Гарри. — В мае я собирал травы в горах и едва не попал на повороте шоссе под машину. Я тоже готов поцеловать эту собаку. — Оставьте, Вуд, — сказал Керн. — Как выяснено, собака уже больше не родственник человека, хоть у нее и пять пальцев на каждой лапе, пара глаз, пара ушей, позвоночник, сердце с левой стороны, печень и почки — все как у человека… Богатырев улыбнулся: он вспомнил разговор в пути о "внуках Марса". Он говорил тогда Керну по поводу внешнего сходства человека и животных Земли: "Родственников у человека на Земле нет. Это хорошо знают физиологи и горько сетуют. А по поводу пяти пальцев и позвоночников учтите — природа находит оптимальные решения, все остальные случаи исключаются отбором. А дважды два всегда четыре". "Судя по количеству пальцев — пять", — буркнул Керн. "Рыба всегда будет обтекаемой формы, в каком бы океане она ни развивалась. Даже кит, перейдя с суши в море, обрел рыбоподобную форму, хоть рыбе он совсем не родня. До сих пор, чтобы наглядно показать переходящие одна в другую формы, выстраивали в ряд скелеты. Обезьяна, выпрямляясь, становилась предполагаемым получеловеком и, наконец, "венцом творения" двуногим, прямостоящим разумным существом. Но ведь строение скелета не единственный признак. А вот по составу крови и по некоторым физиологическим функциям ближе всего к человеку стоит… кошка! А по поводу родства человека и обезьяны можно рассказать такой случай. Во время последней мировой войны не были применены отравляющие газы. Но их готовили у того же Гитлера. Известен случай, когда газ, от которого в страшных мучениях погибали подопытные обезьяны, во время взрыва вырвался из хранилища. Сотни рабочих были обречены, но… получили только насморк. Может быть, именно поэтому гитлеровские химики предпочитали проводить свои человеконенавистнические опыты уже не на животных, а на военнопленных". "Закройте мрачную страницу, командор. Издали глядя на Землю, не видишь пятен", — сказал Керн. Они еще долго говорили об этом в пути, но сейчас все молчали. Вдруг раздался тревожный, захлебывающийся лай. Из люка, не захлопнув дверцы, поспешно спускался Алеша. Он был без шлема. Спрыгнув на камни, он растерянно остановился перед Богатыревым: — Илья Юрьевич, беда!.. — Что такое? — Маша… Мэри… "Просперити". — Что случилось с Мэри? — кинулся к Алеше Вуд. — Запись… Магнитная запись сообщения с "Проcперити"! И Алеша снова бросился к лестнице. В предчувствии непоправимого все поднимались следом за ним. Собрались в радиорубке. Пулька терлась о ноги, подпрыгивала, пыталась лизать руки. Наружная дверца закрылась, рубка автоматически наполнилась земным воздухом. Началось облучение скафандров. В ракету нельзя было занести венерианские микробы. Шлемы сняли лишь после окончания облучения. Алеша запустил магнитную запись. Из репродуктора послышался знакомый голос Мэри. Он звучал как-то скованно, словно ему трудно было пробиваться сквозь треск атмосферных разрядов. — "…У меня нет сил улететь, не передав этой радиограммы… Ее уже некому услышать на поверхности планеты. Может быть, автоматы запишут ее, и мой голос услышат те, кто вновь прилетит сюда, чтобы оказаться более счастливыми, чем их предшественники… Я смотрюсь в зеркало и вижу у себя седую прядь. С "Земли" приказано мне, последней из оставшихся в живых, вести "Просперити" в обратный путь. Там меня ждет звездолет, а потом — горький почет и ненужная слава… И даже толпы завидных женихов… женихов космической вдовы Мэри Стрем, которая откроет сейчас на мгновение люк шлюза и выбросит на чужую планету горсть земли, чтобы ее крупицы упали на могилы Гарри и его друзей… Я обязана выполнить ненавистный мне приказ… все же выполнить и тем продолжить дело погибших". В магнитофоне слышался шорох и треск атмосферных разрядов. Голос Мэри заглох, утонул в шуме, исчез… — Все ясно, — сказал Керн. — Она улетела… — Не может быть! — в отчаянии крикнул Вуд. — Можете считать, что горсть земли уже брошена на вашу могилу, — зло сказал Керн. — Вы лжете, шеф! Ведь это Мэри!.. Надо вернуть ее, позвать обратно! Сообщить на звездолет. Добров провел рукой по колючей седеющей щетине, которой оброс его череп: — К сожалению, мистер Вуд, как вам известно, верхние ионизированные слои венерианской атмосферы исключают связь с "Землей" даже с "Просперити". Пока он находился на орбите спутника, связь была неустойчивой. — "Пока находился"!.. — с горечью воскликнул Гарри. — А теперь летит… И я не уверен, что он летит к "Земле". Я не уверен, что она спасется, сумеет вывести корабль на орбиту. Алеша благодарно посмотрел на Вуда: — Значит, ты беспокоишься о ней, Гарри! Прости, я плохо о тебе подумал. Гарри словно не услышал этих слов. Он отвернулся к иллюминатору и стал смотреть на пламенеющее красное небо. — А я… — сказал нерешительно Алеша. — Я даже не смею признаться, что… что рад!.. Мы останемся… Мы найдем их. — Кого — их? — мрачно обернулся Добров. — Братьев по солнечному племени. — Оставьте вчерашние шутки! — возмутился Добров. — Неужели вы рассчитываете, что мы сможем прожить здесь год? Кто мог переселиться сюда с другой планеты? Нам не выжить здесь. К сожалению, не выжить и поднявшись на "Знании", став искусственным спутником Венеры. На звездолет о своем спасении мы в этом случае сообщим, но, пока будем ждать помощи, погибнем от космических излучений. Слишком пощипана в пути защита корабля. — Расчет столь же точный, сколь и мрачный, — сказал Илья Юрьевич. Придется нам вчерашнюю гипотезу проверить на самих себе. Он открыл дверь в рубку управления, прошел к пульту, любовно погладил его и стал у окна, задумчиво глядя на венерианский лес. Алеша, Вуд и Добров остались в радиорубке. Только Керн прошел следом за командором. Он стоял за его спиной и молча смотрел в пол. — Командор, — сказал он наконец, — дважды два все-таки не пять, только четыре. Богатырев обернулся и пристально посмотрел Керну в лицо. — Да-а, да-а, — повторил тот. — Четыре. И, как известно, четыре больше и ценнее единицы. О'кэй? Богатырев тяжело опустился в кресло и зажал бороду в кулак: — Как вас понять, Аллан? — Следующую экспедицию со звездолета на Венеру могут отложить на неопределенный срок. Полетят к другим планетам. Дать сигнал о помощи нам можно лишь с орбиты спутника. Четверо останутся на Венере, постараются выжить. А я один поднимусь на "Знании" на орбиту, дам сигнал на звездолет. О'кэй? — Так, — сказал Богатырев, исподлобья смотря на исхудавшее лицо американца. — Подниметесь и погибнете от излучения? — Да, командор. Дважды два — четыре, а не пять. В дверях стояли Алеша, Вуд, Добров. Они слышали весь разговор. — Тяжкое дело, друзья, — сказал Илья Юрьевич. — Слышите, на что Аллан готов? Тягостная давящая тишина сковала всех. Даже Пулька молчала, непонимающе оглядывая вернувшихся хозяев. — Как поступать будем? — поднял глаза Илья Юрьевич. — Дайте мне вездеход, я найду город солнечного племени и вернусь сюда, — предложил Алеша. — Выход иной, — сказал Добров. — Запустить ракету одну, взорвать. Это послужит сигналом звездолету от нас, ждущих помощи. — Так, — протянул Илья Юрьевич, накручивая на руку привязной ремень. На то, что сказано здесь, как говорил Чапай, наплевать и забыть… В космос под удар космических лучей без достаточной защиты на долгий срок подниматься не станем. Сигнал на Землю дадим. Для этого используем импульс автоматической метеостанции. Любые слои пробьет. Алеша хлопнул себя по лбу: — На базе ракеты "Знание" создадим на Венере колонию. Выживем во что бы то ни стало, чтобы посланная со звездолета за нами экспедиция получила от Нас богатейший научный материал. А покуда разработаем программу ширвких исследований Венеры. — Да-а, — протянул Добров и стал тереть щетину на голове. — Можно мне пожать вам руку, сэр? — спросил Вуд Керна. Керн удивился. — За то, что вы готовы были это сделать, — сказал Вуд. Алеша подошел к пульту и включил внешние микрофоны. В кабину ворвалась волна звуков, которые были привычными в лесу, но казались противоестественными в кабине. Алеша вздрогнул, словно в удаляющемся скачущем грохоте и пронзительном замирающем визге услышал что-то. Прислушались и другие. Алеша ухватился за спинку кресла. Она! И, словно у самого окна кабины, раздался призывный крик, нежный и громкий, переливающийся. Алеша держал в руке скульптурную головку неведомой чужепланетной девушки и вслушивался в лесной голос. — Эоэлла!.. Добров нахмурился. Вуд поник головой. Илья Юрьевич, упершись могучими руками в расставленные колени, смотрел в пол.Глава седьмая Эоэлла!...
Погода на Венере улучшилась. Дул сильный, но ровный ветер. Небо было высокое и красное, по нему перемещалась заря невидимого Солнца. Вокруг ракеты кипела работа. Люди принялись за устройство укрепленного лагеря. Решено было соорудить вокруг корабля прочную изгородь, которая защитила бы "колонистов", как начали исследователи называть себя, от внезапных нападений. Конечно, в первую очередь имелись в виду ящеры, но… кто знает, могли быть и не только ящеры. Циркульными пилами срезали исполинские папоротники, распилили их на части. Первые на Венере бревна вездеход волоком тащил из леса к ракете. Реактивный двигатель поднимал такой шум, что распугал всех окрестных животных. Когда Добров выключал его, наступала тревожная тишина. Только небольшие птеродактили неотступно кружили над лагерем, выглядывая добычу с большой высоты. Исследователи не обращали на них внимания. Добров приволок на вездеходе очередное бревно. Его заострили с одной стороны в виде кола, а другой конец опустили в выкопанную яму, на дне которой поблескивала вода. Закапывали кол с наклоном нарубку лагеря. Частокол получался внушительным. Вуд оценивающе посмотрел на него: — Недурная крепость. Готов выдержать в ней любую осаду… до возвращения Мэри. Алеша положил ему руку на плечо. — А я счастливее, — задумчиво сказал он, глядя в чащу и прислушиваясь. Вуд внимательно посмотрел на него. Из люка ракеты донесся звонкий лай Пульки. — Слышишь? — сказал Алеша. — Эх, неужели не стану записки писать, засовывать их Пульке за ошейник? — Записки? — удивился американец. — Кому? Алеша выразительно посмотрел на лес: — И не беда, если не прочитает… если ответа Пулька непринесет!.. — Вас, русских, всегда так трудно понять! — признался Гарри. Пулька лаяла, надрываясь. По лесенке, не попадая ногой на ступеньки, спускался Богатырев. — Эх, братцы! — сказал он. — О мозге человеческом мы рассуждали, а о сердце забыли. — О каком сердце, командор? — удивился Керн. — Боли в сердце? Богатырев положил руку на плечо американцу: — Да, да, Аллан. Боли в сердце… в женском сердце, которое мы совсем не знаем! — И он посмотрел в лицо другому американцу. — Командор!.. — только и мог крикнуть Гарри. Он остановился перед Богатыревым, задыхаясь. — Всем… наверх! — крикнул Богатырев и первый ухватился за перила лестницы. Через несколько минут все снова собрались в радиорубке. Богатырев включил магнитную запись. Диски начали вращаться, а он прерывисто говорил: — Я проверил запись радиолокатора… И обнаружил… "Просперити" проходил над нами и после переданной радиограммы… которую мы считали последней. — Как! Была еще радиограмма? — Она записана автоматом. Мы не догадались проверить. Гарри, решительно отодвинув Керна и Алешу, подошел к магнитофону. — "я не смогла улететь, — донесся через шорох помех голос Мэри. — Я отказываюсь от всего, что ждало меня там. Я никогда не смогла бы воспользоваться этим. Пусть их нет здесь внизу, пусть погиб мой Гарри, но я не вернусь на Землю. Мой долг — сохранить результаты экспедиции. Я бережно оставляю их на "Просперити". Его застанет последующая экспедиция со звездолета даже и через несколько лет. А я сама подготовила уже запасный планер, чтобы опуститься на поверхность Венеры, в квадрат "семьдесят"… и, может быть, найти Гарри". — О-о! — воскликнул Керн. — Мой гениальный брат Томас в состоянии был воспроизвести в электронных схемах мозг мужчины, но никогда бы он не смог программировать подобие женщины!.. — Молчите! — крикнул Гарри. — "Просперити" кружит вокруг планеты, и… он пуст? Никто не ответил. Вуд отвернулся и отошел к окну. Он стал смотреть на багровое небо. — Вот… такое оно, оказывается, и есть, женское сердце, — сказал Богатырев. — "Просперити" выйдет из-за горизонта через несколько минут. Алеша бросился к радиоаппаратуре, стал давать позывные, словно кто-то мог услышать его. Вуд стал за его спиной, сжав кулаки и наклонив голову. Репродуктор был включен. Слышался шорох и треск атмосферных разрядов. Порой казалось, что звучит морзянка. И вдруг раздался ясный, неправдоподобно близкий голос Мэри Стрем: — "Просперити". Я — "Просперити". У меня галлюцинация?.. Я "Просперити"! Алеша потянул Гарри за рукав. Тот опустился около Алеши на одно колено, взял в руку микрофон и стал говорить… почти шепотом. Керн обернулся к Богатыреву: — Я думаю, что первый доклад об экспедиции уже сделан. — Программа действий меняется! — объявил Илья Юрьевич. — До старта флагманского корабля "Знание" осталось не больше часа. Доброву — уточнить время старта и определить точку встречи с "Просперити". Аврал!.. Разгрузить "Знание" до предела. Взошедшие на Венере земные злаки не брать, уничтожить. Через полчаса место близ ракеты неузнаваемо изменилось. На камнях лежали ящики с консервами, баллоны из-под кислорода, поблескивали части аппаратуры. Алеша старался хоть как-нибудь привести все это в порядок, сложить в штабеля, расположить рядами… Илья Юрьевич и Керн возились у вездехода, что-то укладывая в него. Вуд был на радиосвязи, он не упускал ни мгновения, чтобы слышать свою Мэри. Пулька взволнованно бегала между людьми и ящиками и лаяла. Алеша шикнул на нее. Он все время прислушивался, настороженный, беспокойный. Лицо его осунулось, глаза неестественно блестели. Он не мог найти себе места. Все делали вид, что ничего не замечают. По лесенке быстро спускался Вуд. Он подошел к Алеше, взял его за плечи и сильно встряхнул. Алеша поднял глаза, увидел счастливое лицо американца и через силу улыбнулся. Вуд показал глазами на лес. Алеша пожал плечами. Тогда Гарри притянул к себе Алешу и крепко обнял. До старта "Знания" оставалось несколько минут. Богатырев, Добров, Керн заняли места в "зубоврачебных креслах". Вуд и Алеша, более молодые, должны были перенести взлет, лежа на специальных тюфяках. — Илья Юрьевич, — попросил Алеша, — можно включить внешние микрофоны? Как в первую ночь… Богатырев протянул руку к пульту. Алеша замер. В ушах его стучала кровь. Он в последний раз услышит Венеру. Смесь звуков ворвалась в кабину: шум ветра, вой ящера, хлопанье крыльев, далекий раскат словно обрушившейся лавины… И вдруг все стихло. И послышался столь желанный Алеше крик, звонкий, чистый, переливающийся, совсем человеческий, зовущий и печальный: — Эоэлла!.. Эоэлла!.. Алеша вскочил, бросился к окну. "Тридцать… двадцать пять… двадцать… пятнадцать…" — отсчитывал автомат секунды до мгновения, когда будут включены стартовые дюзы. Алеша прильнул лбом к стеклу, он смотрел в лес, откуда неслось: — Эоэлла!.. Ветер срывал листву папоротников, гнал раскоряченные исполинские перекати-поле. Он подхватил клубы дыма, понес их на лес. Ракета дрогнула. Алеша успел увидеть что-то белое, туманное, мелькнувшее… нет, метнувшееся с вершины дерева, словно летя на крыльях… Впрочем, может быть, это был унесенный ветром клуб дыма? Грохот сотрясал корабль. Алеша повалился на пол. Облако дыма закрыло нижнюю часть ракеты. Космический корабль нехотя приподнимался. Под ним трепетало зеленоватое пламя, которым он словно отталкивался от каменистой поверхности. Ракета на мгновение повисла в воздухе. Раскоряченное перекати-поле ударилось о нее и отлетело далеко в сторону. Совсем близко пронеслось другое перекати-поле. Венера словно бомбардировала покидавшего ее космического гостя. Взревели дюзы, подпрыгнул корабль и, оставляя дымный след, исчез в красных тучах. Как долог был спуск сквозь эти красные тучи… и как короток был взлет!.. Алеша поднялся, ощущая свинцовую тяжесть во всем теле, в висках и глазных яблоках. Говорят, некоторые при таком ускорении теряют на время зрение. Алеша бросился к окну. Нет! Он видел прекрасно! Вот он, бурный багровый океан вечных туч. Где-то летит по орбите "Просперити". Корабли уравняют скорости, сойдутся… Гарри обнимет свою Мэри. Они будут счастливы. А он, Алеша?.. С бьющимся сердцем смотрел Алеша на красные горы и багряные клубы дыма, медленно меняющие очертания. Если бы он мог пронзить их взглядом! Если бы хоть на мгновение увидеть снова папоротниковую чащу, край болота, с которого стартовала ракета!.. И Алеша так живо все представил себе, словно он на самом деле видел, что произошло после взлета ракеты. Он был совершенно уверен, что он еще успел увидеть, как над гнущимися под ветром папоротниками, паря, пронеслось крылатое существо. А потом… Потом он представил, как оно сделало круг над тем местом, где только что стояла ракета вороненой стали. Накренив одно крыло выше другого, существо спустилось на поверхность и… сложило крылья, оно откинуло их на спину складками дымчатого плаща. Потом оно тряхнуло головой, и по плащу рассыпались длинные темные волосы. Ветер завладел ими.
Конечно, у девушки было точно такое же лицо, как и у найденной скульптуры. Вытянутые в одну линию брови, миндалевидные огромные глаза, способные видеть в темноте, тонкий нос и нежные губы… Стройная, сильная, незнакомо прекрасная, она с тоской смотрела на тающий в воздухе след корабля. И, протянув к нему руки, она крикнула звонко и мелодично: — Эоэлла!.. Потом девушка осторожно подошла к вездеходу. Пришельцы оставили свою машину. Девушка смотрела на нее с грустью, но не с удивлением. Любовно погладила помятые бока, потом заметила оставленные в вездеходе предметы. Она перебирала их один за другим, все более и более заинтересованная, взволнованная… Земляне оставили на чужой планете продуманный след. Это были символы: круг, треугольник… доказательство теоремы Пифагора… схема солнечной системы, совпадающая с планетной системой 82-й звезды созвездия Эридана. Периодическая система Менделеева. Строение атома… Потом шли фотографии Земли, ее природы, ее людей… Города, машины… Наконец, снимки звездолета "Земля", побывавшей на Венере ракеты и пятерых звездолетчиков, Девушка долго вглядывалась в черты лиц людей. Алеша с такой ясностью представлял это себе, словно он сам был свидетелем знакомства инопланетянки со следами пришельцев. Он отчетливо представил себе, что на одной фотографии она задержалась больше, чем на других. Он не мог представить себе иначе… На поясе у нее была сумка. Девушка вставила в нее выбранную фотографию. В суме заработал механизм. Девушка села на камень, обхватив колени руками, положив на них подбородок, и смотрела на сумку. Сумка сама собой раскрылась. Девушка взяла в руки чудесно созданную скульптуру… Алеши и стала смотреть на нее долгим, долгим взглядом. Как был ей благодарен вообразивший все это Алеша!.. Корабль "Знание" облетел вокруг Венеры несколько раз. Уже перебралась с "Просперити" мужественная американка Мэри Стрем, уже заправился флагманский корабль сохраненным для него топливом. И он летел теперь к звездолету, вращавшемуся вокруг местного Солнца как одна из его планет. Алеша стоял у окна, смотря на золотистый серп Венеры. И казалось Алеше, что он сам остался там, где оставили земляне знак возможным братьям по Разуму. Богатырев и Добров были у противоположного окна. Там в черноте космоса горела в звездной россыпи почти незаметная звездочка, близнец местного светила, родное их Солнце. К нему через бездны световых лег направится обратно ожидающий их звездолет, к маленькой желтенькой звезде, около которой невозможно было даже рассмотреть исчезающе маленькую голубую звездочку, родную их Землю, может быть, и в самом деле заселенную когда-то солнечным племенем людей. Конец Москва, 1959-1960-1975 гг.
Александр Петрович Казанцев Острее шпаги



ОСТРЕЕ ШПАГИ Пролог
Ни куб на два куба, ни квадрато-квадрат и вообще никакая, кроме квадрата, степень не может быть разложена на сумму двух таких же.Пьер Ферма
Мы с сыном, капитаном первого ранга, инженером, думали, что едем в купе вдвоем, но, когда в окне вагона замелькали трубы уральских заводов, с верхней полки вдруг спустился человек, назвавшийся Аркадием Николаевичем. Он оказался приятным собеседником, и я ему обязан всем, что дальше расскажу. — А я думал, что вас нет, — простодушно признался я ему. Аркадий Николаевич улыбнулся: — Что ж, считайте меня «мнимой величиной»[18], есть в математике такое понятие. Величина существует, и в то же время она мнимая. — Как это понять? «Мним»? — спросил мой Олег. Наш попутчик рассмеялся: — Вот не слышал такого слова. Впрочем, оно точно выражает суть явления, связанного с «машиной времени». — Вы допускаете ее? — искренне удивился я. — В свое время категорически отрицал, ибо она противоречит закону причинности. Не может следствие произойти раньше причины, ребенок появиться раньше матери. Но потом… потом нашел оправдание. Мой Олег сочетал в себе эмоциональность с дотошностью: — И допускаете, что можно перенестись в недавнее прошлое, встретиться с собственной бабушкой, когда она была хорошенькой, и жениться на ней, став самому себе дедом? — Если бы это было возможно для мнима. — То есть? — У каждого есть своя «машина времени» — это его ВООБРАЖЕНИЕ. Оно способно перенести и в прошлое, и в будущее, и за тридевять земель. Можно «присутствовать» при исторических событиях, скажем, стоять рядом с сумрачным императором во время битвы при Ватерлоо, но лишь как мнимая величина. — Как мним? А это здорово! — восхитился Олег. — И Наполеон, скрестив руки на груди, пройдет сквозь меня, как через облачко тумана!.. — Поскольку вы находитесь там как плод собственного воображения. — Словом, «я тебя вижу, а ты меня нет!» — Если хотите, то да. — Но ведь вас-то мы видим, а вы назвали себя мнимой величиной. — Я просто заметил на столике вашу книжку «Теорема Ферма» и вспомнил о своем недавнем путешествии на триста лет назад, когда я находился рядом с Ферма, как «мним». — Что? — поразился я, косясь на попутчика. Надо сказать, что у меня склонность к фантазии сочетается со скептицизмом. Мне доводилось встречаться с «марсианином», приходившим ко мне (как я четверть века назад описал в своем рассказе «Марсианин»), чтобы доказать свое неземное происхождение, и со свидетелями приземления из космоса «летающих тарелок», даже с Иисусом Христом, который явился ко мне сообщить об «открытии самого себя». Оказывается, любое желание одного техника по телевизорам из Львова телепатически передавалось окружающим и беспрекословно выполнялось. Видимо, я был исключением, а потому мне с немалым трудом, но все же удалось убедить его прислать (но уже из Львова) подробное описание его «прозрения». Каюсь, я терзался тем, что упустил, быть может, интересного для науки человека-экстрасенса, наделенного необыкновенными способностями. Аркадий Николаевич не был телепатом, но, логически мысля, угадал мои опасения: — Уверяю вас, я совершенно в своем уме. Мне просто потребовалось для теории насыпей, над которой работал, доказательство Великой теоремы Ферма. — xn + yn = zn — не имеет целочисленных решений при n › 2, — вмешался Олег. — Но этого доказать ученые не смогли в течение трехсот лет, даже создав новую отрасль математики. — Алгебраическую теорию чисел. Вы правы. Ферма не знал ее, написав на полях «Арифметики» Диофанта: «Ни куб на два куба, ни квадрато-квадрат и вообще (заметьте, «вообще» — обобщение!) никакая, кроме квадрата, степень не может быть разложена (заметьте, «разложена»!) на сумму двух таких же. Я нашел удивительное доказательство этому, однако ширина полей не позволяет здесь его осуществить», — наизусть процитировал Аркадий Николаевич. — Приведено в этой книжке, — показал я брошюру[19], захваченную Олегом в дорогу, — но дальше сказано: «Следует со всей решительностью предостеречь читателя искать элементарное доказательство теоремы Ферма. Можно быть уверенным, что это будет лишь ненужная трата труда и времени. Во всяком случае, ни издательство, ни автор книги «Теорема Ферма» М. М. Постников ни в какую переписку по поводу теоремы Ферма вступать не будут». — Потому мне и нужен был сам Ферма. — Зачем? — Чтобы получить у него его доказательство. — А было ли оно? — вступил Олег. — Ферма мог найти собственную ошибку, как находили впоследствии ошибки в несчетных доказательствах теоремы, а потому не записал и не опубликовал своего доказательства! — Ферма вообще почти никогда не публиковал своих доказательств. Он сделал открытие в математике и как бы просил всех принять его вызов и повторить то, что удалось ему сделать. — Кто же он? Шутник? «Принцесса Турандот от науки» или гордец с непомерным самомнением? — Нет, нет! Просто скромный автор «математических этюдов», предлагаемых, подобно шахматным, для решения любителям математики. — И что же? Доказывали его выводы? Решали эти этюды? — Только Эйлеру в следующем столетии удалось это сделать, исключая Великую теорему, которую доказал только сам Ферма. — Почему вы в этом уверены? — Потому что он подсказывал, как это сделать. — И вы у него это узнали? С помощью спиритического сеанса? — иронизировал Олег. — Нет, зачем же? С помощью анализа его намеков, изучения других сделанных им открытий и с помощью воображения, которое способно все это объединить, создав образ Ферма. — Конечно, «бессмертного академика», как это принято во Франции. — Он даже не слышал о таком звании. Бессмертного, но не по выбору старцев в мантиях или по королевскому указу, а по сделанному им вкладу в науку, ощутимому и в наши дни. — И у вас, говорите вы, состоялась встреча с ним? — наседал Олег. — Я вообразил ее. А «беседа» с ним вылилась в чтение его трудов, изданных полвека спустя его сыном Самуэлем, тоже ученым и поэтом, как отец. — Так! И что же вам сказал «при свидании» Ферма? — В его отказе публиковать свои доказательства, пожалуй, было больше скромности, чем желания возвыситься над всеми, кому он предлагал найти им найденное. Но вместе с этой его чертой в нем можно увидеть и кое-что поглубже. Например, не без скрытого лукавства пишет он на полях книги Диофанта замечания, неоднократно употребляя частицу «ни». И вовсе не для усиления отрицания, а для того, чтобы подчеркнуть существование единого, общего способа разложения степени на сумму слагаемых той же степени. — И есть такая формула? — Конечно, есть! Я отыскал бином Ферма, несправедливо забытый. Отталкиваясь от него, я прошел путем Ферма к доказательству его Великой теоремы. — Кажется, вы докажете сейчас если не теорему, то реальность своего путешествия к Ферма, — пошутил я. — Пожалуй, результат математического вывода может служить таким доказательством. — Так вы же сможете получить знаменитую премию, обещанную за доказательство теоремы Ферма! Аркадий Николаевич усмехнулся: — Это немецкий любитель математики Вольфскель в 1908 году завещал сто тысяч марок тому, кто докажет теорему Ферма. — Но, по вашим словам, вы это сделали! — Нет. Я лишь нашел доказательство у Ферма. — Значит, вы действительно побывали у него, перебирали его записи и смело можете рассказать, как он выглядел триста лет назад. — Записи перебирал, это верно. Мне он представляется из моей «машины времени» (воображения!) веселым, толстым и многодетным человеком, который служил в суде, попутно занимался математикой для души, делая гениальные открытия, не придавая им особого значения. Что же касается получения премии, то она принадлежит его потомкам, а не мне. И вряд ли может их обрадовать. — Ну что вы! Сто тысяч марок — это вещь! — заметил Олег. Аркадий Николаевич расплылся в улыбке: — Вам, конечно, известно, что одинокая и богатая почитательница Жюля Верна после его романа «Из пушки на Луну» завещала свое значительное состояние первому человеку, который ступит на Луну. Им оказался Армстронг. И не так давно в Париже ему вручили премию дамы XIX века. Но, увы, после двух мировых войн и многократных девальваций франка завещанной суммы хватило астронавту лишь на покупку легкого плаща на память о щедрой парижанке. Боюсь, что остатков премии Вольфскеля в марках хватит разве что на одни рукава. — Но не можете же вы утаить от всего мира то, что нашли у Ферма, неважно, побывали у него или нет! — горячился Олег. — Увы, вы сами прочитали в этой брошюре предупреждение. Кто согласится разделить со мной ответственность за найденное мной у Ферма его доказательство? Кто поверит в это? — Но вы же не мнимая величина, а реальный человек? Вместо ответа Аркадий Николаевич протянул визитную карточку, напечатанную на меловой бумаге машинописным шрифтом: «Аркадий Николаевич КОЖЕВНИКОВ, Главный специалист института Сибгипротранс. Новосибирск». На обороте от руки — адрес: «630076, Новосибирск, 76, Вокзальная магистраль, 17, кв. 23». — Прекрасно, — сказал я. — Теперь математики вас найдут, не говоря уже обо мне! Если вы, конечно, не растворитесь сейчас в воздухе. Аркадий Николаевич загадочно улыбнулся и в воздухе не растворился.
Поезд подошел к Свердловску. Мы с сыном направились к выходу, где нас встречали уральцы, с которыми я хотел познакомить идущего сзади Аркадия Николаевича. Но… когда я обернулся, то его уже не было. Он словно растворился в воздухе. — Мним! — многозначительно произнес Олег без тени улыбки на лице. Но все-таки он шутил! Мы оба не верили, не могли верить в «машину времени», которая вдруг забросила в купе идущего поезда путешественника во времени на пути из будущего в эпоху Ферма или обратно! Нет, это был самый реальный человек, передавший мне реальную карточку, по которой можно отыскать реальное доказательство теоремы трехсотлетней давности. Я-то, конечно, это сделаю, не знаю, как математики, потому что эта встреча в пути задела во мне самое сокровенное, пробудила неутолимый интерес к удивительному человеку, гордецу или скромному гению, тень которого и поныне тревожит математические умы. Если мой попутчик силой воображения мог перенестись в кабинет Ферма, то не пример ли это для меня, фантаста, быть может, способного вообразить и самого Ферма, и его время, проследить за его жизнью, о которой известен лишь скупой пунктир дат: родился, учился, женился, переписывался, скончался? Не обязан ли я, хоть в виде «мнима», оказаться с ним рядом, чтобы восполнить промежутки между равнодушно вбитыми колышками на его пути? Однако то, что нарисует воображение, не может быть точным отображением ни подробностей жизни подлинного исторического лица, ни поэтических его произведений, не дошедших до нас, ни даже математических открытий, сформулированных, но намеренно не доказанных, словом, все это требует от автора, во избежание справедливых упреков уважаемых историков, осудивших в свое время самого Александра Дюма за вольное обращение с историей (отчего, кстати сказать, популярность его романов не пострадала за счет отнесения их к авантюрному жанру!), словом, все это, быть может, требует от автора, претендующего на безукоризненность повествования, изменения имен персонажей в такой же мере, в какой нельзя точно отразить их исторический облик, располагая слишком скудными и малодостоверными сведениями о них. Но форма научно-фантастического романа позволила автору преодолеть собственные сомнения и, уподобясь «мниму», решиться на фантастический экскурс в историю, в прошлые века, назвав все-таки героев своими именами. Вместе с тем автор не берется утверждать (это дело математиков), что находка его спутника в фирменном поезде «Урал» А. Н. Кожевникова может удовлетворить строгих судей математических доказательств, ибо не Великая теорема Ферма привлекла внимание автора (и, надеюсь, читателей), а сам неповторимый образ непревзойденного математика. Вперед, читатель, если и ты готов превратиться в «мнима»! Вернее, назад! На сотни лет назад!
Альпийский сонет
Пьер Ферма
Часть первая ЮНОСТИ ПЕРВЫЙ И ЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ
Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает свой лик.В. Гёте
Глава первая В МУШКЕТЕРСКИЕ ДНИ
В героях повести, которую мы будем иметь честь рассказать своим читателям, нет ничего мифологического.Александр Дюма
Всему миру известно (благодаря ослепительному таланту Александра Дюма-отца), как в первый понедельник апреля 1625 года в маленький городишко Менг, не найденный мной на современных картах Франции, но тем не менее прославленный рождением в нем ныне малоизвестного автора «Романа о розе» Жана Колпенеля Менгского, въехал знаменитый литературный герой на кляче столь необыкновенной, кажется, поразительно желтой масти, что она вызвала смех и удивление толпы зевак у гостиницы «Вольный мельник», на всякий случай вооруженных чем придется, ибо происходило это событие в полное смут и разбоя время короля Людовика XVII, что величал себя Справедливым, хотя был просто капризным, а подлинно правил Францией коварный, умный и жестокий кардинал Ришелье (герцог Арман Жан дю Плесси). Но мало кто знает, что не у литературного героя, а у подлинного гасконского дворянина д'Артаньяна, впоследствии капитана-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, чьи мемуары, опубликованные в 1701 году, блистательно и вольно использовал для своего романа несравненный Дюма, существовал сверстник, действительный современник, который на самом деле въехал в тот же первый понедельник апреля 1625 года, но не на кляче желтой масти, а в почтовой карете, забрызганной дорожной грязью, не с длинной и грозной шпагой, успешно заменявшей тому образование, а со степенью бакалавра, способной стать острее шпаги, и не с напутствием благородного отца, а в сопровождении почтенного родителя, второго консула городка на юге Франции, носящего название Бомон-де-Ломань, и въехал сей современник д'Артаньяна не в Менг, а в портовый город Тулон, где тоже встретил пеструю толпу людей, которые собрались, однако, не по поводу появления всадника на кляче редкой масти или прибытия грязноватой почтовой кареты, а просто, как обычно, толкались вблизи порта с его ящиками, тюками, корзинами, досками, бочками, шумного из-за разноязычного говора, ругани, скрипа и грохота телег, душного благодаря острым запахам ворвани, рыбы, жареных каштанов, фруктов и все же чем-то волнующего из-за дыхания моря, моря, не виданного прежде молодым бакалавром. В толпе мелькали разноцветные платки на лохматых матросских головах, всевозможные береты, кепи, шляпы с перьями и без перьев, порой виднелись издали заметные чалмы правоверных мавров, побывавших в Мекке, а изредка над всей этой пестротой проплывал замысловатый женский головной убор, напоминая парусник, рассекающий морские волны. Отец и сын из Бомон-де-Ломань не направились по примеру остальных пассажиров почтовой кареты к гостинице «Пьяный шкипер» с ржавым якорем над входом вместо вывески, а пошли прямо в порт, где у набережной сгрудилось несметное число лодок, шлюпок, фелюг и рыбачьих суденышек и в солидном отдалении от них на рейде стояли со спущенными парусами несколько каравелл и других парусников. Почтенный второй консул Бомон-де-Ломань стал подыскивать суденышко, которое могло бы за недорогую плату пересечь Средиземное море и доплыть до Египта, не перевернувшись в пути. Такое желание толстого француза так заинтересовало нескольких владельцев фелюг и возбудило в них столь беспокойные чувства, что они окружили второго консула из Бомон-де-Ломань, галдя, толкаясь и наперебой предлагая свои услуги. Все эти люди в фесках, принесенных завоевателями из Османской империи, с дубленной всеми ветрами коричневой кожей и продувными физиономиями. Почтенному второму консулу показалось, что это пираты устремились к нему, беря его на абордаж, и он отчаянно защищался, довольно беспомощно размахивая короткими руками. Однако шумные предложения услуг продолжались до тех пор, пока метр Доминик Ферма, так звали второго консула, не остановил свой выбор на одном из египтян, который лучше других объяснялся по-французски и менее других походил на морского разбойника, хотя, несомненно, был им, заломив за доставку двух французов в Александрию тысячу пистолей — цену совершенно разбойничью. — Да вся твоя грязная фелюга с тобой вместе в придачу не стоит этого мешка золота! И пусть сам святой Доминик подтвердит мою правоту, — воздев руки к небу, возгласил тучный француз. Надо отдать должное возмущенному метру Доминику Ферма, он был расчетлив и скуп, не взяв с собой даже слуги. Пока отец торговался с моряками, его сын вышел на берег, наслаждаясь дуновением ветра и любуясь морским простором, небесной синевой и белокрылыми чайками, срывающими пену с морской волны. Молодой человек был поэтом, владел несколькими языками и писал стихи с одинаковым изяществом и по-латыни и на древнегреческом, а также на французском и испанском языках, и, как с похвалой отзывались о нем знатоки светской поэзии, писал так, словно подолгу жил при дворе самого императора Августа или при дворах католических королей в Париже или Мадриде. Теперь под шум прибоя и крики чаек он сочинял стихи о море. Ему вспомнилась строчка из восьмой песни «Илиады»:
Глава вторая ШПАГА И ВЕТЕР
Где мысль сильна — там дело полно силы.В. Шекспир
Долгие дни плавания по Средиземному морю могли быть скучными для кого угодно, но лишь не для нашего молодого бакалавра с душой поэта, ибо в это первое морское путешествие все восхищало его, и прежде всего удивительная переменчивость моря, которое он ни разу не видел одинаковым, то величественным в застывшем эмалевом спокойствии, словно заимствованном, как и цвет бесподобной синевы, у ясного неба, то искрящимся от горизонта к горизонту серебристой рыбьей чешуей с горящей золотом солнечной дорожкой, то мятущимся, с морщинами бегущих под хмурыми тучами валов, похожих на сорванные неведомой силой холмы родных апеннинских предгорий с вершинами, вздыбленными в неистовом беге пенными гривами, то мертвым, усталым, баюкающим певучей сказкой слепца о далекой, сотрясающей мир битве гороподобных великанов, которым по пояс облака. — Не угодно ли будет моему молодому спутнику развлечься в сражении за шахматной доской? — услышал увлеченный мечтой поэт голос своего попутчика в офицерском мундире. Как всегда, а это было уже не раз, бакалавр согласился и стал наблюдать, как юркий слуга офицера Огюст, выполняя приказ господина, принес из каюты клетчатую доску и поставил ее на бочонок между двумя вынесенными для партнеров подушками. Почтенный Доминик Ферма, с трудом переносивший морское путешествие, увидев, что Огюст подготовляет шахматное сражение, тоже выбрался на палубу и с оханьем и причитаниями, вызванными тошнотой, занял место в стороне от доски, на которой офицер расставлял уже резные фигуры. — Шахматная игра освящена самим его высокопреосвященством господином кардиналом, поскольку, как известно, его величество и его высокопреосвященство проводят немало времени за этой благородной игрой, что отнюдь не вредит государственным делам, — назидательно заметил метр Ферма. — Разыгрывая испанскую партию и всячески уклоняясь от столкновения с испанским королем, — весело отозвался молодой бакалавр. — Солдату не дано судить о политике, если его высокопреосвященство и его величество в великой заботе своей о благе страны направят ее или по стезе мира, или по тропе войны, — заметил офицер, делая ход пешкой от своего короля. — Могут ли войны приносить благо народам? — спросил Пьер Ферма, делая ответные ходы, кстати сказать, разыгрывая ту же испанскую партию, излюбленную шахматистами того времени. — Если вы склонны к философии, сударь, — заметил офицер, — то это лишь может порадовать меня, поскольку философия, подобно математике, организующей числа, организует человеческое мышление, каковое следует считать неотъемлемым свойством человеческой души. — А что мы знаем о ней, кроме обещанного церковью ее бессмертия? — не без некоторого юмора спросил Пьер Ферма. — Я уже испытан вашей склонностью, юный друг мой, задавать окружающим загадки, но на этот раз должен заметить, что нет вопроса более трудного из всех могущих быть заданными, однако я все же попытаюсь дать ответ на него. — Неужели? — с улыбкой спросил Пьер Ферма, жертвуя легкую фигуру для начала атаки. Его партнер задумался, стараясь хоть на этот раз уйти от разгрома и не дать торжествовать над ним юнцу, столь же беспечно веселому, сколь и недостаточно почтительному к более старшему по возрасту спутнику дворянского звания. Но эта мысль не изменила снисходительного тона, избранного офицером в отношении Пьера Ферма, хоть тот и выигрывал у него одну за другой шахматные партии, которые все же скрашивали длительное морское путешествие. — Если говорить философски, мой юный друг, то душу надо рассматривать как часть двуединого начала, соединяющего душу и тело. — Извините за незрелые вопросы, сударь, — сказал Пьер Ферма, развивая атаку на шахматной доске, — но как представляете вы себе эти двуединые части целого, душу и тело? — Премудро, да согласится со мной святой Доминик! — воскликнул Ферма-старший. — Подобные рассуждения впору услышать от их преосвященств во время теологического спора, не говоря уже о самом их высокопреосвященстве господине кардинале! — Мне приходилось выражать эти свои мысли именно его высокопреосвященству, который, уверяю вас, отнесся с большим вниманием к тому, что именно душа обладает мышлением, служа оживлением мертвого механизма человеческого тела и обладая к тому же и волей. И особенного внимания его высокопреосвященства заслужила формула «Я мыслю — следовательно, существую!». — Как же так? Как же так? Осел не мыслит, а существует! — воскликнул Доминик Ферма. Офицер усмехнулся: — Возможно, вы, метр, согласитесь со мной в том, что человек может быть ослом, но осел не может быть человеком, ибо не обладает душой. — Вы говорили о войне для блага страны. Но может ли быть война благом для людей? Не служит ли свидетельством обратному море, по которому мы плывем? — Что именно мыслит ваша душа, юный мой друг? Что подразумеваете под морем, чуть ли не знаменующим войну? — Если иметь в виду историю ее берегов, то это так. — Историю? — удивился офицер. — Вы знаете историю его берегов? — Конечно,недостаточно, но, изучая языки, а у меня к этому большое влечение, я неизменно сталкивался с тем, что ушедшие в прошлое классические языки — следы и завещания погибших в войнах культур. Хотя бы Египет, куда мы держим курс! Надо ли говорить о его древнем величии? А уничтоженный Римом Карфаген, на месте которого ныне, где Алжир, гранича с новой Османской империей, процветает «государство пиратов»! — Изучение языков, несомненно, пошло вам на пользу, мой юный друг, но я, признавая вашу начитанность в вопросах истории, не рекомендовал бы вам сейчас поминать государство пиратов, вдоль берегов которого мы плывем. — О каких пиратах изволит говорить господин высокородный офицер? — раздался хриплый голос шкипера; он подошел к играющим, чтобы узнать, на какой заклад они бьются. Партия закончилась в пользу Пьера Ферма, и он, положив золотую монету в карман, стал помогать офицеру складывать фигуры в коробку с инкрустациями. Египтянин же, воздев глаза к небу, начал изрыгать хулу на неверных, проигрывающих презренное золото не в благородные кости, вверяясь счастью по воле аллаха, а в языческую игру ума, не упомянутую в коране. Все это египтянин, давая выход своим чувствам, для надежности произнес по-испански, не подозревая, что бакалавр поймет его. Пьер же Ферма так возмутился, что решил проучить зарвавшегося хозяина фелюги. — Что ж, любезный шкипер, — начал он, — вы правы, называя золото презренным, хотя и везете его на своей фелюге, в особенности если учесть близость государства алжирских пиратов, где их кровавое ремесло почитается за славное занятие, ничем не худшее, чем военные походы. И не пиратские ли берега можем мы сейчас разглядеть? А что, если пираты осведомлены о том, что в море плывет египетская фелюга с мешками золота, принадлежащего французам? Есть все основания подозревать, что кое-кто, слушая торг на набережной в порту, мог сообщить пиратам о такой доступной и лакомой добыче, как наша фелюга. Не так ли, любезнейший? — Да запечатает аллах ваши уста, молодой господин! — взмолился шкипер. — Именно этого я боялся, выслушав богохульственные слова вашего почтенного отца, который хотел отнять у меня правую веру, предлагая из-за моих сварливых жен перейти в неверие. И аллах может наказать нас пиратским кораблем, лишив своего верного раба сна и покоя. Подавленный словами Пьера Ферма, шкипер, опустив голову и свесив руки, пошел к рулю, где нес вахту один из двух чернокожих матросов, как узнал Пьер Ферма, невольников. И он даже остался доволен в душе тем, что «лишил египтянина-рабовладельца сна и покоя». Шутка молодого бакалавра оказалась вещей, ибо не успел шкипер добраться до руля, как один из его невольников крикнул от борта, что видит корабль со стороны солнца. Все вскочили, приложив руку к глазам, чтобы солнце не ослепляло. Но именно потому, что солнце светило со стороны страшного пиратского берега, распущенные паруса корабля казались черными, впрочем, может быть, они были действительно сшиты из черной парусины. — Алла, алла! — завопил шкипер. — Я знал, что великий аллах накажет меня за то, что его правоверный решился якшаться с неверными французами, да будет проклято их золото и да будет проклята их неверная вера, о горе, горе мне, несчастному! — Любезный, — строго прервал его офицер. — Я предупреждал тебя, что моя шпага не любит шуток. — Но шутил не я, высокородный господин. Его светлость сами изволили слышать, как этот незрелый француз осмелился вспоминать о береге пиратского государства, о пиратах, которые могли узнать о французском золоте в мешках на моей несчастной фелюге! О горе, горе мне! — Любезный, попридержи язык, иначе вмешается моя шпага. Если это пираты, то мы должны встретить их достойно. Что же касается моего молодого друга, то он был вправе предположить, что среди твоих приятелей с других фелюг, слышавших ваш торг с метром о тысяче пистолей, оказались предатели, которые вышли из порта вслед за твоей фелюгой, чтобы донести о ней пиратам. Так что не пытайся свалить вину с твоих приятелей на моих соотечественников, иначе… — И он выразительно коснулся рукой шпаги. — О горе, горе мне! — причитал шкипер. Меж тем корабль с черными или казавшимися черными парусами приближался. Горячий ветер дул с берега и при большой парусности корабля обеспечивал ему прекрасный ход. Несчастная фелюга со своим ничтожным прямоугольным и косым парусом, казалось, стояла на месте. Передав руль чернокожему невольнику, шкипер направился к французам. — Ваша светлость и другие почтенные господа. Не думайте, что я забочусь о своей жизни. Меня ждут в раю гурии, а здесь — сварливые жены. Я беспокоюсь за вас, кого я взялся доставить в Аль-Искандарию. — Что ты хочешь сказать, любезный? — строго спросил офицер. — Нужно договориться с отважными пиратами, да спасет нас от них аллах. — То есть как это договориться? — забеспокоился и сразу обрел на некоторое время потерянный дар речи метр Доминик Ферма. — Я имею в виду, досточтимый метр, откупиться от них вашим золотом, о котором они прослышали. Пусть они получат этот проклятый металл, вам оставят жизни, а мне — фелюгу с невольниками, если те не перебегут на корабль, чтобы тоже стать пиратами, будучи в душе разбойниками и всегда причиняя мне тем заботы и хлопоты. — Не болтай, любезный, если не хочешь быть проткнутым, как каплун вертелом. — Ваша светлость, пощадите, да простит мне аллах! — Он хочет ограбить нас, клянусь святым Домиником! Ограбить раньше пиратов, недаром он показался мне морским разбойником еще в Тулоне, — вздыхал Ферма-старший. Пьер Ферма тем временем вглядывался в приближающийся корабль: — Паруса казались черными из-за находившегося позади них солнца, теперь корабль чуть изменил курс, чтобы пересечь нам дорогу, а паруса его, если заметите, стали кровавыми, отражая свет зари. Право, это прекрасное зрелище. — Если бы не выброшенный ими флаг, который не заалел от зари, а стал еще чернее, — заметил офицер. — Неужели это и впрямь пираты? Что нам делать, научи нас святой Доминик. — Что касается меня, господа, то вот мое слово офицера и вот вам моя шпага. Я сумею защитить своих соотечественников, пока я мыслю, то есть пока существую. — Но ведь их десятки, сотни, — простонал метр Доминик Ферма. — Эй, любезный шкипер, ко мне! — скомандовал офицер. — Я принимаю на себя команду во время абордажа, на который, несомненно, пойдут пираты. Поведение египтянина могло показаться странным, он расстилал перед каютой молитвенный коврик и, неохотно повинуясь, направился к офицеру. — Какое есть оружие на борту? — Только старые турецкие сабли, ваша светлость, ятаганы. — Сам станешь к рулю, твои черные матросы с саблями будут возле меня по обе стороны, Огюст с двумя пистолетами прикроет нас сзади, мой юный друг, поэт и бакалавр, будет заряжать Огюсту пистолеты, а вы, метр, будете перевязывать раненых, заранее приготовив для этого бинты. Огюст сейчас принесет мои тонкие рубашки, чтобы разорвать их на бинты, а также пистолеты, пули и пороху. — Поистине, ваша светлость, когда вы мыслите, то и мы существуем, да поддержит нас святой Доминик, — проговорил Ферма-старший. Меж тем Пьер, не обращая внимания на отданные офицером распоряжения, стоял у борта и оценивающе рассматривал паруса приближающегося корабля, на борту которого уже виднелись вооруженные саблями люди в самых разнообразных одеждах. Они размахивали абордажными крючьями и что-то кричали. Голосов их пока слышно не было, но корабль, подгоняемый горячим береговым ветром, рвался к своей маленькой жертве. Бакалавр стоял, и его губы шевелились, словно он читал стихи или молитву, однако он не делал ни того ни другого, он считал. Что-то вычислив, он решительно направился к шкиперу. — Любезный моряк, — сказал он, — мне удалось сейчас высчитать, как ты можешь избежать на своей фелюге встречи с пиратским кораблем. — О аллах! Зачем же еще издеваться над бедным мусульманином, почтенный человек? Как может фелюга уйти при таком ветре от многопарусного корабля? Лучше убедите своего уважаемого отца и его светлость пожертвовать золотом, и я, уверяю вас, смогу договориться с пиратами, среди которых найдутся правоверные. — Ты не сможешь уйти на фелюге от корабля при таком ветре, но ты сможешь уйти от него на той же фелюге, идя против ветра. — Против ветра? — опешил моряк. — Так может говорить лишь человек, впервые оказавшийся в море. — Да, но я рассчитал сейчас, как надобно менять курс, двигаясь зигзагами[20]. — О, почтенный господин, некоторые моряки умудряются ходить на парусах против ветра, но самому мне, видит аллах, не приходилось этого делать. — Так придется! — раздался жесткий голос офицера. — Ты будешь повиноваться молодому господину. Я ведь еще не убедился в том, что ты сам не вызвал пиратов к своей несчастной фелюге в надежде, что и тебе кое-что достанется из нашего золота при дележе добычи с пиратами. — И он угрожающе обнажил шпагу. — Я повинуюсь, ваша светлость, как можно не повиноваться такому высокородному господину! — Мой юный друг, вы показываете недюжинные способности. Сможете ли вы давать указания этому предателю, если он действительно предал нас еще в порту, как надо менять курс, чтобы идти против ветра? — Я попытаюсь, — скромно ответил Пьер Ферма. — О святой Доминик, помоги моему сыну, и я выстрою тебе часовню в Бомоне-де-Ломань! — воскликнул метр Доминик Ферма. Огюст, потеряв свою юркость, словно окаменел и лишь дрожал от страха. Оба чернокожих матроса-невольника оставались невозмутимы. Фелюга резко изменила курс и пошла шнырять по морю, казалось, сама приближаясь к пиратскому кораблю. — Это не я, это не я, ваша светлость, так приказывает мне молодой господин! — хрипло кричал офицеру шкипер, видя, что тот не вкладывает шпагу в ножны. На пиратском корабле, видимо, были изумлены поведением суденышка. Теперь уже были слышны торжествующие крики преследователей, которые решили, что жертва сдается и можно скоро поделить добычу. Но фелюга опять резко изменила курс. Чернокожие матросы невозмутимо выполняли приказания, перекидывая паруса, чтобы они оказались под нужным углом дующему с берега ветру. Но как ни маневрировала фелюга, корабль пиратов неотступно надвигался на нее. Мрачный офицер стоял с обнаженной шпагой, метр Доминик Ферма, обессиленный от дрожи в ногах, сел на бочонок, где стояла недавно шахматная доска, уронив голову на руки. Огюст забился под запасной парус. И он не видел, как фелюга буквально прошмыгнула под носом у пиратского корабля. Оттуда прозвучало несколько пистолетных выстрелов, но лишь единственная пуля достигла цели, попав в закутанного в парус Огюста и оцарапав ему ухо, чем он будет гордиться многие годы. При полной парусности огромный и неуклюжий по сравнению с верткой фелюгой корабль промчался мимо нее. Требовалось время, чтобы совершить маневр, поставив паруса так, чтобы идти зигзагом вслед за фелюгой против ветра. Может быть, у пиратов не было столь опытного моряка, или вообще идти такому большому кораблю против ветра было куда сложнее из-за громоздкости при смене курса, но чем яростнее были крики на пиратской палубе, тем менее слышными они становились на фелюге. — Поистине, мой юный друг, то, чего нельзя сделать при попутном ветре, можно сделать при встречном. Ваши действия убедили меня в правильности того, что человек — это связь безжизненного телесного механизма с душой, обладающей мышлением и волей. Мне не привелось применить шпагу, но я рад, что вы применили то, что сильнее ее.
Глава третья МУДРОСТЬ ИСКУССТВА
…Волей богов он шестую часть жизни ребенком рос добрым. Шестой половину бородку и знанья растил человек. Части седьмой был обязан и встречей с подругой и счастьем.Из надмогильной надписи
В последний понедельник апреля 1629 года, вкусив все прелести морского путешествия, начиная с бесподобных закатов и восходов солнца, неизбежной качки и кончая столь близкой и возможной встречей с так жаждущими этой встречи пиратами, четыре наших француза увидели наконец Александрию (Аль-Искандарию). Жадно всматривался молодой поэт и бакалавр в ослепительную панораму беломраморных, сверкающих на солнце строений и колоннад, лестниц террас, спускающихся с высокого берега к морю, воздвигнутых еще по повелению Александра Македонского его сатрапом и правителем Египта Птолемеем, а потом его наследниками в пору расцвета здесь эллинской культуры. Здания эти выступали из зелени садов как память былого из глубины веков, и Пьер Ферма пожалел, что не застал самого величественного из них, уходящего в облака великана древности, названного одним из семи чудес света, Александрийского маяка, разрушенного землетрясением. Хозяин фелюги, вознося хвалу аллаху и суеверно благодарный французам за спасение своего суденышка, не без расчета получить вторую половину мешка с золотом после обратного рейса в Тулон, и, видимо, не слишком спеша к трем своим сварливым женам, взялся проводить приезжих к аль-искандарийскому звездочету арабу Мохаммеду эль Кашти, весьма почитаемому здесь даже турками за его удачные предсказания, основанные на знании звезд и тайн чисел. Французские гости предусмотрительно запаслись письмами к ученому звездочету, написанными парижским аббатом Мерсенном, соучеником Рене Декарта по коллежу. В мрачную эпоху хитроумных интриг кардинала Ришелье и его помощника в плетении коварных сетей «серого кардинала» Мазарини скромный монах, тоже современник прославленного Александром Дюма д'Артаньяна, в пору Тридцатилетней войны, когда ни в одной из стран Европы не издавалось ни одного научного журнала и почитались лишь дела военные или придворные, скромный монах этот взял на себя многолетний подвижнический труд посредника, вступив в переписку с учеными людьми, среди которых окажутся: во Франции — Этьен и Блез Паскали, Декарт и де Бесси, в Италии — Торричелли, в Нидерландах — сам Гюйгенс и в Египте — арабские знатоки чисел, достигшие даже и под тяжелой пятой Османской империи успеха в науке о числах. Но, прежде чем попасть к ученому звездочету, французам пришлось побывать у турецкого паши, представляющего здесь султана, чтобы получить соизволение на пребывание в Османской империи. Разговор с пашой в окружении роскошных ковров и богато расшитых подушек был кратким, ибо начался с подношения ему того самого мешка с золотом, спасенного от алжирских пиратов. Паша в неизменной феске, с оплывшим лицом, превосходя толщиной даже метра Доминика Ферма, благосклонно принял дар и важно сказал: — Враги врагов моих друзей — мои друзья. Неверные испанцы, да уничтожит их аллах, теснят правоверных, французы же готовятся к войне с испанцами и тем самым становятся нашими друзьями. И пусть офицерский мундир одного из прибывших к нам будет свидетельством того, что другие французы в таких мундирах отомстят неверным испанцам за кровь правоверных мавров. Переводчиком служил шкипер фелюги, снабжая слова паши ссылками на волю и милость аллаха и смотря на мешок с золотом так горестно, словно именно его ограбили тут у всех на глазах, а провожая дальше гостей к дому звездочета, непрестанно вздыхал, взывая к аллаху. Почтенный Мохаммед эль Кашти оказался маленьким, сморщенным человечком с лицом, подобным высохшему и потемневшему апельсину, но с горящими умными глазами. Услышав при вручении писем, что они написаны господином Мерсенном, который особенно высоко, как и прибывшие, ставил арабские знания тайн магических чисел, он выразил свою радость по поводу прибытия таких почитаемых и ученых гостей. И эта радость его удвоилась, когда он услышал по-латыни, что переход христианских стран на арабские цифры взамен римских, оставленных лишь для воспроизведения дат, служит признанием высот арабской математики. Узнав же, что среди гостей прибыл и господин Картезиус, имя которого известно ему по высоконаучным латинским манускриптам, звездочет уже не знал, куда посадить гостей и чем им угодить. В завязавшейся беседе, когда почтительные черные слуги со сверкающими белками глаз принесли дымящиеся чашки с кофе, а также всевозможные восточные лакомства, Мохаммед эль Кашти выразил высшую похвалу цели путешествия почтенных французов — ознакомление с достижениями арабской науки о числах и поклонение могиле великого математика древности Диофанта, ибо сочинения его, с которыми он познакомился, увы, не со всеми, но лишь найденными в Аль-Искандарии, заставили его трепетать от благоговения. Метр Доминик Ферма мысленно взывал к святому Доминику, пораженный тем, что их спутник по морскому путешествию офицер де Карт (так Ферма произносил его дворянскую фамилию), который так отважно готов был защищать шпагой соотечественников, оказывается, известен даже здесь, на краю света, да еще под странным именем Картезиуса[21]. Пьера же Ферма это обстоятельство нисколько не смутило, поскольку благодаря болтливости Огюста он прекрасно знал, с кем путешествует, к тому же латинские сочинения Картезиуса встречались Пьеру Ферма и даже подсказали ему теперь неожиданные выводы, сделанные им с привлечением математической логики. Полезно проследить за ходом его рассуждений, учитывая при этом господство в его время предрассудков, насаждаемых церковью, военными и знатью с ее безраздельной властью. И все же. Известно: господин Декарт публикует свои труды под латинизированным именем Картезиуса, в которое входит корень «карт», частичка же «де», которая у офицера, следовательно дворянина, должна предшествовать фамилии, отсутствует. Для ясности вспомним, что частичка «де» во французском языке знаменует, что такое имя носит не просто «господин такой-то», а «господин владений таких-то», точно так же, как в немецком языке приставка «фон», грамматическая, стала дворянской, означая «господин чего-то», каких-то имений. А в Англии возведение в звание лорда связывалось с заменой прежней фамилии нового лорда названием дарованных ему поместий. Для Пьера Ферма все это само собой разумелось, но тем смелее казалась его догадка о том, что первоначальное имя Декарта звучало как де Карт, последующее же включение дворянской приставки «де» в тусклую фамилию, присущую простолюдинам, Декарт, говорило о внутренней сущности и благородной скромности философа в офицерском мундире, не желающего выделяться среди обычных людей сословным именем своих владетельных предков. Метр Доминик Ферма мог бы рассказать сыну о случаях, когда простолюдин, желая показаться дворянином, выделял из своей начинающейся с «де» фамилии частичку «де» в виде приставки, говорящей о якобы присущей ему знатности. Может быть, молодому поэту, узнавшему в пути глубину философских мыслей своего спутника, хотелось увидеть в нем отказ от спеси своего дворянского сословия, для доказательства чего Пьер и использовал математическую логику.
Звездочет сдержал свое слово и проводил французских гостей на запущенное древнее кладбище былого центра эллинской культуры. Старые, местами почерневшие, с проросшей в трещинах травой, мраморные плиты казались воплощением забвения, которому предали это место захоронения неверных правоверные властители Египта, сменяя друг друга, но истово чтя Магомета. — Сделал все, что мог, больше сделают могущие, — сказал на скверном латинском языке маленький араб-звездочет. — Перед вами могила Диофанта с надписью на камне, которую я не могу вам прочитать, поскольку не знаю языческого наречия. — Пусть не огорчает это нашего гостеприимного хозяина, — тоже на ужасном латинском языке, с которым он знаком был лишь по церковному богослужению, заявил метр Доминик Ферма. — Мой сын Пьер с помощью святого Доминика в числе других наук познал и древнегреческий язык, достигнув некоторого совершенства и в переводах стихосложением. — Тирада эта стоила метру Доминику Ферма немалых усилий, принимая еще во внимание непереносимую жару, и он вытер кружевным платком лицо, а потом подбородки, отдуваясь и от жары и от латыни. Маленький звездочет был в белом бурнусе, видимо, хорошо предохранявшем его от жары. Огюст стоял поодаль с кувшином воды, готовый утолять жажду господ, как те того пожелают. — Можете ли вы, мой юный друг, действительно перевести эту древнюю надпись, слухи о которой дошли даже до Парижа? — спросил Декарт. — Охотно, — отозвался молодой поэт. — Очевидно, полезнее перевести надпись сразу на латинский язык, дабы смысл ее стал понятен и нашему уважаемому ученому звездочету Мохаммеду эль Кашти. — Ваше желание делает вам честь, ибо связано, надо думать, с дополнительными трудностями. — Вы совершенно правы, господин Декарт. Сделать стихотворный перевод с языка Гомера на язык Вергилия, сохранив ритмику гекзаметра и введя дополнительно присущие латинским стихам рифмы, которых нет в древнегреческом тексте, несомненно, нелегко, однако выполнимо, — не без желания щегольнуть в красивой, отделанной фразе своим поэтическим искусством произнес Пьер Ферма. Пока молодой поэт занялся стихами двух древних языков, остальные рассматривали мраморное надгробие. — Сколько пистолей он теперь может стоить, этот древний мрамор? — глубокомысленно спросил метр Доминик Ферма. — Во Франции такой старины не найдешь. — Уж не хотите ли вы перевезти это надгробье в Бомон-де-Ломань? — насмешливо спросил Декарт. — Да спасет меня от этого святой Доминик. Я даже не знаю, христианское ли это захоронение? — Могу вас уверить, и наш почтенный Мохаммед эль Кашти подтвердит это, надеюсь, — перешел на латынь Декарт, — что великий Диофант жил в третьем веке и дружил с самим епископом Александрийским. — Хвала аллаху, что я могу подтвердить ваши слова, почтеннейший Картезиус. В введении в «Арифметику» Диофанта, которой я восхищался, упоминается о посвящении ее досточтимому Дионисию, дабы облегчить ему обучение учеников. Известно из сохранившихся здесь и переведенных для меня манускриптов, что Дионисий преподавал в школе для кристианского юношества с 231 по 247 год по вашему христианскому летосчислению, после чего стал епископом Александрийским. — Так что захоронение Диофанта нужно признать вполне христианским, тем более что другой епископ, Анатолий Лаодикийский, живший в Сирии в том же третьем веке, посвятил свой труд по математике Диофанту, — заключил Декарт. — Тем не менее я осмелюсь высказать по этому поводу сомнение, — возразил Пьер Ферма. — В надписи есть указание о том, когда жил Диофант? — раздраженно спросил Декарт. — В надписи вообще нет никаких прямых указаний, но вся она представляет собой загадку, разгадывание которой может дать ответ на то, сколько лет прожил великий Диофант и даже когда он жил. — Если надпись не подтвердит того, о чем мы сейчас говорили с почтенным Мохаммедом эль Кашти, то я предостерегаю вас от ошибочного перевода, который, к сожалению, я не могу пока проверить, но копию здесь написанного постараюсь доставить в Париж. Все это господин Декарт произнес по-французски. Метр Доминик Ферма почтительно кивал, а маленький арабский ученый внимательно смотрел из-под своего белого капюшона. — Я готов прочитать вам сделанный перевод, за несовершенство которого заранее готов принять ваши упреки, однако оговариваясь, что сущность любой из этих строк не искажена переводом ни в какой степени. И молодой поэт прочитал гекзаметром размеренные строки, которые он в отличие от древнегреческого подлинника даже зарифмовал:

Декарт поморщился, взглянул на Мохаммеда эль Кашти. Тот кивнул, произнеся: — Аллах един, веры разные. Но многим богам в своих капищах поклонялись только язычники. Нельзя не отдать должного остроумию нашего заморского поэта. — Не будем спорить, опровергая установившееся уже в науке мнение, перейдем лучше к основному, к задаче, заключенной в десяти строках надписи. — Клянусь святым Домиником, надпись, на мой взгляд, сообщает о печальной жизни и горе отца, потерявшего сына. — О нет, не только это, — возразил Декарт. — Она предлагает определить возраст усопшего. Я напишу сейчас на песке своей шпагой уравнение, воспроизводимое строчками стихотворения, которое наш юный друг переводил, не подозревая об этом. И Декарт, обнажив шпагу, начертал на песке:
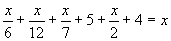 И тут же вычислил[22], объявив:
— x равен 84! Восемьдесят четыре года прожил великий Диофант! Но одно здесь странно… Верно ли вы перевели, юный мой друг, будто в надгробье, то есть в этом уравнении, заключена мудрость искусства Диофанта?
— Совершенно точно. Здесь прямое указание на мудрость искусства Диофанта, с помощью которого можно узнать, как долог усопшего век.
— Сомнительно. Я не хочу умалять ваши поэтические способности, юный мой друг, но решение подобных уравнений с одним неизвестным под силу было египетским писцам, за тысячу лет до появления Александрии и Диофанта. Вам нужно просто усовершенствовать свой древнегреческий язык, мой друг. И при переводе уделять больше внимания не рифмам, а глубокому смыслу переводимого.
Пьер Ферма вспыхнул и поднял глаза с рукописи на Декарта:
— Дело в том, уважаемый господин Картезиус, что великое искусство и мудрость Диофанта действительно приложимы для решения предлагаемой здесь задачи, но не с помощью десяти строк надписи и семи членов выписанного вами уравнения, а всего лишь на основании двух строчек надписи.
Декарт побледнел от гнева и потерял всякую власть над собой:
— Вы оскорбляете память великого ученого древности и произносите недостойные слова, которые я принимаю как личное оскорбление!
И блестящий офицер, встреченный отцом и сыном Ферма в Тулонском порту, схватился за шпагу, которой готов был защищать их в море.
Перепуганный второй консул города Бомон-де-Ломань бросился между спорящими, призывая на помощь святого Доминика.
— Я вызываю вашего недостойного сына на поединок, — громовым голосом на все кладбище объявил офицер королевской гвардии Франции. — Он должен кровью смыть оскорбление, нанесенное праху великого Диофанта и лично мне, чтящему память древнего ученого.
— Если господин Картезиус так чтит память Диофанта, то не лучше ли ему вместо решения уравнения из семи членов выбрать из них всего два, математически разрешив наш спор и подтвердив тем действительно высокое искусство и мудрость Диофанта, — весело произнес Пьер Ферма, с улыбкой смотря на взбешенного офицера.
— Я рассматриваю это как повторное оскорбление! Клянусь этой шпагой, что никогда не последую этому безграмотному совету стихоплета и не попытаюсь найти нелепое решение семичленного уравнения с помощью его двух членов. Прошу почтенного Мохаммеда эль Кашти быть моим секундантом, секундантом сына можете быть вы, почтенный метр, или хотя бы мой слуга Огюст.
— Паша отрубит мою старую голову, если я приму участие в таком поединке между уважаемыми иноземцами, аллах да укротит их! — проговорил араб-звездочет.
— Не угодно ли вам защищаться, мой уважаемый юный друг! Иначе я проткну вас, как подушку, — наступал на Пьера Декарт.
— Вы забыли, почтенный господин Картезиус, — трясясь от страха, заговорил метр Доминик Ферма, — забыли, что у моего сына нет шпаги.
— Ах да, — согласился Декарт, — но мы достанем ее, я пошлю Огюста к шкиперу.
— У него на фелюге только старые турецкие ятаганы, — крикнул со своего места Огюст. — И то ржавые!
— Хорошо, будем драться на ржавых саблях!
— Это тоже невозможно, господин де Карт. Вы носите древнюю дворянскую фамилию и не можете скрестить оружие с человеком простого происхождения.
Декарт яростно вложил шпагу в ножны и крикнул:
— Огюст! Воды!
Слуга подбежал с кувшином к Декарту, и тот, запрокинув голову и подняв кувшин высоко над головой, обливая водой лицо, долго и жадно пил, потом передал кувшин слуге и обернулся к Доминику Ферма:
— Считайте, метр, что вы спасли жизнь сына. Как офицер королевской гвардии я не вправе поднять оружие на человека низкого происхождения, но клятва моя остается в силе. Никакие обстоятельства, клянусь еще раз самим всевышним, никто и никогда не заставит меня решать семичленное уравнение с помощью двух его членов!
Пьер Ферма растерянно улыбался и ничего не говорил. Он смотрел вслед уходящему Декарту чуть печально, ему хотелось броситься за ним, догнать, показать решение, но он не сделал этого из-за уважения к философу, готовый простить ему его вспыльчивость, убежденный, что если б тот дал себе ничтожный труд взглянуть на им же самим написанное уравнение другими глазами, он сразу увидел бы решение, которое наиболее просто дает ответ — 84 года жизни Диофанта.
Но Декарт не сделал этого ни теперь, ни позже до конца своей жизни, став выдающимся философом, призванным ко двору шведской королевы Христины.
Однако любой из читателей, надо думать, без труда найдет и эти две строчки, и решение.
Во всяком случае, арабский звездочет Мохаммед эль Кашти, очень огорченный происшедшей ссорой, легко в уме решил задачу, о чем с уважением сообщил французам.
Дорога с кладбища вела вниз извивающейся лентой, и на ней стали видны две фигуры. Один человек шел позади, неся кувшин на плече.
И тут же вычислил[22], объявив:
— x равен 84! Восемьдесят четыре года прожил великий Диофант! Но одно здесь странно… Верно ли вы перевели, юный мой друг, будто в надгробье, то есть в этом уравнении, заключена мудрость искусства Диофанта?
— Совершенно точно. Здесь прямое указание на мудрость искусства Диофанта, с помощью которого можно узнать, как долог усопшего век.
— Сомнительно. Я не хочу умалять ваши поэтические способности, юный мой друг, но решение подобных уравнений с одним неизвестным под силу было египетским писцам, за тысячу лет до появления Александрии и Диофанта. Вам нужно просто усовершенствовать свой древнегреческий язык, мой друг. И при переводе уделять больше внимания не рифмам, а глубокому смыслу переводимого.
Пьер Ферма вспыхнул и поднял глаза с рукописи на Декарта:
— Дело в том, уважаемый господин Картезиус, что великое искусство и мудрость Диофанта действительно приложимы для решения предлагаемой здесь задачи, но не с помощью десяти строк надписи и семи членов выписанного вами уравнения, а всего лишь на основании двух строчек надписи.
Декарт побледнел от гнева и потерял всякую власть над собой:
— Вы оскорбляете память великого ученого древности и произносите недостойные слова, которые я принимаю как личное оскорбление!
И блестящий офицер, встреченный отцом и сыном Ферма в Тулонском порту, схватился за шпагу, которой готов был защищать их в море.
Перепуганный второй консул города Бомон-де-Ломань бросился между спорящими, призывая на помощь святого Доминика.
— Я вызываю вашего недостойного сына на поединок, — громовым голосом на все кладбище объявил офицер королевской гвардии Франции. — Он должен кровью смыть оскорбление, нанесенное праху великого Диофанта и лично мне, чтящему память древнего ученого.
— Если господин Картезиус так чтит память Диофанта, то не лучше ли ему вместо решения уравнения из семи членов выбрать из них всего два, математически разрешив наш спор и подтвердив тем действительно высокое искусство и мудрость Диофанта, — весело произнес Пьер Ферма, с улыбкой смотря на взбешенного офицера.
— Я рассматриваю это как повторное оскорбление! Клянусь этой шпагой, что никогда не последую этому безграмотному совету стихоплета и не попытаюсь найти нелепое решение семичленного уравнения с помощью его двух членов. Прошу почтенного Мохаммеда эль Кашти быть моим секундантом, секундантом сына можете быть вы, почтенный метр, или хотя бы мой слуга Огюст.
— Паша отрубит мою старую голову, если я приму участие в таком поединке между уважаемыми иноземцами, аллах да укротит их! — проговорил араб-звездочет.
— Не угодно ли вам защищаться, мой уважаемый юный друг! Иначе я проткну вас, как подушку, — наступал на Пьера Декарт.
— Вы забыли, почтенный господин Картезиус, — трясясь от страха, заговорил метр Доминик Ферма, — забыли, что у моего сына нет шпаги.
— Ах да, — согласился Декарт, — но мы достанем ее, я пошлю Огюста к шкиперу.
— У него на фелюге только старые турецкие ятаганы, — крикнул со своего места Огюст. — И то ржавые!
— Хорошо, будем драться на ржавых саблях!
— Это тоже невозможно, господин де Карт. Вы носите древнюю дворянскую фамилию и не можете скрестить оружие с человеком простого происхождения.
Декарт яростно вложил шпагу в ножны и крикнул:
— Огюст! Воды!
Слуга подбежал с кувшином к Декарту, и тот, запрокинув голову и подняв кувшин высоко над головой, обливая водой лицо, долго и жадно пил, потом передал кувшин слуге и обернулся к Доминику Ферма:
— Считайте, метр, что вы спасли жизнь сына. Как офицер королевской гвардии я не вправе поднять оружие на человека низкого происхождения, но клятва моя остается в силе. Никакие обстоятельства, клянусь еще раз самим всевышним, никто и никогда не заставит меня решать семичленное уравнение с помощью двух его членов!
Пьер Ферма растерянно улыбался и ничего не говорил. Он смотрел вслед уходящему Декарту чуть печально, ему хотелось броситься за ним, догнать, показать решение, но он не сделал этого из-за уважения к философу, готовый простить ему его вспыльчивость, убежденный, что если б тот дал себе ничтожный труд взглянуть на им же самим написанное уравнение другими глазами, он сразу увидел бы решение, которое наиболее просто дает ответ — 84 года жизни Диофанта.
Но Декарт не сделал этого ни теперь, ни позже до конца своей жизни, став выдающимся философом, призванным ко двору шведской королевы Христины.
Однако любой из читателей, надо думать, без труда найдет и эти две строчки, и решение.
Во всяком случае, арабский звездочет Мохаммед эль Кашти, очень огорченный происшедшей ссорой, легко в уме решил задачу, о чем с уважением сообщил французам.
Дорога с кладбища вела вниз извивающейся лентой, и на ней стали видны две фигуры. Один человек шел позади, неся кувшин на плече.
Глава четвертая ОСКВЕРНИТЕЛИ ГРОБНИЦ
Мужество делает ничтожными удары судьбы.Демокрит
Декарт не вернулся в гостеприимный дом арабского звездочета Мохаммеда эль Кашти, и тот был весьма встревожен появлением Огюста, который с непроницаемым видом и необычайной для него замкнутостью забрал вещи своего господина и удалился с таким видом, с каким парламентеры покидают перед штурмом осажденную крепость, считая ее обреченной. Впрочем, отец и сын Ферма отнюдь не чувствовали себя осажденными и заинтересованно знакомились с помощью услужливого хозяина с красотами Аль-Искандарии и с глубинами арабской науки о числах. Однако маленький звездочет не разделял беспечности своих гостей и однажды, снова увидев пронырливого Огюста, который не вошел в дом, а вертелся на углу базарной площади, словно выслеживая своих соотечественников, встревожился не на шутку, боясь, что разгневанный господин Картезиус не отказался от намерения убить молодого француза. Маленький арабский звездочет проникся такой симпатией к своим французским гостям, что втайне изучил расположение звезд, каковое оказалось весьма для них неутешительным. И Мохаммед эль Кашти, стараясь не только уберечь гостей от кровопролитного поединка, но и спасти собственную голову от секиры палача османского паши, перед которым отвечал за заморских гостей, решил увезти французов из Аль-Искандарии, чтобы дать возможность господину Картезиусу остыть. И он предложил почтенным гостям ознакомиться с достойными их внимания примечательностями Египта, с гороподобными пирамидами, искусственными сооружениями, которым нет равных в мире по величине, а также с некоторыми развалинами языческих капищ, конечно, не заслуживающих внимания ревнителей правой веры, но, может быть, любопытных для заморских господ. Узнав о возможности подняться вверх по великой реке Нилу и увидеть своими глазами легендарные чудеса древней страны, Пьер Ферма пришел в восторг. Доминик же Ферма без конца сомневался, опасаясь воображаемых речных пиратов и разбойников пустыни, однако не устоял, узнав, что расходы по найму лодки для путешествия по Нилу берет на себя арабский звездочет, надежно вооружая при этом сопровождающих слуг. И вскоре понурый Огюст хмуро наблюдал, как темнокожие слуги Мохаммеда эль Кашти переносили багаж путешественников в лодки, куда вскоре перебрались и господа Ферма вместе с этим маленьким арабом, который даже не счел нужным отыскать такого сиятельного господина, как Декарт, чтобы узнать, не пожелает ли тот тоже принять участие в плавании по местной речке. Огюст, обретя былую подвижность, помчался к своему господину и, найдя Декарта на постоялом дворе, доложил, что их былые спутники бежали из Александрии. К его недоумению, Декарт не проявил по этому поводу никакого неудовольствия и лишь печально покачал понурой головой, приказав Огюсту подыскать другой постоялый двор или корчму, поскольку в той, где они нашли приют, ему не давали сосредоточиться шумные моряки из слишком близкого порта. Темнокожие слуги Мохаммеда эль Кашти оказались прекрасными гребцами, и лодка, даже в безветрие, ходко шла против течения мимо медленно проплывавших назад берегов, покрытых густой зеленью. Вдали пахари шагали за сохами, в которые были впряжены большерогие быки. Над полем прозрачной дымкой висела пелена тумана, а за нею угадывалась граница плодородной полосы и начинающейся пустыни. — Все, что здесь цветет и живет по воле аллаха, обязано разливам Нила, почтенные господа. Потому наука древних в первую очередь изучала поведение реки. — Как? Вода заливает всю эту зелень? — изумился Доминик Ферма. — Да, река становится порой мореподобной, и мы с вами, окажись в ту пору здесь, плыли бы, почти не видя берегов. — А как же крестьяне? Как спасаются они от наводнения? — расспрашивал второй консул Бомона-де-Ломань, думая о своих земляках во Франции, для которых наводнение всегда бедствие. — Для здешних крестьян, феллахов, которых вы видите на берегу, ниспосланные аллахом наводнения не беда, а радость, ибо все, что растет, это подарок Нила, а также остающегося после наводнения плодородного ила на полях, правда, сами поля, вернее, границы между ними исчезают. — Вот как? — заинтересовался Доминик Ферма. — Не возникают ли споры между землевладельцами? Если бы такое случилось у нас во Франции, то суды оказались бы заваленными тяжбами, можете мне поверить, я в родстве с юридической семьей де Лонгов, из которой происходит моя супруга, мать Пьера. — Да продлит аллах ее дни, досточтимый гость мой! Древние египтяне посвящали свою науку решению задач предсказания наводнений Нила, а также размежеванию после наводнения земельных участков с помощью астрономии и геометрии. — Это интересно, — вступил в разговор Пьер Ферма. — Еще бы! Хотя здесь и полно тайн, хранимых в древности языческими жрецами, которые для своих календарей пользовались звездами, в особенности Сириусом, имея точное представление о его периоде обращения в пятьдесят лет. — Почему Сириус? — При случае я расскажу вам, почтенные гости, поскольку в числе моих слуг есть Оготомелли, мы зовем его Огото. Он из племени догонов, принадлежащего народу бамбара, который живет на плоскогорье, и жрецы там стали хранителями древних тайн, касающихся Сириуса, кое-что передали и Огото. Впрочем, для разделения участков земли, освобожденных после наводнения, древние египтяне пользовались своими тайными знаниями геометрии, достаточно вспомнить их священный треугольник со сторонами 3, 4, 5. Они делали на веревке узлы с расстояниями между ними в три, четыре и пять мер и, натягивая веревку на колышках, получали очень точно прямой угол. — Хозяин, — прервал арабского звездочета негр-гигант. — Что тебе, Огото? — поинтересовался араб. — Всадники скачут по берегу. — Пусть себе скачут, моих гостей интересуют не всадники, а геометрические горы, которые уже хорошо видны отсюда. Это пирамиды, достопочтенные мои гости, эти горы удивят каждого, кто в состоянии мыслить и осознать, что созданы они поистине непосильным для простых смертных трудом, как памятники величайшего ума и забытых ныне знаний. — Да услышат твои уши, хозяин! — снова обратился негр Огото, сверкая белками глаз. — Первый всадник в тюрбане приказывает тебе стоять. — Как стоять? — изумился араб. — Это не иначе как разбойники пустыни! — взволновался старший Ферма. — Недаром я их так страшился! Помоги нам, святой Доминик, спаси нас! — Он лишь видел вооруженный конный отряд, не понимая реплик араба и его слуги. — Досточтимые господа, — обратился к гостям араб, — это непохожие на разбойников, с ними мы могли бы помериться силами. Один мой Огото стоит пятерых, но я вижу у всадников на пике конский хвост, похожий на значок самого османского султана. Неприятно прожужжала стрела, перелетела через лодку и упала в воду. — Может быть, спастись у другого берега? — предложил Доминик Ферма. — Там тоже отряд таких же всадников. Лучше пристать к берегу и выяснить, чего они хотят. Быть может, это к счастью, что они не разбойники, — сказал маленький араб. По его указанию кормчий направил лодку к берегу, а через короткое время она ткнулась в отмель и к ней по воде, вздымая брызги фонтанами, влетели всадники, дико вопя и размахивая над головами ятаганами. Араб-звездочет храбро вскочил на ноги и стал громко кричать им по-турецки, поминая аллаха через каждые два-три слова. Все происходящее было достаточно непонятно французам. Араб обратился к ним: — Досточтимые господа, это несомненное недоразумение, которое, я думаю, скоро разъяснится. Они именем султана требуют, чтобы мы высадились на берег, намереваясь обыскать лодку и отнять у нас якобы похищенные нами из какой-то гробницы сокровища. — Мой бог! Пистоли, коими я обладаю, едва ли можно счесть за сокровище! — взмолился Доминик Ферма. Путникам пришлось подчиниться.

Спешившиеся всадники переворошили в лодке все вещи, забрали у слуг их оружие. Араб же невозмутимо объяснял гостям, наблюдая за хозяйничаньем янычар: — В пирамидах, я вам говорил, язычники хоронили своих султанов, или фараонов, как они их называли, окружая мертвецов ценностями, достойными того положения, которое они занимали при жизни. Безбожные грабители, да поразит их аллах, проникают в эти гробницы и, оскверняя их, похищают ценности. По-видимому, османский паша решил вести с ними борьбу, а в начале всякого дела возможны промахи и неудачи, извините его. Бородатый, в тюрбане, всадник с крючковатым носом подскакал к спутникам и, осадив взмыленного коня так, что французов обдало запахом конского пота, громко закричал. Маленький араб с неизменным спокойствием вежливо отвечал ему. Всадник в тюрбане выхватил ятаган и занес его над арабским звездочетом, но, услышав какое-то объяснение, вложил саблю в ножны. — Почтенный начальник отряда, служащий султану и аллаху, счел нас грабителями гробниц и требует, чтобы мы открыли ему наш тайник, куда мы спрятали сокровища. Он обещает нам жизнь, если мы поделимся с ним и с пашой. Я ответил ему, что состою звездочетом при османском паше и предсказываю ему будущее, за что он ценит меня. Почтенный начальник отряда не поверил мне, но решил пока не убивать нас, а заключить в ту самую гробницу, которую мы, по его мнению, ограбили. Я объяснил ему, что чужестранцы — гости самого османского паши и его ждут серьезные неприятности, которые я ему, как прорицатель, могу предсказать, как только появятся звезды. Он не желает испытывать свою судьбу, требуя своей доли сокровищ. — Откуда же мы возьмем ему фараоновы сокровища? — воскликнул Доминик Ферма. — Скажите ему, что святой Доминик сообщит самому господу богу о греховности этого всадника в тюрбане. — Я уже ссылался на аллаха, но это грубый, невежественный воин, он умеет орудовать ятаганом и едва ли знает коран. Двух французов, араба и сопровождающих негров во главе с гигантом Оготомелли под конвоем всадников повели в направлении ближней пирамиды. Маленький звездочет все время убеждал всадника в тюрбане. По-видимому, они о чем-то договорились. Звездочет перевел гостям: — Он решил пока не отрубать нам головы, посылая гонца к османскому паше в Аль-Искандарию, но предупреждает, что не собирается кормить и поить нас до тех пор, пока мы не сознаемся, где спрятали сокровища. — И как долго он будет ждать гонца? — спросил сохранявший спокойствие Пьер Ферма. — Если благословенный паша, да умножит его силы аллах, находится в Аль-Искандарии, а не отправился куда-либо по его высоким делам, то гонец обернется дня в два, поскольку он, возможно, не будет слишком спешить и пожалеет коня, который ему, несомненно, дороже всех нас, вместе взятых, если же паши в городе нет, то нам поможет лишь один аллах. — Весьма утешительны ваши речи, почтенный Мохаммед эль Кашти, — заметил Пьер Ферма. Его отец всхлипнул и добавил: — Не я ли колебался по поводу опасного путешествия в невежественную страну! О святой Доминик! Отчего же ты не удержал меня? Всадники подвели пленников к основанию пирамиды, которая, поражая воображение, уходила ввысь, в эмалево-синее небо, солнце отражалось в полированных плитах, частично снятых, из-за чего солнечная дорожка местами прерывалась. Турки спешились и грубыми окриками и размахиванием ятаганов заставили пленников обойти основание пирамиды, пока не обнаружилось отверстие тайного, теперь открытого хода. Оно было на высоте двухэтажного дома, и к нему нужно было подниматься, скользя по полированным, не снятым здесь плитам. Доминик Ферма задыхался и спотыкался на каждом шагу, Пьер помогал ему, негры шли следом, покорные, ко всему готовые, маленький араб замыкал шествие. Путников втолкнули в темный проем и за последним из них закрыли ход хорошо пригнанной, очевидно, незаметной снаружи плитой. Путешественники оказались во мраке, не имея ни факелов, ни других источников света. Воздух казался затхлым и душным. Постепенно глаза привыкли к темноте, хотя различить друг друга никто из них не мог. — Этот ход ведет, если он не ложный, к гробнице. Ложные специально устраивались жрецами, чтобы сбить грабителей с пути, лишив их добычи, — послышался невозмутимый голос арабского звездочета, как всегда говорившего с гостями на латинском языке. — Жаль, что мы не можем осмотреть саму гробницу, — отозвался Пьер Ферма. — Ведь ради этой гробницы сооружалась вся искусственная гора. — Так считают в ваших странах заморские гости, но арабские ученые еще четыреста — пятьсот лет назад пришли к другим выводам: по их убеждению, пирамиды эти построены[23] задолго до царствования погребенных в них фараонов, их детей и матерей, за 12 тысяч лет до начала вашего христианского летосчисления, почти за 13 тысяч лет до начала ислама, в далекие времена царствования царя Сурида, когда люди здесь знали много больше нас с вами, молодой мой ученый и поэт. — Какие же знания подозреваете вы у них, почтенный Мохаммед эль Кашти? — О всемогущий господь наш! Да как вы можете говорить о таких вещах, когда святой Доминик подсказывает мне покаянные молитвы, которые мы должны возносить к всевышнему! — Уверяю тебя, отец, что твой святой Доминик простит нам беседу в темноте, поскольку она проливает свет на тайну сооружения, в котором мы заключены. — Даже тысячелетние тайны приоткроются по воле аллаха, если, помня о нем, размышлять. — Значит, не сами фараоны, почтенный Мохаммед эль Кашти, строили для себя гробницы, чтобы оставить о себе память на тысячелетия? — Конечно, так, ибо человеческой натуре несвойственно готовить самому себе гроб и постоянно иметь его перед своими глазами, да еще такой величины! Куда естественнее согласиться с тем, что горы были уже насыпаны с другой целью и впоследствии использовались как удобное место погребения знатных особ. — С какой же целью они насыпались 13 600 лет назад? — Чтобы заложить древние знания в неисчезающие размеры этих простейших по форме, но исполинских по величине и глубине сокрытых в них тайн фигур. По преданию, идущему еще от фараоновых писцов, хранителей письменности и познания, три главные пирамиды, названия которых выговариваются различно, но по-латыни звучат как пирамиды Хеопса, Хефрена и Маккарена, эти три пирамиды будто бы размерами своими знаменуют какие-то звезды-планеты, но острого зрения арабских звездочетов недостаточно, чтобы проверить ныне эту легенду. Небезынтересно и то, что сумму длин прямых, составляющих основание пирамиды Хеопса, можно представить длиной окружности с радиусом, равным высоте, которая, в свою очередь, как-то связана со звездным небом[24]. — Как? 13 600 лет назад строители пирамид знали о звездах даже больше арабской науки, уважаемый Мухаммед эль Кашти? — Почтенный мой гость, они знали священное число Пи[25], вычисленное тысячелетия спустя великим эллинским мудрецом Архимедом из Сицилии в городе Сиракузах. — Поистине страшна кара всевышнего, наказавшего древних за великие, видимо, грехи их, лишив обретенных ими знаний, — вставил дрожащим голосом Доминик Ферма. — И, как говорил святой Доминик, знания человеческие, не опирающиеся на чистую веру, заносит временем, как песком пустыни. — Но человек все же снова обретает их, — добавил его сын. — Считая их найденными впервые. Истинно так, ибо такова воля аллаха. — Ох, темна история пирамид, как темно здесь, во чреве их, — горестно вздохнул Доминик Ферма. Мрак угнетал пленников, духота давала себя чувствовать, пробуждая жажду, которую нечем было утолить. Казалось, отчаяние охватило бодрившихся в разговоре ученых, умолкших теперь, отчего наступившая тишина стала невыносимой. И, нарушая ее, снова послышался голос Пьера Ферма: — Кому же древние обязаны своими высокими познаниями, уважаемый Мохаммед эль Кашти? Сохранились ли имена первых писцов, свидетелей закладки пирамид будто бы при царе Суриде? Поняв состояние своего гостя, арабский звездочет охотно откликнулся: — Известно только одно имя — Тота Носатого, языческого бога Луны, мудрости, письма и счета. — Не его ли потом греки называли Прометеем, воспевая как титана, похитившего для людей огонь знания у небес? — Ах, если бы этот греческий герой уделил нам здесь хоть небольшой светильник! — запричитал Доминик Ферма. — Ваш сын, метр, вспомнил о сказочном Прометее как поэт, — успокаивающим тоном отозвался арабский звездочет. — А ведь о ложном боге Тоте древние египтяне вместе с тем говорили и как о существе, которое якобы прилетело на Землю со звезд, и изображали его с птичьей головой, приписывая ему покровительство наук, ученых писцов, священных книг и колдовства (то есть использование тайных знаний). — Святой Доминик, услышав вас, почтенный Мохаммед эль Кашти, — строго возразил Доминик Ферма, — напомнил бы вам, что бог един и вездесущ, он создал и Землю и звезды, и нет среди его ангелов никакого Тота, которого он мог бы послать со звезд на грешную Землю. Так учит нас святая церковь, и не так ли учит вас коран? — Аллах да благословит вас, почтенный метр! — А все-таки, — упрямо вмешался Пьер Ферма. — Конечно, Тот не мог быть богом, к тому же древнегреческие мудрецы учили, что люди существуют и на других звездах. — Они были язычниками, эти философы, да простит их аллах, и жили как бы в такой же темноте, как и мы здесь, в пирамиде. — Но разве святая церковь не может допустить, что всевышний, создав звезды, населил их, как и Землю, разумными людьми «по образу и подобию» своему? — Не знаю, как у вас, христиан, но в коране говорится не о людях, а о гуриях на небе. — Гурии? Но ведь они ублажают там кого-то, не так ли? Какие же были основания у древних для их наивного верования в сошествие Тота с другой звезды? Может быть, они называли ее? Вместо ответа арабский звездочет подозвал своего слугу Оготомелли: — Огото! Подойди к нам. Негра не было видно в темноте, но приближение его ощущалось как присутствие чего-то огромного, дышащего могуче и размеренно. — Огото, ты был в своем племени среди посвященных, которому открывались тайные знания, переданные теми, кто прилетал когда-то на Землю с Сириуса. — Так, хозяин. Огото знает про две звезды знания — Сиги доло и Фини доло. И еще одну звезду рядом. Те, кто прилетал оттуда, говорили, что она вспыхнет и все оставшиеся погибнут. И она вспыхнула, хозяин, через год, как те прилетели к нам. И потом двести сорок лет угасала, пока ее не стало видно. Так передают наши старцы. Истинно так, хозяин. Арабский звездочет переводил рассказ Оготомелли, добавив, что посвященных догонов учили многим премудрым вещам[26], известным тем, кто прилетал со звезд. Интересная сама по себе беседа происходила, однако, в необычайных условиях и не могла заглушить ни жажды, ни голода, ни угнетающей тьмы заключенных в пирамиде людей, у которых оставалось все меньше надежд на избавление. О своем же гороскопе, раскинутом для гостей перед отъездом с неблагоприятным для них расположением Сириуса, астролог ничего не сказал, предвидя всяческие несчастья, которые уже дали о себе знать.
Глава пятая ОРНАМЕНТ ХРАМА БОГА ТОТА
Ум заключается не только в знании, но и в умении применить знание на деле.Аристотель
Гонец, побывавший у османского паши в Аль-Искандарии, вернулся не один, а в сопровождении посланного пашой десятника его личных янычаров, крепкого и ловкого турка с горбатым, крючковатым носом и хитрыми глазами. По велению паши он должен был сопровождать путешественников на случай, если те действительно проникнут в гробницу с сокровищами, на долю которых претендовал паша, убежденный, что у заморских неверных не могло быть другой цели путешествия в Египет. Все это с недвусмысленной ясностью сообщил от имени паши освобожденным путникам, вернее, Мохаммеду эль Кашти Айдын Ага Алигул-оглы, как он напыщенно назвал себя. — Не скрою, уважаемый, — ответил ему Мохаммед эль Кашти, — мы рассчитываем увидеть сокровища древних, но едва ли они устроят благословенного пашу, ибо являются лишь сокровищами ума. Посланный паши лишь усмехнулся. Насчет того, что есть сокровища, которые не интересуют османского пашу, у него было свое мнение. Когда французы в сопровождении арабского звездочета и его слуг вышли из своего заточения на воздух, ослепленные солнечным светом и опьяненные свежим воздухом, они долго не могли прийти в себя, хотя голод и жажда измучили их. Однако пленивший их начальник янычар не собирался утолять их голод и жажду, пришлось рассерженному звездочету пригрозить ему таким гаданием по звездам на его имя, что не только он, но и его потомки до седьмого колена будут помнить своего несчастного предка, нарушившего предписания корана и закон гостеприимства, ибо с момента прибытия специально посланного паши, доблестного янычара Айдын Ага Алигула-оглы чужестранцы и сопровождающие их лица становятся уже не пленниками, а гостями янычар. Бородатый сотник долго не мог уразуметь смысла сказанного астрологом, однако, заподозрив в нем колдуна, решил не навлекать на себя и потомство черных сил шайтанов, с которыми общается этот араб, и приказал накормить и напоить путников. Вернувшись к вытащенной на берег лодке, арабский звездочет убедился, что, кроме весел, там ничего не оставлено. Он потребовал у бородатого начальника воинов, чтобы те вернули его слугам оружие, но тот наотрез отказался, уверяя, что не может разоружать своих всадников, добывших оружие в честном бою, хотя никакого боя, конечно, не было, но спорить с турком не стоило, и даже вмешательство посланника паши не помогло. Но особенно плохо оказалось дело с похищенным продовольствием, без которого невозможно продолжать путь. Хотя араб истощил все свое красноречие, призывая аллаха и грозя проклятием, всадник в тюрбане оставался глухим. Неожиданно на помощь Мохаммеду эль Кашти пришел метр Доминик Ферма. Проявив свою коммерческую сметку, он показал бородатому начальнику всадников свои золотые пистоли, с которыми не расставался в заточении, и предложил выкупить у него похищенное продовольствие. Вид золота сделал свое дело, и за изрядную сумму, которую с причитаниями и взыванием к святому Доминику отсчитал второй консул Бомон-де-Ломань, путники получили обратно все, что у них было отнято (кроме оружия). На жалобу Доминика Ферма посланнику паши тот с невозмутимым видом ответил: — Паша, да благословит всемогущий аллах его дела, не платит жалованья янычарам, с которыми вы имеете здесь дело, господин, они должны сами прокормить себя, потому и стараются найти похитителей сокровищ из гробниц. Если готовишь собак для охоты, не надо их кормить. Доминик Ферма, которому маленький араб перевел эти мудрые мысли, не нашелся, что возразить. Пьер же Ферма напомнил отцу, что и во Франции есть отряды короля или какого-нибудь герцога, которые сами себя кормят. Путешествие в лодке возобновилось. Весла мерно опускались в воду, а скоро удалось поставить и парус и воспользоваться попутным ветром. — Куда направляет лодку твой ум, почтенный звездочет? — спросил Айдын Ага араба. — Чужеземцы заинтересовались древним египетским богом Тотом, который не был ботом, потому что аллах един, а скорее всего гостем Земли с чужой звезды. — Великий султан да защитит меня от таких пагубных слов! Где же ты хочешь найти этого мерзостного Тота? — Не Тота, который побывал на Земле много тысяч лет назад, уважаемый Айдын Ага, а лишь храм его. — Боюсь, правоверный, что посещение таких мерзостных мест, как языческие капища, может не понравиться великому султану и благословенному паше. — Благословенный паша, выражающий волю великого султана, уважает чужеземцев и их интерес к древней истории страны и ценит их щедрость, уважаемый Айдын Ага. Айдын Ага замолчал, но глаза его сузились не то хитро, не то зловеще. Что же касается французов, в особенности Пьера Ферма, то интерес после разговора в темноте о легендарном Тоте настолько обострился, что Пьер не раз спрашивал араба, как скоро доберутся они до обещанного храма бога Тота. — Я бы мог показать гостям близкие полузасыпанные песком храмы, вернее, их руины с остатками статуй бога Тота Носатого, но рассудил, что вместо квадратных колонн и обвалившихся сводов куда интереснее увидеть то, что сохранилось в нетленности в глубине земли в тайном храме бога Тота, тем более что Тот имел отношение к геометрии, судя по некоторым его орнаментам, к науке, так почитавшейся египетскими писцами. Потому гостям моим придется потерпеть еще до завтрашнего вечера, когда с помощью аллаха мы достигнем нужного нам места. Пьер готов был ждать сколько угодно долго, тем более что теперь вместо внутреннего хода пирамиды с ее мраком перед ним открывались залитые солнцем живописные просторы когда-то столь богатой и могучей страны, что держала в страхе и повиновении соседние народы. Воображение Пьера рисовало ему сцены древней, давно исчезнувшей жизни, несчастных рабов, копошащихся в каменоломнях, вырубающих там или влекущих оттуда гигантские колонны и плиты для храмов или пирамид. Этих людей считали «живыми мертвыми», они перестали быть «живыми» на поле боя, где сражались как люди, но остались жить уже как рабы, на положении подневольных животных. Представлял он себе и восстания рабов, не раз сотрясавшие древнее царство, смену династий, когда на трон фараонов всходили взбунтовавшиеся вожди рабов, которые продолжали во времена Древнего Царства египетскую историю на основе того же угнетения феллахов и рабов, которыми становились вчерашние господа, познавшие затем плеть надсмотрщика. Египет же оставался Египтом, и бессменные жрецы его по-прежнему властвовали, враждуя между собой в храмах богов Ра и Тота. К вечеру обещанного дня «с помощью аллаха и попутного ветра» араб приказал завести лодку в камыши, объявив, что отсюда они пойдут пешком. Айдын Ага отказался их сопровождать, заявив, что если чужеземцы найдут сокровища, то им придется принести их в лодку, а он, правоверный янычар великого султана, не осквернит себя посещением мерзостного языческого капища. Маленький араб только пожал плечами, скрыв тревогу и неудовольствие. Вереница путников растянулась по едва приметной тропинке. Солнце нещадно палило, слышался звон цикад, сливающийся в назойливый, несущийся отовсюду треск. Тропка поднималась и опускалась, извивалась, обходя выступающие из земли огромные камни. Возбужденному воображению Пьера казалось, что это не просто камни, а остатки древних строений. Но здесь были лишь заброшенные древние каменоломни. Вход в подземелье под каменным обрывом холма мог бы найти лишь посвященный. Метру Доминику Ферма было особенно трудно протиснуться в указанную ему щель между двумя почти вплотную примыкающими одна к другой гранитными плитами. Он решился на это лишь после того, как в щели вслед за маленьким арабом исчезли слуги с факелами, а Огото, при его гигантском росте, пролез с немалым трудом. Пропустив отца вперед, Пьер Ферма проник в подземный коридор последним. Пахнуло сыростью и затхлым запахом пыли. Под ногами хрустел занесенный сюда ветром песок. К свету факелов глаза привыкли не сразу. Коридор вел круто вниз. Навстречу, трепыхая крыльями, вылетела стая летучих мышей. Пьер Ферма невольно пригнул голову, ощущая ветерок от проносящихся над его головой крылатых животных. Сердце его учащенно билось. Он видел впереди в мерцании факелов фигурку арабского звездочета, уверенно сворачивающего в ответвления подземного хода. Наконец все достигли круглого зала. Пьер Ферма оглядывался, слыша рядом тяжелое дыхание страдающего одышкой отца. — Вот изображение Тота Носатого, языческого бога Луны и мудрости, что знаменуется диском луны над головой бога и змеей на этом диске. Мохаммед эль Кашти указал на стену с гладко отполированной изумрудной мраморной плитой, отражающей пламя факелов. На ней отчетливо выступало выполненное золотыми линиями изображение, поразительно свежее, чудесно сохранившееся на протяжении тысячелетий. Бог Тот, как и принято во всех египетских рисунках, был представлен в профиль. Голова его напоминала и человеческую и птичью (птицу Ибиса), волосы-перья, подобно египетскому головному убору, спускались на спину. В одной руке он держал на золотой цепочке Т-образный предмет (какой-то символ), в другой — посох, раздвоенный внизу[27], с фигуркой птицы вверху. Изображение бога окружалось золотыми иероглифами с фигурками птиц, рыб, вперемешку с волнистыми линиями, черточками и причудливыми знаками. — Да простит мне аллах неспособность познакомить гостей с тем, что написано язычниками, вполне возможно, что здесь отражены и тексты легендарных изумрудных табличек бога Тота[28] с заключенными в них знаниями грядущих поколений, хотя правоверному ясно, что почерпнуть что-либо в языческих ложных знаниях и верованиях нельзя, свидетелем чему сам аллах! Пьер Ферма отлично понял некоторое смятение арабского ученого, в котором боролись интерес к древней мудрости и страх перед запретами ислама, а также он испытывал некоторый страх перед присланным пашой соглядатаем, оставшимся в лодке среди камышей. Рассмотрев изображение бога Тота и непонятные письмена, молодой бакалавр огляделся, но ничего, кроме девяти дверей, ведущих в соседние помещения, не увидел. Он попросил чернокожего гиганта с факелом посветить ему и вошел через ближнюю дверь в каменный каземат, послужив примером для всех остальных. Пьер Ферма подумал, что груды трухи на каменном полу могли быть когда-то столами и стульями, и здесь ученые писцы передавали свои тайные знания вновь посвященным служителям бога Тота. Арабский звездочет поморщился при виде тысячелетнего запустения. — Увы, в отличие от зала, где мы только что побывали, тут не на чем остановить вашего благородного внимания, остается заглянуть в соседние помещения, где, к сожалению, тоже нет ничего примечательного, если не считать примитивного орнамента на стенах. Пьер Ферма насторожился. Достаточно было выразить неприятие чего-нибудь, чтобы привлечь его пристальное внимание. И не отзовись арабский ученый столь пренебрежительно о примитивном орнаменте, Пьер Ферма, возможно, не заинтересовался бы им, но теперь он старался увидеть в пересечении прямых линий нечто большее, чем просто узор. В самом деле, зачем в тайном храме украшать стены бессмысленным пересечением линий? Если здесь действительно передавались тайные знания, то рисунки на стенах должны были как-то способствовать этому! И Пьер Ферма стал вглядываться в орнамент. Поначалу увиденное не вдохновило его: ряд увеличивающихся в размерах квадратов, каждый из которых окружен как бы двойной линией, ограничивающей маленькие квадратики. Все эти геометрические фигуры вписывались одна в другую, доходя до потолка, и, видимо, могли бы выйти за его пределы. Это обстоятельство особенно насторожило Пьера Ферма, он стал пристально вглядываться в настенное изображение и вдруг задрожал от волнения. Озаренный, он угадал в малом квадрате, затем в более крупном, потом в самом крупном в левой нижней части орнамента графическое изображение математической формулы, хорошо ему известной, берущей начало от знаменитого открытия Пифагора. Как пожалел Пьер Ферма, что с ним нет сейчас Декарта, именно ему мог бы рассказать он о своей догадке, позволившей на миг как бы ощутить дыхание самого легендарного бога Тота, хранителя тайны, готовой открыться Пьеру Ферма! Маленький звездочет уловил в выражении лица молодого гостя нечто необычайное и осторожно спросил его, что удалось обнаружить ему в незатейливом орнаменте. — Клянусь вечной истиной, почтенный Мохаммед эль Кашти, но мы находимся сейчас рядом с самой удивительной загадкой, которую можно задать всем знатокам чисел как Европы, так и других частей света, и прежде всего вам, уважаемый звездочет и знаток арабской науки о числах. — Что можно увидеть в полутьме, гость мой? — Я увидел здесь яркий луч солнца, сверкнувший в подземелье! Свет солнца, дающего жизнь всему живому, будящему мысль во всем разумном! — Свет солнца в тайном храме бога Тота? Хорошо, что нас не слышат былые жрецы этого капища, которые смертельно враждовали со жрецами Ра — бога Солнца, попеременно сажая на трон угодных им фараонов и пополняя в эти периоды казну храмов. Клянусь аллахом, они сочли бы ваши слова кощунством, и вам дорого пришлось бы заплатить за свой поэтический пыл. — Не поэтический, почтенный Мохаммед эль Кашти, а математический! Но если есть в математике поэзия, то она вскрывает себя именно здесь! Должно быть, всевышнему было угодно, чтобы именно так завершилась в этом подземелье тысячелетняя вражда поклонников солнца и служителей знания, которые, даже запрятанные в вечную тьму, сверкнули истинным солнцем! Рассмотрите малый квадрат в нижнем левом углу, окруженный прямоугольным узором из маленьких квадратиков! Их девять! Один в правом верхнем углу и два раза по четыре примыкающих к сторонам малого квадрата. Следовательно, сторона малого квадрата равна четырем единицам, сторона большого — пяти, а площадь всех девяти маленьких квадратов равна квадрату со стороной в три единицы. Так ведь это же священный египетский прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4, 5! — Поистине поэзия полезна математике, мой юный гость! Вот тот случай, когда воображение по воле аллаха становится мудростью. — Но это не все, не все, почтеннейший звездочет и наш гостеприимный хозяин! Если бы я был язычником, то попросил бы отца занять у вас денег на покупку стада быков в сто голов. — О святой Доминик! Зачем ему сто быков? — воздел руки к потолку метр Доминик Ферма. — Откуда я возьму такие деньги? — Когда великий Пифагор сделал свое открытие о прямоугольном треугольнике, он принес в жертву греческому богу Зевсу сто быков. — О горе мне видеть лишившегося разума сына! — Не горе, а радость, мой почтенный родитель, должна обуять вас! Сам уважаемый Мохаммед эль Кашти подтвердит, что часть квадрата, похожая на лесенку, равна площади второго катета в три единицы. Их можно пересчитать, эти квадратики! Девять, как и дверей в зале бога Тота, что наверняка не случайно! — Истинно так, — смущенно произнес арабский ученый. — Я все понял. — О нет, не все! Не все! Чтобы все понять, надо уяснить связь между всеми квадратами, уместившимися на стене, и теми, которые не уместились, а потому не изображены. — Поистине, когда всевышний хочет наказать кого-нибудь, он лишает его рассудка. Несчастный сын мой видит уже ненарисованное, блуждая в мире призраков! — Я имею в виду, — обращаясь уже не к отцу, а только к арабу, продолжал Пьер Ферма, — что мы имеем дело в этом орнаменте не только с теоремой Пифагора, не только с квадратом суммы двух величин, равной сумме их квадратов и удвоенному их произведению, но и со священным египетским треугольником, более того, со священными рядами таких треугольников, и я уверен, что вы, знаток арабской науки о числах, найдете и второй и третий треугольники первого ряда, а также треугольники второго и третьего рядов, изображенных с такой гениальной скупостью здесь, на стене. — Да просветит меня аллах! Я действительно вижу квадраты, построенные на сторонах треугольника с катетами 5, 12 и гипотенузой 13! Достаточно лишь сосчитать число квадратиков, примыкающих к стороне первого квадрата. — Как я и ожидал, почтенный Мохаммед эль Кашти, вы решили эту задачу так же быстро, как и на могиле Диофанта. — Третий треугольник со сторонами 24, 7 и 25 найти так же просто, но аллах не умудрил меня отыскать ваш второй ряд. — Его квадраты выполнены двойными линиями: если посчитать их размеры по квадратикам слева, то получится: малый катет 8, гипотенуза 17, а разность площадей дадут квадрат второго катета, равного 15! Ну а простой линией изображен всего один — первый квадрат треугольника третьего ряда со сторонами 35, 12, 37! Следующие же треугольники и их ряды на стене не уместились. — Премудро, но точно, юный мой гость не только поэт, но и великий знаток чисел! — Как блистательно заканчивается наше путешествие в загадочный мир языческого знания, да простит меня святой Доминик! — отдуваясь, как после тяжелого бега, заявил обрадованный метр Ферма. — Не заканчивается, почтенный мой родитель, а только начинается! — Как? Мы поедем еще куда-нибудь? — ужаснулся толстяк. — Нет, нет! Я имею в виду мир чисел, дорогу куда прокладывает этот волшебный орнамент. — Буду счастлив, почтенный поэт и знаток счета, идти по этому пути за вами следом! — с поклоном, торжественно произнес арабский ученый.
Глава шестая ЦАРСКИЙ ДАР
Великие люди бывают великими даже в мелочах.Вовенарг Люк де Клапье, французский писатель XVIII века
По возвращении в Александрию Пьер Ферма, заставив отца страдать от скуки, уединился в отведенной ему Мохаммедом эль Кашти комнате и несколько дней не показывался оттуда. Гостеприимный хозяин напрасно посылал к нему слуг, вынужденных в конце концов приносить еду в его убежище, потому что одержимый бакалавр отказывался оторваться от стола. Маленький звездочет втайне радовался такому поведению молодого гостя, избегавшего тем самым нежелательной встречи с господином Картезиусом и возможного повторного вызова на поединок, который стоил бы головы самому Мохаммеду эль Кашти. Правда, из вежливости арабский ученый не делился с метром Домиником Ферма своими опасениями, а уверял гостя, что его сын занят важнейшим делом, и если не стихами, навеянными впечатлениями от путешествия в страну пирамид и языческих капищ, то математическими исследованиями прямоугольных треугольников, которыми он имел основания увлечься. Метр Доминик Ферма, поминая своего святого, только вздыхал по поводу того, что пора возвращаться во Францию, и что неизвестно еще, как удастся избежать встречи с пиратами на обратном пути, и что напрасно сын его занят тем, что можно с успехом делать дома. Тут арабский ученый восстал против уважаемого гостя: — Как можно вымолвить такое, почтенный гость мой? Достойно ли лишить меня законной гордости по поводу того, что под крышей моего дома по воле аллаха разгадывается одна из примечательных находок угасшего мира древних! Пьер Ферма действительно был занят завершением таблицы рядов простейших (не имеющих общего делителя) пифагоровых троек (сторон прямоугольных треугольников), когда в доме Мохаммеда эль Кашти начался такой переполох, что встревоженный бакалавр отложил в сторону законченную рукопись и вышел из комнаты. Первым на глаза ему попался Огюст, который, очевидно, подкарауливал его. Теперь, смущенно опустив лукавый взор, он уступил Пьеру дорогу. За несколько минут до этого в дом арабского звездочета вошел в парадном мундире гвардейского офицера короля Франции со шпагой на бедре Рене Декарт, блестящий и грозный. Маленький араб, сжавшись в комочек, с ужасом смотрел на него, словно видел впервые. Он показался ему огромным, с львиной гривой волос, падающих на плечи, властным лицом с тяжелыми чертами и массивным носом. Все в его облике выражало горделивую силу и благородство. С высокомерной изысканностью Декарт поздоровался с арабским ученым и метром Домиником Ферма, не обращал внимания на шум, поднятый слугами арабского дома и Огюстом, объясняющимися между собой на разных языках столь же громко, как и непонятно обеим сторонам. — Не откажите в любезности, метр Ферма, пригласите для беседы со мной вашего сына. Но почтенный заместитель мэра французского города потому и добился своего поста, что был человеком, искушенным в дипломатии, к тому же состоявшим в некотором родстве с юридической семьей де Лонг, поэтому он с предельной вежливостью ответил: — Бесконечно рад видеть вас, высокочтимый соотечественник, доблестно служащий своему королю и его высокопреосвященству господину кардиналу, которые в великой мудрости своей и неиссякаемой заботе о подданных, в особенности же знатного рода, к вящему всех счастью, запретили дуэльные поединки во Франции. — Остается в таком случае напомнить вам, что мы не во Франции, — хмуро ответил Декарт. — Однако высокочтимому господину де Карту должно быть известно и совершенно ясно, что, запрещая пагубные поединки, его величество король и его высокопреосвященство господин кардинал имели в виду не столько Францию, сколько французов. — Как я догадываюсь, не понимая благозвучного языка своих гостей, — вмешался на знакомой всем латыни хозяин дома, — почтенный господин Картезиус хотел бы говорить с моим молодым французским гостем о поединке? — Вы правы, уважаемые господа, я намереваюсь говорить с бакалавром Пьером Ферма о нашем несостоявшемся поединке. — Но это невозможно, да подтвердит это аллах! — воздел руки к небу маленький араб. — Но я ничего не имею против этого, — послышался голос Пьера, — я сам хотел отыскать господина Декарта, если бы неожиданное математическое увлечение не помешало мне. — И совершенно напрасно, — отрезал Декарт, — ибо право говорить об этом первому принадлежит мне, и я не намерен его уступать. — Почему же? — искренне удивился Пьер Ферма. Маленький араб понял, что он погиб, ибо сейчас этот свирепый офицер с наружностью льва вызовет на поединок беззащитного юношу, чтобы убить его, после чего не спастись от гнева османского паши и ему, Мохаммеду эль Кашти. — Почему? — переспросил Декарт. — Да потому, милостивый государь, что право первому говорить о несостоявшемся поединке принадлежит мне, офицеру гвардии короля Франции, которому я служу, как и его высокопреосвященству господину кардиналу, и по этому праву я и явился к вам сюда, дабы принести извинение за свое недостойное поведение на кладбище у могилы великого Диофанта, и я, Рене Декарт, почтительно прошу извинить мою непростительную вспыльчивость, вызванную лишь преклонением перед прахом великого ученого древности. Все это Декарт произнес на латинском языке, чтобы хозяин дома мог понять его. И Мохаммед эль Кашти, и метр Доминик Ферма оба не верили ушам, пораженные покаянными словами и одновременно грозным видом офицера. — Нет большего воздаяния аллаху, чем прекращение вражды! — вымолвил наконец маленький араб. — Надо думать, господину Картезиусу удалось найти предложенное молодым Ферма решение уравнения по двум его членам вместо семи, что и привело его к столь благородному поступку? — Вы ошибаетесь, почтенный Мохаммед эль Кашти. Рене Декарт, которого вы видите перед собой, никогда не нарушит данной им клятвы и не станет искать решения уравнения, о котором вы изволили вспомнить. Такой исход оказался бы самым простым, но недостойным той внутренней борьбы, которую мне привелось выдержать, чтобы победить недостойную мыслителя дворянскую спесь и решиться на этот визит с принесением извинений как господину Пьеру Ферма, так и его отцу метру Доминику Ферма и гостеприимному нашему хозяину на александрийской земле Мохаммеду эль Кашти. Я искренне сожалею не только о своей вспыльчивости, но также и о данной мной клятве, которую не могу нарушить, хотя мне очень хотелось бы узнать блестящее решение уравнения по двум членам из семи, но, поверьте, этого я сделать не могу. — То, что сделали вы, уважаемый Рене Декарт, значительно больше нахождения решения[29], на которое я случайно напал, переводя могильную надпись. Не сомневаюсь, что вам не составило бы труда это сделать, если б не ваш собственный запрет, заслуживающий всяческого уважения, — произнес Пьер Ферма, восхищенно глядя на философа в офицерском мундире. Он вспомнил о прочитанных им трудах Картезиуса, о беседе с ним за шахматной доской во время плавания на фелюге и понял, какой внутренней борьбы стоило Декарту прийти сюда с извинениями. — Я понимаю вас и хотел бы отплатить вам тем же, признав легкомысленным свое предложение найти иное решение уравнения, написанного вашей шпагой на песке. Я сожалею об этом и признаю вас несоизмеримо сильнее себя, ибо нет победы большей, чем победа над самим собой. — Вот вам моя рука, Пьер, мой друг, я всегда буду гордиться не только этой минутой торжества над тем, что надлежит неустанно искоренять, но и знакомством с вами и переходом теперь на обращение ко мне — просто Рене. Мохаммед эль Кашти не воспринял этой прочувствованной французской речи, но прекрасно понял значение того рукопожатия, которым обменялись между собой Рене и Пьер. — Слава аллаху, слава аллаху! — только и мог пробормотать он. — Да возрадуется святой Доминик, чьи молитвы заступника дошли до всевышнего! — вторил ему метр Доминик Ферма. — Если Рене, мой друг, почтит вниманием некоторые мои «математические этюды», как мне хочется их назвать, то я буду счастлив, хотя они касаются всего лишь прямоугольных треугольников, а не проблем души и тела. — С охотой, Пьер, мой друг. Я всегда верил, что математика в конце концов привлечет вас к себе, ибо нет, кроме нее, более организующего начала. — Представьте себе, Рене, — говорил Пьер Ферма, ведя Декарта в свою рабочую комнату, — я больше всего сожалел в последние дни, что не могу из-за нашей размолвки познакомить вас со своими этюдами. По дороге Пьеру и Рене попался извивающийся из желания угодить Огюст, но он исчез, едва Декарт посмотрел на него. Оба француза сели за стол у стрельчатого окна, защищенного от солнца пышной зеленью сада. Здесь жара не ощущалась такой невыносимой, как в другом месте. — Итак, с чем же вы, мой друг, хотите познакомить меня? Из-за чего вы жалели о нашей размолвке? — Прежде всего с тем, что формула Пифагора заключает в себе строго организованные ряды простейших пифагоровых троек, то есть значений сторон прямоугольных треугольников, не имеющих общего делителя. — Любопытно. Как же вы это доказываете, мой друг? — Позвольте и мне, уважаемые гости Аль-Искандарии, ознакомиться с выводами молодого ученого, — попросил вошедший вслед за Пьером и Декартом хозяин дома. — Охотно, уважаемый Мохаммед эль Кашти, тем более что вы послужили толчком для всех находок, которые я могу показать, — живо отозвался Пьер Ферма. — О, слава аллаху, моя помощь в этом высоком деле ничтожно мала, я обратил ваше внимание лишь на то, чего не видел сам. — Я сожалею, что не пришел извиниться сразу, тогда мы смогли бы вместе повидать необычный орнамент, о котором я уже услышал через Огюста, но я надеюсь, что наш друг возместит упущенное, — произнес Декарт, поклонившись в сторону Пьера Ферма. И тот стал увлеченно показывать сделанные им преобразования формулы Пифагора[30]. Декарт внимательно выслушал Пьера Ферма, взял в руки составленную им таблицу, лицо его из грозного стало сосредоточенным, потом он горько усмехнулся: — Друг мой, боюсь разочаровать вас, но стоило ли вам вкладывать столько труда в «изобретение колесницы», известной еще при фараонах? — Вы правы, Рене, очевидно, при фараонах жрецы бога Тота знали эти ряды, но разве не наш долг вернуть людям утраченные знания? — Вы не поняли меня, друг мой. Я применил метафору о колеснице, имея в виду, что она известна была и древним римлянам, даже в наше время на ее основе созданы кареты. Просто вам нет надобности применять свой математический дар для вычисления сторон приевшихся всем прямоугольников, поскольку древние оставили нам изящные формулы, дающие значения всех возможных пифагоровых троек. — И он размашисто написал на листе несколько формул. — Их связывают чуть ли не с Платоном, их можно найти в X книге «Начал» Евклида. — Простите, что я вступаю в ваш высоконаучный разговор, почтенные знатоки чисел, — вмешался звездочет, — но арабской науке действительно известны эти древние формулы, правда, в несколько другом написании. Однако, к сожалению, до нас не дошел их вывод. Впрочем, в том, что они дают верный результат, я имел, по воле аллаха, возможность убедиться всякий раз, когда их применял, подобно тому, как это делал сам Диофант. Пьер Ферма нахмурился, пристально глядя на свои и написанные Декартом формулы: — Они выводятся очень просто, почтенные господа, из тех самых выражений, которые позволили мне составить таблицу. — И Пьер Ферма показал, как удивительно простым способом можно получить эти древние формулы. — Не могу отказать вам в математическом остроумии, но нахождение вывода старых формул не может подняться до значения самих этих формул. Так что я не вижу, к сожалению, смысла в вашей умственной расточительности ради повторения давно человечеством пройденного. Пьер Ферма покраснел, потом побледнел, пронизывающе смотря на составленную им таблицу рядов, которую в эту минуту изучал арабский звездочет. — Простите мне во имя аллаха, мои высокочтимые гости, что я рискую обратить ваше внимание на то, что в составленной молодым гостем таблице я вижу весьма примечательные особенности, которые, надо думать, он подметил и обосновал. Кроме того, можно увидеть, что тройки, вычисленные по древним формулам, не окажутся, как в таблице господина Пьера Ферма, простейшими числами. Произвольно задаваясь величинам m и n, мы получим после вычислений хаотические, беспорядочные, как россыпь разноцветных камней, значения всевозможных прямоугольных треугольников, отнюдь не способствующих выявлению законов их построения. — Вы правы, уважаемый Мохаммед эль Кашти, таблица троек действительно дает возможность установить некоторые зависимости как в вертикальных рядах, так и в рядах, соседствующих по горизонтали. — И он познакомил слушателей с тем, что открыл. По просьбе арабского ученого особенно остановился Пьер Ферма на выборе коэффициента #945; и #946; в своих формулах. — Вас интересует, уважаемый Мохаммед эль Кашти, случай, когда коэффициенты #945; и #946; содержат общий множитель #8730;21? — И он показал с убедительной простотой, что в этом случае получающиеся тройки будут повторять все первые тройки соседних по горизонтали рядов. — Вы убедили меня, почтенный знаток и поэт чисел. Видит аллах, с каким благоговением я стараюсь вникнуть в найденные вами числа и мудро расставленные по клеткам таблицы, кажущейся мне поистине волшебной. Но я покажу почтенным господам, какие тайны хранит в себе эта простенькая таблица. — Что же вы обнаружили в ней, уважаемый Мохаммед эль Кашти? Разве я не все понял в собственной работе? — Конечно, не все, ибо все понятно лишь одному всемогущему аллаху! Но достаточно прикоснуться к математическому сокровищу, чтобы обнаружить в нем… — Что же? Что? — нетерпеливо торопил арабского звездочета Пьер Ферма. — Благословенное аллахом золотое сечение! 8 единиц рассекаются на 5 и 3, 13 — на 8 и 5! А эти цифры стоят в таблице поблизости, как и в орнаменте! Декарт скептически пожал плечами и поморщился. Араб воскликнул: — Видит аллах справедливый, что вы напрасно так холодны, господин Картезиус! В этой премудрой таблице египетских рядов, как в бездонном колодце, можно черпать сокровища знаний. — Я не хочу отказывать древним в важных познаниях, но я не вижу причин искать закономерности построения треугольников, будучи не уверен в их практической ценности, поскольку величины сторон ограничены такой условностью, как целочисленность. — О многочтимый господин Картезиус! Я с почтительным вниманием изучаю ваши латинские труды по философии, стараясь вникнуть в глубину ваших мыслей, но позвольте возразить вам, не оспаривая вашего права на высказанное мнение. — Пожалуйста, прошу вас, почтенный Мохаммед эль Кашти. — По вашему определению, господин Картезиус, человек начал существовать как человек, лишь обретя способность мыслить, а это произошло тогда, когда он стал считать по пальцам, определять, сколько плодов он сорвал, сколько дичи принес, сколько членов его семьи или племени должны его добычу разделить между собой. По-латыни, как вы знаете, «вычисление — калькуляция» происходит от слова calculus, что означает «камешек», число камешков могло быть только целым. И в нашей жизни, начиная от числа людей, быков, кораблей, домов и окон в них, кончая числом звезд в созвездиях, — все это только целые числа. Природа по воле аллаха не знает дробей. — Но при чем тут закон Природы, созданной всевышним, и прямоугольные треугольники? — с вызовом спросил французский философ. — Величайшая тайна творения, уважаемый мною господин Картезиус, как я верю и убежден, заключена в том, что первородный законПрироды и ее творца до необычайности прост, не менее прост, чем открытый Пифагором закон прямоугольного треугольника. И неспроста древние египтяне после разлива Нила вновь разбивали поля с помощью веревки с узлами через три, четыре и пять мер, натягивая ее на три колышка и получая очень точно необходимый им прямой угол. А как такие прямые углы нужны морякам, определяющим свое местонахождение по звездам, или нам, звездочетам, эти звезды изучающим? И кто возьмется сказать сейчас, как еще послужат людям сведенные в эту таблицу прямоугольные треугольники? Конечно, маленький арабский звездочет был только человеком своего времени, невежественным астрологом, пытающимся предсказывать будущее по расположению звезд, но в этой реплике, сказанной двум выдающимся ученым XVII века о простоте первородных законов Природы, он, сам того не подозревая, поднялся до поистине гениальных высот предвидения. Мог ли он даже предположить, что другой великий ученый, которому жить триста лет спустя, в XX веке, создаст теорию относительности, из которой последует, что для летящего с субсветовой скоростью тела гипотенуза прямоугольного треугольника представит увеличивающуюся массу тела, его энергию и собственное время, в то время как горизонтальный катет — массу, энергию и время покоя, а вертикальный катет будет отличаться от гипотенузы так же, как и скорость тела от скорости света, длина же тела сократится по тому же закону. Никто из присутствующих не знал глубин характера Пьера Ферма, в котором сочеталась доброта и скромность с уверенностью в неограниченности своих возможностей. Он считал, что ему доступно все на свете и в языкознании, и в поэзии, и в изучаемом праве, и в полюбившейся ему математике, никто не ожидал и не мог бы объяснить его неожиданный поступок. Пьеру Ферма было совершенно достаточно собственного признания того, что он не напрасно искал и нашел закономерности простейших пифагоровых троек, он был искренне восхищен увлеченностью его работой арабского ученого, чрезвычайно ему симпатичного, он хотел еще показать своему соотечественнику Рене Декарту, что он тоже способен на победу над самим собой. И Пьер Ферма сделал то, что стало обычным в его последующей научной деятельности, ему всегда казалось достаточным найти, открыть самому, а потом, не делая и не записывая даже выводов, предлагать своим современникам пройти его путем. Была ли это гордыня или скромность гения, но, как бы то ни было, Пьер Ферма и в последующие годы не оформлял своих трудов, не издавал собрания сочинений, не разыскал собственных найденных им доказательств (или не записал их!). А сейчас он поразил и маленького арабского звездочета, и Декарта обращенной к ним речью: — Я глубоко признателен вам, уважаемый Рене, за заботу о полезном применении моих способностей. За один сегодняшний день вы дали мне два урока: как победить самого себя и как бережно расходовать свои силы. А вам, досточтимый Мохаммед эль Кашти, я благодарен за то, что своей оценкой моей скромной работы вы открыли мне глаза на мою слепоту, показали мне тайны, мимо которых я проходил. Вы усмотрели в восстановленной мной египетской таблице пифагоровых чисел такой сокровенный смысл, что я не могу больше считать ее своей, она — ваша! Только вы, истинный поэт чисел, сможете увидеть в ней то, что откроется будущим поколениям. В моей памяти останется лишь формула, стоившая Пифагору сотню быков, а мне — размышлений о величине в степени, которую можно разложить на два слагаемых в той же степени. И с этими словами Пьер Ферма торжественно передал арабскому ученому свои вычисления, сведенные в таблицу. Мохаммед эль Кашти застыл ошеломленный. Декарт же пытался разобраться в поступке молодого соотечественника: кто он? Гордец или скромник? Гений или воплощение беспечности? — Клянусь аллахом, ни один султан на Земле не делал смертному такого царственного дара! — низко поклонился араб. Хорошо, что метр Доминик Ферма не присутствовал при этом, он мог бы счесть поступок сына непростительным расточительством и едва ли перенес это. Декарт же подумал: что бы ни руководило Пьером Ферма, но этим отказом от собственного открытия он, несомненно, поднялся в собственных глазах выше всех, кто его окружал. И тут Декарт подумал о себе: видимо, не полностью он еще одержал победу над самим собой. Так сделан был «царский дар», поэтому истории науки ничего не известно об этой работе Ферма, с которой, быть может, и началась его дорога гениального математика, чьи работы на протяжении столетий будут волновать ученых всего мира. Но будем справедливы к довольному и улыбающемуся Пьеру Ферма. Ему хотелось шутить, смеяться, пображничать за столом. И он сказал, обращаясь к арабу: — Жаль, что коран запрещает вино, почтенный Мохаммед зль Кашти! Именно сейчас мне хотелось бы чокнуться с вами бокалом старого французского вина! Маленький арабский звездочет смущенно улыбался, не зная, что сказать.
Глава седьмая СНЫ — ТОЛЬКО СНЫ
Если б любовь была недостойна мудрецов, то пришлось бы пожалеть бедных красавиц, обреченных наслаждаться любовью одних глупцов.Зенон из Элеи, древнегреческий философ
Любовь настигает человека, даже если он мудрец. Пьер Ферма к двадцати семи годам был уже не только мудрецом, постигшим глубины математики (его увлечения, утехи и страсти), но и знатоком языков, античности, а также права, к тому же еще и поэтом. «Арифметика» Диофанта стала его настольной книгой. В 1628 году, опять же в апреле, он сопровождал отца, который, переживая денежные затруднения, отправился с сыном в Тулузу, к дальнему родственнику жены, главе юридической семьи, господину Франсуа де Лонгу, в расчете на его покровительство юридически образованному Пьеру, поскольку ни его стихи, ни его знания дохода не приносили, а также помышляя с помощью святого Доминика получить денежную поддержку, ибо дела буржуа и второго консула Бомон-де-Ломань после дорого стоившей поездки в Египет пришли в полное расстройство. Сухощавый и важный господин Франсуа де Лонг встретил дальних и запыленных в столь же дальней дороге родственников без особого жара души, и дом его мог показаться южанам холодным, не согретым теплом радушия. Господин Франсуа де Лонг прослыл в юридических кругах наиискуснейшим крючкотвором, о чем знал даже сам его высокопреосвященство господин кардинал Ришелье, в нужных случаях прибегая к услугам юриста-дворянина. Если бы великому Сервантесу в его время понадобился натурщик для портрета Дон Кихота, он не нашел бы лучшей модели, чем Франсуа де Лонг (живи он тогда), правда, при условии, что он выпрямится, чтобы не походить своим тощим согнутым телом на крючок, оправдывая тем данное ему среди юристов прозвище, отражающее и его внешность, и ценные способности судейского. По человеческой сущности он был прямой противоположностью рыцарю Печального Образа, будучи лишенным мечтательности и отнюдь не витая в воображаемом мире, чтобы защищать в нем высокие идеалы, а с редкой прозорливостью постигая мир таким, каков он есть, и если признавал идеалы, то лишь связанные с выгодой. Вот почему, прокалывающе глядя из-под бесцветных бровей и поглаживая полуседую бородку, скорее сгорбленный, чем поклонившийся гостям, он не почувствовал никакой выгоды от их приезда. Когда же он узнал, что Пьер (о чем метр Доминик Ферма с наивной гордостью поспешил сообщить) не только «начинающий юрист без протекции», но еще и поэт и даже математик, то искушенный в секретах преуспеяния господин Франсуа де Лонг совсем разочаровался в приехавшем молодом человеке и даже выразил ему свое мнение о никчемности математических занятий, полезных разве что торговому люду для счета товаров и выручки, но уж никак не благородным людям или юристам. Но дочь господина Франсуа де Лонга Луиза, не в пример отцу, мечтательная, романтическая девушка, воспитанная в монастырской строгости, но обожавшая рыцарские романы не меньше Дон Кихота, не разделяла отцовского отношения к гостям. Потеряв еще год назад мать, она теперь на правах хозяйки дома смогла окружить приехавших родственников такой заботой и даже лаской, что, обладая к тому же в глазах Пьера неземной, поистине небесной внешностью, затмила даже восточное гостеприимство в Александрии. Господа де Лонг жили в загородном доме предков, называя его «замком», хотя он меньше всего походил на «оборонительное сооружение», он был окружен не стеной со рвами, а густым садом, где и встречались порой случайно (а может быть, и не случайно!) молодые люди. Словом, любовь настигла мудреца задолго до его старости, и древнегреческий философ Зенон из Элеи не стал бы жалеть такую красавицу, как Луиза де Лонг, поскольку ее новый обожатель отнюдь не был глупцом. Впрочем, влюбленные глупеют, а уж о поэтах и говорить нечего — ведь настоящие стихи, как говорят, должны быть чуть-чуть глупыми, обращенные не к рассудку, а к чувствам. На беду свою, Пьер Ферма оказался и влюбленным и поэтом. Сад де Лонгов благоухал. На одной из его аллей солидно прогуливались почтенные родители: господин Франсуа де Лонг, как бы внимательно разглядывающий собственный пояс, и метр Доминик Ферма, то и дело вытирающий кружевным платком шею и подбородки. Почтенные отцы вели многозначительный разговор, стараясь за учтивыми оборотами речи скрыть истинный ее смысл, который для метра Доминика Ферма означал столь же мучительную, как и унизительную просьбу о помощи деньгами отцу и протекцией сыну, а для господина Франсуа де Лонга — стремление не связать себя никакими обещаниями, сохранив в неприкосновенности свой «золотой запас», а также не затруднить никого из влиятельных людей в Тулузском парламенте (суде) просьбой о каком-то там безвестном родственнике. — Как могли вы, почтенный метр, — назидательно отчитывал он пожилого гостя, — подвергнуть такой опасности свое бесценное здоровье, предприняв не сулившее вам никакой выгоды путешествие в Египет, которое, надо думать, привело в расстройство ваши денежные дела, на что вы, как мне кажется, намекнули. И я, право, не вижу при всем моем сострадании к родственникам покойной жены, как им удастся преодолеть эти неприятные, надеюсь, временные, затруднения, не прибегая к помощи этих отвратительных ростовщиков, которые ничем не лучше знакомых вам пиратов и, несомненно, окончательно разорят вас. Метр Доминик Ферма ничего не мог возразить безжалостно красноречивому хозяину дома и, мысленно поминая святого Доминика, лишь горестно вздыхал, утираясь кружевным платком, ибо в тысячу раз с большей охотой обратился бы за помощью к хозяину другого дома невдалеке от мечети на базарной площади Александрии, увы, отделенной теперь непреодолимым для его нынешних средств Средиземным морем. Он ничего не знал о судьбе маленького звездочета и мысленно лишь сравнивал его со своим крючкообразным родственником. На другой аллее, более глухой и тенистой, близ куста расцветших роз шел другой разговор между молодыми людьми, по-иному относящимися друг к другу, но также старающимися не выдать ни своих мыслей, ни своих чувств. — И по-вашему, мсье Пьер, поэзия существует для того, чтобы дать слово душе человека? — говорила Луиза. — Но математика всего лишь умение считать и никак не служит возвышенным чувствам души. Почему же она увлекает вас? — Поэзия — это пение души, — горячо подхватил Пьер. — Математика же — песня ума. — Как странно: пение и песня, — тихо повторила она. Так беседовали они о душе и уме. Но то, что не могли произнести уста, сказали руки, когда коснулись друг друга у розового куста. И ощущение от теплого прикосновения существа, вчера еще незнакомого, а сегодня такого близкого и желанного, было так пронзительно, что могло напомнить вопль восторга, крик радости, песню счастья, если бы непреодолимая сила условности не сковывала тех, кто уже мечтал сковать воедино свои жизни. — Мне показалось, мсье Пьер, что вы оцарапались о противные шипы этого куста. Вам больно? — Что вы, милая Луиза! Я не ощущаю никаких шипов, никакой боли! Позвольте мне сорвать для вас эту красную розу, она так украсит ваши чудесные волосы. — Ой, что вы, мсье Пьер! Папенька ведет счет каждому бутончику и будет очень недоволен, обнаружив недостачу. И не дай бог, если он увидит сорванный цветок в моих волосах, как вы того пожелали. — Я готов принять гнев вашего батюшки на себя, милая Луиза, лишь бы насладиться таким украшением ваших волос, как эта роза, цвет которой так оттеняет румянец вашего лица. И с этими словами Пьер сорвал с куста великолепную розу с капельками росы на лепестках. Луиза, прилаживая ее к гладко зачесанным темным волосам с колечками у висков, с улыбкой говорила: — Ой, какая колючая! Я боюсь, что ради меня вы исцарапали себе руку. Дайте, я пожалею ее. — В таком случае позвольте мне сунуть прежде руку в самую гущу куста. И оба счастливо засмеялись, засмеялись, потому что так ловко (или неловко!) скрывали то, что им хотелось сказать. А на другой аллее их отцы тоже рассмеялись, довольные тем, как ловко удалось им уколоть друг друга даже без помощи шипов! Метр Доминик Ферма рассказал господину Франсуа де Лонгу (в пику ему!), каково восточное гостеприимство, оказанное отцу с сыном совсем чужим и даже некрещеным арабом в Египте. В ответ господин Франсуа де Лонг справился, во сколько обошлась родственнику его жены из Бомона-де-Ломань возможность воспользоваться восточным гостеприимством нечестивого мавра. Подсчитав (оказывается, когда требовалось, он владел и математикой!), сколько пистолей заплачено за переезд через Средиземное море и во что обошлось подношение османскому паше в Александрии, и поделив полученную сумму на число проведенных у Мохаммеда эль Кашти дней, он самодовольно отметил, что не чем иным, как расточительством, трату мешка с золотом ради арабского гостеприимства назвать нельзя, и затрясся в желчном смехе, хихикая и задыхаясь от удовольствия. Доминику Ферма тоже пришлось заколыхать тучным телом в натужном смехе, горьком и подобострастном, лишь бы смягчить суровую скупость почтенного родственника, на протекцию которого для Пьера он продолжал еще рассчитывать. Между тем все, что не мог вслух произнести молодой гость, естественно вылилось у поэта Пьера Ферма в сочиненном им для Луизы сонете:
Сны — только сны
Послесловие к первой части
Жизнь человеческая подобна железу. Если употреблять его в дело, оно истирается, если не употреблять, ржавчина его съедает.Катон-старший
Печально наше послесловие, хотя Пьер Ферма потерпел лишь первое поражение, почтенный метр Доминик Ферма не пережил своего разорения, ничего не оставив ни сыну, ни другим детям, которым Пьер уступил во владение отцовский дом в Бомон-де-Ломань, сам рассчитывая лишь на самого себя, на свои замыслы и силы. Печально наше послесловие потому, что Пьер Ферма ничего не узнал о горькой судьбе маленького арабского звездочета, которого одарил таким царским подарком. Лишь много лет спустя в Париже от былого сотоварища Декарта по коллежу аббата Мерсенна, добровольного посредника в переписке ученых, он услышал, что аббат уже давно перестал получать письма от арабского знатока чисел Мохаммеда эль Кашти. Но ни аббат Мерсенн, ни тем более Пьер Ферма так и не узнали, что маленький арабский звездочет, поразительно сочетая в себе глубокие научные познания с суеверием, наивно убежденный в своей способности угадывать будущее по расположению звезд, осмелился предсказать османскому паше в Аль-Искандарии немилость султана, за что с согласия султана, уличенный к тому же в мерзостном посещении языческих капищ, был обезглавлен, и все книги его и рукописи, как колдовские, противоречащие корану, подлежали сожжению, и при стечении толпы правоверных в одну из звездных ночей (которые так ценил звездочет для наблюдений!) пламя костра вспыхнуло перед домом казненного и взметнулось от налетевшего вихря, пронесшегося над базарной площадью. Так и не удалось бедняге спасти свою голову от секиры палача османского паши. Искры и огненные птицы взлетели в черное небо, почти до уровня минарета ближней мечети. Никто не видел, где падали эти птицы. Но не исключено, что в темноте ночи некий чернокожий гигант, посветив себе факелом, притушил тлеющую птицу и унес то, что осталось от нее (быть может, таблицу?), на память о добром хозяине, иначе чем объяснить, что таблица, над которой работал французский математик, попала наконец в руки автора. Безрадостно складывалась и судьба философа в офицерском мундире Декарта. Видный мыслитель, последователи которого и в наше время называют себя картезианцами, утверждал, что все познается только опытом и наблюдением (как? А вера!!!), навлек на себя недовольство не только святой римско-католической церкви во главе с папой римским, специальной буллой осудившим и запретившим одно из главных сочинений Декарта, но также и лютых врагов католицизма — протестантов, боровшихся с католиками за власть и влияние на протяжении всей Тридцатилетней войны во многих странах Европы. Декарту пришлось принять в ней участие, но гонение вынудило его покинуть сначала Францию, а потом и Нидерланды и в конце концов оказаться в Швеции под защитой своенравной королевы Христины, которая не смогла, однако, уберечь строптивого философа от губительного для него скандинавского климата. Справедливости ради надо сказать, что он ни в чем не уступил гонителям, всегда оставался самим собой, хотя и допускал порой ошибки, одна из которых однажды снова столкнула его с Пьером Ферма в бескровной, но бурно разыгравшейся в научных кругах дуэли, о чем пойдет речь в последующих главах правдивого романа. То, что не понял Декарт в работах Ферма, потом развили Ньютон и Лейбниц, кстати говоря, споря между собой о приоритете, создав дифференциальное интегральное исчисление, гениально предвосхищенное скромным французским юристом.
Часть вторая ВЕРШИНЫ МАНЯЩАЯ ПРЕЛЕСТЬ
Жаден разум человеческий. Он не может ни остановиться, ни пребывать в покое, а порывается все дальше.Ф. Бэкон
Глава первая КОСТИ И ШПАГА
Ни одно человеческое исследование не может назваться истинной наукой, если оно не прошло через математическое доказательство.Леонардо да Винчи
Два года прошло со времени знакомства Пьера Ферма с Луизой де Лонг. Конечно, разгневанный «крючок» не оказал Пьеру никакой протекции в Тулузском парламенте, где играл известную роль. И можно понять его удивление, а потом ярость, когда он узнал, что этот выскочка Пьер Ферма все-таки умудрился получить заветное место советника суда и приезжает в Тулузу. Искушенный крючкотвор, умеющий выискивать юридические зацепки в делах, которыми занимался в парламенте, оказывается, не обладал должной проницательностью, чтобы угадать за покорной кротостью дочери несгибаемое, а вернее, пружинное упорство и изощренную находчивость (поистине женское чувство не знает преград!). Сам господин Франсуа де Лонг был по-ослиному упрям, но если справедливы слова умного острослова, что «упрямство — вывеска дураков», то упорство, каким обладала Луиза, скорее всего напоминало гибкую кость дамского корсета, сгибающуюся от усилия и тотчас разгибающуюся, едва оно ослабнет, и Луизу меньше всего интересовала разница между «вывеской дураков» и «кольчугой мудрецов», как порой философы называли упорство. И вполне может быть, что ее упругая защита была непробиваемей кольчуги. В день получения сонета Луиза, казалось бы, покорно уступила разгневанному отцу, но, едва униженные родственники покинули Тулузу и отец принялся подыскивать Луизе выгодного жениха, скромница дочь с потупленным взором приступила к действиям. Нет у мужчин оружия против женской слабости, в особенности если она присуща любимой племяннице. Это в полной мере ощутил младший брат Франсуа де Лонга, тоже юрист с кое-какими связями в Тулузском парламенте, как и все в семье. Вот через него-то, через Жоржа де Лонга, и решила добиться своего счастья наша одержимая влюбленная. И, заливаясь прожигающими мужское сердце слезами, рыдая на дядиной груди, перемежая горестные вздохи с поцелуями, она одержала полную победу над сердобольным Жоржем де Лонгом, румяным, рыхлым и добродушным, которого не наградил господь собственными детьми. Готовый расплакаться, суетливый по натуре, сейчас он был готов не без тайного (но беззлобного) торжества все сделать для дочери высокомерного Франсуа, который не упускал случая оттеснить младшего брата на задний план. Протекцию Пьеру Ферма Жорж де Лонг оказать мог, но… дело осложнялось тем, что у Пьера не было нужных средств, чтобы отблагодарить благодетелей, которые предоставят ему желанное место. Это препятствие казалось неодолимым, но очаровательная племянница смотрела на дядю такими глазами газели и в их глубине теплились такие поистине тигриные искорки, что предложенная еще невероятная сделка (чего только не придумает влюбленная женщина!), по которой благодетели должны подождать первого дела Пьера, чтобы он лишь после него расплатился б с ними, под гарантию, конечно, такого солидного поручителя, как любимый дядюшка Жорж де Лонг, показалась растроганному судейскому не лишенной смысла. И, кряхтя, сам себе дивясь, толстый дяденька Жорж пошел на все, чего пожелала племянница, и даже на большее: выплатил, как поручитель, часть обусловленной благодетелями суммы впредь до выигрыша Пьером Ферма его первого юридического дела. И ощутимый кошелек с пистолями, так приятно оттягивающий пояс, оказался ключом в Тулузский суд, позволив Пьеру Ферма вновь оказаться в желанном городе, где он рассчитывал увидеть свою возлюбленную, воспетую им за долгие два года (такие дела быстро не делаются, в особенности у судейских!) во множестве сонетов и в стиле Шекспира, и в стиле Петрарки. Надо заметить, что сонеты эти уже не попали в крючковатые пальцы почтенного родителя, ибо дочь его оказалась столь же предусмотрительной, как и покорной, сумев к тому же за эти два года с чисто отцовской придирчивостью найти убедительные доводы для отказа немалому числу выгодных женихов. Франсуа де Лонг узнал о приезде нового советника парламента в Тулузу слишком поздно, чтобы добиться отмены назначения, но, кипя негодованием, постарался, чтобы первое же порученное новому советнику дело было для него непосильным и уронило бы Пьера Ферма в глазах влиятельных людей, которых не восхитить всякими там ухищрениями в области счета или сочиненными сонетами. Таким безнадежным делом оказалось злонамеренное убийство молодым графом де Лейе маркиза де Вуазье, его соперника, домогавшегося, как и он, руки завидной невесты, ветреной красавицы Генриэтты, незаконной дочери самого герцога Анжуйского, торопящегося дать приданого за ней изрядный куш, поскольку ее заметил сам его высокопреосвященство кардинал Ришелье, духовный сан которого не позволит ему возвысить до себя легкомысленную красавицу, но… Тело пронзенного шпагой мертвого маркиза де Вуазье было найдено за монастырской стеной, в обычном месте запретных дуэлей. Ни у кого, в том числе и у судейских, ведших следствие, не вызывало сомнений, что маркиз был убит графом Раулем де Лейе во время поединка, на который маркиз сам вызвал графа в присутствии капитана кавалерийского полка, расквартированного в Тулузе, господина де Мельвиля, пригласив его быть секундантом. Поединок не состоялся в день ссоры молодых людей из-за того, что граф де Лейе, ссылаясь на какие-то неотложные дела, отказался от встречи в предложенное время, не отвергая дуэли на будущее, однако капитан так и не получил сообщения, когда она состоится. Улики множились еще и потому, что в роковую ночь граф Рауль в замке отца, старого графа де Лейе, не ночевал и категорически отказался назвать, где и с кем он провел эту ночь. Словом, по настоянию сурового Прокурора Массандра молодой граф Рауль был брошен в темницу, и ему по требованию того же неумолимого Массандра грозила виселица. Пьер Ферма отлично понимал, что требование позорной казни дуэлянту, практически никогда не применяемой, обусловлено политическими соображениями, поскольку кардинал Ришелье искоренял привилегии, дарованные гугенотам королем Генрихом IV, чьим соратником в бытность короля еще вождем гугенотов был старый граф Эдмон де Лейе. Казнь сына нанесет старому графу непоправимый удар, прекратив существование его старинного рода. Старый граф де Лейе был в отчаянии, готовый на любые траты, лишь бы спасти сына, но перед ним встало поистине неодолимое препятствие — заинтересованность самого его высокопреосвященства, который, помимо политических расчетов, был не прочь разом избавиться от двух молодых соперников, претендующих на готовое раскрыться сердце желанной для кардинала Генриэтты. И это незримое влияние его высокопреосвященства было ловко использовано господином Франсуа де Лонгом, всегда готовым угодить господину кардиналу, а кстати, и подставить ножку Пьеру Ферма. И дело с обвинением графа Рауля де Лейе было передано именно ему, неопытному юристу, которого ждал несомненный провал. Пьер Ферма, ознакомившись с обстоятельствами дела и разгадав тайные силы, действующие вокруг него, прекрасно понимал всю безнадежность положения как графа Рауля де Лейе, так и его собственного. И, как это ни странно, (а может быть, и понятно!), вместо того чтобы искать покровительства влиятельных господ вплоть до обращения к самому его высокопреосвященству господину кардиналу или даже к королю и поднесения (за счет старого графа де Лейе, конечно!) богатых подарков судейским, начиная со свирепого прокурора Массандра, который мог же, в конце концов, в зависимости от предложенной суммы смягчиться, вместо того чтобы делать все это, как поступил бы любой другой юрист тех времен на его месте, Пьер Ферма, видимо, окончательно потеряв голову, не нашел ничего лучшего, как коротать время в трактирах, переходя от столика к столику, подолгу задерживаясь там, где играли в кости, однако не делая ставок сам. Впрочем, может быть, этот новый советник парламента был и не так уж глуп, зная слабости прокурора Массандра, и не случайно оказался у столика, где господин Массандр азартно играл в кости с известным уже нам капитаном де Мельвилем. Прокурор Массандр попеременно то выигрывал, то проигрывал. Играли они в шесть костей, то есть выбрасывали сразу шесть костяшек, из которых каждая могла показать на верхней своей грани от единицы до шести очков. Такая игра считалась особенно крупной, сводила на нет некачественность отдельных костяшек и отличалась обычно крупными ставками. Гороподобный Массандр, потный от волнения, выкрикивал сумму выпавших очков хриплым голосом и страшно сердился, когда его партнер вежливо поправлял его, уличая в неважном знании арифметики. Сложить шесть цифр и не ошибиться, оказывается, дело нелегкое! Прокурор Массандр в азарте, как и при требовании смертной казни осужденным, был страшен. Его спутанные длинные волосы закрывали часть лица, которое отнюдь не отличалось привлекательностью, обладая тяжелыми чертами и огромным мясистым носом. Пожалуй, он напоминал собой некоего хищного зверя, вырвавшегося из клетки и грозящего всем, кто попадется на пути. И своим свирепым видом грозил он теперь и обходительному, учтивому капитану де Мельвилю, которого с его бравой профессией мирили лишь пышные, лихо закрученные усы, никак не вязавшиеся с невинными голубыми глазами и почти отсутствующим подбородком. А угрожал прокурор капитану потому, что ему стало везти. И напрасно понадеялся бы наш молодой советник Пьер Ферма начать игру с прокурором самому, чтобы заставить его проиграться и стать сговорчивее. Напротив, яростно сопя, тот удваивал ставки, размашисто высыпал из кубка костяшки, бросался на них ястребом и выкрикивал подсчитанную сумму. Бедный, изысканный в своих манерах капитан выкладывал содержимое своего кошелька, которое пропадало в бездонном кармане прокурора. Наконец ставка пошла на сам шитый золотом кошелек. Он тоже был проигран. Капитан уже готов был капитулировать и удалиться, но прокурор удержал его, предложив отыграться, если тот поставит свое великолепное седло, которое прокурор оценил в сто пистолей. Седло было выиграно неумолимым Массандром. Несчастный капитан сидел перед ним бледный, закусив губу. Как вернется он в свои кавалерийские казармы? Алчный же прокурор приглашающе перемешивал в кубке шесть костяшек, налил в кубок вина, не вынимая из него кости, залпом выпил и предложил последнюю ставку — лошадь капитана взамен седла и его же кошелька с пистолями, которые в нем были до игры. Капитан колебался, а Массандр искушал его, тряся костяшками в кубке. Пьер Ферма бесстрастно наблюдал за игрой, забыв про записи, которые всегда вел, наблюдая играющих. И тут капитан де Мельвиль махнул рукой, предложив прокурору Массандру бросить кости на названную им ставку. У капитана дергалась щека, а вместе с нею шевелился закрученный ус. С торжествующим кряканьем прокурор склонился над столом, напоминая выползающее на сушу морское чудовище, и протянул кубок капитану: — Делайте вашу игру, господин капитан. Я предложил ставку, — эрго, бросаю последним, — по привычке юриста вставил он латинское слово. Руки капитана тряслись. Видимо, он владел шпагой лучше, чем кубком для игры в кости. Он долго тряс костяшки, воздев свои голубые глаза ввысь и неслышно что-то шепча губами, должно быть, молитвы. Потом зажмурился и бросил кости. Пьер Ферма искренне волновался за него, и у него холод пробежал по спине, когда он увидел на столе пять единиц и одну двойку на рассыпанных костяшках. Прокурор оглушительно захохотал: — Прикажите вашему слуге, милейший, принести мне уздечку от моего коня, — нагло заявил он поникшему капитану, который ощутил весь позор, какой обрушится теперь на него. Тогда капитан робко сказал: — Может быть, господин Массандр кинет и в свою очередь кости? — Что? — презрительно повернулся своим мощным телом от капитана к Пьеру Ферма Массандр. — Вам не хочется, сударь, поупражняться в арифметике? Вы достаточно бегло считаете до тридцати шести? Считайте! Помогите господину капитану! И с этими словами Массандр, не размешивая кости, опрокинул кубок и даже не посмотрел на выпавшие кости. И только по выражению лиц окружающих понял, что дело неладно, обернулся к столу и ахнул. На нем лежало шесть костяшек, с одним очком на каждой. — Такое не может быть! — воскликнул прокурор. — Я молился, я просил чуда, господин прокурор, — тихо проговорил капитан. С яростными проклятиями Массандр отдал капитану его кошелек, наполнил его бывшими в нем прежде деньгами, вернул седло, которое, после того как было выиграно, лежало рядом на полу, встал на слоноподобные ноги и, опрокидывая на пути стулья, вышел из трактира.

Пьер Ферма смотрел на счастливого капитана и прикидывал в уме, сколько же раз надо бросить кости, чтобы получить такой невероятный случай, который едва ли помнит кто-либо, играя в шесть костей? Число бросаний, как ему удалось подсчитать, достигло совершенно невероятной цифры — в несколько миллиардов! Если бы игроки играли в орел или решку, бросая монету, то при достаточном количестве (в несколько сот) бросков их шансы были бы равны. При игре в одну кость с шестью гранями число бросаний, уравнивающих шансы играющих, становилось уже непомерно высоким, при двух костяшках практически шансы играющих уже не были равными — кому как повезет. При шести же костяшках все это невероятно осложнялось. Сам того не подозревая, Пьер Ферма закладывал основы новой отрасли математики, которая спустя столетия будет служить многим областям человеческого знания — теории вероятностей, без которой невозможны ни страховое дело, ни лотереи, и в особенности современная ядерная физика, имеющая дело с субсветовыми и сверхсветовыми скоростями, когда нет абсолютных значений величин, а есть только вероятные. Однако, как ни взволновала Пьера Ферма сцена с проигрышем прокурора, как ни удивительно было редчайшее совпадение, спасшее капитана, молившего о чуде, все же это отнюдь не спасало от виселицы обреченного графа Рауля де Лейе. Просто Пьер Ферма познал яростный нрав прокурора в непосредственной от него близости. Но он узнал также из трактирных разговоров и то, что молодой граф не дрался прежде на дуэли, в то время как маркиз де Вуазье зарекомендовал себя забиякой и бретером, уже не раз нарушая королевский запрет на поединки. Это убедило Пьера Ферма в невиновности молодого графа. Не мог он, неопытный в фехтовании, убить заядлого дуэлянта! Но эта уверенность никак не могла повлиять на судей, уже затягивающих веревочную петлю на горле графа Рауля. Нужны неопровержимые доказательства его невиновности. Римское право учит, что виновного надо искать среди тех, кому выгодно преступление. И в смерти маркиза де Вуазье, принимая во внимание его притязание на руку Генриэтты, был заинтересован один только граф Рауль де Лейе. Так что судьям даже выбирать из числа подозреваемых не приходилось. И все-таки… Пьер Ферма преклонялся перед гением Леонардо да Винчи, высоко ставя все его удивительные сверхчеловеческие познания, открытия, изобретения. Такой человек, который, будучи подкидышем, не имел родителей, появись он в Древнем Египте, вполне мог быть провозглашен пришельцем со звезд и тем же богом Тотом. Не перечислить его открытий, изобретений, мудрых мыслей, не говоря уже о непостижимом даровании художника! Вспомнил о нем Пьер Ферма в труднейшую минуту своей жизни совсем не зря. Он хорошо знал его высказывание о науках и математике: «Ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не прошло через математическое доказательство». Такова гениальная мудрость Леонардо! «Ни одно человеческое исследование»? Он как бы говорит о человечестве, глядя на него со стороны. Но вместе с тем какая глубина! Только математическое доказательство, то есть непреложное, неизменное, делает науку наукой! А наука о праве — это наука? С точки зрения Леонардо, в таком случае она должна пользоваться математическими доказательствами! Так можно ли математически доказать, что неумелый противник в состоянии убить шпагой опытного? Это столь же редкое явление, как и выпадение шести очков на шести костяшках вслед за выброшенными семью очками у партнера! И все-таки судей не убедит такая аналогия. Нужно неопровержимое математическое доказательство. Если у Пьера Ферма есть уверенность в невиновности графа Рауля, то кто же и как убил маркиза де Вуазье? И молодой советник парламента, используя свое право, отправился в темницу к графу Раулю. В темной камере с пучком соломы в углу, где содержали обычно уже приговоренных к смерти, бедный граф должен был ждать своего приговора. — Ваше сиятельство, — начал Пьер Ферма. — Я совсем ненамного старше вас, мы могли бы быть друзьями, я уверен в вашей невиновности, ибо вы плохо владеете шпагой. — Да, сударь, я всегда пренебрегал фехтованием, больше интересуясь сонетами. — Сонетами! Тогда нас уже многое связывает. Так помогите мне спасти вас. Мне нужно только одно: установить, где вы провели роковую для несчастного маркиза ночь? — Простите меня, сударь. Вы сказали, что могли бы дружить со мной, но навсегда отказались бы от этого, если бы я признался вам, где провел эту ночь. Никогда, слышите ли вы, никогда я не открою этой тайны, которая не принадлежит мне! — Ваше сиятельство, я не рискую повторить своей просьбы, даже напомнив, что грозит вам. — Пусть я умру, но уста мои не разомкнутся, чтобы ответить на ваш вопрос! Пьер Ферма покинул сырую темницу, унося с собой не только уверенность в невиновности Рауля, но и восхищение его готовностью принести в жертву свою жизнь, но лишь не броситьтень, очевидно, на одну из знатных дам Тулузы. Молодой граф Рауль де Лейе был строен, красив, обладал прекрасными манерами и, конечно, должен был нравиться дамам. А тогдашние нравы располагали Пьера Ферма к тем выводам, которые он сделал. Но если бы он даже узнал, у какой прекрасной дамы провел несчастный юноша ту роковую ночь, то ему едва ли удалось бы уговорить ее ценой своей репутации спасти мимолетного любовника. Нет! Не таковы эти знатные дамы! Нужно искать другие пути. Прав великий Леонардо да Винчи — надо искать математическое обоснование возможного вывода! И снова новый советник парламента зачастил в трактиры. Там в духоте винного перегара и запахов кухни говорили о двух событиях: о предстоящей казни молодого графа Рауля де Лейе и удивительном проигрыше прокурора Массандра всего, что было им выиграно у капитана де Мельвиля. — Игра в шесть костей — это самая благородная игра из всех азартных игр. Пусть кто-нибудь возразит мне, и я размозжу ему голову! — уверял беглый монах богатырского вида в грязной рваной сутане и со спутанными, как войлок, волосами. — Что ж тут благородного, отец мой, — заметил Пьер Ферма, подливая монаху вина, — если на все воля господня. Я сам был свидетелем случая, о котором говорит сейчас вся Тулуза, когда после семи выброшенных на шести костях очков следующий бросок дал только шесть. Все говорят — чудо. — Чудо? — наклонился к уху Пьера Ферма монах. — Чудо, сударь, не знаю как вас величать, чудо — в вине! А такой случай, о котором вы говорите, не такая уж диковинка, если хотите знать. — Ну, почтеннейший отец, с вами трудно согласиться. Я немало упражнялся в счете и пришел к выводу, что такое совпадение может повториться через столько бросаний, сколько песчинок на берегу моря, скажем, в Тулоне, где мне привелось бывать. — Тулон, Тулон! При чем тут море? Кабы в нем были винные волны, вот это было бы море! А ваше чудо не такое уж и редкое. — Ну что вы, отец мой! Математика не ошибается. — Плевать мне на вашу математику. Мне достаточно считать до десяти, поскольку у меня десять пальцев на обеих руках, и я все эти десять пальцев готов прозакладывать, что видел именно десять дней назад вот в этом самом трактире совершенно такое же чудо. А вы говорите — камешки на морском берегу. — И он пьяно захохотал. Пьер Ферма насторожился. О каком совпадении может говорить этот пьянчужка? И десять дней назад! Как раз тогда и случился роковой поединок маркиза де Вуазье с его противником. Сам не замечая, Пьер Ферма последнюю фразу произнес не про себя, а вслух. — Вот-вот! И я про то же говорю, почтеннейший! Про маркиза де Вуазье. Кто его здесь не знал? Не раз меня потчевал. Но в тот вечер он был трезв, трезв, как я в монастырском карцере, куда меня частенько запрятывал господии преподобный настоятель, изрядная гадина, скажу вам по секрету, сударь, хоть и в святые норовит пролезть нечестивый аббат. — Вы сказали, что маркиз де Вуазье не был пьян? Может быть, потому, что ему предстояло драться на дуэли с графом Раулем де Лейе? — Вот этого не знаю, сударь, хоть вы и поднесете мне еще стакан или два вина. Не знаю. Но видел, как он играл в кости. В шесть костяшек, понимаете? Серьезная была игра. Говорят, кому не везет в любви, а я, как монах, поверьте, не знаю, что это такое! — И он захихикал. — Когда не везет в любви, везет в азартные игры. А играли они азартно, смею вас уверить. — С кем, отец мой? — Как с кем? С мушкетером. Только мушкетер мог так играть. — Как, отец мой? — Ну играть, играть и проигрывать. Ведь при шести косточках отыграться трудненько, вы уж мне поверьте, сударь, до того, как я постригся, мне это было знакомо. — Так мушкетер проиграл? — Все проиграл: и кошелек с деньгами, и шляпу, и плащ с крестом, мушкетерский, и седло, и даже лошадь… — Если это мушкетер, то ведь ему предстояло ехать на ней? — Конечно, в том-то и дело. Маркиз — человек благородный, он предложил ему отыграться, поставив свою шпагу, мушкетерскую шпагу. — И тот пошел на это? — Конечно, а что ему оставалось делать? Вот тогда и произошел тот невероятный случай, о котором все сейчас болтают, будто он и повториться не может, а я сам видел. — Что же вы видели, отец мой? — Пять костяшек, с одним очком и одну с двумя: семь очков! Меньше, как говорится, и выбросить невозможно. — И кто же бросил шесть костей с семью очками? — Как кто? Мушкетер. И он выиграл с этими семью очками! Вот и все! Выиграл, черт бы его побрал, грешника! — И вы сами видели, отец мой, как на шести костяшках у маркиза выпало всего шесть очков? — Чего не видел, того не видел. Я решил, что тут и бросать нечего, думал, мушкетер теперь штаны снимать станет, ну и отошел от греха, как духовное лицо, к другому столу, где предлагали еще стаканчик вина. Но все видели, как они вместе вышли из трактира. Значит, все было в порядке, мушкетер, прости господи его грехи, отыгрался. — Так ведь вы же, отец мой, не видели этого! — А зачем видеть такую срамоту? И так все ясно. Раз они вместе вышли, значит, выпало маркизу только шесть очков. И перед утром мушкетер, этот сын греха и блудницы, сел на лошадь и уехал в полном своем мушкетерском обмундировании. Грешникам всегда везет! Можете проверить у трактирщика, рассказал, как на исповеди. Пьер Ферма проверил. Трактирщик в переднике с повязанной красным платком головой нашел еще по крайней мере трех своих посетителей, которые подтвердили слова беглого монаха. Как математик, Пьер Ферма не мог допустить, чтобы происшедшее вчера в его присутствии невероятное совпадение могло всего за десять дней до проигрыша прокурора случиться в соседнем кабачке. Если повторное выпадение семи очков на шести костяшках можно представить себе как случай, то сочетание последовательных бросков этих шести костяшек сначала с семью, а потом с шестью очками, требующее по крайней мере десятка миллиардов бросаний, произошло дважды за десять дней, было бы просто опровержением основ математики! Нет, великий Леонардо прав! Наука о праве, чтобы стать истинной наукой, должна пользоваться и математическими доказательствами. А из этого следует, что если мушкетер, ставя шпагу, отыгрался, то, очевидно, уже не в кости, а с ее помощью! Что скажет на это господин прокурор?
Глава вторая ДОБЛЕСТЬ
Что человек делает, таков он и есть.Гегель
Пьер Ферма хорошо изучил дорогу от старого в два обхвата корявого дуба с густой кроной, как у десятка сросшихся деревьев, до далекой калитки сада де Лонгов — более тысячи шагов по прямой через сочный луг. Пьер Ферма еще засветло несколько раз вымерил шагами это расстояние и мог бы идти теперь хоть с закрытыми глазами, и не только мог, но и решился на это, точно выйдя прямо к калитке, где в условленный час его будет ждать желанная Луиза. Не раз уже после приезда Пьера в Тулузу молодые люди встречались так, втайне от грозного Франсуа де Лонга, в густом саду, где под покровом ночной темноты произносились самые нежные и сокровенные слова о вечной любви и грядущих радостях. Но в этот раз Пьер Ферма шел знакомой дорогой, привычно не сбиваясь с прямой, глубоко задумавшись о предстоящем судебном процессе, где ему предстояло скрестить риторические шпаги с прокурором Массандром и где он мог рассчитывать лишь на помощь великого Леонардо да Винчи, подтолкнувшего его к математическим аргументам. Однако не было никакой уверенности, что мудрость великого Леонардо и найденные под его влиянием аргументы воспримутся досточтимыми судьями, когда им придется выносить решение о судьбе молодого графа Рауля де Лейе. В темноте калитку и не различить, если бы не белое платье Луизы, которая выбежала из сада навстречу Пьеру и бросилась ему на шею. — Почему мой метр такой грустный сегодня? — шепнула она. — Чтобы выиграть дело, Луиза, моя нежная Луиза, и соединить не только наши сердца, но и жизни, мне необходима лошадь. — Лошадь? — поразилась девушка. — Ты сказал, что наша жизнь зависит от какой-то лошади? — Да, милая Луиза. От верхового коня, на котором мне необходимо совершить путешествие, чтобы выяснить имя проезжего мушкетера, быть может и скорее всего убившего де Вуазье. — Но где взять лошадь? Купить? — Но у меня нет денег, ты же знаешь. Я совершенно не представляю, как в таких случаях поступить. Я в полной растерянности. — Вот еще! Какой же непрактичный мой милый метр! А я зачем? Чтобы вздыхать вместе с тобой? Ну нет! Боже мой! Да разве для нашего счастья я не сумею достать верховой лошади? Я выпрошу ее у дядюшки Жоржа. Для нас! Пьер покрыл поцелуями тонкие руки своей возлюбленной. Поистине он приобрел в ней на всю жизнь все понимающего друга! И снова добродушный дядюшка Жорж де Лонг не смог отказать любимой племяннице в такой пустяковой просьбе, как его верховая лошадь с высокой холкой и упругой рысью. И уже на следующий день Пьер Ферма довольно неумело сидел в жестком седле, страдая от тряски, когда лошадь переходила на свою упругую рысь. Перед выездом Пьер Ферма провел циркулем по карте окрестностей Тулузы дугу с радиусом, равным однодневному переходу. Отправляясь в сторону, противоположную Парижу, он намеревался отыскать трактир или постоялый двор, где мог остановиться перед Тулузой неизвестный мушкетер и где могли знать его имя. Целый день трясся Пьер Ферма в седле по дороге на юг и еще один день — по дуге круга, чтобы добраться до трактира, где увалень-трактирщик припомнил, что действительно недели две назад у него останавливался какой-то мушкетер, который пил вино с гвардейцем кардинала, а потом повздорил с ним. Имена их ему неизвестны, но он покажет крестьянина, семья которого выхаживает гвардейца. — Выхаживает? — удивился Пьер Ферма. — Разве он болен? — Не без этого, сударь. Они ведь повздорили с мушкетером, а тот был доблестный малый. Ферма отыскал указанный ему крестьянский дом и во дворе его встретил миловидную крестьянку, хозяйскую дочь, которую стал расспрашивать о больном гвардейце. — Ах, сударь, — призналась крестьянка. — Это такой милый человек, и я так стараюсь облегчить его страдания, достала лучший бальзам у заречной старухи (помогает от тяжелых ран!), делаю перевязки, изодрав на бинты лучшее наше полотно. Лишь бы он поправился. А какие у него усы!.. — При таких ловких руках и таком добром сердце, как у вас, моя дорогая, невозможно не поправиться. — Бог да воздаст вам за ваши слова, сударь. Вы непременно хотите его видеть? А не расскажете его высокопреосвященству господину кардиналу, где он находится? Пьер рассмеялся: — Я отнюдь не на короткой ноге с его высокопреосвященством, моя дорогая. Но если бы я предстал перед ним, то, клянусь, сохранил бы вашу тайну, ибо догадываюсь, что она освящена любовью, чувством мне знакомым. — Что вы, сударь! Как можно! — зарделась девушка и убежала. А Ферма вошел в дом, где хмурый хозяин, припадая на левую ногу, проводил его к постели раненого гвардейца, ворча: — Ох уж эти мне забияки, драчуны, не могут обойтись без ссор! Не все ли равно, кому служить: королю или кардиналу? На вилы их всех надо! Забыли, что французы. Гвардеец лежал под лоскутным пестрым одеялом, натянутым до самых его торчащих закрученных усов. Пьер Ферма наивно назвал себя и свое отношение к законности, спросив, не может ли он чем-нибудь помочь раненому. — Что? — зашевелил усами гвардеец. — Какому такому раненому? Это не меня ли вы так обозвали, сударь? Я всего лишь подвернул колено, спрыгнув с лошади, вот и залег тут. А если хотите знать, сударь, то задерживаюсь я здесь из-за одной очень миленькой мордашки. Наверняка она повстречалась вам во дворе. Не вздумайте воспользоваться моим увечьем, не советую, — грозно добавил он. Пьер Ферма понял свою оплошность. Конечно, гвардеец теперь ни за что не признается, что ранен в поединке с мушкетером, страшась гнева кардинала и виселицы судейских, наверняка подославших к нему этого советника парламента из самой Тулузы! Так и оставил Пьер Ферма раненного мушкетером гвардейца, уехав ни с чем и пожелав ему выздоровления на руках миловидной крестьяночки, а сам отправился по дороге на юг, откуда, видимо, приехал мушкетер. Еще один дневной переход верхом на лошади с упругой рысью помог Пьеру Ферма полностью познать все тяготы солдатской жизни, из которых самыми тяжкими, как ему казалось, были мучения от сбитых седлом частей тела, чувствительных к непереносимой тряске при езде рысью. В попадавшихся ему трактирах о мушкетере ничего не знали, но в одном из них посоветовали наведаться в расположенный поблизости замок местного дворянина, который мог принять у себя заезжего гостя. К замку Ферма подъехал в самый неподходящий час и столкнулся с похоронной процессией. За гробом шли все домочадцы и слуги умершего владельца замка. Спешившись, Пьер присоединился к процессии, стараясь выяснить, что произошло с дворянином. Провожающие в последний путь усопшего не отличались разговорчивостью и хмуро поглядывали на примкнувшего к ним чужака. Но совсем по-иному отнеслась к нему вдова покойного. Высокая, стройная, еще молодая, жгуче-черная, с горящими глазами, вся в трауре, она, гордо выпрямившись, стояла у края свежей могилы и первая бросила в нее ком земли, кем-то протянутый ей, беззвучно шепча губами или молитву или клятву. И не горе, а скорее гнев воплощала в себе ее черная напряженная фигура на фоне вечернего неба. Она заметила незнакомца, когда все возвращались в замок, и приказала седому слуге подозвать его к ней или привести. Когда Пьер предстал перед нею, то почувствовал острый сверлящий взгляд. — Сударь, я не знаю вас, но благодарна за ваше участие в нашей горестной процессии. Не угодно ли будет почтить память усопшего во время поминальной тризны? Не откажите в таком случае в любезности назвать свое имя. Пьер Ферма после встречи с раненым гвардейцем решил больше не называть себя, но сейчас не мог солгать этой гордой и гневной вдове. Он признался ей, кто он есть. Женщина оживилась, насколько это было возможно в ее состоянии: — Вот кого больше всего в жизни я хотела бы видеть сейчас! — воскликнула она. — Сам господь бог привел вас ко мне в этот горестный час. Я клялась над могилой мужа отомстить за него этому проклятому гасконцу, которого мой муж приютил у себя. — Чем я могу быть вам полезен, мадам? — Вы представитель закона, и к вам я взываю о мести. — За что и кому хотели бы вы мстить с помощью закона? — Убийце моего мужа. — Кто же этот злосчастный преступник? — Мушкетер, гасконец, дворянин. То, что он мушкетер, было видно по его плащу с крестом, гасконца выдавало его произношение и склонность к грубым шуткам, и только дворянин мог быть противником моего благородного мужа в поединке, вызванном спором. Имя же преступника пусть установит закон! — В чем же заключается спор, мадам? — Мы, женщины, никогда не поймем мужчин до конца. То, что нам представляется совсем незначительным, им кажется достаточным для того, чтобы рисковать своими жизнями. — Сколь же важна была тема спора хозяина замка с его гостем? — Ах, не спрашивайте, сударь. Мне горько повторять то, что я слышала своими ушами. — Они спорили, смею спросить, о святой вере и гугенотах? О короле и кардинале? О королеве Анне и герцоге Букингемском? Или о нескончаемой войне за правую веру, или о философе Декарте и папе римском? — Ах нет, нет, сударь! Совсем иное. Они поссорились из-за того, с какого конца надо разбивать вареные яйца, которые я принесла им на завтрак! Муж разбивал их с тупого конца, а гость стал насмехаться над ним с чисто гасконской наглостью, уверяя, что истинно благородные люди разбивают яйца с острого конца и что так можно отличить выдуманное благородство рода от подлинного. — Так из-за яиц и состоялась дуэль? — Из-за чести нашего рода, сударь. Оскорбленный муж был смертельно ранен, я выхаживала его все эти дни, но господу угодно было взять его к себе. Но он требует отмщения! Могу ли я рассчитывать на вас, сударь? — Я обещаю вам лишь одно, мадам: выяснить имя этого гасконского дворянина, состоявшего в мушкетерах его величества короля. Именно ради этого я и приехал в ваш замок, не подозревая, что разыскиваемый мной мушкетер успел проявить здесь свою доблесть. — Доблесть? Доблесть, сударь, проявляют в сражении с врагом, а не в уплату за гостеприимство. Уезжая из замка еще до начала поминальной трапезы, Пьер Ферма, не только юрист, но и поэт, уносил в душе гневный образ жаждущей мщения вдовы, демонически прекрасной в своей ненависти, рожденной любовью. Возвращение в Тулузу было печальным для Ферма. Он почти ничего не узнал, потратил драгоценное время и чувствовал себя совершенно разбитым и больным от непривычной верховой езды. До дня суда остались считанные дни, а он не мог и думать о том, чтобы сесть в седло и начать поиски следов мушкетера по дороге в Париж. И тогда он вспомнил о сотоварище Декарта по коллежу, ныне аббате Мерсенне, живущем в Париже, с которым он вел научную переписку, сообщая через него всем интересующимся математикой ученым о своих изысканиях и открытиях. И Пьер Ферма сел за письмо. Но всякий человек всего лишь человек со всеми присущими ему слабостями. Пьер Ферма не был бы самим собой, если б увлечение математикой не захватывало его всего целиком. И письмо, обращенное через аббата Мерсенна к другим ученым, было прежде всего научным с неизвестными до того выводами, не содержа, кстати говоря, по обычаю Пьера Ферма, найденных им доказательств, которые он предлагал своим современникам найти самим. Неизвестно, чего здесь было больше: гордости, ставящей его выше всех, кто не сумеет пройти его путем, лености, не позволяющей ему затрудниться обоснованием своих гениальных догадок, или «научного озорства», если эти два слова можно поставить рядом. Но в этой манере общения ученого его времени сказывался своеобразный характер Пьера Ферма. Так письмо о математическом определении вероятности событий, которое спустя столетия выльется в современную теорию вероятностей, было закончено, многократно переписано, чтобы достичь стилистической завершенности и такой увлекающей научной загадочности, которая побудила бы мыслящих читателей искать в открытом Ферма направлении. И только в самом конце, в постскриптуме, Пьер Ферма просил своего научного посредника Мерсенна узнать у капитана королевских мушкетеров господина де Тревиля, каково имя мушкетера-гасконца, проезжавшего через Тулузу по пути в Париж две с лишним недели тому назад. Письмо отнес на почтовую станцию трактирщик, поскольку Пьер Ферма после своего непривычного путешествия верхом отлеживался в каморке, снимаемой в трактире «Веселый висельник», где недавно проигрался прокурор Массандр. Пьер Ферма с горя занимался математикой, написал стихи о гневной вдове, но страдал не только от боли, но и тоскуя по Луизе. Что же касается болевых своих ощущений, то он вполне мог считать себя раненным в самые неподобающие места доблестным гасконцем, которому даже не понадобилось для этого вызывать его на поединок. Несмотря на боль, Пьер вскакивал всякий раз, когда ему казалось, что кто-то подходит к его двери, быть может, неся долгожданное письмо. Но письма все не было. И тут Ферма понял, что опять совершил непростительную ошибку, соединив в одном письме и свое новое математическое открытие, и столь важную и так незаметно высказанную просьбу к аббату Мерсенну. Конечно, аббат Мерсенн прежде всего как ученый обратит внимание на математическую часть письма, начнет копировать ее для рассылки другим ученым, в чем неоценима его заслуга добровольного посредника в научной переписке, а что касается просьбы (для Ферма главной в этом письме!), то он вполне мог придать ей такое же второстепенное значение, как и небрежно отведенное ей место в коротенькой приписке. Пьер был в отчаянии, кляня себя за непредусмотрительность. И когда в очередной раз он кинулся к двери, то, открыв ее, увидел за порогом пышно одетого вельможу, появление которого в таком второразрядном трактире, как «Веселый висельник», казалось просто непостижимым. Вельможа раскланялся в старомодном поклоне. У него было сухое, чем-то знакомое Пьеру лицо с благородными чертами, вышедший из моды парик, в руке он держал, как посох, дорогую трость с головкой из слоновой кости с золотой инкрустацией, такой же, как на шитом золотом камзоле. Церемонно закончив приветствие, он произнес, гордо вскинув голову: — Убитый горем граф Эдмон де Лейе перед вами, почтенный метр! Позвольте называть вас так, поскольку ваше положение советника Тулузского парламента дает вам на это право. — Прошу вас, ваше сиятельство, но мне даже неловко принять такого высокого гостя в столь убогом месте. — Пусть оно будет последним таким убежищем в вашей предстоящей жизни, молодой метр, жизни, полной удач и благоденствия. Я могу пока судить о вас лишь по вашей внешности, а она внушает мне надежду на спасение моего несчастного сына, дело с обвинением которого поручено вам парламентом. — У нас общая надежда, ваше сиятельство, ибо, изучив дело, я пришел к заключению о безусловной невиновности вашего сына. — Да благословит вас господь за эти ободряющие меня слова, но сумеете ли вы убедить в этом досточтимых судей? — Я стремлюсь использовать для этого все доступные мне средства, включая даже такую непреложную науку, как математика. — Непреложную, неподкупную, — вздохнул старый граф. — Если бы жив был прежний король, который знал и ценил меня, то, уверяю вас, не пришлось бы говорить или думать о неподкупности. Для меня, поверьте, жизнь моего сына ценнее всех сокровищ мира, и я готов сделать вас своим наследником наравне с ним, если вы спасете его от позорной для всего нашего старинного рода гибели. — Я не посмею считаться вашим наследником, ваше сиятельство, хотя счел бы это для себя высшей честью. Прошу правильно понять меня: я посвящаю себя борьбе за справедливость и не усматриваю в своем простом происхождении препятствий к этому. — Вы благородный молодой человек, пусть и не по рождению! Я хотел бы, чтобы у моего сына были подобные друзья. — Я виделся с вашим сыном, ваше сиятельство, и сам предложил ему свою дружбу. — Значит, вы верите, что он может ею воспользоваться? — Я хочу в это верить. А высшей формой веры я считаю убеждение. А я убежден в оправдании графа Рауля де Лейе! — Я благодарен вам, молодой метр, внушающий мне надежду и почтение! Извините старика, но я постараюсь, чтобы вы, спасши моего сына, ощутили бы мою благодарность не только на словах. И с этим старый вельможа покинул комнатушку Пьера Ферма в трактире «Веселый висельник», около которого на улице, сверкая лаком, ждала карета с графским гербом, запряженная четверкой белоснежных лошадей с дугой согнутыми шеями. Ферма из своего покосившегося окошка с туго открывающейся рамой наблюдал, как, окруженная толпой зевак, карета отъехала от трактира, и, глядя вслед ей, горестно вздохнул. Письма от аббата Мерсенна все не было, день суда приближался, и, внушив малообоснованную надежду старому графу, Пьер Ферма должен был отправиться в парламент, по существу, почти безоружным. Но не таков был Пьер Ферма, чтобы пасть духом, он готов был сражаться и одними лишь математическими аргументами, но если письмо подоспеет, его силы умножатся. Об этом он и написал в записке Луизе, не в состоянии дольше откладывать свидания с ней. Он достал из заветного ящика позади кровати почтового голубя, врученного ему Луизой, и, привязав записку к его лапке, выпустил его в открытое окно. Посланец, как всегда, даст Луизе знать о назначенном на сегодня ночном свидании. Морщась от боли на каждом шагу, добрался Пьер до заветного дуба, а с наступлением темноты и до заветной калитки. Сознание, что письма Мерсенна все нет, терзало его, но, когда Луиза дуновением теплого ветра выпорхнула из калитки и бросилась ему на шею, он словно обрел новые силы. Но Луиза из записки, принесенной голубем, знала, что его волнует и угнетает. — Не сокрушайся, мой милый, — прошептала она, припадая к его груди. — Когда ты рядом, милая Луиза, я чувствую себя рыцарем на ристалище. — Пусть всегда в трудную минуту твоей жизни я стану являться, чтобы стать с тобою рядом, взяв тебя за руку. — Да, но суд завтра, уже завтра… — ответил Пьер. — Ну и что же? Почтовая карета из Парижа тоже прибудет завтра. — Но кто доставит мне письмо, если оно придет, а я буду в суде? — Ты думаешь, мой милый метр, что существует одна только голубиная почта, служившая нам? — не без лукавства спросила Луиза. Пьер привлек ее к себе. Все казалось теперь не таким уж мрачным, как час назад, он обрел новые силы, уверенность, а главное — жажду счастья. И не только себе, но и молодому, и старому графу де Лейе, гневной вдове, всем людям!
Глава третья КАЗУС ИРРАДИЦИБУЛЮС
Можно сломать шпагу, но нельзя истребить идею.В. Гюго
В зале суда в этот летний день было жарко, душно, но торжественно, хотя в отличие от помпезных процессов будущих столетий судейская процедура обходилась и без присяжных заседателей, и без зрителей, и даже без скамей для них. Зато судьи в длинных черных мантиях и судейских шапочках, в седых завитых париках, с тяжелыми золотыми цепями на груди, восседая со строгими лицами в жестких креслах с высокими спинками, являли собой всю полноту королевской власти Людовика XIII, повелевающего именовать себя Справедливым. Все это не могло не внушить обвиняемому молодому графу Раулю де Лейе трепетного чувства, которое еще более усиливалось видом свирепого прокурора Массандра, чья огромная туша, тоже облаченная в мрачную мантию, схожую с покрытием стога сена в дождливую пору на крестьянском дворе, угрожающе возвышалась над кафедрой, потрясая завитым париком, прикрывающим спутанные неистовые прокурорские волосы. Советник парламента Пьер Ферма в новенькой, впервые надетой и стесняющей его движения мантии сидел не напротив (что впоследствии станет принятым), а рядом с прокурором, как недавно за трактирным столом во время игры в кости, когда Массандр оглашал заведение победным рычанием. С подобным же ревом или рыком обрушился сейчас прокурор и на обвиняемого графа Рауля де Лейе, уличая его в том, что он принял вызов маркиза де Вуазье на запрещенный королевским указом поединок, что он неизвестно где провел ночь убийства отважного маркиза, преступно пронзенного шпагой, очевидно, во время состоявшейся между ним и графом Раулем де Лейе незаконной дуэли, и что смерть аристократа — гордости Тулузы — выгодна одному лишь графу Раулю де Лейе, добивающемуся, как и покойный маркиз, руки очаровательной и богатой невесты. И поскольку преступление всем этим безусловно доказывается, дуэлянта, как злонамеренного убийцу, следует повесить. Граф Рауль де Лейе бледный, как после опасной потери крови, выслушал прочтенное прокурором с яростными выкриками обвинительное заключение, стоя с поникшей головой. Его шелковистые длинные волосы ниспадали на точеное лицо с почти девичьими чертами, так высоко оцененными одной из местных знатных дам. Судебная процедура тех времен не отличалась традициями правопорядка. Дискуссия между прокурором и советником парламента могла переходить в шумный спор на богословскую или иную тему, отличаясь не только различием мнений, но и резкостью выражений. Спокойный голос нового советника парламента не обещал подобной ситуации, но заданный им метру Массандру вопрос озадачил и прокурора и судей. Но поскольку он касался интересных подробностей столь занимательного предмета, как азартная игра в кости, а также неясных слухов о невиданном проигрыше метра Массандра, судьи с любопытством отнеслись к вопросу Пьера Ферма: — Не помнит ли почтенный метр Массандр, сколько очков выбросил капитан де Мельвиль, выступающий свидетелем обвинения по рассматриваемому делу, во время последней ставки, играя с вами в кости в трактире «Веселый висельник»? Массандр возмущенно напыжился, ибо одного воспоминания о досадном проигрыше было достаточно, чтобы вызвать у него приступ печени, а тут еще этот начинающий судебный щенок пытается представить его, прокурора, в невыгодном свете перед досточтимыми судьями! Он пыхтел, надувался, как бычий пузырь, и молчал. Между тем на неумолимо строгих лицах досточтимых судей проявился проблеск интереса, вызванного у всех троих разными причинами. Дряхлый председатель суда (главный уголовный судья) в седом парике, скрывающем лысину, с птичьим носом, бесконечно усталый от судебных передряг и прожитых лет, оживился, приподнимая набухшие веки, что делал лишь при мысли о денежных кушах. Если он не принял крупного подарка старого графа де Лейе, то лишь из опасения, что оправдание молодого графа будет неугодно его высокопреосвященству господину кардиналу, но упоминание о неприятной потере, постигшей метра Массандра, доставило судье истинное удовольствие. Второй судья, с костяным лицом, обтянутым кожей, и с впалыми щеками, был страстным любителем игры в кости, и от предвкушения увлекательных подробностей азартного сражения у него под клочками бровей загорелись маленькие глазки. Третий же из досточтимых судей, розовощекий и упитанный, славился как большой охотник до всяческих слухов и сплетен, и возможность позлословить после суда об этом зазнавшемся толстяке, непочтительно шумном да еще и коротающем время в трактире «Веселый висельник», заставило розовощекого судью обрадованно насторожиться. Словом, досточтимые судьи с немалым интересом готовы были выслушать подробности события, казалось бы, не имеющего отношения к скучному и предопределенному судебному разбирательству такой обычной истории, как запрещенная дуэль. — Суд интересует подробность, связанная со свидетелем обвинения, — прошамкал нашедший благовидный повод председатель суда и клюнул носом. Массандру пришлось отвечать: — Капитан де Мельвиль, играя со мной в шесть костяшек, последним своим броском выбросил семь очков. — И вы проиграли, метр? — ужаснулся судья — любитель игры в кости. — С семью очками у партнера? Этого не может быть! — Проиграл, ваша честь, — мрачно признался Массандр. — Видно, недремлющий враг человеческий подтолкнул меня под локоть, когда я опрокидывал кубок с костями, выбросив шесть очков. — Поистине не без того, — покачал головой азартный судья, облизывая пересохшие губы и представляя себя на месте играющих. — Как вы полагаете, почтенный метр, через сколько времени мог бы повториться этот приключившийся с вами прискорбный случай? — невинно спросил Ферма. — Это не товары и не выручку купцам считать, но представить себе такой счет можно: если играть без сна, обеда, завтрака и ужина и во всех городах Франции, во всех ее трактирах, то лет так через сто, а то и через двести, может быть, и повторился бы такой невероятный случай. — Совершенно с вами согласен, уважаемый метр, готов распространить игру хоть на все страны мира и даже удвоить названный вами срок. Но не кажется ли почтенному метру, что его сиятельство граф Рауль де Лейе, плохо владеющий шпагой, ни разу не вызванный на дуэль, не мог убить в поединке опытного дуэлянта маркиза де Вуазье? — по-прежнему ровным голосом спросил Пьер Ферма и добавил: — И что подобный случай мог быть столь же редким, как и причинившее вам неприятность сочетание костяшек. Массандр почувствовал подвох и повысил голос: — Какие у вас к тому доказательства, сударь? — Прежде всего ваши собственные математические выводы, в известной мере интуитивные, но верные, уважаемый метр! Вы с глубоким проникновением в суть вещей блистательно определили период возможного повторения необычайного сочетания выпадающих на костяшках очков. Массандр побагровел и обратился к судьям: — Тогда, досточтимые судьи, пусть советник парламента разъяснит суду, что общего между случайно удачным ударом шпаги и неудачным броском костяшек? — Там и тут действует математическая вероятность, что, несомненно, поняли и без меня досточтимые судьи, — почтительно ответил Пьер Ферма. — А почему бы вам не вспомнить, скажем, случайное падение с лошади с увечьем упавшего? — Но за это не судят посторонних людей, не требуют им смертной казни, как делаете это вы, уважаемый метр, в рассматриваемом деле. — Не хотите ли вы сказать, что ваша арифметика может опровергнуть юридические факты? — Я лишь хочу сказать, что математика способна оказать следствию неоценимую услугу. — Досточтимые судьи! — взмахивая мантией, как черным крылом, воскликнул Массандр. — Взываю к вашей мудрости и верноподданническим чувствам к королю и его высокопреосвященству господину кардиналу! Здесь, в этом священном зале Справедливости, нас хотят убедить в том, будто ловкость счета, полезная лишь в торговом деле, может рассматриваться как юридическое доказательство! Справедливость, которую воплощает собой король, а здесь его слуги, досточтимые судьи, — это высшее проявление разума человеческого, она подобна вере, истинной и нерушимой. — Веровать можно в господа бога, а верить должно фактам и доказательствам, почтенный метр, — парировал ответ прокурора Пьер Ферма. Поскольку спор перешел на теологическую тему, то по традиции судьи не решались его приостановить. Массандр яростно ухватился за последние слова Пьера Ферма. — Да позволено будет мне вспомнить в таком случае об утверждении некоего Картезиуса, который убеждал в своих сочинениях, будто все вокруг познается лишь опытом и исследованием, и, пренебрегая истинной слепой верой, то есть верованием в господа бога, пытался доказывать арифметически его существование. В тщетных попытках начинающего советника парламента я усматриваю такое же пренебрежение устоями святой церкви, как в учении Картезиуса, и призываю досточтимых судей напомнить советнику парламента, что в зале суда нет приверженцев равно отвергнутого и святой католической церковью, и даже заблудшими гугенотами нечестивого Картезиуса. Пьер Ферма внутренне поежился. Картезиус, опять Рене Декарт! Как неожиданно появилась теперь его тень перед ним! Массандр использует все приемы красноречия, чтобы отвратить судей от аргументов в пользу обвиняемого. Но Пьер Ферма недаром владел математикой и тем, что мы называем в наше время математической логикой, он предвидел такой возможный поворот в судебной дискуссии. Судьям трудно провести аналогию между случаем при игре в кости и происшествием на дуэли, хотя и одинаково невероятных, но возможных. И поэтому он заготовил неожиданный для прокурора и досточтимых судей удар: — Я ценю завидную начитанность уважаемого метра Массандра в латинских сочинениях Картезиуса, мне знакомых… — Которые запрещены специальной буллой святого папы римского как богопротивные, — прервал Пьера Ферма Массандр. — Я отнюдь не склоняю досточтимых судей к заблуждениям Картезиуса, но я уверен, что они, истые ревнители святой католической веры, не уподобятся языческой богине правосудия с завязанными глазами, и, хотя почтенный метр Массандр готов уравнять слепую веру со слепым правосудием, я, католик и француз, истово верую в бога, но так же истово верю и в Справедливость как в категорию, опирающуюся на знание, на науку, которой может и должна служить математика. Из сообщения досточтимым судьям уважаемого метра Массандра следует, что прискорбный его проигрыш в трактире «Веселый висельник» — явление чрезвычайно редкое, в чем, как мне представляется, сходимся даже мы с почтенным метром. И я позволю задать господину прокурору очень важный вопрос. Председатель суда кивнул головой, вернее, клюнул носом и приоткрыл глаза. — Можете ли вы допустить, метр Массандр, что несчастный случай с костяшками во время вашей игры с капитаном Мельвилем произошел до этого всего за десять дней, а не за двести лет, как вы предположили, притом в том же городе Тулузе и даже в соседнем трактире, носящем название «Счастливый гуляка»? — Нет! Решительно нет! Игра в кости такого не допускает, что касается чудес, то господь бог творит их вовсе не во время греховных игр. — Значит, метр Массандр причисляет себя к грешникам? — В этом я исповедуюсь настоятелю церкви святого Доминика, а не в зале суда, где произношу обвинительное заключение по бесспорному делу о преднамеренном убийстве, которое должно караться виселицей, — яростно зашипел метр Массандр. — В таком случае я обращаюсь с просьбой к досточтимым судьям выслушать приглашенных мной свидетелей, ожидающих у дверей парламента. — Каких еще свидетелей? Свидетелей убийства маркиза де Вуазье? — ощерился Массандр. — Нет, почтенный метр, свидетелей игры маркиза де Вуазье в кости. — Протестую, — зарычал Массандр. — Дело ясное и без азартных увлечений покойного маркиза. Но поскольку опять всплыли кости и, видимо, еще один любопытный случай в этой игре переменного счастья, судьи снова насторожились и, уйдя тем самым от неясного им богословского спора о каком-то еретическом философе Картезиусе, чьи трактаты никто из них не читал (где еще и о папской булле!), не прочь были выслушать свидетелей, которые, очевидно, не будут затрагивать этих премудрых вопросов. — Суд интересуют все обстоятельства, что предшествовали кончине покойного маркиза де Вуазье, — решил председатель суда. И досточтимые судьи получили полную возможность смаковать подробности игры в шесть костей маркиза де Вуазье с проезжим мушкетером, о чем им под присягой поведали и облачившийся в чужую, готовую лопнуть на нем сутану, воздевающий к небу опухшие глаза грузный монах, и подобострастный трактирщик, и три его ничем не примечательных завсегдатая, горожане. Точными вопросами к ним Пьер Ферма воссоздал картину необыкновенной ситуации, когда, пытаясь отыграться и поставив на свою шпагу, мушкетер выбросил, как и десять дней спустя прокурор Массандр, всего семь очков, после чего партнеры вышли вместе из трактира, а на рассвете мушкетер уехал на проигранной им до того лошади в возвращенном ему седле и в полном вернувшемся к нему мушкетерском обмундировании. — Если уважаемый метр продолжает утверждать, что повторное сочетание семи очков с последующими шестью очками при игре в шесть костей не могло в столь короткий срок, как десять дней, повториться (а что оно недавно произошло, подтвердил здесь сам прокурор), то не допустит ли он, что для выигрыша мушкетеру не требовались кости? — Это как же? Игра в кости без костей? — прервал Пьера Ферма сухощавый судья. — Монах целовал крест, что мушкетер прозакладывал свою шпагу и выбросил всего семь очков. Как же он выиграл? — Вы совершенно правы, ваша честь. Никто не видел, сколько очков выбросил маркиз. Но, очевидно, не шесть, как справедливо считает почтенный метр прокурор, ибо не может повториться столь небывалое сочетание дважды подряд, чему свидетельством сама бесстрастная математика. Следовательно, азартная игра если продолжалась, то уже по-другому. Проигравшийся мушкетер мог оскорбить высокородного маркиза, который при свойственном ему благородстве и готовности защитить свою честь принял вызов или вызвал на поединок мушкетера сам и погиб, пронзенный мушкетерской шпагой, после чего победитель счел себя законным наследником всего им перед тем проигранного и, как уже установлено, уехал восвояси. — Это вольное допущение, господа досточтимые судьи! Его можно рассматривать лишь при возбуждении судебного преследования против неизвестного мушкетера, что возможно после установления его имени! — громогласно заявил прокурор и победно опустился на стул, взмахнув перед тем мантией, как черным крылом. Вот этого поворота в судебном разбирательстве больше всего боялся Пьер Ферма. Он знал, что в парламенте не принято откладывать решение по начатому делу из-за невозможности возбудить другое дело, тем более что в данном случае его нельзя возбудить, так как долгожданное письмо от аббата Мерсенна все еще не пришло. Холодок пробежал по спине Пьера Ферма. Он мысленно увидел, как ведут на эшафот молодого графа Рауля де Лейе, как надевают на тонкую его шею смазанную ворванью вонючую веревочную петлю, как палач в маске готов выбить из-под него скамью, а он, Пьер Ферма, безусловно уверенный в его невиновности и наверняка знающий, кто убил на поединке маркиза де Вуазье, бессилен предотвратить гибель молодого человека, будучи тем самым виновен в его неотвратимой смерти. — Суд может прекратить дело против одного обвиняемого, если будет назван по имени другой, — произнес как приговор молодому графу председатель суда, который подумал о том, что предстоящим решением угодит его высокопреосвященству господину кардиналу. А Пьер Ферма клял себя, виновника собственного провала и горькой участи графа Рауля де Лейе; ведь разработанные Пьером Ферма зачатки теории вероятностей, к которой обратился он ради спасения графа Рауля, из-за вызванного к этим находкам интереса ученых могли теперь оказаться причиной гибели молодого человека, если аббат Мерсенн, увлеченный математикой, промедлит и не найдет следов мушкетера! Пьер Ферма понял, что проиграл, поднял глаза на обвиняемого и встретился с умоляющим взглядом графа Рауля. Снаружи от дверей парламента донесся шум. Председатель суда недовольно приоткрыл веки и увидел вошедшего стражника. — Ваша честь, — начал тот. — Девица де Лонг настоятельно требует, чтобы ее допустили предстать перед вами. Граф Рауль вздрогнул. Пьер Ферма одобрительно кивнул ему. — Протестую! — воскликнул прокурор, размахивая полами мантии. — Женщинам не место в зале Справедливости. Сам господь бог лишил их этого чувства. — Ограничимся обвинением обвиняемого, а не всего прекрасного пола, метр, — внушительно заметил председатель. — Девица де Лонг настаивает на своем показании? Не дочь ли это нашего Франсуа де Лонга? Может быть, ее почтенный отец хочет внести через нее ясность в рассматриваемое нами дело? Лишь ради него, не раз служившего Правосудию, разрешаю допустить девицу де Лонг в зал парламента. Пьер Ферма весь напрягся, чтобы ничего не выразить на лице. Вошла Луиза, и ему показалось, будто открылись сразу все окна, солнечныйсвет хлынул через них вместе с запахом цветущих деревьев. Трудно было сохранить каменное лицо. Луиза присела в глубоком реверансе и, потупив глаза, сделала несколько шагов по направлению к досточтимым судьям. — Подойдите, дитя мое. — Председатель перестал шамкать. — Вы явились сюда по поручению вашего почтенного отца, чтобы сделать какое-то сообщение по рассматриваемому делу? — Нет, ваша честь, мой отец не знает, что я пошла сюда с письмом, которое может иметь важное значение для суда. — Без разрешения отца? — воскликнул розовощекий судья. — Тогда по чьему же разрешению, дозвольте узнать, так поступает мадемуазель? Не связана ли она чем-нибудь с графом Раулем де Лейе? Не обманута ли она им? — Я не имею чести знать его, ваша честь. — Сомнительно, — покачал головой розовощекий судья. — Если вы не можете назвать, чье поручение выполняете, то мне придется удалить вас из парламента, дитя мое, — заявил сразу охладевшим голосом председатель. — Ваша честь, — обратился к нему сухощавый судья, — может быть, мадемуазель объяснит цель своего прихода? — Он ждал осложнений, которые обожал. — Я принесла вам письмо, ваша честь.

— Письмо? Откуда? — допрашивал председатель. — Из Парижа, ваша честь. — Оно адресовано нам, членам парламента? — Нет, ваша честь. — Кому же? — Советнику парламента господину Пьеру Ферма. — Ах Пьеру Ферма! Я так и думал! — воскликнул розовощекий судья, с хитрецой посматривая на молодого советника, который сидел, опустив глаза. — И вы не могли, дитя мое, подождать, пока советник парламента метр Ферма вернется домой, чтобы с глазу на глаз передать ему «секретное» письмо? — ворчливо произнес председатель. — Я никогда не бывала у него дома, ваша честь. А письмо совсем не секретное, и я ждала его на почтовой станции, пока не прибыла карета из Парижа. И поспешила доставить письмо сюда. — Для чего? — спросили разом все трое судей. — Чтобы вы прочли его, ваша честь, и вы, и вы, ваша честь. — Но ведь оно адресовано не нам, пусть советник и читает его, — начал сердиться председатель суда. — Ваша честь, — поднялся со своего места Пьер Ферма, — если мне дозволено будет выразить свою просьбу, то в интересах рассматриваемого дела и Правосудия я прошу вас предложить уважаемому господину прокурору вслух прочитать адресованное мне письмо. Досточтимые судьи были слишком заинтригованы, чтобы отказать советнику парламента.
Глава четвертая СЛЕДЫ
Никогда не знает меры счастье!Сенека
Прокурор Массандр гневно откашлялся, взломал печать, с хрустом вскрыл письмо и стал читать низким недовольным голосом, часто запинаясь, создавая впечатление, что он или плохо разбирает почерк, хотя каллиграфическим строчкам могли бы позавидовать судейские писцы, или вообще с трудом читает по писаному. — «Многочтимый и дорогой друг! Ваше последнее письмо доставило мне огромное удовольствие, более того, наслаждение от сознания вашей плодотворной деятельности в различных областях математики, где вы продолжаете неустанно делать все новые открытия». Какое это имеет отношение к парламенту? — проворчал Массандр. — Прошу вас, метр, — клюнул носом председатель. — «Вероятность события, которая до сих пор считалась неисповедимым деянием господним, определяемая вами математическим путем, отвергает отныне суеверия, связанные с гаданием и прочими проявлениями невежества». — Массандр оборвал себя и зарычал: — Не я ли говорил, досточтимые судьи, что метр Ферма покушается на основы веры, пытаясь арифметикой измерять веления всемогущего господа нашего. — Аминь, — сказал председатель, — продолжайте, метр. — Подчиняюсь, ваша честь, но кровь католика клокочет во мне. «Я усердно переписал ваше письмо, как и прежде, сожалея, что вы ограничились выводами из своих наблюдений, не приводя столь любопытных доказательств, предлагая найти их самостоятельно вашим читателям, кои интересуются математикой. Не отрицая заманчивости такого предложения, я все же осмеливаюсь еще раз посоветовать не затаивать вами найденного, а по-братски делиться со всеми, кто, как и вы, любит науку и служит ей. И еще прошу вас, друг мой, найти время, чтобы собрать все уже вами написанное в письмах и представить в виде рукописи, включающей доказательства, могущей стать первой книгой вашего собрания сочинений, изданию которой я мог бы содействовать, считая вас продолжателем дела таких великих умов, как Диофант». Пьер слушал, не поднимая глаз. Когда же почтенный аббат дойдет до выполнения его просьбы, или он вообще игнорировал (или не заметил) ее? — «Что же касается вашего постскриптума, дорогой друг, то я должен извиниться перед вами…» «Ну вот! Все кончено! Аббат Мерсенн не побывал у де Тревиля, сочтя неудобным такое посещение для духовного лица!» — «…извиниться за то, что, увлеченный вашей математической находкой, я попросту не сразу заметил приписку». «Так и есть! Этот Мерсенн, говорят, еще в коллеже отличался тем, что читал в книге только начало страниц!» — «И лишь при снятии пятой копии с вашего письма я понял, что оно содержит не только математические мысли. Я думаю, большой беды не произойдет от того, что я отложил посещение Лувра до отправки всех копий вашего письма моим научным корреспондентам, которые, не сомневаюсь, отнесутся к вашим мыслям с заинтересованным вниманием». «Ну же, ну! — мысленно торопил Ферма почтенного ученого посредника в переписке собратьев. — Что ты еще медлишь, монах?!» — «Господин де Тревиль не сразу принял меня, занятый военными и мирскими делами своих головорезов, во что мне, скромному монаху, не надлежит вникать. Приняв же меня в промежутке между разносом провинившегося в чем-то воина и возлиянием вина, он очень удивился моей странной просьбе, лишь повторяющей вашу, изложенную в постскриптуме письма. Сам он, как известно, гасконец и состоял еще при прежнем короле, тоже гасконце, поэтому мое упоминание о вызывающем интерес путешествии гасконского дворянина, его мушкетера, не пробудило в нем готовности тотчас удовлетворить мое праздное, как ему казалось, любопытство, и только мой духовный сан смягчил разгоревшийся было в нем воинский гнев, ибо господин де Тревиль славится тем, что горой стоит за своих мушкетеров, что бы те ни натворили. Я ничего не мог сказать о проступке путешествующего гасконца и не солгал перед господом богом, заверив капитана, что не ведаю ни о каких проступках его подчиненного. Только после этого он вызвал к себе одного из своих лейтенантов и поручил ему узнать о гасконце, побывавшем в Тулузе, а через некоторое время, пригласив меня из соседней комнаты, где состязались в шумных криках необузданные и грубые мушкетеры, сообщил мне, что в указанное в вашем постскриптуме время, дорогой мой Пьер, через Тулузу, очевидно, проезжал господин…» Массандр запнулся и закашлялся. Отложив в сторону письмо, он обратился к судьям: — Приступ горловой болезни, досточтимые судьи, мешает мне дочитать этот странный документ, имеющий отношение более к знатокам арифметики, чем права. Я прошу о снисхождении и ознакомиться с заключительной частью письма самолично, без моего чтения вслух. И с этими словами, отнюдь не свидетельствующими о некой горловой болезни, прокурор передал письмо председателю суда. Тот, напялив на свой птичий нос очки, посмотрел на развернутый лист, клюнул носом, отчего очки слетели, поймал их с неожиданной сноровкой и передал письмо по очереди сначала розовощекому, потом азартному судье. Выражение лиц у прокурора и досточтимых судей было таким, словно прямо перед ними в зале суда дали залп из всех крепостных пушек Ла-Рошели. Пьер восторженно смотрел на смущенную, не знающую, что ей делать, Луизу, потом подбадривающе кивнул графу Раулю, сидящему, опустив руки, между двумя стражниками и вопрошающе смотрящему на Пьера Ферма. Писцы усердно скрипели гусиными перьями. Наконец председатель суда пришел в себя и прошамкал: — Суд удаляется для размышлений. А вы свободны, дитя мое. — Последнее относилось к Луизе, но граф Рауль непроизвольно вздрогнул. Прокурор Массандр не смотрел на сидящего с ним рядом Пьера, был раздражен и растерян. Пьер провожал глазами уходящую Луизу, дав ей тайный знак о том, что придет сегодня к заветной калитке. Этим знаком они обменивались при расставании, когда он уходил, а она смотрела ему вслед. Он складывал указательные пальцы крестом на уровне рта. Луиза понимала, что это означает. Поняла Пьера она и сейчас, хотя никто в зале не мог бы этого уловить, ибо уходила кроткая девушка, низко опустив глаза и прижимая к лицу кружевной платок. Тучный пристав суда подошел к Пьеру Ферма. — Досточтимые судьи приглашают советника парламента в камеру размышлений, — сиплым голосом проговорил он. Пьер знал, что такое приглашение бывает лишь в исключительных случаях, и хотя ожидал его, но с трудом справился с волнением. Камера раздумий с решетками на узких и высоких окнах могла бы служить камерой одиночного заключения, если бы в ней не было стола с почему-то зажженной днем свечой и трех занятых судьями стульев. Пьеру пришлось стоять. — Почтенный метр, нам кажется, что вы не читали письма? — начал председатель. — Ваша честь, я не мог этого сделать, господин прокурор вскрыл его, а потом передал вам. — Конечно, конечно, — клюнул носом председатель. — Так вы не знаете его содержания? — Могу только догадываться, ваша честь. — По некоторым причинам нам не хотелось бы вручать вам его, уважаемый метр, поскольку вы сами передали его судьям. — Конечно, ваша честь. — Ваша арифметика с игрой в кости и маловероятной удачей неопытного новичка против искусного дуэлянта убедила нас. — Я рад слышать это еще здесь до вынесения вашего справедливого приговора, ваша честь. — Приговора не будет, — отрезал председатель. — Графа де Лейе немедля освободят, и судебное разбирательство прекратится без продолжения, если… — Если, ваша честь? — Если выводы о невозможности проезжему мушкетеру отыграться в кости не подтолкнут вас к возбуждению судебного преследования против неизвестного лица. Пьер понял все! Слишком прославлено было, видимо, названное в письме Мерсенна имя мушкетера, скорее всего любимца короля и даже его высокопреосвященства господина кардинала, стремящегося переманить его в гвардейцы, ценя его заслуги (и услуги!), которых было не меньше, чем прощенных ему дуэлей. Казалось бы, все складывалось так, как того добивался Пьер Ферма. Мушкетер оказался именно тем, кого он подозревал, отводя всякие подозрения от графа Рауля де Лейе, но… и Пьер Ферма невольно зажмурился. Перед его мысленным взором встала напряженная черная фигура гневной вдовы на фоне алеющего неба. Месть! Надежда на закон и справедливость! Что должен он ответить судьям? Никогда в жизни не привелось Пьеру Ферма пережить подобную минуту, словно растянутую на часы терзаний! Сообщить суду о раскрытых им преступлениях, «доблестно» совершенных неуемным забиякой-гасконцем? Поставить перед судьями выбор: навлечь им на себя недовольство короля и кардинала преследованием их фаворита или не обратить внимания на слова молодого советника парламента, действующего без всякого ему поручения, и завершить дело с убийством маркиза де Вуазье так, как это уже намечалось до начала судебного заседания и как требовал прокурор? Недаром ни Массандр, ни судьи не назвали вслух, в присутствии все записывающих писцов имени мушкетера, а потом вызвали молодого советника парламента в камеру раздумий. Пьеру нужно было решать, что важнее: жизнь невиновного или месть виновному, осуществление которой по меньшей мере сомнительно при царствовании короля, повелевающего именовать себя Справедливым и передавшего всю власть кардиналу Ришелье? И Пьер Ферма, внутренне кляня себя, решился. В собственных глазах он как бы предал пылающую гневом в ненавистью безутешную вдову, предал ради счастья кроткой и настойчивой Луизы, жизни графа Рауля де Лейе и собственной победы. И Пьер Ферма почтительно произнес: — Возбуждение судебного преследования прерогатива прокурора, ваша честь, а не советника парламента. — Ну вот и хорошо, — прошамкал председатель, поднося письмо аббата Мерсенна к пламени свечи. — А теперь пора обедать. Мы советовали бы вам, молодой метр, отобедать вместе с метром Массандром. А за сыном старый граф уже прислал карету. Надеюсь, он достаточно вознаградит вас за старания и поможет вам расплатиться с долгами? Очевидно, старый судья прекрасно знал о долгах Пьера, а может быть, и ждал их уплаты. Когда Пьер Ферма вышел из парламента, то покрытая лаком карета с графским гербом на дверцах продолжала стоять у подъезда. Из окна ее выглядывал счастливый Рауль, а открыв дверцу и тяжело опустившись на откинутую ступеньку, на землю сошел старый вельможа, издали делая знаки Пьеру. Тот направился навстречу старому графу. — Не откажите в милости, дорогой метр, осмотреть отныне принадлежащий вам дом. Там, в сундуке, ключи от которого я вам вручаю, вы найдете достаточно средств, чтобы начать достойную вашим способностям жизнь видного метра Тулузы. Пьер должен был уступить старому графу. Вслед уезжающим в карете счастливым людям смотрели судейские, в числе которых был розовощекий судья. Поскольку он слышал, выйдя вместе с Ферма из парламента, обращение к нему старого графа, слух о баснословной награде молодому советнику, применившему так удачно математику в судебном деле, мгновенно разнесся по городу. Во всяком случае, Луизу дома ждал уже все знающий отец. В страхе стояла она перед ним, когда он потребовал, чтобы дочь спустилась к нему. Расхаживая по веранде от колонны к колонне, как и в памятный день «первого сонета», он говорил: — Я не знаю, осудила бы покойная мать твое дерзкое появление в зале парламента, но я, отец твой, служащий Справедливости, признаю твой поступок достойным, поскольку он содействовал спасению невиновного человека. Я не знаю, что заключалось в письме, но поведение молодого метра Пьера Ферма, нашего родственника по женской линии, показало, что мы имеем дело с человеком удачливым, может быть, имеющим где-то вверху солидную поддержку. Однако не следует из этого делать вывод, что он на правах родственника может снова появиться на пороге моего дома. — Что вы, папа! — опустив глаза, сказала Луиза. — Разве, так разбогатев, став сразу завидной фигурой, он посмотрит в нашу сторону? Господин Франсуа де Лонг засопел и согнулся еще больше: — Вот видишь, как я был прав, отстранив такого человека от твоей чистоты. Да ты сама не захочешь на него взглянуть, несмотря на свалившееся ему богатство. — Почему же? — робко спросила Луиза. — Ведь вы учили меня, что всегда надо взвешивать, что выгодно, а что нет. — Какую же ты выгоду видишь? — Говорят, старый граф предложил Пьеру Ферма стать его наследником, усыновить его. — Откуда ты это знаешь? Об этом не болтают. — Вы учили меня, папа, узнавать то, что надобно. — Это как же понимать? Не метишь ли ты в графини? — А почему бы и нет? — подняла Луиза невинные глаза на отца. — Разве вы были бы против? — Я? Против такого дела? Конечно, нет! И если он на правах нашего родственника по женской линии появится у нас, я встречу его даже лучше, чем когда он приезжал сюда со своим толстобрюхим отцом. — Ах, папа! Так не говорят об усопших! — Не знаю, найдется ли ему место в раю, но из вежливости и из родственных чувств я готов пожелать ему этого. — Значит, Пьер мог бы прийти к нам? — Ах, лукавая! Неужели ты все рассчитала верно еще прежде меня? — Вы меня учили этому.
Пьер Ферма был ослеплен осмотром отныне его собственного дома, который был обставлен дорогой мебелью с редким вкусом. Он переходил, сопровождаемый отцом и сыном де Лейе, из комнаты в комнату, из розовой спальни в голубую гостиную, в отделанный ливанским кедром кабинет, наполненный бодрящим смолистым запахом ценной древесины, в украшенную охотничьими трофеями столовую и даже в детскую с несколькими кроватками, ждущими своих новых обитателей. Пьер Ферма не мог удержаться от счастливого смеха. Старый граф сам открыл ему отделанный медью и привинченный к полу кабинета сундук с аккуратными Столбиками золотых монет. — Я не могу принять всего этого, ваше сиятельство, — вдруг заявил Пьер Ферма. — Дорогой метр! — положил ему на плечо руку старый граф. — У вас впереди долгая жизнь. Не всякий раз вам удастся так удачно завершить дело. Вы не выиграли в кости все это, а честно заработали, отстояв жизнь человека, которая мне дороже всего, что я имею. Вы отказались быть моим наследником. Допускаю, что вам не нужны графские титулы, но у вас нет оснований нанести тяжкую рану сердцу, куда вы вошли как самый дорогой для меня человек. Слова эти растрогали поэтическую натуру Пьера. Он не смог оказать стойкого сопротивления. К тому же и молодой Рауль присоединился к просьбам отца, напомнив о предложенной ему в тюрьме дружбе. — Я найду вам, Пьер, такую невесту, такую невесту, что все, что вы видите, померкнет перед нею. Я имею в виду Генриэтту, дочь герцога Анжуйского! — Позвольте, Рауль, но ведь вы сами добивались ее руки! — Я уступлю ее вам в благодарность за спасение. Но этого дара Пьеру уже было не нужно.
С трудом дождались наступления ночи и Пьер и Луиза, каждый сгорая от нетерпения сообщить свою собственную радостную весть — Пьер о свалившемся на него если не богатстве, то обеспеченности на первое время и о прекрасном доме, Луиза о готовности отца возобновить отношения с Пьером с довольно явными намерениями, которые Луиза сумеет ему подсказать. Пьеру пришлось задержаться в замке старого графа, где друзья отца и сына де Лейе праздновали возвращение Рауля. Поднимали бокалы и за Пьера, которого все охотно принимали в свой круг. Рауль никак не хотел отпускать Пьера, но с наступлением темноты сам отправился вместе с ним. Пьер уже готов был признаться ему, куда он спешит, но Рауль сам вдруг попрощался с новым другом, уверяя, что вспомнил о своем верховом коне, которого забыл посетить сегодня, и должен тотчас вернуться. Пьер внутренне улыбнулся. Ему-то было ясно, куда спешит «воскресший» для жизни Рауль, так охотно уступая своему спасителю завидную невесту, замеченную самим его высокопреосвященством господином кардиналом. Дороги молодых людей разошлись, но стремления у них были одни и те же. Пьер вышел к знакомому густолистому дубу, когда уже настолько стемнело, что луга перед калиткой сада де Лонгов нельзя было различить. Но Пьер Ферма не раз ходил здесь в полной темноте. Природная способность держать выбранное направление, усиленная частыми упражнениями, несла Пьера в полной темноте как на крыльях. Снизу почему-то стал подниматься туман, так что и собственных ног не различить. Но в безошибочности выбранного направления Пьер не сомневался. Ведь он проходил здесь в сходных условиях много раз. Скоро он услышит волнующий шорох платья, потом любимый голос. Эти мысли делали шаг Пьера более упругим, размашистым. Он не шел как слепой, осторожно передвигая ноги, он двигался уверенно, печатая шаг. Но через какое-то время почувствовал, что движение его замедлилось, а привычная трава луга стала не просто мягкой, а податливой, однако разглядеть ее он не мог. Он продолжал идти, сделав уже положенные полторы тысячи шагов. А сада и калитки все не было. Что такое? Почему и куда его занесло? Руками он ощутил впереди кустарник, который уж никак не мог попасться ему на пути. Он представил себе Луизу, тщетно ждущую его, не зная, что он задержался в замке у старого графа. В какую сторону он отклонился? И почему? Ведь в графском застолье он не выпил и кубка вина! У него абсолютно ясная голова. Сейчас ему казалось самым важным выяснить причину потери им направления. Всякий другой человек на его месте, да еще и влюбленный, несущий любимой такую светлую весть, отправился бы искать калитку в стороне, но Пьер Ферма был, если хотите, человеком особенным. Он боялся сойти с места. Опустившись на колени и пощупав рукой, он убедился, что только что сошел с полосы вспаханной земли. Значит, ее перепахали, пока он тут не был со времени последнего свидания с Луизой. Следовательно, причина преломления (да, да, преломления!) его пути связана с переходом его в темноте с луга на пашню, а чтобы выяснить характер этого явления, он должен остаться на месте, хотя Луиза и ждет его. Нужно проследить свой собственный след на пашне! Если он двинется с места в поисках калитки, он потеряет этот след! Так и стоял он на краю пашни, с которой поднимался туман (дышала земля!), до самого рассвета, болезненно представляя себе, как Луиза, заливаясь слезами, уходит домой, напрасно оборачиваясь к закрытой калитке. Когда рассвело, Пьер прошел по собственному следу, оставленному на свежевспаханной земле, до противоположного края, где начинался луг. Теперь он мог установить, что по лугу он шел правильно, четко держа направление на калитку, а перейдя на пашню, встретив более сильное сопротивление почвы ходьбе, непроизвольно изменил направление, которое как бы переломилось. И тут его осенило, что всякое тело, движущееся по прямой (каким этой ночью был он сам!), при переходе из среды с одним сопротивлением в другую с иным сопротивлением под углом к ее границе, меняет свое направление, линия движения переламывается. И это действительно для всех видов движения, вплоть до луча света, который тоже должен «преломиться» при переходе под углом из одной среды в другую, скажем, из воздуха в жидкость или стекло. Эксперимент блестяще подтвердил догадку Ферма, а его письма с утверждением, что свет преломляется при переходе из одной среды в другую, с обычным для него предложением собратьям-ученым найти тому доказательство, послужили самому великому Гюйгенсу толчком для создания волновой теории света. Ферма же сформулировал общий закон: «Природа всегда действует наиболее короткими путями», объясняя прямолинейность всех природных сил. У Пьера остался еще один почтовый голубь Луизы, и он отправил ей записку, в которой признался в своей оплошности, приведшей к открытию важнейшего закона Природы. Луиза де Лонг была внешне кротка, внутренне вспыльчива, но умна. Она не обрушила на возлюбленного упрека, как сделала бы другая женщина. В назначенный час она снова была у калитки и, когда Пьер появился, взяла его за руку и провела на веранду к ожидающему их отцу. Конечно, Пьер мог ждать чего угодно, но лишь не этого. Поистине не подозревал он, какое богатство обретает вместе с согласием господина Франсуа де Лонга на брак с его дочерью Луизой. Свадьба состоялась в 1631 году, через два года с небольшим после сочинения первого посвященного будущей жене сонета. Молодая чета Ферма переехала в заработанный спасением молодого графа де Лейе дом, и еще через год там родился их первенец Самуэль Ферма, будущий поэт и ученый, как и отец. Словом, как говорил Сенека: «Никогда не знает меры счастье!»
Глава пятая «ДУЭЛЬ»
Мудрость есть дочь разума.Леонардо да Винчи
К стене одного из парижских монастырей, близ которой обычно происходили запрещенные поединки, в ранний, излюбленный дуэлянтами час в сопровождении вертлявого слуги на уставшем муле подъехал грузный всадник на боевом коне, в черном плаще и надвинутой на глаза шляпе. Всадник завернул за угол, чтобы постучать в монастырские ворота, но внезапно трое пеших гвардейцев кардинала преградили ему путь. Всадник не внял грозному окрику и стал грудью доброго коня теснить гвардейца. Тот обнажил шпагу: — Не угодно ли спешиться, сударь? — Зачем? — буркнул всадник, не осаживая коня. — Чтобы следовать за нами, — ухватился за стремя гвардеец. — По какому праву? — Именем его высокопреосвященства господина кардинала. — Кто это высоким именем останавливает проезжих путников, как разбойник на большой дороге? Всадник увидел трех спешащих к нему мушкетеров. — Что мы видим, господа гвардейцы? Трое против одного? Едва ли это можно счесть учтивым. Если вы немедленно не сочтете возможным принести извинения остановленному вами господину, мы предложим вам другое соотношение сил, трое против троих. Угодно будет вам? — Вы опять затеваете запрещенные королем и его высокопреосвященством поединки! Мы находимся при исполнении служебных обязанностей, выполняя приказ, и вы не имеете права нам мешать. — Полноте, господин гвардеец, — продолжал задиристый мушкетер с изящными манерами, завитыми усиками и пятном бородки, — разве можно помешать в чем-нибудь безнадежным бездельникам? — Вы ответите за свои слова перед его высокопреосвященством! — Простите, почтенный гвардеец, но не вижу здесь его высокопреосвященства, перед которым должен отвечать. — Мы доставим вас к нему, не беспокойтесь. — Очень интересно, какой способ вы выберете для этого? — Если вам угодно, господин мушкетер, то носилки, на которых переносят раненых или убитых. Всадник не стал ждать конца препирательствам и подъехал к воротам. Привратник, увидев его в щелеобразное окошко, потребовал назвать пароль. Доносились грубые ругательства и звон шпаг. Очевидно, гвардейцы продолжали, но уже менее изысканно, выяснять отношения с мушкетерами, которые помешали им задержать всадника, действуя, как всегда, против гвардейцев кардинала по принципу: «Что хорошо его высокопреосвященству, может не понравиться королю». — Пароль! — потребовал еще раз привратник. — «Мыслю — следовательно, существую», — произнес по-латыни всадник и исчез за монастырскими воротами, крикнув слуге: — Огюст, жди меня здесь ближе к вечеру. Слуга повернул своего измученного мула и поехал искать трактир мимо дерущихся на шпагах солдат, с удовлетворением отмечая, что гвардейцы вынуждены отступить. Мушкетеры не стали их преследовать, и один из них, великан с лихо закрученными усами, подмигнул Огюсту. — Откуда? — низким басом спросил он. — Из Амстердама, сударь, — с подчеркнутой готовностью ответил слуга и подобострастно улыбнулся. — А мы думали, из Бордо, — добродушно заметил мушкетер, вкладывая шпагу в ножны. — Там, говорят, вино отменное. Всадник, отдав поводья выбежавшему послушнику, скинул черный плащ и оказался в офицерском мундире нидерландской армии. Он вошел в мрачное монастырское здание вслед за встречавшим его аббатом со строгим аскетическим лицом. Толстые, как в крепости, стены, низкие арки, темные коридоры и благоговейная тишина, подчеркиваемая отзвуком шагов под сводчатыми потолками, заставляли говорить вполголоса. — Его преподобие благочестивый отец-настоятель отвел для моих гостей монастырскую трапезную, дорогой Декарт, — обернулся к офицеру аббат. — В ожидании тебя они восхищаются твоей отвагой. — Надеюсь, дорогой Мерсенн, эти толстые стены — надежная защита от преследований? — Монастырь — крепость духа и веры, ни один воин его величества или его высокопреосвященства не осмелится войти сюда. — Да благословит бог совместные усилия правителей Франции во всех государственных делах, — с иронией произнес Декарт и другим уже тоном добавил: — С кем же встречаемся мы, дорогой аббат? — С моими корреспондентами, с которыми ты поддерживал через меня почтовую связь. Ты узнаешь и Омара Торричелли, вынужденного преодолеть еще более дальний путь, чем ты. И Пьера Ферма, с которым встречались в Египте. Интересен будет и юный Блез Паскаль, изобретатель и естествоиспытатель, а также его отец Этьен Паскаль — математик, де Бесси и другие, с кем увидишься. — Пьер Ферма? — задумчиво повторил Декарт. — Еще бы не помнить! Могила Диофанта! Но по поводу его последнего, пересланного вами письма у меня серьезные возражения. — Для того мы и собрались здесь, чтобы всех выслушать, — сказал аббат, распахивая двери трапезной. В этот день по указанию отца-настоятеля все монахи вкушали пищу по своим кельям. При виде Декарта и аббата Мерсенна его гости, приветствуя философа, встали с лавок у длинных столов. — Рене! Мы не виделись пятнадцать лет! — идя навстречу Декарту, протянул руку Ферма. — Вы немало преуспели, почтенный метр! Потолстели! Обзавелись семьей? — Да, пока трое детей. Старшего, Самуэля, привез в Париж учиться. — Пусть учится, становится ученым и не допускает ошибок, подобных отцовским. — Что вы имеете в виду, Рене? — Я сообщу свои соображения не только вам, но и всем присутствующим. Немного озадаченный такой встречей, Ферма отошел, но ему пришлось сразу же вернуться, потому что аббат Мерсенн попросил его поделиться с гостями монастыря своими новыми открытиями в области математики. Декарт устроился на краю скамьи, отставив в сторону огромную ногу в ботфорте, и презрительно фыркал, покручивая свой офицерский ус. Рядом с ним сидел бледный юноша лет девятнадцати — Блез Паскаль, странно выглядевший среди почтенных собратьев по науке, каждый из которых занимал заметное место в обществе — кто юрист, как Ферма, кто офицер, как Декарт, или монах, подобно Мерсенну. Пьер Ферма говорил по-латыни изысканно и почтительно, но, касаясь математики, с неуловимым чувством превосходства, чего сам не замечал, будучи человеком скромным и добродушным: — Мне привелось вести в Тулонском парламенте дело крестьян против герцога Анжуйского. Спор касался денежной компенсации за перешедшие к герцогу земли после спрямления им извилистой линии границ земельных угодий. Подсчитать утраченные крестьянами площади, ограниченные прежде неправильными кривыми, никто не умел, приблизительные же подсчеты герцог отвергал как заведомо неверные, в результате крестьяне остались и без земли, и без денег за нее, а судейское дело зашло в тупик. Я предложил любую извилистую линию разбивать на отрезки, которые практически точно являются кривыми второго порядка: либо частями эллипса, либо параболы, либо гиперболы, то есть сечениями двух соприкасающихся вершинами конусов, с раструбами, уходящими в бесконечность. — Бесконечность! — воскликнул юный Блез Паскаль, длинные светлые волосы которого обрамляли узкое бледное лицо с горящими глазами. — Как это страшно! — Не более страшно, чем любая другая величина, выраженная числом, — с улыбкой сказал Ферма. — Но ее нельзя представить! — возразил Блез Паскаль. — Нет, почему же? Эта величина вполне реальна. Она бесконечна, но не беспредельна. Пересеките один из конусов, о которых я говорил, плоскостью, перпендикулярной их оси. — Будет круг! — нашелся Блез Паскаль. — Теперь, если начать поворачивать эту плоскость, мой друг, что вы получите в сечении? — Разумеется, эллипс. — А если повернуть плоскость еще больше, приближаясь к положению, параллельному образующей? Останется ли эллипс эллипсом? — Конечно! — откликнулось сразу несколько голосов. — Только большая ось эллипса так удлинится, что ее конца и видно не будет, — заметил старший из Паскалей — Этьен. — Она может стать сколь угодно длинной, не правда ли? А если плоскость станет параллельной образующей конусов и уже нигде не пересечет конуса, куда денется конец нашего удлиненного эллипса? — с присущей ему манерой задавать загадки спросил Ферма. — Он превратится в параболу! — обрадованно воскликнул Блез Паскаль. — Браво, юноша! — восхитился Ферма. — Эрго — эллипс с бесконечно длинной большой осью не что иное, как парабола. Теперь продолжим дальше поворот нашей секущей плоскости, чтобы она уже не стала параллельной образующей и снова пересекла, но теперь уже не только верхний, но и нижний конус. Что произойдет на чертеже? Конец большой оси вместе с малым овалом эллипса вернется к нам, но уже с другой стороны, как бы обогнув немыслимо огромный шар вселенной, радиус которого равен бесконечности. — Это же будет гипербола, сударь! — снова нашелся Блез Паскаль. — Верно, юноша, гипербола, которая станет равнобокой, если секущая плоскость будет параллельна оси конусов. — И вы считаете, метр, бесконечность реальной? — на великолепной латыни спросил Омар Торричелли. — Безусловно, — не задумываясь, ответил Ферма. — Вот вам еще одно доказательство существования господа бога! — вставил Декарт. — Не к этому ли я призывал и попов и ученых? — Тссс! — замахал руками аббат Мерсенн. — Умоляю тебя, Рене Декарт, не ставить под сомнение слепую веру в господа бога, по крайней мере, в стенах монастыря, где она — основа нашего прибежища. — Не буду, не буду! — буркнул Декарт. — Ведь не я доказываю реальность неисповедимой, как учит церковь, бесконечности, а Ферма! — А во мне холодеет кровь при мысли о ней, — признался Блез Паскаль. — Как беспомощен человек, обретаясь между ничтожеством и бесконечностью! — Полно, юный друг, — ласково обратился к нему Ферма. — Вам ли это говорить, который, несмотря на свою юность, подарил людям «суммирующую машину», способную выполнять некоторые обязанности нашего мозга. Предвижу, что когда-нибудь далекие потомки вашей машины станут состязаться с самим человеком в остроте мышления, не говоря уже о быстроте счета. — Умоляю вас, почтенные искатели истин, — воздев руки к небу, прервал Ферма аббат Мерсенн, — не затрагивайте богословских тем, ибо приписывание мертвому механизму способностей человеческой души может быть превратно истолковано святыми отцами церкви. — Мой учитель Галилео Галилей понял бы господина Ферма, но за тех, кто принудил Галилея отречься от своих верных мыслей, я не рискну поручиться, — заметил Торричелли. — Во всяком случае, имея в виду, — вступил Декарт, — что человеческое тело подобно мертвому механизму и только душа делает его живым и способным к мышлению, надо сразу сказать, что и машина господина Блеза Паскаля, как бы ее ни усовершенствовали потомки, никогда не сможет мыслить самостоятельно, а будет лишь выполнять предписанное человеком, обладающим душой. — Но у нашего юного Паскаля есть и еще изобретения, которые отнюдь не говорят о его прозябании между ничтожеством и бесконечностью, — продолжал Ферма. — Достаточно вспомнить тачку, совмещающую в себе архимедов рычаг с колесом. Трудно ошибиться, представив себе несметное число подобных приспособлений, облегчающих труд людей на строительстве домов и дорог, храмов и крепостей не только во Франции, но и во всем мире! А предложение того же Блеза Паскаля учредить многоместный экипаж, следующий всегда по определенному маршруту и останавливающийся в условленных местах для высадки и приема пассажиров, не имеющий ни лошадей, ни карет! Нет, дорогой Блез, даже в наш век «шпаги и знатности», как видим, есть умы, которые без бряцания оружием способствуют торжеству разума и благу людей. — Такая оценка нашего молодого друга, — заметил Торричелли, — делает вам честь, господин Ферма, но ведь и вы, как начали нам рассказывать, хотели с помощью математики защитить интересы простых пейзан. — Ах да! — подхватил Декарт. — Доскажите, что вы там намудрили, чтобы я мог вас опровергнуть. Ферма вспыхнул: — Я остановился на том, что разбил криволинейные участки на более мелкие, ограниченные кривыми второго порядка, а для них предложил метод отыскания точки их перегиба, то есть максимума и минимума. Определение же площади, ограниченной такой кривой, есть действие, обратное отысканию точки перегиба и проведению в ней касательной. Ферма написал на аспидной доске мелом несколько формул. Поднялся Декарт во весь свой внушительный рост и взметнул гривой волос: — Мысли метра Ферма совершенно непонятны. Мне ясно лишь то, что он натолкнулся на метод случайно, не зная его основания. В результате, как ни прискорбно мне это сказать, но метр Ферма приходит к паралогизму, то есть к противоречиво, полностью уничтожающему его метод как некорректный. Как известно, Ферма обычно не приводил обоснования предлагаемых им формул и методов. Однако старания современников получить по его методам ошибочный результат были тщетными, как и попытки доказать эти методы. За Ферма установилась слава математического волшебника, который знает нечто, людям не доступное, делясь с ними только выводами. Однако сейчас, после резкого выпада Декарта, Ферма изменил своему обыкновению и стал методично, спокойно и дружелюбно разъяснять Декарту, как любимому ученику, суть его непонимания. Он старался ничем не унизить его, добиваясь лишь, чтобы тот понял его. А понять Ферма его современникам было нелегко, ибо он, по существу, предвосхитил работы Исаака Ньютона и Г. Лейбница, независимо друг от друга открывших дифференциальное и интегральное исчисление, резко споря между собой, кто сделал это первым, забыв о методе Ферма, высказанном еще до их рождения. Метод, который позволял поистине волшебным путем (алгебраическим!) получать первую производную! (Скажем, скорость движения, имея кривую пройденного в отмечаемое время пути, то есть давая результат современного дифференцирования, а получение им площадей, ограниченных кривыми, представляло собой современное интегрирование, то есть суммирование бесконечно малых величин!) Декарт слушал объяснения Ферма и краснел. Вспомнилась история с уравнением, заключенным в надгробной надписи Диофанта, которое Ферма решил диковинным способом, не используя всех членов уравнения, искать который Декарт клятвенно отказался. Тогда Декарт нашел в себе силы побороть самого себя, но сейчас он возражал, опровергал, почти оскорблял Ферма, ведя с ним в присутствии многих «ученых секундантов» бескровную дуэль. Но даже такой прямой и честной натуре, как философ Декарт, гонимый церковью, нужно было время, чтобы осознать свою неправоту и признать поражение в «дуэли». Но поражение это было признано присутствующими учеными, принявшими сторону Ферма, что выразил от их имени Этьен Паскаль, математик, исследовавший интереснейшую фигуру «спираль Паскаля», витки которой, пересекаемые любым радиусом из ее центра, отстояли один от другого на равном расстоянии. Это исследование сделало его имя известным и спустя столетия. Именно он тогда в монастырской трапезной сказал: — Ваше преподобие, господин аббат, дорогие ученые собратья! Мне кажется, что я выражу общее мнение, что тот метод верен, который дает верные результаты. Но именно этой особенностью и отличаются все методы метра Ферма, включая и не понятый уважаемым господином Декартом, критику которого все же надо рассматривать как побуждающую метра Ферма к обнародованию основания своего метода, за что нельзя не поблагодарить и метра Ферма, и господина Декарта. Как видим, истина, даже и математическая, рождается в споре. Но Декарт, не желая признать себя побежденным, вскочил: — Никогда, слышите ли, никогда научная истина не будет устанавливаться голосованием! Метр Ферма, оперируя здесь с кривыми, предложил расплывчатую систему координат с осями, расположенными под любым углом. Это непродуманно и неудобно. И я предлагаю свою «Универсальную математику», где использованы лишь прямоугольные координаты и общий алгебраический метод для решения любых задач. — В предложенных мною координатах допускались и прямоугольные, — робко заметил Пьер Ферма. — Но господин Декарт, конечно, вправе воспользоваться ими, поскольку они принадлежат всем. Справедливости ради надо заметить, что спустя века в современной математике, немыслимой без прямоугольных координат, имя их первооткрывателя Ферма предано забвению, они именуются лишь «кератовыми». Меж тем научная дискуссия в монастыре продолжалась. Ученые сообщили о своих планах и исканиях; в частности, Торричелли рассказал о своем намерении доказать, что две пары самых сильных лошадей не разорвут два ничем не скрепленных полушария, если из них будет выкачан воздух. И он пригласил научных коллег посетить Италию, чтобы присутствовать при этом опыте. Юный Блез Паскаль признался в своем увлечении гидростатикой и мечте исследовать, как жидкость передает усилия. Спустя годы «закон Паскаля» станет общепринятым, ныне — основой многих гидравлических машин и аппаратов. Рассказывали о своих исканиях и связанных с ними трудностях и другие ученые, сетуя на отсутствие научного журнала, который подменял пока неутомимый аббат Мерсенн, ведя научную переписку, которая стала для него смыслом жизни. Незаметно день склонился к вечеру. Заботами аббата Мерсенна и благодеяниями отца-настоятеля трапезная была использована учеными гостями по своему назначению. Послушники вносили блюда. Рене Декарт ел с солдатским, как он признался, аппетитом, жалуясь на отсутствие у братьев-монахов хорошего вина. С наступлением темноты гости решили расходиться. Первым привратник хотел выпустить Декарта в черном плаще и на коне, но, заглянув в щелевидное оконце, подозвал аббата Мерсенна. Против монастырских ворот гвардейцы кардинала развели костер, не собираясь уходить отсюда без добычи. Аббат Мерсенн предупредил Декарта. Тогда Ферма произнес: — Рене, одолжите мне ваш плащ и шляпу, а также временно и коня. Вас там ждет Огюст? Я окликну его. Декарт колебался: — Они охотятся за мной, а схватят вас, Пьер. Хотите так? — Конечно! — улыбнулся Ферма. — Когда выяснится, что они задержали советника Тулузского парламента, вы будете далеко, воспользовавшись мулом Огюста, за что он простит нас. Я шепну ему. — Соглашайтесь, господин Декарт. Боюсь, у вас нет иного выхода, — убеждал аббат Мерсенн, потирая мокрую от волнения лысину. — Но ведь я же, споря, дрался с вами как на дуэли, — протестовал Декарт. — Как же вы можете так поступать, Пьер? — А разве вы не поступили бы так же, будь я на вашем месте? Декарт помолчал и ответил: — Благодарю, что вы так думаете обо мне. Но надеюсь, что нам не представится случая проверить меня. И они обнялись — противники в недавнем споре. Из монастырских ворот выехал всадник в черном плаще и в надвинутой на глаза шляпе. — Эй, сударь! — грубо окликнул гвардеец, хватая под уздцы коня. — Мы не рассчитались еще с вами за утреннюю встречу. Проклятые, очевидно, нанятые вами мушкетеры ранили двух моих парней. Но теперь вам придется последоватьза нами. — Трое против одного? Я подчиняюсь, — ответил Пьер Ферма. — Но куда вы хотите отвести меня? — К его высокопреосвященству господину кардиналу, а потом в Бастилию. Но до этого он примет вас с подобающей вежливостью. — Огюст! — крикнул Ферма. — Дождешься хозяина здесь! Окруженный гвардейцами всадник в черном плаще скрылся в темноте.
Глава шестая ГОСТЬ БАСТИЛИИ
Истинные политики лучше знают людей, чем присяжные философы.Люк де Клапье Вовенарг
Пьер Ферма неважно знал Париж, лошадь его вел под уздцы старший из гвардейцев, предварительно взяв с Ферма честное слово, что тот не использует для бегства преимущество верхового, и, получив такое заверение, оставил задержанного на коне. Они долго двигались по темным незнакомым улицам. — Ну вот, сударь, и улица Сен-Оноре, с облегчением заметил гвардеец. Здесь на площади и стоит кардинальский дворец. Ферма не мог рассмотреть фасада огромного здания, но хорошо разглядел промчавшуюся мимо карету, запряженную шестеркой вороных коней. — Кажется, вам не повезло, сударь, сказал гвардеец, должно быть, его высокопреосвященство господин кардинал проехал в Лувр к королю. Перед широкой, ведшей во дворец лестницей гвардейцы остановились, коня под уздцы взял другой гвардеец, а старший стал подниматься по мраморным ступеням, громыхая длинной шпагой. Ему навстречу появилась плохо освещенная серая фигура в сутане. Гвардеец, о чем-то переговорив с вышедшим, начал спускаться. Он молча взял коня под уздцы и повел его назад по улице Сен-Оноре. — Куда мы отправляемся? — поинтересовался Ферма. — Его высокопреосвященство поехал на вечернюю шахматную партию с его величеством королем и почтительно просил подождать его возвращения в Бастилии. Гвардеец простодушно передал сказанные ему слова серым в сутане, но Ферма передернуло. Как юрист он знал, что его не могут бросить в Бастилию без прямого указания кардинала, однако он не стал противиться и препираться со своим конвоем, заинтересованный в том, чтобы дать уйти Декарту возможно дальше, позволить ему беспрепятственно пересечь границу с Нидерландами, прежде чем обнаружится, что схвачен не он. Площадь Бастилии была так же незнакома Ферма, как и улица Сен-Оноре. В прошлые приезды в Париж он проходил близ Лувра, но теперь ему не встречалось знакомых мест. У ворот Бастилии, мрачного замка, окруженного высокими стенами посреди города, гвардейцы остановились и вступили в переговоры со стражей, вызывая коменданта крепости. Наконец из ворот показался тучный человек с оплывшим лицом и маленькими хитрыми глазками, которые поблескивали в свете тусклого фонаря стражника. — Я протестую, господин комендант! — заявил Ферма. — Я отлично знаю французские законы. Никто не может быть брошен в Бастилию без приказа его высокопреосвященства господина кардинала. Покажите его приказ! — Не извольте беспокоиться, сударь, — елейно отозвался комендант, тяжело дыша после каждой фразы. — Вы проведете ночь как гость Бастилии, и я клянусь вам, что не переступите порога ни одной из камер, где содержатся важные государственные преступники, о вашем же коне позаботятся не в меньшей степени, чем о вас, сударь. — И он церемонно раскланялся. Ферма спокойно вздохнул, подумав, что выиграет для Декарта целую ночь и ошибка выяснится лишь завтра. Он сошел с коня, которого принял один из стражников. Двое других повели Ферма в открытые ворота крепости. Бастилия! Одно лишь это название вселяло ужас в людей, но Ферма, успокоенный учтивостью коменданта, не проявил никаких признаков волнения. Стража предложила Ферма спуститься по стертым ступеням каменной лестницы. Пахнуло сыростью, они вошли в полутемный коридор с двумя рядами однообразных дверей в камеры. — Куда вы ведете меня? Вы слышали слова коменданта? — обратился Ферма к стражникам. Но те молчали, громыхая оружием по каменному полу. Вдали открылась одна из дверей, и оттуда вышли двое тюремщиков, ведя под руки потерявшего силы заключенного. С каждым шагом обе группы сближались. Они сошлись под светильником, и Ферма содрогнулся, встретясь взглядом со старым графом де Лейе, глаза которого сверкнули былой радостью при виде Ферма, но, заметив, что советник парламента идет не на свидание с заключенным, а сам находится под стражей, сразу потухли. Старый граф Эдмон де Лейе, соратник и любимец короля Генриха IV, служил ему, еще когда тот, защищая права гугенотов, был всего лишь Генрихом Наваррским, который, чтобы утвердиться на троне, вынужден был принять католичество, оговорив привилегии бывших единоверцев, но погиб от руки фанатика. Кардинал же Ришелье всячески укреплял абсолютную власть его наследника и объявил поход против не в меру самостоятельных вассалов, продолжающих претендовать на старые привилегии. Но как постарел бедный старый граф! Ферма давно не видел его и не знал о немилости к нему кардинала. Теперь ничто не могло спасти старого вельможу. Ферма слишком хорошо знал беспощадность кардинала Ришелье, который с равной жестокостью расправлялся и с неугодными вассалами, и с взбунтовавшимися крестьянами, и с непокорной чернью. В Бастилии, куда не попадали вожаки бушевавших во всей Франции восстаний, двери камер открывались для опальных вельмож, так же обреченных, как и безродные бунтовщики. Знатность рода не помогала. Ферма подвели к оставшейся открытой двери, откуда выволокли графа де Лейе, этого несчастного старика. Ферма запротестовал: — Господин комендант дал слово, что я не переступлю порога ни одной камеры. Я не войду сюда и обжалую ваши действия! Один из стражников усмехнулся: — Господин комендант всегда знает, что говорит. — И с этими словами он прошел вперед, но тотчас вернулся, после чего Пьера грубо втолкнули в открытую тяжелую дверь, она тотчас захлопнулась за ним. Ферма остался в полной темноте, слыша, как щелкает позади него замок. Протянув вперед руки, он уперся ими еще в одну дверь, которая, очевидно, вела в камеру. Но она оказалась запертой, недаром тюремщик вошел сюда на мгновение раньше! Ферма попробовал повернуться, но касался плечом преграды то с той, то с другой стороны и мог протиснуться только вбок, до притолоки и обратно. Он понял, что находится в тесном тамбуре, почему-то устроенном перед камерой. Ферма, как советник парламента, немало бывал в тюрьмах, но не встречал камер с таким входом. Только сейчас понял Ферма зловещий смысл обещаний толстого коменданта — «гость Бастилии» не переступит порога камеры. Он и не переступил его, находясь между двух дверей в нее, с обеих сторон сжимавших так, что он не в силах был ни сесть, ни лечь, ни повернуться. И еще одну их особенность установил он, не обнаружив на ощупь обычного смотрового окошечка, через которое тюремщик наблюдает за узником. Что бы это могло быть? Что за странная камера? От догадки у Ферма зашевелились волосы. Очевидно, двойные двери тамбура нужны, чтоб ни один звук, ни один стон, ни один крик не донесся из камеры! Так вот откуда вынесли бедного старого графа де Лейе, соратника покойного короля. Недаром вспоминал старый граф о своем повелителе, который мог бы спасти его сына, а теперь и его самого от унижений и пыток! Да, пыток! Ибо не оставляло сомнений, что «гостя Бастилии» заперли на ночь в тамбуре камеры пыток. Так вот какой участи мог бы подвергнуться упрямый философ Декарт, восставший против папы, противопоставляя разум человеческий бездумности, активное познание — невежественной покорности. Ферма понял, что бесполезно требовать к себе коменданта и объявлять, что он не Декарт. Скорее всего и гвардейцы не знали, кого должны схватить, руководствуясь лишь внешним описанием Рене. Пришлось прождать всю ночь, упершись спиной в одну дверь и коленями в другую, полусидя в воздухе. Когда заскрежетал замок, Ферма думал, что ему не разогнуться. Лишь усилием воли заставил он себя выпрямиться. Сам комендант, страдая одышкой, изволил прийти за ним. — Господин кардинал узнает о вашей любезности, — мрачно пообещал ему Ферма. — Простите, сударь, но у меня было переданное мне указание Мазарини, первого помощника его высокопреосвященства. Поверьте мне, что я тут ни при чем! Кроме того, вам, право же, не стоило настаивать на открытии внутренней двери в камеру откровенности. Надеюсь, вы понимаете меня? — Вполне, господин достойный комендант. Надеюсь, теперь вы препроводите меня к его высокопреосвященству господину кардиналу? — Ваш конь оседлан, трое гвардейских всадников сопроводят вас в виде почетного эскорта. И комендант Бастилии проводил своего «гостя» до тюремных ворот, обеспокоенный тем, что не получил письменного подтверждения переданных ему устно слов. Трое гвардейцев на конях ждали Ферма, держа огромного оседланного коня Декарта. Из-за затекших мышц Ферма с трудом влез на него, вызвав грубые насмешки гвардейцев, но не счел нужным отвечать. На площади, куда выходила улица Сен-Оноре, при солнечном свете Ферма мог рассмотреть все великолепие кардинальского дворца. Пьер спешился у знакомой мраморной лестницы с широкими ступенями и в сопровождении вооруженных гвардейцев поднялся по ней. Гвардейцы провожали его, гвардейцы толпились в анфиладе комнат и в приемной, куда Ферма привели. Он проходил мимо них с независимым видом, стараясь усилием воли побороть усталость бессонной ночи. Гвардейцы подвели доставленного к служителю в раззолоченном кафтане, который, пронзительно взглянув Пьеру в глаза, вышел в золоченую дверь. Через минуту он вернулся, жестом пригласив Ферма идти за ним. Гвардейцы остались в приемной, шумно переговариваясь с однополчанами. Ферма следом за золоченым служителем миновал огромный зал официальных приемов и оказался в уютной библиотеке, где, кроме шкафов с книгами в роскошных переплетах, стояли рыцарские доспехи. За столом, заваленным книгами и пергаментами, сидел в глубоком кресле тщедушный, очевидно, очень больной седоусый человек с белой остренькой бородкой, склонясь над какой-то рукописью. За спинкой кресла виднелась неприметная фигура в серой сутане. — Господин Декарт? Философ, естествоиспытатель и математик? — не поднимая глаз, спросил человек за столом. — Нет, ваше высокопреосвященство! Может быть, в какой-то мере я естествоиспытатель и математик, но я не философ Декарт. Очевидно, меня схватили по ошибке господа гвардейцы, ваша светлость. — Как так? — только теперь поднял острые, ястребиные глаза, с которых как бы поднялась птичья пленка, кардинал де Ришелье, он же герцог Арман Жан дю Плесси. — Действительно, не господин Декарт, с которым мы когда-то беседовали и о его философских взглядах и рассчитывали теперь продолжить эту беседу, когда он, покинув Францию, вернулся в Париж без нашего разрешения. А кто вы, сударь? — Я — советник парламента в Тулузе Пьер Ферма, ваше высокопреосвященство. — Ах так! Знакомое имя. Пьер Ферма? Юрист и математик и, кажется, даже поэт? Который арифметически определял вероятность преступления, а потом способствовал разжиганию спора между грязными крестьянами и высокородным герцогом Анжуйским с помощью вычисления площадей спорных земельных участков, якобы отнятых у черни? — Ваше высокопреосвященство проявляет восхищающую меня осведомленность о моих скромных попытках сделать юриспруденцию безукоризненной наукой. — Безукоризненная наука, метр Ферма, это только политика! Знаете ли вы, какую рукопись я сейчас читал, ожидая господина Декарта, видимо уклонившегося от нашего свидания? Ваше письмо, метр, переписанное аббатом Мерсенном для рассылки другим ученым. Один обязательный экземпляр, к вашему сведению, всегда предназначается мне. А латынь кардиналу знакома, как понимаете. — Я преклоняюсь перед широтой вашей образованности, ваше высокопреосвященство! — Кстати, почему же господин Декарт уклонился от нашего свидания, несмотря на то, что я послал за ним своих гвардейцев? И отчего вы явились ко мне вместо него только сегодня утром? — Ваши доблестные гвардейцы (трое против меня одного!) силой привезли меня ко дворцу, когда вы, ваша светлость, изволили уехать для шахматной игры с его величеством королем. — Как так? — полуобернулся Ришелье к стоящему за его спиной человеку в сутане. — Где же господин Декарт, дорогой Мазарини? — Если перед вами, ваше высокопреосвященство, советник парламента из Тулузы, то господин Декарт, очевидно, уже пересекает нидерландскую границу, уехав не позднее вчерашнего вечера от известного вам монастыря. Я надеюсь получить от отца-настоятеля подтверждение. — Я сожалею, метр, что вам пришлось со вчерашнего вечера ожидать меня, пока я наслаждался шахматной игрой. — Я разделяю ваше отношение к шахматам, ваша светлость. — Что ж, это можно проверить, метр Ферма. Придется вам заменить господина Декарта в философской беседе, которая, если, вы того пожелаете, будет происходить за шахматной доской. Дело в том, что мне не все ясно в ваших письмах, содержащих, я бы сказал, математические загадки, кроме, разумеется, общей направленности вашей деятельности, метр, которую стоит обсудить. — Буду счастлив, ваше высокопреосвященство, узнать ваше мнение о моих скромных работах и усердной службе и, разумеется, готов сыграть с вами в шахматы. — Берегитесь, метр Ферма. После проверки вашего искусства игра пойдет на ставку, не исключено, что на крупную. — Я готов, ваша светлость. — Вы очень богаты, метр? — Если богат, ваша светлость, то только надеждами, по словам моей супруги. — Мудрость женщины подобна жалу змеи, жалящей нас. По сделанному знаку кардинала Мазарини подкатил его кресло, оказавшееся на колесиках, к шахматному, богато инкрустированному столику и расставил на нем фигуры из слоновой кости. — Попробуйте сразиться со мной, метр. Я не назначаю сразу ставки, ибо мое духовное звание обязывает к милосердию. Первая, молниеносно проведенная партнерами партия закончилась в пользу Ферма прямой атакой на короля. Кардинал нахмурился, взгляд его стал злым и колючим. Ферма наблюдал за этим больным и беспомощным человеком, ум которого цепко держал в повиновении и страну, и ее короля, хотя тело с трудом могло покинуть мягкое, передвигающееся на колесиках кресло. Высохшая рука, когда-то ловко владевшая шпагой, дрожала, передвигая фигурки: — Вы опаснее, чем я думал. Я просто играл с вами как с его величеством, которому всегда надо предоставлять возможность атаковать. Во второй партии Ферма не удалось развить атаку, и, оставшись без двух пешек, он вынужден был признать свое поражение. Кардинал Ришелье воодушевился: — Прекрасно! Теперь — на ставку! Вы достаточно искушены в этой игре, но это лишь удваивает мой интерес. Мне всегда требуются побудительные причины, чтобы проявить себя в полной мере. Ферма расставил фигуры и свои и кардинала, вспоминая, что герцог Арман Жан дю Плесси до принятия духовного сана славился своей азартностью и, видимо, не утратил этой страсти, став кардиналом.

Ришелье поднял с полу тершегося о его ноги кота. — Итак, ставка, метр? Что у вас есть в Тулузе? Имение, рента, замок? — Только дом и служба вашему высокопреосвященству. — Прекрасно! Вы ставите свой дом, а я… Что бы вы хотели, сударь? — Свободу узнику Бастилии, старому графу Эдмону де Лейе, давнему соратнику покойного короля. — Откуда вы знаете об узнике Бастилии? — сердито спросил Ришелье, сбрасывая с колен кота. — Я провел там ночь как «гость Бастилии», ваша светлость, зажатый между дверьми тамбура камеры пыток. — Что такое? — обернулся Ришелье к Мазарини. — Должно быть, господин комендант проявил свое обычное остроумие, ваше высокопреосвященство, не желая, чтобы гость переступил хотя бы порог любой камеры. — Прекрасно! — воспрянул Ришелье. — Тогда распорядитесь, чтобы господин комендант провел в этом же месте предстоящую ночь. — И кардинал сделал свой ход на доске. — Но это невозможно, ваша светлость, — запротестовал Ферма. — Почему? — удивился кардинал. — Ведь я же сказал. — Он слишком толст, ваша светлость, и двери просто не закроются, пока он не похудеет. Кардинал Ришелье расхохотался: — Я должен отдать вам должное, метр, и в легкой игре, и в легкой беседе. Но сейчас и игра и беседа примут серьезный характер. — Я готов, ваша светлость. — Готовы лишиться собственного дома? — Если вы ставите против него свободу графу Эдмону де Лейе. — Ставка сделана. Ваш ход, метр! Пеняйте на себя и не ждите от меня пощады, если ваша семья окажется без крыши над головой. Вы явно рискуете, предлагая в жертву легкую фигуру, я не вижу, как разовьется ваша атака. — Шахматы, ваша светлость, единственное средство отгадывать мысли другого. — Недурно сказано! Но я угадываю ваши мысли и без шахматной доски, хотя бы, например, в вашей судебной практике, что заставляет меня предостеречь вас от излишнего усердия в оказании помощи (даже математической!) простолюдинам в ущерб интересам высокородных господ. В вас не чувствуется, метр, дворянского подхода (впрочем, вы, кажется, ведь не дворянин!), и, может быть, потому не понимаете, что взятые вами под защиту люди слишком часто берутся за оружие против своих господ, причиняя нам с Мазарини немало хлопот. — Я руководствуюсь в своей судебной практике только соображениями Справедливости, как учит наш король и вы, ваше высокопреосвященство. — Гм! — задумался, глядя на доску, кардинал. — А не находите ли вы свою активность излишней и неоправданной? Хотя бы вот в этой партии? — В ней очень высокие ставки. Кроме того, шахматы в известной степени отражают жизнь, ваше высокопреосвященство. — Тогда стоит ли ваш офицер трех моих пехотинцев, засевших в крепости покрепче Ла-Рошели? Боюсь, что штурм ее будет вам стоить дома в Тулузе, который я подарю прокурору Массандру, готовящему обвинение против графа Эдмона де Лейе. — Массандр? Вы удивляете меня, ваша светлость! Неужели вам не найти кого-нибудь более достойного, чтобы не причинять мне в случае моего проигрыша ненужных огорчений? — Не взывайте к моему милосердию, не разжалобите. Я не только кардинал, но и воин. Меж тем могло показаться, что опасности на шахматной доске для кардинала позади и атакующий не прорвется через пешечный заслон. Однако Ферма был спокоен и неожиданно пожертвовал одну за другой две фигуры: слона и ладью, притом не для того, чтобы разрушить крепость, а как бы для еще большего ее укрепления.
 — Что это? — насмешливо спросил кардинал. — Вы перешли в мой лагерь? Или надеетесь одолеть своей вновь появившейся королевой бастионы, которые не могли взять всеми фигурами?
— А я не буду брать этих укреплений, ваша светлость, а воспользуюсь тем, что вашему королю в них тесно, и вместо королевы поставлю коня, объявляя вам мат!
— Что? Что? — опешил Ришелье и непроизвольно воскликнул: — Боже правый! Мат в середине доски одним-единственным, притом превращенным конем! Короля позабавит эта позиция, а также и то, что я не заметил этого коварного превращения пешки в слабую фигуру, иначе… Да! Вы расчетливо отвлекли меня своей беседой! — И Ришелье решительным взмахом руки смешал фигуры на доске. — Если бы не этот просмотр (не надо было брать предложенную вами туру), и Массандр жил бы в вашем доме.
— Что это? — насмешливо спросил кардинал. — Вы перешли в мой лагерь? Или надеетесь одолеть своей вновь появившейся королевой бастионы, которые не могли взять всеми фигурами?
— А я не буду брать этих укреплений, ваша светлость, а воспользуюсь тем, что вашему королю в них тесно, и вместо королевы поставлю коня, объявляя вам мат!
— Что? Что? — опешил Ришелье и непроизвольно воскликнул: — Боже правый! Мат в середине доски одним-единственным, притом превращенным конем! Короля позабавит эта позиция, а также и то, что я не заметил этого коварного превращения пешки в слабую фигуру, иначе… Да! Вы расчетливо отвлекли меня своей беседой! — И Ришелье решительным взмахом руки смешал фигуры на доске. — Если бы не этот просмотр (не надо было брать предложенную вами туру), и Массандр жил бы в вашем доме.
 — Но сейчас ему придется отказаться от обвинения графа Эдмона де Лейе.
— Разумеется. Я всегда плачу по своим обязательствам и всегда взыскиваю. Советую не допускать в жизни таких ошибок, как я в этой позиции.
— Вы не ошиблись, ваше высокопреосвященство, отказ от взятия вел к проигрышу.
— Вы умелый юрист и опасный человек, метр. Вот так. Мазарини, — властно обратился он к своему помощнику, — распорядитесь в Бастилии! Не забудьте проверить, уместится ли комендант в тамбуре камеры откровенности. Когда будете провожать метра Ферма, дайте ему отцовский совет. Учтите, метр Ферма, что мой Мазарини в ближайшее время станет кардиналом. Отнеситесь к нему по-сыновьи.
— Слова вашего высокопреосвященства звучат для меня как высшее отцовское наставление, — низко поклонился Ферма.
Мазарини услужливо откатил кресло Ришелье к столу, поймал кота и водрузил его на колени немощного повелителя Франции, затем сделал знак Ферма в направлении двери.
Выходя из библиотеки, Ферма бросил взгляд на кресло с тщедушным стариком и на военные доспехи, в которые тот облачался в дни осады Ла-Рошели.
Вместе с Мазарини он вышел в зал приемов, роскошный и холодный.
— Вы были очень неосторожны, метр, с его высокопреосвященством, — вкрадчиво начал Мазарини, — зачем вам возвращаться в Бастилию, проходить через известный вам тамбур? Не думайте, что вы выиграли в деревяшки свободу графу де Лейе, просто вы удачно напомнили справедливому кардиналу о заслугах графа перед покойным королем, память которого священна. У Франции слишком много врагов, — продолжал он доверительно, но с укором в голосе. — И нельзя, чтобы о них думали только мы с его высокопреосвященством, в то время как такие, как вы, светлые умы, будут упражняться в искусстве счета и способствовать брожению черни, переписываясь при этом с учеными враждебных нам стран вроде Англии!
— Готов принять совет ваш и его высокопреосвященства и найти способ проявить патриотизм и на научном поприще.
— Хотелось бы убедиться в этом, — смиренно сказал Мазарини и, на миг сверкнув глазами, добавил: — Пока не поздно.
Ферма вместе со спутником в серой сутане прошел через комнаты, наполненные гвардейцами, пораженными гордым видом и проводами только что доставленного сюда под конвоем человека.
Мазарини проводил Ферма до мраморной лестницы. Гвардеец услужливо подвел ему коня.
Ферма хотел расспросить дорогу к монастырю, отъехав подальше от дворца, но уже на улице Сен-Оноре наткнулся на вихляющего на муле Огюста.
Оказывается, к величайшему изумлению Пьера, отважный Декарт не пожелал бежать из Парижа, ожидая возвращения Ферма, а в случае его задержки собирался сам явиться к кардиналу, чтобы выручить друга.
Ферма не стал испытывать судьбу, отдал коня Огюсту и отправился пешком во Дворец Правосудия на острове Ситэ, где у него были дела от Тулузского парламента.
— Но сейчас ему придется отказаться от обвинения графа Эдмона де Лейе.
— Разумеется. Я всегда плачу по своим обязательствам и всегда взыскиваю. Советую не допускать в жизни таких ошибок, как я в этой позиции.
— Вы не ошиблись, ваше высокопреосвященство, отказ от взятия вел к проигрышу.
— Вы умелый юрист и опасный человек, метр. Вот так. Мазарини, — властно обратился он к своему помощнику, — распорядитесь в Бастилии! Не забудьте проверить, уместится ли комендант в тамбуре камеры откровенности. Когда будете провожать метра Ферма, дайте ему отцовский совет. Учтите, метр Ферма, что мой Мазарини в ближайшее время станет кардиналом. Отнеситесь к нему по-сыновьи.
— Слова вашего высокопреосвященства звучат для меня как высшее отцовское наставление, — низко поклонился Ферма.
Мазарини услужливо откатил кресло Ришелье к столу, поймал кота и водрузил его на колени немощного повелителя Франции, затем сделал знак Ферма в направлении двери.
Выходя из библиотеки, Ферма бросил взгляд на кресло с тщедушным стариком и на военные доспехи, в которые тот облачался в дни осады Ла-Рошели.
Вместе с Мазарини он вышел в зал приемов, роскошный и холодный.
— Вы были очень неосторожны, метр, с его высокопреосвященством, — вкрадчиво начал Мазарини, — зачем вам возвращаться в Бастилию, проходить через известный вам тамбур? Не думайте, что вы выиграли в деревяшки свободу графу де Лейе, просто вы удачно напомнили справедливому кардиналу о заслугах графа перед покойным королем, память которого священна. У Франции слишком много врагов, — продолжал он доверительно, но с укором в голосе. — И нельзя, чтобы о них думали только мы с его высокопреосвященством, в то время как такие, как вы, светлые умы, будут упражняться в искусстве счета и способствовать брожению черни, переписываясь при этом с учеными враждебных нам стран вроде Англии!
— Готов принять совет ваш и его высокопреосвященства и найти способ проявить патриотизм и на научном поприще.
— Хотелось бы убедиться в этом, — смиренно сказал Мазарини и, на миг сверкнув глазами, добавил: — Пока не поздно.
Ферма вместе со спутником в серой сутане прошел через комнаты, наполненные гвардейцами, пораженными гордым видом и проводами только что доставленного сюда под конвоем человека.
Мазарини проводил Ферма до мраморной лестницы. Гвардеец услужливо подвел ему коня.
Ферма хотел расспросить дорогу к монастырю, отъехав подальше от дворца, но уже на улице Сен-Оноре наткнулся на вихляющего на муле Огюста.
Оказывается, к величайшему изумлению Пьера, отважный Декарт не пожелал бежать из Парижа, ожидая возвращения Ферма, а в случае его задержки собирался сам явиться к кардиналу, чтобы выручить друга.
Ферма не стал испытывать судьбу, отдал коня Огюсту и отправился пешком во Дворец Правосудия на острове Ситэ, где у него были дела от Тулузского парламента.
Послесловие ко второй части
В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой…Ф. Бэкон
В 1643 году, три года спустя после встречи Пьера Ферма с кардиналом Ришелье, герцог Арман Жан дю Плесси, кардинал де Ришелье, скончался. Через год умер и передавший ему всю власть в стране слабый король Людовик XIII, оставив трон пятилетнему Людовику XIV, который, возмужав, стал воплощением абсолютной, ничем не ограниченной королевской власти, живя по двум принципам: «После нас хоть потоп!» и «Государство — это я!». Но подлинную власть во Франции прибрал к рукам наследник Ришелье, которого тот успел сделать кардиналом, Мазарини, «серым (как он, подобно Жозефу дю Перамбле, духовнику Ришелье, вошел в историю) кардиналом» в отличие от «красного кардинала» Ришелье, властно подчеркивающего свое могущество, «серый же кардинал» всегда оставался в тени, сплетая хитроумные интриги, при осуществлении которых коварством и жестокостью отнюдь не уступая, а порой и превосходя своего предшественника. Тогда же скончался в почетной старости граф Эдмон де Лейе, а его наследник граф Рауль де Лейе, женатый на удочеренной герцогом Анжуйским Генриэтте, стал одним из богатейших вельмож своего времени. Дружеские отношения его с Пьером Ферма не сложились. Согласитесь, не пристало же зятю самого герцога Анжуйского воздавать дворянской дружбой простому судейскому за оказанную им, но оплаченную услугу! О том же, как граф Эдмон де Лейе был вызволен из Бастилии, знали только покойный Ришелье, кардинал Мазарини да молчавший об этом Пьер Ферма. Он продолжал служить в Тулузском парламенте и делать открытия в математике, заложив основы таких ее областей, как аналитическая геометрия, теория алгебраических чисел и теория вероятностей. У его жены Луизы, схоронившей одного за другим отца Франсуа де Лонга и добрейшего дядюшку Жоржа, на руках было уже пятеро детей. Поскольку у Пьера Ферма больше не встречалось таких ослепительных дел и вознаграждений, как дело Рауля де Лейе, и он добивался справедливости для небогатых людей, ей все труднее было сводить концы с концами, а Пьер, человек непрактичный, продолжал отдавать свое бесценное время таким неоплачиваемым занятиям, как математика или та же поэзия. Сонеты, которые когда-то восхищали мать пятерых детей, не могли бы их прокормить! Где-то в душе Луиза жалела, что из-за щепетильности мужа она так и не стала графиней де Лейе! Но что делать! Декарт, выйдя в отставку с военной службы, продолжал жить в Нидерландах, но с каждым годом ощущал все больший гнет гонений всех ополчившихся на него церквей. Тридцатилетняя война окончилась, но мира не было в Европе. Франция теснила границы Нидерландов, Испания угрожала Франции, не говоря уж о такой исконной, многовековой вражде, как англо-французская. Не прекратилась борьба крестьян против владетельных господ. Начали поднимать голову буржуа, грозя властью денег. Но по-прежнему самым благородным (и прибыльным!) делом была война с ее высшей военной доблестью — родоначальником знатности и богатства. И все-таки перо ученого уживалось рядом со шпагой. Наука развивалась! Неоценимый вклад в нее наряду с Пьером Ферма и Рене Декартом внесли и Блез и Этьен Паскали, Торричелли, Гюйгенс, Мерсенн и многие другие, без которых не было бы ее последующего развития во всем мире.
Часть третья ИХ ТЕНЬ ДОСТАЕТ ОБЛАКА
Статую красит вид, человека — его деяния.Пифагор
Глава первая В АЛЬПАХ
Умный человек может быть влюблен, как безумец, но не как дурак.Ларошфуко
(Из дневника г-жи Луизы Ферма, урожденной де Лонг.) «Даже в монастыре я не вела дневника, не прятала тетрадь в бархатном переплете под подушку, не читала своих тайных записей закадычным подругам, не вздыхала и не проливала слез над стихами, а вот теперь… теперь мне захотелось записать все, что чувствую, о чем думаю после двадцати пяти лет замужества. Пьер сделал к этому нашему с ним дню самый лучший для меня подарок. Нет! Не драгоценный перстень, где «щурится камень кошачьим глазком», не ожерелье самоцветов, которым я однажды любовалась в лавке у ювелира, испанского еврея, не серьги, светящиеся, как звезды, не цыганские браслеты, гремящие при каждом движении руки, хотя (чего скрывать!) мечтала обо всем этом! Он подарил мне поездку в Швейцарию! И я завела эту тетрадку, отправляясь в путь. Пьеру удалось освободиться на время от дел в парламенте, а мне пришлось оставить вместо себя за хозяйку Сюзанну. В ее двадцать лет ей полезно почувствовать себя хоть на некоторое время старшей в доме, а не обращаться по всякому пустяку к матери, которая должна все делать, обо всем помнить, все знать! Конечно, сердечная Жанна поможет ей, взяв на себя заботу о маленькой Эдит. Именно этой трехлетней крошки будет мне не хватать в далекой и прекрасной Швейцарии! Я помню, ох помню, как проходили каждый по-своему через самый забавный, трехлетний возраст мои дети! Самуэль, наш первенец, тогда удивительно любопытный, теперь в свои двадцать четыре года уже бакалавр, но так же непрактичен, как и отец, избрав своей деятельностью науку и поэзию, которые еще никого не кормили досыта. А каким на редкость покорным ребенком росла Сюзанна, ныне болезненно мечтающая о замужестве, нуждаясь и в приданом. Только продажа нашего городского дома может помочь нам внести за Самуэля его долю в какое-нибудь дело в Париже, чтобы он смог заниматься наукой и поэзией, оставив кое-что и для Сюзанны. Жанна в отличие от такой «распустившейся розы», как Сюзанна, из забавной девчушки с колечками золотистых волос превратилась в неуклюжего, неоперившегося гусенка с длинной тонкой шеей, но который еще станет лебедем! И в ней, судя по ее отношению к маленькой сестренке, зреет будущая заботливая мать не в пример слишком занятой собой, холодной Сюзанне. Жорж же, названный так в память добрейшего дядюшки Жоржа, из смешного толстенького увальня превратился в десятилетнего шалопая и бездельника, рвущего панталоны на всех деревьях сада, доставшегося нам в наследство от его деда Франсуа, которого он никогда не видел. Двадцать пять лет! Четверть века забот и лишений, присмотра за детьми, вороватыми слугами и нерасторопным, рассеянным мужем, равнодушным к домашним делам, витающим в своих никому не нужных формулах или стихах, уместных лишь в давно прошедшей юности. Нет! Я не против его стихов, когда-то они радовали меня, но я сама страшусь признаться себе в том, что все, что прежде привлекало меня в Пьере, теперь начинает раздражать в нем, и он порой кажется мне неудачником. Ведь всего только один раз выпало ему на долю счастье, и обязан он этим прежде всего моему отцу, который настоял в парламенте, где с ним считались, чтобы Пьеру поручили дело по обвинению гугенота графа Рауля де Лейе в преднамеренном убийстве католика маркиза де Вуазье. Только прозорливость отца могла предугадать, какое сказочное вознаграждение получит Пьер, спасши от позорной казни графа Рауля. Пьер как-то цитировал: «Ни одно благодеяние не останется безнаказанным!» Что ж! Аристократы действительно охотно забывают тех, кому обязаны. Со времени женитьбы графа Рауля на Генриэтте, этой прижитой герцогом на стороне дочери, а потом после кончины старого графа Эдмона де Лейе его возвращенный Пьером к жизни сын ни разу не пригласил к себе в замок своего названого друга, который даже мог считаться его братом, как того желал старый граф, ни разу не пригласил его вместе с женой, принесшей в суд спасительное для него письмо аббата Мерсенна! Впрочем, стоит ли горевать из-за этой черной неблагодарности? Все равно мы с Пьером отказались бы от «такой чести», хотя бы потому, что жене советника парламента нечего было надеть для такого светского приема, нет драгоценностей, чтобы украсить свой наряд. Бог с ними, оставшимися в Тулузе, вспоминаю о них только для того, чтобы полнее почувствовать в этой свежей горной стране необыкновенную чистоту воздуха, чтобы острее любоваться поражающими воображение пейзажами, отдохновеннее наслаждаться предоставленным в пансионе, где мы остановились, комфортом. В нашей с Пьером комнате есть даже рукомойник с вделанным в мрамор зеркалом, пуховые перины на широкой кровати под балдахином, покойные кресла на белых, гнутых, отделанных золотом ножках. Услужливые горничные в кружевных наколках стараются угадать каждое желание! И никаких забот по дому!.. Все есть, как в сказке!.. Любопытны обитатели нашего пансиона. Это и состоятельные люди, буржуа из разных стран, и аристократы. Сразу после приезда мы видели вереницу оживленных людей с альпенштоками и переброшенными через плечи мотками веревок, вышедшими следом за сухопарым и равнодушным проводником, чтобы отправиться в горы. Я с ужасом подумала, что все эти люди без видимой причины и, конечно, без всякой выгоды для себя станут карабкаться на скалы, срываться с них, подвергаться опасностям снежного обвала, и все лишь ради того, чтобы почувствовать себя на головокружительной высоте. Поистине для того, чтобы решиться на это безрассудство, нужно ощутить головокружение и потерять голову еще внизу! Не могу понять этих людей, а Пьер одобрительно кивал им, незнакомым, провожая в опасный путь. Мы вышли на вьющуюся змейкой дорогу, некоторое время идя вдали за ними по заросшей травами колее. И за одним из поворотов были вознаграждены чудеснейшим видом на горный склон и снежную вершину. Мне бы хотелось описать, что увидела перед собой, но у меня нет таких слов. В рыцарских романах, которыми я увлекалась в монастыре и после него, больше говорилось о красоте чувств, чем о красотах природы. Но именно они, красоты природы, вызывают во мне самые сильные чувства. Пьер решительно не умеет отдыхать! Вместо того чтобы бездумно созерцать эту красоту, он размышлял о жизни, связывал с нею увиденное и даже написал об этом сонет, который я переписываю в свою тетрадку, чтобы поразмыслить над ним. Я в отчаянии от того, что все труднее понимаю мужа, считая его стихи причудой, которую все меньше и меньше оправдываю. Но сонет его все-таки переписала:
Глава вторая МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВОЙНА
Довольно почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!А. Сен-Симон
Итак, как нам уже известно, во второй понедельник июля 1656 года магистр Права (и Чисел, поскольку ученые не пожелали отстать от юристов!) Пьер Ферма с женой Луизой, урожденной де Лонг, по случаю двадцатипятилетия их свадьбы впервые отправились на отдых в Швейцарию. Страна легендарного Вильгельма Телля, уже два с половиной столетия независимая, избегая войн, а лишь отдавая за золото внаем отборные отряды своих воинов для охраны королей, представилась французской паре горным островом среди бушующего моря политических страстей, куда не доходят мрачные тучи с бьющими из них молниями то столетних, то тридцатилетних войн (вынудивших даже папу римского разрешить на какое-то время в истощенных странах многоженство, лишь бы рождались новые солдаты!), не говоря уже о войнах более мелких и менее продолжительных, но также пожирающих жизнь и кровь людей, однако воспеваемых придворными поэтами и благословляемых отцами церкви, неся славу и богатство одним, нищету, смерть или тяготы другим; эта страна показалась Пьеру Ферма как бы заслоненной снежными хребтами и от интриг «серого кардинала» Мазарини, навязывающего Европе гегемонию Франции, и от тщеславных амбиций вождя английской революции Кромвеля, который сперва допустил пролитие царственной крови, а потом во имя права народа на справедливость узурпировал власть над ним, грозя тем же и соседним странам Европы (совмещая в себе, как блистательно определил впоследствии Карл Маркс, одновременно две такие фигуры грядущей истории, как Робеспьер и Наполеон, о чем, конечно, Ферма не мог иметь представления). Он лишь, отрешившись от повседневности, любовался оазисом красоты, когда во время прогулки с женой по заросшему проселку увидел будто бы совсем близкий горный склон, волшебно приближенный прозрачным воздухом, хотя лес там выглядел постриженной травкой, примыкая к скалистому обрыву «крепостной стены великанов», воздвигнутой здесь для охраны подступов к снежной вершине, сверкающей на солнце немыслимо огромным алмазом, причудливые грани которого делали небо более синим, более глубоким, даже твердым, где птицы застыли на распростертых крыльях, став его частью, подобно звездам на ночном небосводе. Вот тогда непроизвольно слагался его «Альпийский сонет», дошедший до нас благодаря счастливо найденной страничке дневника Луизы Ферма, стремившейся понять мужа. Только спустя столетие после Ферма напишет великий Гёте о том, что «пока поэт выражает свои личные ощущения, он еще не поэт. Но как скоро он усвоит мир и научится изображать его, он станет поэтом». Не зная этих слов, Ферма все еще не считал себя настоящим поэтом, а потому не стремился публиковать свои стихи, ограничиваясь чтением их близким людям, лишив тем самым последующие поколения знакомства со своей поэзией. Однако сплав поэзии с математикой он считал естественным, преклоняясь и перед античными философами, ставившими стихи и математику рядом, и особенно перед исполинской фигурой Востока Омаром Хайямом, чья мудрость, выраженная в его певучих стихах, основывалась на обширных познаниях и плодотворно углубляемой им самим науке. Под впечатлением величественного спокойствия и тишины гор Пьер Ферма натянуто принял общество двух англичан, с которыми вместе по укладу пансиона они с женой оказались за одним столиком. В особенности пустым выглядел один из них с высокомерной светской болтовней и заготовленными комплиментами даме их стола, Луизе. К счастью, второй англичанин оказался не кем иным, как хорошо известным Ферма по переписке через аббата Мерсенна Джоном Валлисом, профессором геометрии Оксфордского университета, с которым можно было говорить на математические темы. Правда, Ферма не назвался по имени, поскольку англичане не поинтересовались, с кем вместе сидят за одним столиком. Ферма слишком уважал жену, чтобы лишить ее такого развлечения, как общество сэра Бигби, изощрявшегося в знаках внимания и ухаживании за нею. Выяснилось (англичане охотно говорили о себе), что сэр Бигби, в прошлом ученик Джона Валлиса, окончил Оксфордский университет и до сих пор считает себя математиком, хотя поддержка, в свое время оказанная им Кромвелю, возвысила его теперь до положения помощника военного министра. В непогожий день обычные прогулки стали невозможными, и Ферма с Валлисом вернулись из-за грозы, едва не промокнув до нитки. Вечером Пьер Ферма с Луизой, жалующейся на головную боль, сидели с англичанами в голубой гостиной. Сэр Бигби, видимо, перешел к штурму выбранной им жертвы и решил ослепить ее блеском своего генеральского мундира, придя в гостиную даже со шпагой на боку, что Ферма отметил про себя с внутренней усмешкой. Но когда разошедшийся английский лорд и помощник военного министра стал вещать, потряхивая шпагой на дорогой перевязи, всякая усмешка, и внешняя и внутренняя, у Ферма исчезла. Только привычная для юриста выдержка позволила ему не прервать английского лорда, сначала прославлявшего революцию и борьбу за справедливость, воплощаемую, по его словам, в великом Оливере Кромвеле, лорде-генерале, как он его называл, может быть желая подчеркнуть, что он тоже лорд и тоже генерал. После подавления движения ловеллеров и диггеров, этих низших слоев общества, тянувших «грязные руки к власти», и установления единовластного протектората вождя, решающей для судеб мира теперь стала собранная им в один кулак сила. — И он, ваш Кромвель, грозит войной Европе? — спросил Ферма. — Не Европе, а угнетателям европейских народов. Да, если хотите, сударь, то войной. — Как же сочетается война с ее узаконенными убийствами с представлением о справедливости, насаждаемым господином Оливером Кромвелем? — Вопрос наивный, но заслуживающий разъясняющего ответа, сударь. Дело в том, что… (не знаю, насколько это будет близко вам для восприятия) но война — это та чудесная сила, которая двигает вперед человеческое общество. — Вы не оговорились, сэр? Война — благо? — переспросил Ферма. — Война, а не мир, не благоденствие? — Нет, нет! Сэр Бигби не оговорился, — поспешил разъяснить Джон Валлис. — Мы часто с ним спорим, но, я думаю, полезно будет попросить его обосновать свою мысль. — Охотно, профессор! Я привык с давних лет давать вам объяснения еще на экзаменах в Оксфорде. — Да, да, — кивнул Джон Валлис, — но там была математика. — И здесь та же математика, если иметь в виду точность выводов, которые я берусь доказать, как любую из теорем Евклидовой геометрии. Вы говорили, сударь, о благоденствии и мире, но должен вам сказать, что есть вещи поважнее мира. — Важнее мира? Что может быть ценнее сохранения жизни? — Торжество силы! Только сила направляет разум человеческий, только опасность, в которую человек попадает благодаря благостным, пробуждающим его скрытые возможности войнам, заставляющим его собрать и напрячь все силы, думать, искать, изобретать. Даже великий Архимед делал свои изобретения ради военных успехов родных Сиракуз. Человеческий ум, джентльмены, ленив и неподвижен в своей сущности. Нужно загнать его в угол, дать ему встряску, чтобы пробудить его, заставить работать как бы под кнутом надсмотрщика, стегающего бездельников на плантациях в колониях. Только боль ран и потерь, стремление выжить, остаться живым, сохранить свои богатства, владения, самостоятельность, избежать рабства или чужой зависимости — вот рычаги, которые заставляют человека, как мечтал еще Архимед, говоря о точке опоры для своего рычага, поворачивать с его помощью мир. Нет занятия более достойного, сударь, более важного для развития человечества, чем возвеличивание нации и отстаивание ее достоинства, чем война! — Ваша философия насилия как побудителя расцвета цивилизации не делает чести вашей нации, сударь, — возразил наконец Ферма. — Что? Что вы осмелились сказать о достоинстве моей нации? — поднял великолепные брови, готовясь вскочить с кресла, сэр Бигби. — Джентльмены, джентльмены! Прошу вас! Не стоит так обострять вопрос, — пытался смягчить спор профессор Валлис. — Нет, профессор, господин француз заставляет меня отнестись к затронутому вопросу о достоинстве нации со всей серьезностью, поскольку это граничит с вызовом нам, англичанам. — Вы совершенно правильно поняли меня, сэр. Я делаю вам вызов! — раздельно произнес Ферма. — Каков бы он ни был, мы принимаем его! — запальчиво произнес сэр Бигби, вскакивая с места. Но тут произошло замешательство. Луиза, весь день жаловавшаяся на нездоровье, прижав платок к глазам, не в силах, очевидно, дальше сдерживать нестерпимую головную боль, выбежала из голубой гостиной. Ферма проводил жену до лестницы и вернулся: — Я делаю вам вызов, джентльмены, как представителям английской нации и как математикам. — Математикам? — оторопело повторил сэр Бигби, снимая руку с рукояти шпаги, за которую перед тем ухватился. — Да, я предлагаю вам защитить достоинство вашей нации без шпаг, в «математической войне», требующей не крови, а напряжения ума. — Чего же вы хотите, сударь? — поинтересовался Джон Валлис. — Пустое! Предлагаю вам решить коротенькое уравнение, которое исследовал еще Евклид в своих «Началах». — Какое? Какое? — заинтересовался Валлис. — Я, кажется, неплохо знал «Начала» Евклида. — Тогда вы легко вспомните такое простенькое выражение, как y2 = ax2 + 1. — Еще бы! Так что вы хотите от нас, наш французский друг и противник? — Найти наименьшее значение неизвестных «x» и «y», имея в виду, что общее количество решений бесконечно. — Вы смеетесь над нами, сударь. Что может быть проще? — продолжал Джон Валлис, в то время как сэр Бигби, надувшись, сидел молча. — Совершенно ясно, что наименьшее из всех возможных решений при a = 2, x = 2 и y = 3! Не правда ли? Надеюсь, я защитил достоинство британской нации? — Не полностью, дорогой профессор. У Диофанта в его «Арифметике» рассмотрены два случая, когда a = 26 и a = 30. — Да, да, кажется, там есть такое. Вы этого не помните, сэр Бигби? — обратился профессор к своему бывшему ученику. — Не помню. В последнее время я занимался в заморских странах другими древностями. — Диофант дает наименьшие значения «x» и «y» для этих случаев, но если мы уже заинтересовались древней историей, то стоит вспомнить того же Архимеда. Великий сиракузец, желая проверить, имеют ли александрийские математики общий метод решения подобного уравнения, как известно, предложил им задачу «о быках», которая сводилась при решении к этому же уравнению, где коэффициент a = 4729494, понимая, что решить такую задачу подбором, как это вы сделали, уважаемый профессор, для a = 2, невозможно, ибо решение содержало 206 545 знаков. — И что же? Вы предлагаете нам заняться архимедовыми быками? — насмешливо спросил сэр Бигби. — И выписывать сотни тысяч знаков? — Я предлагаю вам решить уравнение при a = 109, 149, 433, когда подбор так же невозможен, как и в задаче, заданной александрийским математикам, хотя цифры и не столь велики. Чтобы дать ответ, вам и вашим английским коллегам, к которым я через вас обращаюсь, придется найти общий (регулярный) метод решения, а если ни ученые Англии, ни ученые прилегающих к ней стран не смогут этого сделать, то это будет сделано во Франции, чем и будет доказано превосходство одной нации над другой, в частности французской или британской. — Сэр Бигби поспешил ответить вам, что каков бы ни был ваш вызов, мы принимаем его, — произнес после раздумья Джон Валлис. — Мне остается только подтвердить его слова, отнюдь не преуменьшая связанных с этим трудностей. — Но эти трудности, уважаемый профессор, несопоставимы с теми тяготами и лишениями, которые несет нация, участвуя в якобы благостных, по мнению сэра Бигби, войнах. — Вижу, вы недаром назвали свой вызов «математической войной». Однако, принимая ваш вызов от имени нас двоих, сударь, я должен ознакомить с ним математиков Англии. — Можете познакомить с моим вызовом хоть самого лорда-генерала Оливера Кромвеля. — Это будет рискованно сделать, сударь: с лордом-генералом общаются лишь руководители европейских государств. — Передайте тогда, что я сделал вызов британской нации по совету кардинала Мазарини, данному мне еще при жизни его высокопреосвященства кардинала Ришелье, проявлять патриотизм француза и в науке. — Тогда другое дело, сударь. Но позволительно все-таки узнать, о чьем именно вызове надлежит нам сообщить лорду-генералу, каково имя человека, рискнувшего вызвать целую нацию? — Охотно назову себя, профессор. Я сожалею, что мне не представилось случая сделать это прежде, за отсутствием вашего любопытства, джентльмены. — Поверьте, сударь, теперь оно крайне обострено, и мы сожалеем о своей недостаточной учтивости к человеку, очевидно, обремененному научными званиями и доктора наук, и профессора. — Вы ошибаетесь, я всего лишь любитель! Правда, мне присудили степень магистра Чисел, право, не знаю за что, поскольку я не опубликовал ни одной книги, а в своих письмах сообщал лишь выводы, к которым приходил, предлагая другим найти ведущие к ним пути. Во всяком случае, делая свой вызов английским ученым, сообщаю, что метр Пьер Ферма к их услугам. Трудно передать то впечатление, которое произвело на англичан это скромное имя. — Пьер Ферма! — воскликнул после затянувшегося молчания Джон Валлис. — Отчего же вы не назвались нам раньше? — Мне показалось, что уважаемые джентльмены не проявляли интереса к именам своих собеседников. Англичане смущенно переглянулись. — Мы сожалеем, сударь. Теперь все будет по-иному. Мы принимаем ваш вызов… Джон Валлис оборвал свою фразу, заметив, что в голубую гостиную, громыхая оружием, ворвались два рослых альпийских стражника в сопровождении поджарой, дышащей гневом хозяйки пансиона: — Вот он, скорее вяжите его! Он в стенах моего заведения осмелился сделать вызов, вынуждая почтенных постояльцев принять его. Стражники грубо схватили Ферма за руки. — Вы с ума сошли! — запротестовал Ферма, глядя на растерявшихся англичан, которые не решались прийти к нему на помощь. — Это мы с ума сошли? — переспросил капрал. — Не добавляйте к своей вине еще и оскорбление властей! — И старший из стражников угрожающе зашевелил пышными усами. Англичане сделали попытку уговорить капрала, но тот никого не хотел слушать, ссылаясь на приказ офицера. К счастью, Луиза, лежавшая в своей комнате, не видела позорной сцены, когда ее мужа повели под стражей по той самой заросшей колее, по которой они недавно гуляли вместе, любуясь видом на горы. Сейчас Пьер Ферма не видел ничего. Опустив голову, он размышлял о нелепости своего положения, когда нет никакой возможности в чем-нибудь убедить этих тупоумных альпийских стражей, вообразивших, будто он кого-то намеревался убить. Горная вершина, сверкая снежным покровом, как и прежде, высилась, словно вырезанная в синем небе, но Пьер Ферма мыслями был в далеком Париже, где его вот так же вели под конвоем в Бастилию. Но тогда он даже радовался этому, стараясь уберечь Декарта, а сейчас… сейчас он всего лишь бросил вызов всей Англии во главе с самим Кромвелем! Но как доказать этим, что он предлагал соревнование умов, а не кровопролитие, как доказать, что его напрасно тащат к альпийскому офицеру за попытку убийства «мирного» постояльца пансиона «Горная курочка»? Поймет ли что-либо офицер?
Глава третья КОРЕНЬ КУБИЧЕСКИЙ
Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум.Ф. Ларошфуко
Командир роты альпийских стражников (одно время в местном кантоне они представляли собой нечто среднее между жандармами, пограничной охраной и спасательной командой в горах) лейтенант Анри Бернард отнюдь не считал себя баловнем судьбы. Вся его жизнь казалась ему лестницей неудач, начиная с проклятой ступеньки экзаменов в колледже, где он провел последние годы, занимаясь игрой в мяч, скалолазанием и другими физическими упражнениями, ненавидя таблицу умножения, где почему-то 5 #215; 5 = 25, 6 #215; 6 = 36, а 7 #215; 7 = 49 (?), чего никак не удавалось ни понять, ни запомнить из-за «дырявой», как жаловался Анри Бернард, памяти. Словом, диплома об окончании колледжа он не получил, не попав на выгодную службу к отцу, где непременно требовалось искусство счета. Происходя из знатной семьи кантона, имея отца, державшего в Цюрихе заемную контору (прообраз будущих швейцарских банков), Анри Бернард мог бы надеяться на удачу, но крутой нрав родителя не допускал, чтобы человек, не умеющий считать, взялся бы за работу в его конторе или в любом торговом заведении. Он даже готов был лишить нерадивого сына наследства, но все же помог ему получить офицерский чин и пойти на военную службу, что в Швейцарии означало вступление в наемные войска с отправкой в другие страны, к чему Анри Бернард был совершенно не расположен, влюбленный в прелестную Женевьеву, дочь отцовского компаньона. При решении вопроса о месте прохождения военной службы неожиданно сыграли роль его безрассудные, по мнению отца, восхождения на труднодоступные вершины, и вместо отъезда к иноземному королевскому двору лейтенант Бернард попал в высокогорную глушь командиром роты альпийских стражей, с которыми вместе карабкался по отвесным скалам, чтобы выручить незадачливых гостей кантона, так же безрассудно, как и он когда-то, штурмующих вершины. В остальном жизнь в горной солдатской хижине была одуряюще скучна, не говоря уже о тоске по Женевьеве. Обычно тихий, задумчивый, высокий, как отец, но нескладный и на редкость бесцветный, с плоским лицом и пшеничного цвета растительностью, бровями, ресницами, усами, волосами, Анри Бернард к вечеру обычно пребывал в самом скверном расположении духа, когда являл сам себе полную противоположность, становясь подозрительным, злым, несправедливым, готовым выместить на других свои неудачи. Солдаты старались в такие минуты не попадаться ему на глаза. Но у конвоиров, доставлявших в расположение роты задержанного толстеющего француза, уже в возрасте, с длинными, по плечи волосами и чуть одутловатым лицом, выбора не было, в каком бы настроении лейтенант ни оказался. И Пьер Ферма предстал перед развалившимся на скамье у грубо сколоченного дощатого стола лейтенантом, смерившим его недружелюбным взглядом. — По требованию хозяйки пансиона «Горная курочка» этот ее постоялец был взят под стражу, господин лейтенант, за то, что сделал вызов другим двум постояльцам в нарушение конституции кантона, — бойко доложил капрал, бравый и усатый. — Так, так! Правильно скручено, капрал. Вы отрицаете, сударь… э-э… что сделали вызов? — Нет, не отрицаю, господин лейтенант, но… — Какое еще «но»! Признаетесь, значит, виновны. И все тут! — Не совсем так, господин лейтенант. Дело в том, что я Пьер Ферма, математик, сделал вызов англичанам, объявляя им математическую войну. Анри Бернард наморщил лоб, сопоставляя несопоставимое: — Еще того лучше! Он на территории кантона… э-э… объявляет войну! Вина тем усугубляется. Каждый въезжающий в нашу страну чужеземец должен знать ее законы. — Ваши справедливые законы, господин лейтенант, запрещают кровопролитие, что позволяет Швейцарии так процветать, но я ведь вызвал англичан на математическую войну. — Какую еще там… э-э… математическую войну? Это когда математики подсчитывают число убитых и раненых? — Никаких убийств, господин лейтенант! Только состязание в способности к математическому мышлению. — Математика?.. Э-э… То, что вы нарушитель законов кантона, ясно, а вот… э-э… насчет математики… — Я легко докажу, что это моя область. — Интересно, как это вы мне… э-э… докажете? — Я сделаю самое трудное математическое вычисление в вашем присутствии с молниеносной быстротой. — А как я вас проверю? — Очень просто. Я не говорю о таких доступных задачах, как сложение, вычитание, умножение или деление, даже возведение в степень… — Ну-ну! И что еще придумаете? — Скажем, извлечение корня. И не квадратного, а посложнее, кубического корня, хоть из шестизначного числа. Согласитесь, что это выглядит не таким простым делом. — Извлечение кубического корня? Что-то слышал об этом, как о самом заковыристом деле. А шестизначное… э-э… это очень большое число… — Возведите в третью степень любое двузначное число, господин лейтенант, и произнесите вслух полученное пятизначное или шестизначное число. Пока вы его объявляете, я назову вам ответ. — Что-то очень хитро… э-э… и, конечно, невозможно. — Но это самый простой способ убедиться в том, что вы имеете дело с математиком. — Да… но нужно перемножать двузначные числа — это целая чертовщина. — Поручите это господину капралу или еще двум-трем из ваших стражников. — А ну! — скомандовал лейтенант капралу. — Вызовите мне интенданта роты. — И он обернулся к Ферма: — Сейчас, сударь, этот парень выведет вас на чистую воду. Меня еще можно одурачить вашими фокусами, но не его! Он ведет в нашей роте… э-э… весь счет, платит за провиант, амуницию, офицерское жалованье и… э-э… ну да это неважно. Считать он умеет. И за себя, и за других. — Мне только это и надо, господин лейтенант. Вошел еще один капрал, низенький и юркий, с бегающими маленькими глазками и хитроватой усмешкой под солдатскими усами. — Капрал! Этот правонарушитель утверждает, что извлечет кубический корень… э-э… как это… из шестизначного числа раньше, чем вы успеете его произнести. Как? Возможно это? — Никак нет, господин лейтенант, невозможно, клянусь господом богом. — Всегда считал вас добрым христианином, когда вы клялись так при сложных… э-э… расчетах. Тогда… как это называется?.. Ну, возведите в третью степень, что ли, двузначное число. Садитесь вот здесь и пишите. А ты, капрал, — обратился он к старшему конвоиру, — делай то же самое на другом конце стола. Это, чтобы не переврали… э… покажите один другому начальные цифры. Капралы обменялись взглядами, и, что-то шепнув друг другу, сели на разных концах стола, и, сопя и кряхтя, принялись перемножать двузначные числа, чтобы получить их куб. Интендант закончил вычисление раньше и, прижимая к груди аспидную доску, на которой писал мелом, долго с сожалением и превосходством смотрел на своего соратника, трудившегося с гусиным пером и листком бумаги, высунув кончик языка. Наконец и тот закончил, но, видимо, ошибся, потому что интендант заставил его пересчитать. И только после этого, сверив полученные результаты, интендант передал аспидную доску командиру. Ферма чуть искрящимися от внутреннего смеха глазами наблюдал за этой забавной процедурой. Лейтенант же торжественно, с отчетливой раздельностью произнес: — Пятьдесят тысяч… — Тридцать… — тихо вставил Ферма. — …шестьсот пятьдесят три, — закончил лейтенант и услышал конец фразы Ферма: — …семь. Тридцать семь, с вашего позволения… — Чертовщина! — всполошился лейтенант. — Э-э! Мошенничество! Еще одна ваша вина! Вы, сударь, обладая… э-э… завидным слухом, подслушивали, как капралы обменивались начальными цифрами, и назвали их теперь, будто вычислили! Ферма пожал плечами: — Ваши подчиненные могут выйти из помещения и вернуться с готовым результатом, господин лейтенант. — И правда! Капралы! Марш из казармы! И помножьте мне там… э-э… что-нибудь побольше. Капралы послушно ушли и вернулись через несколько минут, многозначительно передав командиру аспидную доску. Лейтенант зловеще провозгласил: — Шестьсот восемьдесят одна тысяча… — Восемьдесят, — без промедления вставил Ферма. — …четыреста семьдесят два! — закончил лейтенант и услышал, сам себе не веря, конец ответа Ферма: — …восемь. Восемьдесят восемь, сударь! — Вы — колдун! Вас надо было бы в прежние времена передать инквизиции и сжечь на костре. — Здесь нет ни колдовства, ни секрета, господин лейтенант! Через полчаса вы будете проделывать то же самое. — Я? Э-э!.. Как это так? — Нет ничего проще, надо только запомнить восемь цифр. Два капрала, шевеля усами, уставились на колдуна. — А ну… э-э… Выйти всем! — скомандовал лейтенант. Стражники покорно исчезли из хижины. — Так вы хотите сделать из меня… э-э… математического волшебника, что ли? — Нет, просто ознакомить вас с некоторыми приемами теории чисел, очень простыми. Вы заметили, что я назвал первую цифру ответа, едва вы произнесли первые две, три цифры многозначного числа, говоря мне, сколько тысяч в нем. Мне этого достаточно, чтобы уже знать, сколько десятков двузначного числа надобно возвести в третью степень, чтобы получить чуть меньшее число тысяч. А когда вы заканчивали произнесение всего числа, то меня интересовала лишь последняя цифра, ибо каждому числу в кубе соответствует лишь определенная цифра извлеченного из него кубического корня. — Э-э… — наморщил лоб лейтенант. — Как же в этом разобраться? — Запишите себе восемь цифр. — Сейчас, сейчас, сударь, — заторопился лейтенант. — Только очиню перо. Этот капрал так… э-э… им царапал, что и писать теперь нельзя. — Запишите, потом запомните. — А вы их наизусть знаете? — Конечно. И вы так же знать будете, если хотите показать людям свое необычайное уменье счета. — Э-э! Вы попали в самую точку, сударь. Вы даже не представляете, как мне это надобно. — Тогда пишите: единица всегда единица. 23 = 8, 33 = 27, 43 = 64, 53 = 125. Эти цифры нет ничего проще запомнить. И еще 63 = 216. — А как их выучить? — горестно спросил лейтенант. — Хотя бы так: двойка в кубе — это сколько клеток в ряду на шахматной доске? — Восемь. — Ну вот видите! Вам этого уже не забыть! Простите, сколько вам лет? — Двадцать семь. — Как удачно! Тройка в кубе! Запомнили? А четверка в кубе — 64. Как раз столько клеток на всей шахматной доске. — Верно, сударь. — Пятерка в кубе — 125. Первые две цифры 1, 2 в сумме дают куб, а третья — вашу пятерку. Ясно? Теперь шестерка в кубе — 216. Опять первые две цифры в сумме дают куб, только расположены они в обратном порядке, а последняя цифра — шестерка, которую мы уже возводили в куб. — А ведь, пожалуй, так можно и запомнить. Что-то нас… э-э… не так учили… — Зазубривать вас учили. Один мой друг, великий философ Рене Декарт, пишет, что «для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать». — Это верно, сударь. Мудрый у вас друг. — Это не мешает нам с ним спорить порой. — Вот и мне теперь хочется поспорить с вашими цифрами в кармане. — С кем поспорить? — С отцом, ох как надо поспорить с ним! — Итак, остались только три числа 73 = 343. Это число начинается (или кончается) тройкой, то есть кубом. А сумма оставшихся цифр дает первоначальное число — семерку. Чувствуете общую закономерность? Не зазубривать, а размышлять! — Конечно, чувствую, размышляю, даже вижу! — обрадовался лейтенант. — До чего интересно! — Я рад, что это вас заинтересовало. — У меня тут… э-э… не просто любопытство, если бы вы знали, сударь. Кажется, от ваших цифр будет зависеть… э-э… мое счастье. — От души вам его желаю. Итак, еще два числа: 83 = 512. Как видите, последние цифры опять единица и двойка — в сумме куб, а все вместе цифры дают в сумме восьмерку! И наконец, последнее: 93 = 729. Вглядитесь в это число. Последняя цифра наша девятка, а две первые, как и 33, читаются как 27 (только в обратном порядке) — ваш возраст. — Ну, в прямом чтении это возраст моего отца. Тоже запоминается. Теперь, будьте уверены… э-э… научусь запоминать! — Вернемся к нашим недавним вычислениям и разоблачим чудо. Помните, когда капралы нашли число 50 тысяч, я уже знал, что это меньше 64 и больше 27, едва вы это произнесли, значит, первая цифра ответа будет 3 (десятка). Когда вы закончили чтение всего числа 50 653, то оно кончалось на тройку, а тройку в третьей степени может дать лишь семерка. Вот и ответ — 37! — До чего просто, — восхитился лейтенант. — А в последнем случае 681 тысяча была меньше 729, но больше 512. Значит, десятков будет 8, а последняя цифра 2 требовала только цифру 8. Вот и ответ — 88! — Вот это то, что мне надо, сударь! Э-э!.. Теперь я им покажу, как надо уметь считать! Ферма с улыбкой наблюдал за происшедшей в лейтенанте переменой. Его бесцветность как бы исчезла, так он оживился, выпрямился, засверкал глазами. Командир вызвал капралов и, глядя в бумажку с девятью числами (единицу он тоже записал), заявил, что это лишь на первое время, пока не запомнит накрепко, заставил подчиненных упражняться в арифметике, возводя в куб различные числа и с восторгом извлекая из шестизначных нагромождений кубические корни за считанные секунды, чем ввергал капралов в полное изумление и даже панический ужас, ибо им вполне могло показаться, что приведенный из пансиона чернокнижник познакомил их лейтенанта с нечистой силой. Лейтенант приказал оседлать двух лошадей и при лунном свете самолично проводил Пьера Ферма до пансиона «Горная курочка». Несмотря на поздний час и бережливость хозяйки, в гостиной все же горели свечи. Англичане обрадовались появлению Ферма, хотя у сэра Бигби был измученный вид. — Я рад, что вы вернулись, сударь, но в ваше отсутствие, да еще и ночью, я не рискнул беспокоить вашу супругу. Вы крайне обяжете меня, если вернете мне флакон нюхательной соли, так как у меня нещадно разболелась голова от всех перенесенных здесь волнений. Ферма, поднявшись по лестнице, через некоторое время принес скисшему генералу его флакон, а Луиза ждала возвращенного ей мужа на лестничной площадке, чтобы повиснуть у него на шее с заглушенными рыданиями. Лейтенант Анри Бернард все последующие дни мучил своих капралов до полного изнеможения, заставляя их умножать и умножать двузначные числа до получения их куба, а потом с наслаждением извлекал из полученных результатов кубические корни. И к тому времени, когда он от частого употребления вызубрил наконец названные ему Пьером Ферма числа, то невольные его помощники уже назубок знали все кубы чисел от единицы до ста, хотя и не имели представления о теории чисел, с которой ознакомил их лейтенанта французский математик. Все достигается упражнениями, вольными или невольными! Ко дню возвращения супругов Ферма из Швейцарии лейтенант Анри Бернард, получив кратковременный отпуск, прибыл в Цюрих. Уединившись с отцом в его узком, как коридор, кабинете, Анри признался, что в нем проснулся необыкновенный математик, способный творить чудеса. Отец не поверил, но, когда сын стал безошибочно извлекать кубические корни из шестизначных чисел, уверился в сошествии на сына необыкновенного дара благодаря услышанным господом богом отцовским молитвам. И по особому приглашению в дом Вильгельма Бернарда собрались: его компаньон Питер Бержье, два профессора математики лучших колледжей страны господа Штейн и Маркштейн, лысый доктор Фролистер, прославленный целитель и несомненный ученый, а также епископ местной епархии его преосвященство господин Мариане со своим секретарем аббатом Виньвьетом, человеком всезнающим и сугубо полезным. Перед этим почтенным собранием и выступил храбрый лейтенант, прежде всего принеся молитву всевышнему, а потом предложив присутствующим возвести в куб любое двузначное число, из которого он якобы может извлечь кубический корень с немыслимой быстротой. Пока профессора математики Штейн и Маркштейн занимались арифметическими вычислениями, его преосвященство епископ Мариане по-отечески вел беседу с Анри о душе, святой вере и спасении, его же секретарь аббат Виньвьет с видом ищейки осмотрел обширную гостиную с грубой альпийской мебелью, чтобы выявить приспособления, пригодные для обмана, сигнальные карты и прочие атрибуты фокусников, однако ничего не обнаружил. Доктор же Флористер, смерив пульс Анри и приложившись ухом к выпуклой его груди, установил, что тот находится в полном здравии. Тогда по знаку Вильгельма Бернарда профессора стали поочередно называть самые трудные, на их взгляд, шестизначные числа, извлечение кубического корня из которых даже у них потребовало бы до получаса времени, а то и больше! И десятки раз ответ Анри звучал раньше, чем Штейн или Маркштейн заканчивали провозглашение исходного числа, притом абсолютно без всякой задержки, без необходимого для вычислений времени, словно читая в мозгу математиков верные ответы. Профессора, Штейн и Маркштейн признали все ответы правильными, а быстроту счета не поддающейся осмыслению. Епископ с аббатом должны были решить, не причастен ли к этому враг человеческий. Но основания не нашли, поскольку Анри начал свой сеанс с молитвы, а произнося ответы, крестился. Доктор же Флористер подтвердил, что Анри называл ответы, не находясь в припадочном состоянии. Словом, признание сошедшего на Анри свыше дара было всеобщим и безусловным. Вильгельм Бернард праздновал полную победу, словно сбил стрелой яблоко с головы любимого сына. Облобызав Анри, он объявил, что тот может выходить в отставку и приступать к работе в семейной заемной конторе. Однако всеобщим разочарованием могла бы стать, безусловно, неуместная шутка Анри, будто никакого дара к быстрому счету у него нет, а что он просто усвоил некоторые правила теории чисел. Шутка молодого Бернарда вызвала лютую бурю возмущения и негодования почтенных зрителей проведенного математического сеанса и совсем не шутивших; Анри понял, что ему никто не желает верить, обвиняя его в неуважении к собравшимся и даже к святой церкви. Пришлось Анри, потупив глаза, «признаться», что он всего-навсего хотел этим неуместным заявлением проверить, как глубоко впечатление от знакомства с его обретенным по воле господа даром. Все закончилось ко всеобщему удовольствию, Анри пожурили за присущее молодости неразумие и даже озорство, прочитали ему нотации, как хранить дарованную ему способность творить чудеса, в чем приняли участие все, начиная с отца и господина Бержье и кончая профессорами, врачом и епископом с аббатом. Анри выслушал всех с опущенной головой и потупленным взором, думая о Женевьеве, ожидавшей своей судьбы в соседней комнате и, быть может, заглядывающей в замочную скважину. Вскоре Анри вышел в отставку и занял место в отцовской конторе, с ужасом убедившись, что там вовсе не требуется извлекать кубические корни и надо делать вид, что совершаешь чудеса, едва справляясь с черновой работой. Через год, списавшись с Пьером Ферма, он приехал с молодой женой в Тулузу, чтобы одолеть при его помощи и другие приемы быстрого счета. Спустя десять лет, уже после кончины отца, он стал видным банкиром Цюриха, с достоинством неся бремя признанного «математического чуда века», а мысленно благодаря военную службу, занесшую его в солдатскую хижину вблизи пансиона «Горная курочка». Между тем математическая война между Англией и Францией разгоралась до необычного накала, привлекая к себе внимание не только ученых, но и государственных деятелей обеих стран. Профессор Оксфордского университета Джон Валлис собрал всю связанную с «вызовом» французского математика переписку, изобилующую и яркими находками, и острыми выпадами, и издал ее отдельной книгой.
Глава четвертая БИНОМ ФЕРМА
Делай великое, не обещая великого.Пифагор
Старинный запущенный сад де Лонгов благоухал. Жадный запах полонивших все трав спорил с робким и печальным ароматом все-таки распустившихся в зеленой чаще, когда-то ухоженных, а теперь одичавших цветов. Яркое солнце наполняло сад такой жизненной силой, что, поднимая стебли, множа листья, расцвечивая лепестки, она превращала остаток своей мощи в дурманящий аромат, способный воскресить давно забытое, ушедшее, минувшее тридцать лет назад, когда двое молодых людей, вчера еще незнакомых, разговаривали друг с другом, прикрываясь ничего не значащими словами, но передавая тревожно бьющимся сердцам нечто особенно важное, безмерно тайное и самое для них главное, что определит их грядущую судьбу. И вот те же люди, став на три десятилетия старше, вновь брели по той же самой, теперь грустной аллее, снова передавая друг другу невысказанные мысли, но уже не с помощью загадочных способов, доступных лишь влюбленным, а благодаря тому, что изучили за четверть века друг друга настолько, что знали, кто о чем подумает и что скажет. — Хотелось бы сорвать тебе розу, да ведь обдерешься весь о шипы, — заметил Пьер Ферма, протягивая руку к старому разросшемуся кусту. — Побереги камзол, — остановила его жена и добавила с горечью: — На случай, если граф Рауль де Лейе пригласит нас к себе в замок. Когда проживешь вместе жизнь, поймешь горькую мысль, что по его, Пьера, милости они не настолько богаты, чтобы бросаться пистолями или гинеями, и он не может купить себе новый камзол. Но услышал Пьер только упоминание о Рауле. — Боже мой! Сколько можно о нем говорить! — раздраженно сказал он. — Граф давно забыл о моем существовании. — Вы оба забыли друг друга, — с обидой за мужа сказала Луиза. — И совершенно напрасно забыли! «И нельзя теперь обратиться к нему за помощью, чтобы не переезжать, — подумал про себя Пьер, — в это запустение, доставшееся Луизе в наследство от де Лонгов, и не продавать городского дома!» — Что делать! — вздохнул Пьер Ферма. — Надо привести все в порядок. — Чьими руками? — только и спросила Луиза, но в словах ее слышались слезы. Конечно, они не могут нанять садовника, слуг, плотников, могущих исправить перекосившиеся окна и косяки дверей. Это знал Пьер и, защищаясь от несносных забот, воскликнул: — Боже мой! Но как-нибудь это можно сделать? Ты же все можешь! — Ах эти «могущие все руки»! — с усмешкой произнесла Луиза, поднося руки к глазам. — Если бы сэр Бигби знал, что на них ложится! — Все вспоминаешь английского лорда? — Уж я-то с ним не переписываюсь! — Наша переписка касается только моего «вызова» английским математикам! Уж лучше бы Пьер не упоминал о математиках! Он знал, как действует слово «математика» на жену, которая вполне справедливо считала, что это занятие мужа, как и его поэзия, не принесло ему никакого дохода. И еще знала, что такое растущие долги, знала и как хозяйка, и как мать подрастающих дочерей! И она с горечью сказала: — Математика! Мне кажется, что я хорошо усвоила теперь и что такое нуль, и как возникают так называемые отрицательные числа. Пьер понял ее намек на пустой карман и на долги, которые, конечно же, измотали ее, бедную. Стараясь отвлечь жену от невеселых мыслей, он попробовал пошутить: — Ты делаешь несомненные успехи в математике, хотя и недолюбливаешь ее, однако оперируешь такими понятиями, как нуль и отрицательные величины. — Еще бы! Я устала и от того и от другого! — Так не посидеть ли нам на скамеечке, — с улыбкой предложил Пьер. Она посмотрела на него своими глубокими, когда-то синими, а теперь начинающими выцветать глазами и сказала: — А ты не боишься, что нам придется сидеть в долговой яме? — Ну почему же? Я ведь все-таки работаю. — Ах, если бы работать и зарабатывать было бы одно и то же! — Что ты имеешь в виду? Пьер спросил, хотя хорошо знал, что у него нет больше таких ярких дел, как «спасение графа Рауля де Лейе», поставившее их когда-то на ноги. Казалось, вне всякой связи с предыдущим разговором Луиза сказала: — Сюзанна вне себя из-за нашего переезда за город. — Почему же? — удивился Пьер. — Она говорит, что ей не с кем видеться здесь. И правда, даже до церкви нам добраться — целое событие. — Что? Массандры приглашали? — догадался Пьер. Она кивнула и поднесла платок к глазам, что означало невозможность бедной девушке воспользоваться этим приглашением, потому что нет ни кареты, ни выезда и она не может идти пешком по пыльной дороге в своем перешитом из материнского платье! — Ну, у нее, по крайней мере, есть теперь хоть какое-то приданое, — растерянно напомнил Пьер. — Кто же об этом узнает, когда мы загнаны сюда? — Ну нельзя же так! — поморщился Пьер. — Ты жила с отцом в этом доме, и тебе это не помешало выйти за меня замуж. — Не тронь этого! Не тронь! — простонала Луиза и зарыдала, уткнувшись лицом в платок. — Меня находили здесь женихи, а я… «Отказывала им, чтобы теперь страдать со мной», — добавил про себя Пьер. — Это все из-за того, — сквозь слезы улыбнулась Луиза, — что моя тень никогда не достанет облака, а волочится по земле… за тобой, — добавила она совсем тихо и пошла, не оборачиваясь, по дорожке. Пьеру было бесконечно жаль ее — он не сумел дать ей всего, что она заслужила. Весь поникнув, опустился он на скамейку, слушая шуршание удаляющегося платья. Свесив на грудь голову, он задумался. Длинные седеющие волосы прикрыли ему лицо. Из глубокого раздумья его вывел звук приближающихсяшагов. Он подумал, что это возвращается Луиза или послала за ним кого-нибудь из детей, но, подняв глаза, увидел, что по аллее идет статный и элегантный молодой человек с тросточкой, в светлой шляпе с высокой тульей (прообраз будущего цилиндра), в белых перчатках, в панталонах с изящными бантами, в чулках и модных ботинках. — Самуэль! — воскликнул Пьер Ферма, вскакивая навстречу сыну. — Как я рад твоему приезду! — Не более меня, видящего тебя! — с улыбкой произнес щеголь, целуя отцу руку и обнимаясь с ним. — Ну как? Что ты? Каковы твои дела? — обрадованно спрашивал счастливый отец. — Благодаря тебе все великолепно, отец! Перед тобой — компаньон книготорговца! Переданные тобой деньги я поместил в это дело, чтобы быть независимым и вместе с тем содействовать процветанию французской культуры. — Ты сделал правильно, мой мальчик. Я рад, что тебе удастся заниматься наукой без помех. — Конечно, проданные книги будут кормить меня и одевать, и, как видишь, неплохо. — Да, ты выглядишь франтом. — У нас в Париже иначе нельзя! Ведь я вращаюсь среди художников и поэтов, иногда попадаю и в светское общество, где даже знают некоторые мои стихи. — А ученые? — Они тоже знакомы со мной и, представь, уважают, однако не за мои скромные успехи, а за то, что я твой сын. — Ну, это ты напрасно! — Вовсе нет! Я воспринимаю это с удовлетворением, более того, с гордостью! — Перестань, пожалуйста! Я ведь не люблю славословия. — Это я знаю. Ты даже гнушаешься изображением слов на бумаге. Продавая сейчас книги, я мечтаю видеть среди них и твое собрание сочинений. — Говоря это, Самуэль смахнул белоснежным платком пыль со скамейки, опустился рядом с отцом и оперся подбородком о слоновой кости набалдашник трости. — Я приехал, отец, настоять на завершении твоей работы над собранием сочинений. Сколько можно еще тянуть? У меня есть знакомые издатели, которые с радостью издадут твои книги, сочтут это патриотическим долгом! — Ах, Самуэль! Эта черновая работа, переписывание давно сделанного, без поиска нового не по мне, не по мне! — Вот ты всегда так, отец! Не могу же я учить тебя! Я лишь забочусь о том, чтобы великое, сделанное тобой, стало достоянием многих людей. — Я всегда следовал Пифагору, говорившему: «Делай великое, не обещая великого». Что я могу сказать о мною сделанном? Что оно недостаточно! Разве только: «Потомство будет признательно мне за то, что я показал ему, что древние не всё знали, и это может проникнуть в сознание тех, которые придут после меня для передачи факела сыновьям…» — Подожди, отец, я запишу эти слова. — Я уже написал их в письме к Каркави, а закончил его словами: «Многие будут приходить и уходить, а наука обогащаться». — Но ты, отец, как никто другой, сумел обогатить ее. — О нет! Крайне мало! Я рад поговорить с тобой об этом. Наша с тобой дружба, я не ошибусь, говоря это, зиждется на понимании тобой того, что я делаю. — Конечно! Ради этого я и избрал для себя стезю ученого. — Только тебе здесь могу я рассказать о самом для меня важном. Еще один мой друг, немногим старше тебя, Блез Паскаль, которого ты знаешь, постоянно побуждает меня и к поискам, и к публикациям. Это он буквально принудил меня опубликовать вместе с ним (я не мог обречь на забвение сделанную им часть работы!) былые мои находки в области теории вероятностей, которым, кстати говоря, ты обязан своим участием в книготорговле. — Я понял и не забыл. Что же Паскаль, отец? — Он знал мое давнишнее увлечение суммой двух величин, возведенной в какую-то степень (x + y)n, где n любое целое число. И он прислал мне замечательную таблицу коэффициентов для членов многочлена, получающегося при возведении в степень бинома при всевозрастающих степенях. Ты только вглядись, какой непостижимой красоты эти расположенные в виде треугольника числа. Я назвал их «треугольник Паскаля»!
Значения коэффициентов для порядковых членов
 Эта таблица напомнила мне мою давнюю работу в Египте, подаренную замечательному арабскому ученому Мохаммеду эль Кашти, который, оказывается, трагически погиб от руки невежд. В треугольнике Паскаля, как и в моей таблице пифагоровых чисел, можно заметить математические закономерности, прогрессии рядов. Смотри: первый косой ряд, состоящий из одних единиц, имеет показатель арифметической прогрессии, равный нулю, второй — последовательный ряд чисел — единице. Третий — величине степени «n». Четвертый сложнее: каждый последующий член больше предыдущего на сумму степеней от нуля до рассматриваемой степени. Дальше еще сложнее.
— Это действительно увлекает.
— Что ты! Это пустяк по сравнению с истинной вершиной красоты. Зачем все эти сложные математические зависимости, если все определяет единственная, но всеобъемлющая? Всмотрись внимательнее в таблицу и, пожалуйста, не разочаровывай меня. Ищи!
Самуэль с интересом вглядывался в письмо Паскаля.
— Отец! Это непостижимо, я просто случайно наткнулся на удивительное свойство! Ведь каждое число в таблице равно сумме двух, расположенных над ним в предыдущем горизонтальном ряду!
— Браво, мой мальчик! Ты будешь ученым! Если искать подлинную математическую красоту, то вот она! Удивительное свидетельство существования таких математических тайн, о которых мы и не подозреваем.
— Да, отец, я понимаю тебя. Есть от чего прийти в восторг! Мне это представляется пределом достижимого.
— Как ты сказал? — сощурился Пьер Ферма. — Пределом достижимого? Пусть никогда эта повязка не закрывает твоих глаз ученого. Никогда воображаемый или даже увиденный «предел достижимого» не должен останавливать тебя в будущем как ученого.
— Я понимаю тебя, отец, и не понимаю.
— Я признаюсь тебе, Самуэль. Красота математической зависимости в таблице — это лишь сочетание граней частных случаев. А подлинная, всеобъемлющая красота — в обобщении. Ты понял меня?
— В обобщении? Ты хочешь сказать, что можно представить бином в какой-то степени в общем виде?
— Именно эту задачу я и поставил перед собой.
— Ты восхищаешь и поражаешь меня, отец. Придя в такой восторг от открытия Паскаля, ты пытаешься уйти вперед, возвыситься над таблицей частных значений!
— То, что может быть вычислено, должно и может быть представлено в виде универсальной формулы.
— Неужели ты нашел ее, отец?
— Да. Я еще никому не показывал ее, но подготовил письмо Каркави, заменившему почившего беднягу аббата Мерсенна, чтобы тот разослал копии европейским ученым. Журнала у нас все еще нет.
— Но, отец, не требуй от близких больше того, что они способны дать.
— Ты учишь меня разумному. Я всю жизнь стараюсь руководствоваться этим принципом.
— Так покажи мне формулу и вывод ее.
— Ты хочешь, чтобы я нарушил свой принцип? Нет, друг мой и сын мой! Даже для тебя я не сделаю исключения. Хочешь видеть мой БИНОМ, пожалуйста. Но получить его с помощью математических преобразований попробуй сам. Я хочу убедиться, что ты станешь подлинным ученым.
— Но я не решусь соперничать с тобой.
— Это не соперничество. Труднее всего достигнуть конечной цели, не зная ее, а если она известна, то дорогу к ней найти легче.
— Но ко многим указанным тобой целям ученые так и не могут найти дороги. Потому так и ждут твоего собрания сочинений.
— Ты опять об этом. Лучше я тебе покажу свою формулу: (x + y)n = (Mx + y)n + (x + My)n! — Он написал ее тростью сына на песке.
— Но как же мне найти дорогу к этой вершине?
— Я чуть-чуть помогу тебе, из отцовских чувств, конечно! Видишь ли, когда-то я предложил систему координат, которой воспользовался, в частности, мой друг Рене Декарт.
— Ему нужно было бы при этом больше сослаться на тебя.
— Я предложил систему координат, чтобы ею могли пользоваться все математики, которые найдут ее удобной, и не требую от них специальных поклонов в мою сторону.
— Ты остаешься самим собой, отец! Право, хотелось бы позаимствовать у тебя такие примечательные черты характера, которые поднимают тебя и надо мной, и над всеми. Итак, система координат?
— Теперь я пошел дальше. Ведь никогда не надо останавливаться на достигнутом. Я решил воспользоваться сразу двумя системами координат — прямой и перевернутой. Это позволило мне создать метод совмещенных парабол.
— Очень интересно! Но как это понять?
И Пьер Ферма стал объяснять сыну суть своего метода, снова взяв у него трость, чтобы чертить на песке.
Ферма закончил формулой xn + yn = zn и вернул сыну трость.
— Но ведь это же Диофантово уравнение! — воскликнул Самуэль.
— Ты прав. Мне еще придется заняться им. Примечательно, что оно получается из геометрического построения. Этим же построением можешь воспользоваться и ты, если не раздумал еще доказать формулу моего «бинома».
— Я попробую, отец, но ты, вероятно, переоцениваешь мои силы.
— Напротив, я надеюсь на тебя! Передаю тебе факел, как написал в своем письме.
— Сестричка! — воскликнул Самуэль.
На аллее показалась Сюзанна, худая и прямая, с холодным красивым лицом, так гордо несущая голову, что взгляд ее серых глаз казался едва ли не надменным.
— Мама просит к столу. Обед подан, — пригласила она.
Отец и сын поднялись и зашагали следом за девушкой, невольно любуясь ее осанкой. Она только раз обернулась, чтобы бросить на брата оценивающий взгляд. Тот, сняв шляпу, шутливо раскланялся.
За столом собралась вся семья, все семеро Ферма.
Жанна, строгая и заботливая, опекала четырехлетнюю Эдит; Жорж не вымыл руки, за что получил от нее выговор; Сюзанна не обращала на младших никакого внимания. Луиза сидела с красными глазами, так и не оправившись от недавнего разговора с мужем.
— А к нам, к садовой калитке, приезжал сегодня верхом молодой Массандр. И совсем даже не ко мне, — заявил Жорж. — К нему бегала Сюзанна. Вот!
— Замолчи за столом! — прикрикнула на него Жанна, заметив, как презрительно улыбнулась Сюзанна.
— Сладу с ним нет! — вздохнула Луиза. — Ты бы хоть старшего брата постыдился!
— А что мне стыдиться? Ведь не я с Массандром целовался, а Сюзанна.
Сюзанна с шумом отодвинула тарелку и с гордым видом вышла из столовой.
— Ну вот! Все вместе посидеть не можем! — плачущим голосом произнесла Луиза.
— Я сейчас приведу ее обратно! — вызвалась Жанна и выскочила из-за стола, погрозив кулаком Жоржу.
А тот сидел, расплывшись в озорной улыбке до ушей.
Сестры вернулись вместе и сели за стол как ни в чем не бывало.
Пьер Ферма понял только одно. Хочет он того или не хочет, но, видно, придется ему породниться с бывшим прокурором, ныне главным уголовным судьей Массандром. Вот уж чего не мог он предвидеть тридцать лет назад! Но годы меняют все!
Самуэль был оживленным, острил, рассказывал про Париж, заставляя сестер замирать от восторга.
Маленькая Эдит заявила, что обед невкусный и что Жорж ее все время толкает.
Словом, обед прошел в дружной семейной обстановке.
После обеда Пьер Ферма направился в свой кабинет отдохнуть, а Самуэль уединился для решения заданной ему отцом задачи.
Вечером они встретились. Самуэль сиял. Он был уже без шляпы и сменил парижский костюм на дорогой халат, какой его отец никогда не позволил бы себе купить, но сын спешил к отцу с такой всепобеждающей улыбкой, что Пьер не сделал ему замечания за расточительность.
— Я нашел, отец, нашел! Это замечательно! Теперь я понимаю, почему ты не даешь вывода к своим формулам! Ты оставляешь ученым высшее наслаждение от самостоятельной находки!
Пьер Ферма отвел сына в кабинет.
— Ну, показывай, — предложил он.
Самуэль вытащил из кармана халата сложенный листок бумаги.
— Вот он, твой «бином»! — протянул он отцу листок.
Пьер Ферма мельком взглянул на вывод своей формулы и обнял сына.
— Вот теперь можно говорить о «биноме Ферма».
— Почему только теперь? — удивился сын. — Разве формула не могла носить твоего имени?
— Сын мой Самуэль! Я совсем другое понимаю под словами «бином Ферма». Это — ДВОЕ ФЕРМА! Понял? — И он весело рассмеялся.
Вошедшая в кабинет Луиза удивилась беспричинной радости мужчин. Она звала их ужинать.
Эта таблица напомнила мне мою давнюю работу в Египте, подаренную замечательному арабскому ученому Мохаммеду эль Кашти, который, оказывается, трагически погиб от руки невежд. В треугольнике Паскаля, как и в моей таблице пифагоровых чисел, можно заметить математические закономерности, прогрессии рядов. Смотри: первый косой ряд, состоящий из одних единиц, имеет показатель арифметической прогрессии, равный нулю, второй — последовательный ряд чисел — единице. Третий — величине степени «n». Четвертый сложнее: каждый последующий член больше предыдущего на сумму степеней от нуля до рассматриваемой степени. Дальше еще сложнее.
— Это действительно увлекает.
— Что ты! Это пустяк по сравнению с истинной вершиной красоты. Зачем все эти сложные математические зависимости, если все определяет единственная, но всеобъемлющая? Всмотрись внимательнее в таблицу и, пожалуйста, не разочаровывай меня. Ищи!
Самуэль с интересом вглядывался в письмо Паскаля.
— Отец! Это непостижимо, я просто случайно наткнулся на удивительное свойство! Ведь каждое число в таблице равно сумме двух, расположенных над ним в предыдущем горизонтальном ряду!
— Браво, мой мальчик! Ты будешь ученым! Если искать подлинную математическую красоту, то вот она! Удивительное свидетельство существования таких математических тайн, о которых мы и не подозреваем.
— Да, отец, я понимаю тебя. Есть от чего прийти в восторг! Мне это представляется пределом достижимого.
— Как ты сказал? — сощурился Пьер Ферма. — Пределом достижимого? Пусть никогда эта повязка не закрывает твоих глаз ученого. Никогда воображаемый или даже увиденный «предел достижимого» не должен останавливать тебя в будущем как ученого.
— Я понимаю тебя, отец, и не понимаю.
— Я признаюсь тебе, Самуэль. Красота математической зависимости в таблице — это лишь сочетание граней частных случаев. А подлинная, всеобъемлющая красота — в обобщении. Ты понял меня?
— В обобщении? Ты хочешь сказать, что можно представить бином в какой-то степени в общем виде?
— Именно эту задачу я и поставил перед собой.
— Ты восхищаешь и поражаешь меня, отец. Придя в такой восторг от открытия Паскаля, ты пытаешься уйти вперед, возвыситься над таблицей частных значений!
— То, что может быть вычислено, должно и может быть представлено в виде универсальной формулы.
— Неужели ты нашел ее, отец?
— Да. Я еще никому не показывал ее, но подготовил письмо Каркави, заменившему почившего беднягу аббата Мерсенна, чтобы тот разослал копии европейским ученым. Журнала у нас все еще нет.
— Но, отец, не требуй от близких больше того, что они способны дать.
— Ты учишь меня разумному. Я всю жизнь стараюсь руководствоваться этим принципом.
— Так покажи мне формулу и вывод ее.
— Ты хочешь, чтобы я нарушил свой принцип? Нет, друг мой и сын мой! Даже для тебя я не сделаю исключения. Хочешь видеть мой БИНОМ, пожалуйста. Но получить его с помощью математических преобразований попробуй сам. Я хочу убедиться, что ты станешь подлинным ученым.
— Но я не решусь соперничать с тобой.
— Это не соперничество. Труднее всего достигнуть конечной цели, не зная ее, а если она известна, то дорогу к ней найти легче.
— Но ко многим указанным тобой целям ученые так и не могут найти дороги. Потому так и ждут твоего собрания сочинений.
— Ты опять об этом. Лучше я тебе покажу свою формулу: (x + y)n = (Mx + y)n + (x + My)n! — Он написал ее тростью сына на песке.
— Но как же мне найти дорогу к этой вершине?
— Я чуть-чуть помогу тебе, из отцовских чувств, конечно! Видишь ли, когда-то я предложил систему координат, которой воспользовался, в частности, мой друг Рене Декарт.
— Ему нужно было бы при этом больше сослаться на тебя.
— Я предложил систему координат, чтобы ею могли пользоваться все математики, которые найдут ее удобной, и не требую от них специальных поклонов в мою сторону.
— Ты остаешься самим собой, отец! Право, хотелось бы позаимствовать у тебя такие примечательные черты характера, которые поднимают тебя и надо мной, и над всеми. Итак, система координат?
— Теперь я пошел дальше. Ведь никогда не надо останавливаться на достигнутом. Я решил воспользоваться сразу двумя системами координат — прямой и перевернутой. Это позволило мне создать метод совмещенных парабол.
— Очень интересно! Но как это понять?
И Пьер Ферма стал объяснять сыну суть своего метода, снова взяв у него трость, чтобы чертить на песке.
Ферма закончил формулой xn + yn = zn и вернул сыну трость.
— Но ведь это же Диофантово уравнение! — воскликнул Самуэль.
— Ты прав. Мне еще придется заняться им. Примечательно, что оно получается из геометрического построения. Этим же построением можешь воспользоваться и ты, если не раздумал еще доказать формулу моего «бинома».
— Я попробую, отец, но ты, вероятно, переоцениваешь мои силы.
— Напротив, я надеюсь на тебя! Передаю тебе факел, как написал в своем письме.
— Сестричка! — воскликнул Самуэль.
На аллее показалась Сюзанна, худая и прямая, с холодным красивым лицом, так гордо несущая голову, что взгляд ее серых глаз казался едва ли не надменным.
— Мама просит к столу. Обед подан, — пригласила она.
Отец и сын поднялись и зашагали следом за девушкой, невольно любуясь ее осанкой. Она только раз обернулась, чтобы бросить на брата оценивающий взгляд. Тот, сняв шляпу, шутливо раскланялся.
За столом собралась вся семья, все семеро Ферма.
Жанна, строгая и заботливая, опекала четырехлетнюю Эдит; Жорж не вымыл руки, за что получил от нее выговор; Сюзанна не обращала на младших никакого внимания. Луиза сидела с красными глазами, так и не оправившись от недавнего разговора с мужем.
— А к нам, к садовой калитке, приезжал сегодня верхом молодой Массандр. И совсем даже не ко мне, — заявил Жорж. — К нему бегала Сюзанна. Вот!
— Замолчи за столом! — прикрикнула на него Жанна, заметив, как презрительно улыбнулась Сюзанна.
— Сладу с ним нет! — вздохнула Луиза. — Ты бы хоть старшего брата постыдился!
— А что мне стыдиться? Ведь не я с Массандром целовался, а Сюзанна.
Сюзанна с шумом отодвинула тарелку и с гордым видом вышла из столовой.
— Ну вот! Все вместе посидеть не можем! — плачущим голосом произнесла Луиза.
— Я сейчас приведу ее обратно! — вызвалась Жанна и выскочила из-за стола, погрозив кулаком Жоржу.
А тот сидел, расплывшись в озорной улыбке до ушей.
Сестры вернулись вместе и сели за стол как ни в чем не бывало.
Пьер Ферма понял только одно. Хочет он того или не хочет, но, видно, придется ему породниться с бывшим прокурором, ныне главным уголовным судьей Массандром. Вот уж чего не мог он предвидеть тридцать лет назад! Но годы меняют все!
Самуэль был оживленным, острил, рассказывал про Париж, заставляя сестер замирать от восторга.
Маленькая Эдит заявила, что обед невкусный и что Жорж ее все время толкает.
Словом, обед прошел в дружной семейной обстановке.
После обеда Пьер Ферма направился в свой кабинет отдохнуть, а Самуэль уединился для решения заданной ему отцом задачи.
Вечером они встретились. Самуэль сиял. Он был уже без шляпы и сменил парижский костюм на дорогой халат, какой его отец никогда не позволил бы себе купить, но сын спешил к отцу с такой всепобеждающей улыбкой, что Пьер не сделал ему замечания за расточительность.
— Я нашел, отец, нашел! Это замечательно! Теперь я понимаю, почему ты не даешь вывода к своим формулам! Ты оставляешь ученым высшее наслаждение от самостоятельной находки!
Пьер Ферма отвел сына в кабинет.
— Ну, показывай, — предложил он.
Самуэль вытащил из кармана халата сложенный листок бумаги.
— Вот он, твой «бином»! — протянул он отцу листок.
Пьер Ферма мельком взглянул на вывод своей формулы и обнял сына.
— Вот теперь можно говорить о «биноме Ферма».
— Почему только теперь? — удивился сын. — Разве формула не могла носить твоего имени?
— Сын мой Самуэль! Я совсем другое понимаю под словами «бином Ферма». Это — ДВОЕ ФЕРМА! Понял? — И он весело рассмеялся.
Вошедшая в кабинет Луиза удивилась беспричинной радости мужчин. Она звала их ужинать.
Глава пятая «СЕРЫЙ КАРДИНАЛ»
Те, кто не испытывает стыда, уже не люди.Китайское изречение
Кардинал Мазарини был вне себя от ярости, но это никак не отразилось на его узком, красивом и аскетическом лице с тонкой полоской губ и всегда опущенными, по-итальянски жгучими, но смиренными глазами. Он перечитывал изысканно-оскорбительное письмо лорда-протектора Англии Оливера Кромвеля, надменно подчеркивающего, что он переписывается лишь с кардиналом Мазарини, а не с французским монархом Людовиком XIV, с прошлого года изволящим праздновать свое совершеннолетие в безудержном веселии и беспутстве двора, олицетворяя тем всю полноту своей абсолютной королевской власти (после достигнутой Мазарини победы над Фрондой). В своем письме Кромвель не оставлял никаких надежд на совместные военные действия Англии и Франции (чего так усердно добивался Мазарини), поскольку во Франции находятся люди, ставящие своей целью унижение британской нации и возвеличивание французской. И в качестве примера Кромвель многозначительно сослался на прилагаемую им к письму книгу профессора математики Оксфордского университета Джона Валлиса с полемической перепиской, возникшей в результате дерзкого вызова Пьера Ферма всей Англии, дабы доказать неспособность англичан подняться до его «французского» уровня! Мазарини, закусив узкие губы, тщательно изучил переписку, убедившись, что англичане действительно не смогли найти регулярного метода решения предложенного Пьером Ферма уравнения, — ни сам Джон Валлис, ни сэр Бигби, ни другие математики. Лишь лорду Броункеру удалось прийти к мысли, что «a» следует разложить в непрерывную дробь и рассмотреть подходящие дроби к ней. Но и это оказалось далеким от требуемого Ферма общего решения. Итальянцу Мазарини было безразлично торжество французской нации. Ему требовалось лишь торжество его власти! Поморщившись, он отложил в сторону книгу Валлиса и, перебирая тонкими пальцами четки из драгоценных камней, задумался. Мазарини не умел прощать. И этот юрист из Тулузы, злоупотребляющий арифметикой, заслуживает пристального к себе внимания. Так бесцеремонно и бездумно вторгаться в высокую политику и путать расчетливо разложенные карты может или глупец, каким Ферма не признаешь, или дерзостный и опасный враг королевской власти, олицетворяемой в Мазарини. И этот враг заслуживает возмездия! Еще никому не сходило с рук встать поперек дороги «серому кардиналу», хотя бы тот и оставался, как всегда, в тени. Но из этой тени могли протянуться нити зловещих паутин, способных опутать самых могучих владетельных вассалов, а не то что какого-то судейского из Тулузы! Однако кардинал Мазарини никогда не действовал неосмотрительно и тем более открыто. Чтобы обезвредить и наказать (или уничтожить) врага, требовалось все узнать о нем и его окружении, найти самые уязвимые места противника, не дав ему ничего заподозрить, и только после этого нанести решающий удар. И тайные сыщики кардинала, получив задание, стали разнюхивать старые записи, расспрашивать пожилых людей, шныряя по Тулузе и ее округе. И вот теперь их секретные донесения рядом с злополучным письмом Оливера Кромвеля лежали на столе перед кардиналом в его скромном кабинете, где не красовались, как у его предшественника Ришелье, ни шкафы с бесценными книгами, ни былые боевые доспехи. У «серого кардинала» в отличие от «красного кардинала» Ришелье был иной стиль жизни — не герцога в прошлом, а простого выходца из Италии, сумевшего благодаря своим способностям (и беспринципности!) стать незаменимым помощником Ришелье, а потом наследовать его власть, и у Мазарини выработались иные методы правления, менее блестящие, но не менее действенные. Мазарини внимательно изучил все, что касалось жизни и деятельности метра Ферма на протяжении тридцати лет, с которым (Мазарини никогда не изменяла память!) он встречался еще при жизни кардинала Ришелье и даже по его поручению давал Ферма отеческое наставление. И «серый кардинал» острым твердым почерком составил список предосудительных деяний магистра Прав и Чисел Пьера Ферма. Начинался он со срыва вынесения смертного приговора убийце маркиза де Вуазье графу Раулю де Лейе, сыну одного из вождей гугенотов, конечно, примыкавшего к Фронде. Затем освобождение из Бастилии его отца графа Эдмона де Лейе, старого гугенота, соратника короля Генриха IV. И тогда же содействие лжефилософу Рене Декарту в бегстве того из Парижа, где его ждало справедливое возмездие за богопротивные сочинения, осужденные самим папой римским! Затем шел нанесенный ущерб земельным владениям герцога Анжуйского с выигрышем судебного дела против него в пользу крестьянской черни. И позже Ферма постоянно использовал свои возможности в суде, становясь на сторону низших сословий, противопоставляя их интересы дворянству с его привилегиями. И вот теперь чашу переполнял этот неуместный, вредный «вызов», спутавший все планы первого министра Франции! Срыв не какого-то там смертного приговора молодому графу, а военного союза с англичанами, который был так нужен и так возможен! Срыв из-за арифметических задач, что поистине надо рассматривать как злодеяние и государственное преступление против Франции! Однако, поскольку нельзя решение или нерешение математических задач подвести под наказуемое законом деяние, придется искать кару, не менее действенную, чем вынесение судом смертного приговора. В нахождении таких средств кардинал Мазарини был непревзойденным выдумщиком, и сам Ришелье мог бы склониться перед ним. Мазарини изучал лежащие перед ним документы, как изучает шахматист позицию, прежде чем начать атаку. Что ж, Пьер Ферма когда-то прямой атакой на короля выиграл шахматную партию у кардинала Ришелье, теперь он может сам послужить объектом атаки. Рядом с донесениями сыщиков, описавших всю жизнь Ферма в Тулузе на протяжении трех десятилетий, а также всех, кто с ним так или иначе общался, лежали еще две жалобы, адресованные королю. Одна из них принадлежала графу Раулю де Лейе, который всячески поносил советника парламента в Тулузе Пьера Ферма, «убежденного защитника бунтующих низших сословий, противника верного королю дворянства, который нанес материальный ущерб его жене Генриэтте, дочери герцога Анжуйского, отсудив в пользу грязных крестьян принадлежащие ей по праву земельные угодья». И граф де Лейе просил об отмене этого решения, навязанного суду советником парламента Ферма. Об этом Мазарини знал и раньше, но сейчас жалоба Рауля де Лейе обретала для него особое значение. Вторая жалоба была уже не от графа Рауля де Лейе, а от некой госпожи Орлетты де Гранжери, умоляющей короля отторгнуть от владений графа Рауля де Лейе земли, дарованные королем Генрихом IV отцу Рауля, графу Эдмону де Лейе, за заслуги в борьбе гугенотов с католиками. Эти земли, как утверждала Орлетта де Гранжери, по праву должны принадлежать не потомку безбожных гугенотов, в свое время едва не попавшему на эшафот, а древнему католическому роду де Гранжери, представляемому ныне ее сыном Симоном. Эта жалоба побудила Мазарини поручить своим ищейкам узнать все о семействе де Гранжери, и в особенности в части отношений этого семейства с графами де Лейе. Результат сыска оказался на редкость удачным и дал в руки кардинала незримые козыри, и он пригласил к себе на аудиенцию госпожу Орлетту де Гранжери, которая и ожидала сейчас приема, находясь в соседнем зале. Мазарини возлагал на эту встречу определенные надежды, тщательно продумав, как вести разговор. Важно выяснить: стоит ли привлечь просительницу из Тулузы к выполнению своих планов? Он дал молчаливый сигнал служителю в серой сутане, и через минуту тот ввел в кабинет ослепительную даму. Если бы кардинал не держал всегда глаза опущенными, ему пришлось бы зажмуриться, так сверкала нарядом, драгоценностями и сохранившейся красотой черноволосая и черноокая красавица, присевшая перед поднявшимся ей навстречу кардиналом в глубоком реверансе, подойдя потом под благословение кардинала и благоговейно коснувшись влажными, упругими губами холеной кардинальской руки. На ее склоненной голове под бриллиантовой диадемой кардинал успел заметить похожую на драгоценное украшение седую прядь, подобную Млечному Пути на ночном небе, единственную отметину тридцати лет, прошедших со времени, названного в донесении сыщиков. Кардинал, не садясь и не поднимая век, внимательно изучал посетительницу. Можно ли довериться ей? Впрочем, слепое доверие никогда не признавалось «серым кардиналом». Куда более надежно сочетание страха и выгоды, более глубоко действующих на человеческую натуру. И ничто так не объединяет людей, как ненависть, общая ненависть! Мазарини считал себя (и не без оснований!) знатоком человеческих душ и человеческих лиц, их отражающих. Подметив еще сохранившуюся у Орлетты де Гранжери былую демоническую красоту и затаенную страсть, «серый кардинал» решил, что может приступить к выполнению задуманного плана. Первый министр Франции галантно усадил посетительницу, склонясь над ней и наслаждаясь пьянящим ароматом ее волос, наряда, шелестом ее юбок, близостью ее роскошного тела, но, безжалостно смирив свою плотскую сущность, перешел к делу, весьма и весьма сложному и запутанному, о чем посетительница и представления не имела. Он сел за стол, перебирая четки, и вкрадчиво начал: — Так вы хотите, мадам, чтобы его величество передал вашему славному роду де Гранжери земельные угодья, когда-то отторгнутые у него королем Генрихом IV и переданные гугеноту де Лейе? — Ваше высокопреосвященство, видит бог, что вашими устами глаголет сама истина, требующая справедливости! Мазарини с удовлетворением отметил, как сверкнули черные глаза Орлетты при этих смиренных словах. — Дочь моя, своей просьбой вы заставляете самого господа бога через его недостойного служителя заглянуть в глубь времен. — Наш род гордится этой глубиной, ваше высокопреосвященство! — надменно вскинула голову Орлетта де Гранжери. Кардинал уставился на перебираемые четки. — Во всем ли можно гордиться, сударыня? — И елейным голосом добавил: — Вам придется напрячь память и помочь ради правды господней восстановить некоторые события. — Я готова, отец мой, как если бы была в исповедальне. — Да будет так! — чуть торжественно произнес «серый кардинал». — Пусть мое духовное звание позволит мне стать отныне вашим духовником. — Я так счастлива, ваше высокопреосвященство! — воскликнула Орлетта, пряча в глазах тревожные искорки. — Рад быть тому причиной, сударыня. — Кардинал тяжело поднялся из-за стола и, обойдя его, остановился перед смиренно поникшей женщиной. — Итак, в 1631 году вас постигло несчастье, в чем я соболезную вам всей душой. — Да, ваше высокопреосвященство, мой муж, господин де Гранжери, был подло убит на поединке с проезжим мушкетером, имени которого не удалось установить, несмотря на мою просьбу к посетившему меня в день похорон мужа советнику парламента в Тулузе. — Каково было его имя, сударыня? — Пьер Ферма, отец мой. Я взывала о мести, да простит меня господь, но слова мои остались не услышанными черствым сердцем судейского. — Запомним это. — Кардинал сделал два шага от стола и вернулся с опущенной головой. — В какой день, дочь моя, состоялась дуэль вашего мужа с мушкетером? — Во второй понедельник июля того несчастного для меня года, святой отец мой. — 1631-го, не так ли? А когда произошли похороны? — Ровно через две недели, отец мой, в третий вторник. — И ваш муж, смертельно раненный, так долго страдал? — И кардинал участливо нагнулся к своей гостье. — Я делала все, чтобы облегчить его страдания, ухаживая за ним как жена и сиделка. — Допустим. — Кардинал резко выпрямился. — А в какую ночь был убит в Тулузе маркиз де Вуазье? — Право, не знаю, я не была с ним знакома. — Но с ним был знаком, молодой тогда, граф Рауль де Лейе? Не так ли? — вкрадчиво спросил кардинал. — Возможно, сударь, но я не знаю… — Но не встречались ли вы с кем-либо в ночь гибели маркиза? — Что вы, ваше высокопреосвященство! Мой муж был в таком состоянии. Его нельзя было оставить ни на минуту! Голос кардинала стал жестким: — А почему, как вы думаете, приехал к вам в замок этот советник парламента в Тулузе, Пьер Ферма? Не хотел ли он спасти с вашей помощью графа Рауля де Лейе? — Право, отец мой, я не знала причины его приезда. Кардинал снова нагнулся к Орлетте: — А если я вам, как ваш духовник, подскажу эту причину? — Я вам поверю всей душой, — отозвалась она, поникнув головой. Мазарини заговорил задумчиво и вкрадчиво: — Но надо, чтобы и я поверил вам, как на вашей исповеди, дочь моя. Раулю де Лейе грозила тогда смертная казнь за убийство маркиза де Вуазье, оправдать его перед судом могла лишь одна знатная дама, с которой он провел ночь убийства маркиза. Только эта дама, — внушительно добавил он, — могла ценой своей репутации спасти любовника. — О боже! Отец мой! Но господин Ферма не спрашивал меня об этом. — Не спросил? Это не делает ему чести как проникновенному советнику суда. — И Мазарини снова прошелся по кабинету. — Но разве я… разве я тогда могла бы помочь графу Раулю де Лейе? — пролепетала Орлетта де Гранжери. Кардинал остановился в обличающей позе с протянутой рукой: — Ну, вот видите, как неискренни вы на исповеди перед своим духовником, дочь моя! Именно вы могли бы спасти его, но ваше молчание заставило метра Ферма найти другие пути, чтобы выгородить вашего любовника, к которому вы примчались в Тулузу, оставив ради этого греховного свидания умирающего мужа без так необходимого ему ухода. Не так ли? — Ваше высокопреосвященство! — Орлетта сползла с кресла и упала на колени перед своим «духовником». — Вашими святыми устами говорит сам всевышний господь бог, изобличая грехи мои, об отпущении которых молю вас. — И она спрятала лицо в ладонях. — Иначе и быть не могло, — заверил Мазарини. — Но продолжим исповедь. Сколько лет, дочь моя, вашему сыну Симону? — Он родился в мае следующего за смертью мужа года, отец мой. Мазарини стал перебирать тонкие, украшенные перстнями пальцы. — Какое же это время прошло со дня зачатия? — Это время установлено самим господом богом, — краснея от смущения, произнесла Орлетта, отняв ладони от лица. — А не кажется ли вам, мадам, что ваш ребенок, как мне показалось сейчас, родился на месяц позже, чем предусмотрено всемогущим господом нашим? Орлетта вздрогнула всем телом, приложила кружевной платок к глазам и разрыдалась. Кардинал положил ей руку на голову: — Я только хочу установить необходимые связи, дочь моя, ничего не замышляя против вас, а стремясь лишь помочь вам объяснить мне и господу богу в моем лице, почему вы подаете теперь королю жалобу на графа Рауля де Лейе в пользу своего сына Симона. Не хотите ли вы просить короля, моля о том же всевышнего, чтобы земли подлинного отца вашего сына перешли к нему, Симону? — Это так! Ах, это так! — рыдая говорила Орлетта де Гранжери. — Ничто не укроется от ваших глаз! Но молю вас, как духовника, сохранить эту тайну исповеди. Кардинал ласково поднял ее с пола и усадил в кресло. — Вы все знаете, как сам господь бог. Вам надо было бы быть папой римским, — сквозь слезы лепетала Орлетта. — Но уверены ли вы, что я один, как ваш духовник, владею этой тайной? — Кто же еще? Ах боже мой! Мое сердце не выдержит! — О таких тайнах знают всегда двое: вы и ваш избранник. Но в минуту смертельной опасности он мог раскрыться ради спасения жизни советнику парламента, чтобы тот взялся доказать, что обвиняемый провел ночь с вами, а не дрался на дуэли с маркизом. — Боже мой! Этот Пьер Ферма! — Именно так, дочь моя. Ради этого он и приезжал к вам. — Но за тридцать лет он не открыл тайны! — В этом не было нужды, дочь моя. Но теперь, когда вы поднимаете руку на графа Рауля де Лейе, претендуя на его земли, Пьер Ферма, как его старый друг, который, как следует вот из этого документа, — и кардинал показал издали жалобу Рауля против Ферма, — готов на любые разоблачения ради выигрыша дела! — Это ужасно! Спасите меня и моего сына Симона от этого изверга, ваше высокопреосвященство! — Успокойтесь, сударыня, я лишь хотел открыть вам глаза на вашего истинного и самого опасного врага. — Ах боже мой! Я слабая женщина! Что же мне делать, ваше высокопреосвященство? Кардинал обошел стол и вернулся в свое кресло. — Защищаться, баронесса, защищаться, как волчица, когда нападают на ее волчонка. — Бог мой! Но я не волчица и тем более не баронесса, — насторожилась Орлетта. — Вы не были баронессой, входя в этот кабинет, но… если окажетесь волчицей, то уйдете баронессой. Король по моей просьбе дарует вам этот титул, и ваш сын, барон Симон де Гранжери, будет достойным продолжателем знаменитого рода верных католиков. — Боже мой, у меня кругом идет голова! Что же надо сделать, чтобы быть волчицей? — усаживаясь поудобнее в кресло, спросила Орлетта. — Кусать, сударыня, кусать, обороняясь, помня, что ваш самый опасный враг — это метр Пьер Ферма, которого в свое время вам следует привлечь в тяжбе с графом Раулем де Лейе на свою сторону. — Зачем же привлекать врага? — Чтобы обезвредить, сударыня. Наша святая католическая церковь учит нас обузданию врагов любовью. Я подарю вам сейчас, баронесса, перстень из Ватикана. Это перстень любви и смерти. Его носил на пальце один из святых римских пап. Я вывез его из Италии, и он ждал своего часа. Если этот перстень опустить в бокал вина, то тот, кто выпьет его залпом, познает радость, тот же, кто промедлит пять — десять минут и осушит его не сразу, уже не узнает никаких горестей, уготовленных ему в жизни. В том и другом случае святой перстень несет благо господне. — И «серый кардинал», сняв с пальца богатый перстень, передал его Орлетте де Гранжери. Бледная, едва передвигая ноги, поднялась она с места, снова присела в глубоком реверансе и поцеловала руку благословляющего ее столь высокого духовника. Она прошла через приемную, наполненную раззолоченными мундирами генералов и иностранных послов, сопровождаемая служителем в серой сутане, который, выйдя на мраморное крыльцо, зычно гаркнул, от чего у Орлетты замерло сердце: — Карету баронессе де Гранжери! Она вертела на пальце кольцо кардинала, подумав, что у него такие же длинные и тонкие пальцы, как у нее. Потирая эти свои чуткие пальцы, «серый кардинал» расхаживал по кабинету, старательно запахивая полы серой сутаны, чтобы не виднелась ее красная кардинальская подкладка. Меж его тонких губ блеснула полоска стертых желтоватых зубов. Он улыбался, неплохо начав игру против Пьера Ферма, лучше, чем вел ее на шахматной доске сам Ришелье! Но «серому кардиналу» не привелось увидеть результат завязанной им интриги. Шел 1660 год, а через год Мазарини не стало.
Глава шестая ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА
Посев взойдет для жатвы народной.Д. И. Менделеев
Робкое появление Луизы в кабинете, куда она избегала входить из-за угнетающих ее математических рукописей мужа, удивило Пьера Ферма, и он поднял на нее вопрошающие глаза. — Я принесла тебе поручение председателя парламента метра Массандра заняться тяжбой баронессы де Гранжери с графом Раулем де Лейе. Пьер Ферма слышал об этом тянущемся годы деле, знал, что баронесса Орлетта де Гранжери обещала Массандру не пожалеть средств. Но почему Массандр поручает дело ему? Конечно, здесь не обошлось без Луизы! Виновато опустив глаза, она догадалась о мыслях мужа: — Ну да, я просила метра Массандра помочь нашей семье. Пьер отодвинул от себя свою настольную книгу «Арифметика» Диофанта, где наконец решился записать свое замечание к 8-й задаче II книги, которое принято считать 11-м, привлекшим внимание математиков всего мира, и с иронией сказал: — Так ведь добрейшего дядюшки Жоржа нет. — Зато есть трехлетний Жорж! Это самый интересный детский возраст. Ты бы видел, как млеет Массандр, держа внука на руках, а тот лопочет уморительные вещи! — И просит деда Массандра подбросить выгодное дельце — другому деду — Ферма? — Ну зачем ты так? Ты знаешь, что родственникам не принято отказывать. Сюзанна тоже просила свекра помочь нам. Ферма откинулся на спинку кресла. — И Сюзанна тоже? Как они все угадывают! Род католиков против рода гугенотов — верное дело! Сам кардинал Мазарини обещал помочь баронессе, и, если бы не его кончина, она получила бы все, чего добивалась. А граф Рауль де Лейе лишился высокого покровителя после смерти герцога Анжуйского! А его величество король Людовик XIV не любит споров между вассалами и после долгих раздумий повелел парламенту в Тулузе рассмотреть тяжбу. Почему же мне надо выступать против Рауля? Потому что он не проявлял своей дружбы? — Ну что ты, Пьер! Кто об этом говорит? Это совсем не сведение счетов. Наша семья просто заинтересована в щедрости баронессы. Я умоляю тебя не вспоминать о своей былой дружбе с графом Раулем де Лейе. Своим пренебрежением к нам… Мне просто больно говорить. Ты же понимаешь, все понимаешь! — Еще бы! Требуется приданое нашей второй дочери Жанне, превратившейся из утенка в лебедя! Все понимаю, но могу я дописать теорему, которую так долго обдумывал? — Пьер, милый, ты прости меня. Я рискнула пообещать метру Массандру, что ты немедленно выедешь в Гранжери к баронессе. Метр Массандр уже назначил срочное слушание дела. — Несколько лет волокиты, а теперь спешка? — Разве ты не знаешь, всегда так бывает! Но мы не можем… понимаешь, не можем упустить этой возможности. И я прошу… ради всего прежнего прошу тебя… не отказывайся. — Ну конечно! Все решено без меня… и ты, наверное, даже велела Жоржу оседлать иноходца? — А как же! Я забочусь о тебе, Пьер. В январе темнеет рано. Два дня пути, надо успеть найти ночлег. Но зима нынче мягкая. Ты наденешь дорожный костюм, который я принесла, и теплый плащ. — Ах боже мой! Что они со мной делают! Но ты позволишь мне хотя бы дописать теорему? — Если обещаешь сразу сесть на коня. — Я ограничусь только тем, что уместится на полях, заранее зная, что я «непрактичен и что запись моя, которую никто и не прочтет, ничего не принесет семье»! Под собственную воркотню Пьер Ферма торопливо писал: «Ни куб на два куба, ни квадрато-квадрат и вообще никакая, кроме квадрата, степень не может быть разложена на сумму двух таких же». — Или я не прав? — поднял глаза от книги Пьер Ферма. — Я докажу это тебе простейшим способом, — отозвалась Луиза, глядя в окно. — Вот Жан ведет оседланную лошадь, которая принесет тебе и всем нам доход. И что может быть убедительнее? — У тебя поистине удивительное доказательство! — произнес Пьер Ферма и дописал свое одиннадцатое замечание к книге Диофанта: «Я нашел удивительное доказательство этому, однако ширина полей не позволяет здесь его осуществить». Надо заметить, что в своих сорока пяти замечаниях, написанных на полях этой книги, Ферма не раз умудрялся уместить куда больше, несмотря на узость полей, но Луиза тогда не стояла над душой. Ферма посыпал сухим мелким песком свежую запись, ссыпал его обратно в песочницу, захлопнул книгу и стал переодеваться. Закутавшись в теплый плащ, сопровождаемый женой, он вышел из дома в сад, дойдя до той самой калитки, где некогда встречался с Луизой тайком по ночам. Долговязый младший сын Жорж с озабоченным выражением на веснушчатом лице, стоя на краю вспаханного осенью под пары поля, держал смирного низенького иноходца, верного спутника всех деловых поездок Пьера Ферма по окрестным крестьянским домам. К удивлению жены и сына, Пьер, тяжело сев в седло, направил коня не вдоль ограды к южной дороге, а через стоявшее под парами поле к старому дубу, от которого он когда-то шел к калитке, но отклонился, попав на свежую пашню, и ушел в темноте далеко в сторону, что позволило ему ценой несостоявшегося свидания открыть закон преломления света. У двухсотлетнего дуба, которому и сорок лет не срок, он обернулся, рассмотрев вдали у калитки две фигурки, и помахал им рукой с горьким, щемящим чувством, будто не увидит их больше никогда… Подавив это нелепое ощущение, он пустил коня спокойной иноходью, плавно покачиваясь из стороны в сторону, а не подпрыгивая в седле, как от уколов, при каждом шаге упругой рыси былого доброго коня дядюшки Жоржа, после чего в свое время Пьеру пришлось долго приходить в себя. А вот и то место, где молодой тогда граф Рауль де Лейе распрощался с ним после освобождения из тюрьмы, спеша на любовное свидание и меньше всего заботясь о сохранении верности своей будущей невесте Генриэтте, готовый уступить ее хоть Пьеру Ферма. Трудно представить себе более спокойную лошадь, чем иноходец Пьера Ферма, и пусть фатоватый мушкетер презрительно окинул его наглым насмешливым взглядом с высокого седла своего боевого приплясывающего коня. Пьеру Ферма, в его шестьдесят три года, требовалось не гарцевать, как на параде, а засветло добраться до знакомого трактира, где еще начинающим советником парламента разыскивал следы проезжего мушкетера. Холодными и однообразно унылыми казались в пути зимние пейзажи с хмурым, затянутым беспросветными тучами небом, с обессилевшими, осевшими на голых сучьях придорожных деревьев птицами, словно уже отлетавшими свое. Опасно скользкой была чмокающая под копытами дорога, покрытая мутными лужами, рябыми от капель начинающегося холодного дождя или снежной крупы, и над всем этим — леденящий, пронизывающий до костей ветер, с диким воем мятущийся по мертвым, безлюдным полям. Было от чего почувствовать гнетущую тяжесть на сердце, ощутить неосознанную тревогу, даже страх неведомого или вообразить себя в хвосте печального шествия с завываниями невидимых плакальщиц. Ферма встряхнулся, призывая на помощь любимую свою математику, только она могла вырвать его из этого угнетающего окружения и перенести в знакомый ему мир строгих чисел и ясных законов, где нет места ни мистике, ни суеверию. Дыхание призрачных похорон, коснувшееся было Ферма, обернулось воспоминанием о далеком и древнем кладбище с надгробной надписью, таившей изящную прелесть лаконизма скрытого в ней «неопределенного диофантова уравнения», заслоненного грубым, лежащим как бы на поверхности многочленом с одним неизвестным, доступным для решения неискушенным умам. Затем возникло в памяти подземелье храма бога Тота с изображением квадратов, расшифрованных им как ряды прямоугольных треугольников. И стоящий над всем этим строгий пифагоров закон, известный за тысячи лет до Пифагора, действительный только для прямоугольных треугольников, относящихся к «плоским местам», как называл их Ферма! А «пространственные места», подчиняются ли фигуры на них подобным закономерностям, начиная с куба, квадрато-квадрата, который представляет собой первую из «субпространственных фигур», требующих более трех измерений. Необходимо рассмотреть эти свойства с пером и бумагой в руках, что можно достать лишь в трактире. Наконец за поворотом показались покосившиеся домишки, которые не стали лучше с того давнего времени, когда он проезжал мимо них, наткнувшись тогда на красующееся над трактиром деревянное колесо с телеги, зазывающее всех, кто едет, остановиться здесь на постоялом дворе. Колесо висело на старом месте с прежним названием под ним: «Ось в колесе». Ферма спешился, и выскочивший парень с туповатым лицом и бегающими глазами принял у него лошадь, чтобы отвести на конюшню. Войдя в трактир. Ферма увидел возвышающегося за стойкой грузного мужчину внушительного роста, совсем седого, но с лихо закрученными еще темными усами, сразу напомнившими ему гвардейца, которого, как сказали тогда в этом кабачке, выхаживала после ранения на поединке с мушкетером миловидная крестьяночка. Пьер заказал себе ужин и вина. Трактирщик услужливо принес бутылку (предварительно намотав на нее паутину, свидетельницу старины) и, поставив ее на стол, подсел к гостю. — Куда изволите путь держать, сударь? — В замок баронессы де Гранжери, дружище. Не укажете ли, как туда проехать? Кажется, я бывал там, но давно, забыл дорогу. Да и не помню таких баронов, де Гранжери. — А как же! Ха-ха! — оживился трактирщик. — Года четыре назад король пожаловал им такое звание, не знаю, за какие такие заслуги? Может быть, за то, что сын у нее родился после смерти мужа. — И он громко расхохотался. — Значит, в былое время не было таких баронов? — Не было, не было! Эх, годы, годы! Время былое, — вздохнул трактирщик, наливая стакан вина. — Память-то сдает, сударь! Что вчера было, как ветром выдувает из головы, а вот давно прошедшее держится, колом не вышибешь. Да и вышибать не хочется. Славное было время, сударь, при его высокопреосвященстве господине кардинале Ришелье, не правда ли? Вам не приходилось его видеть? Какой он молодец был, хоть ростом и не вышел! А как на коне скакал, даром что духовного звания! Ха-ха! Впрочем, генералиссимус! — Мне пришлось раз с ним встретиться. А вам, дружище? — Мне? Ха-ха! Мне-то приводилось — и не раз — видеть, как он мчался мимо нашего строя на боевом коне, в доспехах, словно остался герцогом, а не посвящен папой в кардиналы. Выпьем за его память! — Мне бы хотелось выпить за память! Смотрю я на вас, дружище, и вспоминаю, кого я видел тридцать с лишком лет назад лежащим в постели после ранения в поединке с неким мушкетером. — Придержите язык, сударь! И я что-то припоминаю. Ха-ха! Уж не вы ли были тем шпионом, которого подослал ко мне его высокопреосвященство, запретивший дуэли и среди своих гвардейцев? Я ведь не зря вас про него спросил. — Я рад, что вы меня припоминаете. Но я был не шпионом его высокопреосвященства, а лишь советником парламента в Тулузе, стараясь выяснить имя проезжего мушкетера, который дрался на поединке с вами. — А зачем вам было его имя? — Чтобы спасти невинного человека, обвиненного в убийстве дворянина напоединке. — Кто ж там кого убил? — Убил маркиза тот самый мушкетер, который ранил и вас, дружище. — Черт возьми! Ха-ха! — вскричал трактирщик. — Дело прошлое! Но не в правилах гвардейцев его высокопреосвященства господина кардинала Ришелье прощать своих врагов! — Так вы действительно тот гвардеец? — Конечно, я, сударь! Ха-ха! Ваше счастье, что я тогда шевельнуться не мог, так отделал меня этот проклятый мушкетер, не то я, заподозрив шпиона, проткнул бы его шпагой, как каплуна. Ха-ха! Но с тех пор, сударь, как я женился на своей женушке, выходившей меня после ранения, и купил на ее приданое этот трактир, не поднимаю больше руки ни на кого, разве что на кур и поросят для господ проезжающих. — Рад снова с вами встретиться. — Выпьем, сударь, по такому поводу. Трактирщик приободрился, привычным движением опрокинул в себя стакан вина и наклонился к Ферма: — Вы мой гость, сударь. У нас с вами давнее знакомство, так не назовете ли вы имя того мушкетера? Честное слово, я готов тряхнуть стариной, шпага у меня еще хранится в кладовке. Ха-ха! — Мне бы не хотелось, дружище, называть имени этого мушкетера по некоторым соображениям, могу лишь сказать вам, что он сейчас стал одним из маршалов Франции. Трактирщик-гвардеец многозначительно свистнул и налил снова вина и себе и гостю. — Тогда выпьем за его здоровье! — предложил он. Жена трактирщика в высоком белом чепце со сморщенным, но румяным лицом, принесла поднос с горячим ужином: жареного кролика с картофелем и сыр. — Я вас сразу узнала, сударь, и велела мужу подсесть к вам. Не верила я, что вас тогда к нему подослали, уж больно сердечно вы со мной поговорили. — Тогда присаживайтесь к нам, хозяюшка, — предложил Ферма, — а потом отведете меня в какую-нибудь комнатушку, где я смогу провести время до утра, воспользовавшись пером, бумагой и чернилами, которые вы мне принесете. — Чего нет, того нет, сударь! — отрезал трактирщик. — Хоть мы с вами и хорошо вспомнили старое-былое, но записывать это, как я разумею, не стоит! Да и где нам найти эдакую редкость? Перо, бумагу, чернила? Ха-ха! Да за тридцать лет, что мы здесь стоим за стойкой, у нас впервые такое попросили. И хорошо делали, что не просили. Не люблю я писанины! — Очень жаль, — вздохнул Ферма. — А шпагу своего мужа, сударыня, советую вам перепрятать подальше. — Шпага? Что шпага? Ха-ха! Захочу и буду на ней дичь жарить, как на вертеле! — Не слушайте вы его, сударь! Беда с ним, как напьется! Лучше кушайте, приготовлено по-нашему, по-крестьянски. А я пойду постелю вам постель. Небось устали с дороги. Пьер Ферма закончил ужин и, оставив задремавшего у стола трактирщика, поднялся вслед за хозяйкой наверх в отведенную ему каморку. Оставшись один, он снова вернулся к мыслям о пространственных и субпространственных местах, как он называл теперь невоображаемые фигуры многих измерений. Итак, жрецы бога Тота изображали, по существу, решение бинома в квадрате, получая ряды наименьших прямоугольных треугольников. А если не квадрат, а куб, фигура вполне реальная? Можно ли графически, как делали древние жрецы, решить бином в кубе? Понадобились мучительные раздумья, прежде чем лишенный пера и бумаги Ферма все-таки силой своего пространственного воображения представил себе куб, составив из отдельных частей, с шестью гранями, каждая из которых представляла собой тот самый составной квадрат, который изобразили на стене подземного храма египетские жрецы. Но как ни старался Ферма представить себе субпространственное место с четырьмя и больше измерениями, это не удавалось, пока он не забылся наконец сном. А во сне эти «невоображаемые фигуры» возникали перед ним с удивительной простотой и ясностью, но едва он проснулся поутру — они исчезли, но сознание того, что он их видел, представлял, рассматривал, осталось вместе с представлением, что они принадлежат к другой области, чем «плоские места», а потому закономерность «плоских мест» для «пространственных и надпространственных» не может иметь решений в целых числах! И доказать это во сне не составляло никакого труда, недаром он в присутствии Луизы, подчиняясь своему математическому чутью, написал, что уже имеет удивительное доказательство, и вот оно пришло к нему! Осталось только дописать это его замечание на полях книги Диофанта! Или в замке Гранжери, где найдется, несомненно, и перо и бумага! Утром парень с туповатым выражением лица и сонными глазами вывел для Ферма его оседланного иноходца. Трактирщик с женой провожали его как давнего знакомого. Распрощавшись с ними, Пьер Ферма отправился по обстоятельно указанному трактирщиком пути. Тучи рассеялись, выглянуло январское солнце, у Пьера повеселело на душе, но главным образом потому, что он знал теперь свое «удивительное доказательство», которое вчера только нащупывал, ночью «увидел во сне»! Ехать пришлось, как предупреждал гвардеец, довольно долго. Изредка встречались крестьянские повозки, один раз промчалась карета с гербом на дверцах, запряженная четверкой белых лошадей, но, конечно, не из Гранжери. Баронесса увидела бы одинокого всадника на дороге, который мог оказаться советником парламента, встречи с которым ждала. И если во время вчерашней непогоды ему лишь чудилась похоронная процессия, то сейчас, при солнечном свете, он сначала услышал далекий погребальный звон, а потом увидел наяву траурное шествие, растянувшееся по дороге к уже видимому кладбищу. Впереди шествовал аббат в нарядном облачении с церковными служаками, за ними гроб несли четверо крестьян, а следом тянулись одетые в черное простолюдины, мужчины и женщины, вдова и нанятые плакальщицы горько плакали, их стоны разносились в холодном воздухе, сливаясь с далеким и грустным погребальным звоном. Пьер Ферма придержал коня и, сняв шляпу, пропустил печальную процессию мимо себя. В прошлый раз, едва ли не на этом месте, он присоединился к провожающим в последний путь дворянина де Гранжери, которому не привелось при жизни стать бароном, каким стал его сын. Какова игра судьбы! Пьер Ферма хотел было и сейчас пройти вместе со всеми на кладбище, найти могилу де Гранжери, близ которой видел фигуру женщины в черном, безутешную вдову, как олицетворение любви, горя и ненависти, посвятив потом ей стихи, которые ей неизвестны. Но он раздумал, поскольку солнце близилось к закату, дни в январе коротки, и нужно было еще добраться до замка Гранжери. Пьер Ферма направил лошадь бодрой иноходью к видневшемуся на холме строению, ни разу не ударив коня, а лишь сжимая и разжимая колени, заставляя тем чуткого друга выполнять желание всадника. Замок оказался типичным загородным домом с мезонином и балконом, на котором на фоне угасающей зимней зари вырисовывался силуэт прекрасной женщины, какой запомнился Пьеру Ферма здесь тридцать с лишним лет назад. Пьер даже зажмурился, чтобы видение исчезло. Ведь не могла же безутешная вдова остаться неизменной с того далекого времени! Может быть, это ее дочь? Но трактирщик говорил только о сыне, и то родившемся уже после смерти отца. Кто же она, явившаяся из прошлого демонической тенью дамы, пылавшей любовью, горем и местью?
Глава седьмая ПЕРСТЕНЬ КАРДИНАЛА
Человек хуже зверя, когда он зверь.Рабиндранат Тагор
У баронессы Орлетты де Гранжери никогда не было дочери, на балконе своего замка, поджидая приезда советника парламента из Тулузы, стояла она сама, спустившись потом при виде подъезжающего всадника. Ферма был поражен необычайной ее внешностью. Седая прядь в ее волосах цвета вороньего крыла, восхитившая кардинала Мазарини, теперь, подобно речке от осенних дождей, разлилась, сделав серебристой всю левую часть головы, оставив остальное нетронутым. Орлетта искусно пользовалась этой своей особенностью и, оборачиваясь то одной, то другой стороной, как бы меняла свой возраст чуть ли не вдвое. Некую сверхъестественность ее обаяния ощутил и Пьер Ферма: в профиль справа она казалась ему знакомой безутешной вдовой, требующей мести за горячо любимого мужа, а повернувшись лицом в другую сторону, превращалась в любящую заботливую мать взрослого барона. Орлетта провела Ферма в дом, в просторную столовую, украшенную деревянными имитациями охотничьих трофеев, подлинными рогами оленей и клыкастыми кабаньими головами, усадила на стул с высокой резной спинкой и оказывала ему всяческие знаки внимания, без умолку говоря о дошедшей до нее славе Ферма как советника парламента. Она украдкой вглядывалась в его усталое лицо, стараясь разгадать, кем он был для нее: возможным помощником или врагом, как уверял ее Мазарини? Открыл ли ему слабый мужчина Рауль де Лейе в страхе перед казнью ее семейную тайну? — Я знаю, что у вас, блюстителей закона, — вкрадчиво начала она, — все основывается на бумагах, касающихся спорных земельных угодий. Я сейчас прикажу их принести. — Распорядитесь, сударыня, если это вас не затруднит, принести и чистой бумаги, а также перо и чернила. — Зачем вам бумага? Зачем перо и чернила? — насторожилась Орлетта. — Вы думаете, сударыня, мне нечего будет записать? — Нет, что вы! Я просто такая непрактичная, неумелая и… беззащитная. Все будет исполнено, как вы пожелаете! Мне очень жаль, — грустным голосом добавила она, отдав распоряжение вызванному слуге, — что вам ради меня, оставшейся в жизни безутешной, придется выступать в суде против графа Рауля де Лейе, с которым вы, кажется, связаны дружбой или былой услугой? Не так ли? — Я служу закону, сударыня, а не отдельным лицам, интересы которых защищаю в том случае, когда они совпадают с моим представлением о законности и справедливости. — Как это украшает мужчину! Но как трудно понять вашу сокровенную сущность, дорогой метр! Почему, например, вы, несомненно, рыцарь в душе, не сообщили мне имени убийцы моего мужа, о чем я вас просила в горестное мне время? — Это имя, сударыня, спасло тогда графа Рауля де Лейе от позорной смерти, но вас поставило бы лишь в затруднительное положение, поскольку принадлежит сейчас маршалу Франции. — Мой сын — воплощение дворянской чести — мог бы вызвать его на дуэль и отомстить за смерть отца. — Я не знаю более искусного дуэлянта, чем этот маршал Франции, и, право, не хотел бы, чтобы вы испытали горечь еще одной утраты. Орлетта вздрогнула. «Еще одной утраты? На что намекает этот судейский? На роковую семейную тайну, известную ему? На былую потерю Орлеттой Рауля, который вместо того, чтобы жениться на ней, ждущей его ребенка, вероломно предпочел эту кривляку Генриэтту с приданым, несмотря на то, что той было все равно на ком остановиться: на кардинале Ришелье, на маркизе де Вуазье, на графе Рауле де Лейе или на всех вместе, если бы это удалось!» Последний год был ужасным для Орлетты после неизвестно как полученной записки: «Призванный к себе Всемогущим Господом нашим кардинал Святой католической церкви молит бога, чтобы творящий чудо перстень защитил бы его духовную дочь от враждебных происков». Подписи не было, но вкрадчивый голос «серого кардинала» звучал в ушах баронессы зловещим предупреждением, ибо кто-то и после его кончины наблюдал за выполнением его воли. Орлетта, будучи когда-то рабой своей страсти к Раулю, а теперь слепой материнской любви к великовозрастному сыну, беспечному и пустому, чувствовала себя загнанной в угол, готовая превратиться, как требовал «серый кардинал», в «волчицу, защищающую своего детеныша» — Ах, метр Ферма, — доверительно заговорила она. — Мой сын вырос без отца, и мой долг матери, давшей ему жизнь, найти и средства для его достойного существования, а он так расточителен и так красив! Почему я нуждаюсь в вашей неоценимой помощи, талантливый метр? Чтобы добиться отторжения у графа Рауля де Лейе земельных угодий, примыкающих к нашим владениям, как поручил суду это сделать его величество король Людовик XIV, да продлятся его дни! — Его величество передал парламенту вашу тяжбу с графом де Лейе на рассмотрение, — уточнил Ферма. Орлетта нахмурилась, оценивая ответ Ферма как свидетельство его враждебного отношения к ней. Слуга принес пачку бумаг, перевязанных зеленой лентой. — Ну вот и наши доказательства, — сказала баронесса, развязывая ленту. — Найти юридическое обоснование для удовлетворения моих притязаний — долг вашего юридического таланта, о котором все говорят, дорогой метр. — Благодарю вас, баронесса, — поклонился Ферма и углубился в изучение принесенных бумаг. Через некоторое время, заметив, что Ферма ознакомился с последним листком, баронесса с обворожительной улыбкой спросила: — Ну как, дорогой мой метр, которому я доверяю счастье своего сына? Вы, кажется, еще ничего не записали, как хотели? Все ли ясно? — Боюсь вас огорчить, баронесса, но из принесенных мне бумаг явствует, что земли, на которые вы претендуете, никогда не принадлежали роду де Гранжери. Король Генрих IV даровал их графу Эдмону де Лейе, отняв у мелких землевладельцев — крестьян. — Что я слышу, досточтимый метр! — вспыхнула баронесса. — Уж не хотите ли вы сказать, что при отмене старого указа Генриха IV право на эти земли обретут не представители католического рода де Гранжери, владения коих к ним прилегают, а эти грязные крестьяне? — Я не мог бы более точно выразить правовую основу этого дела, если исключить слово «грязные», применительно к землевладельцам, оставленным Генрихом IV без земель. — Ну, знаете ли, метр Ферма! — с горечью воскликнула баронесса. — Я однажды уже разочаровывалась в вас как представителе закона, а вы заставляете меня сделать это еще раз! Я надеюсь на вашу помощь, а вы уже пророчите враждебное мне решение парламента! — Ни в коей мере, баронесса! Высказали возможное решение парламента в Тулузе вы, а не я. Мне лишь пришлось отметить четкость вашего мышления. — Тогда другое дело, дорогой метр, — с облегчением вздохнула Орлетта и продолжала уже ласково: — Мы с вами найдем иные слова, не правда ли? Парламент может и должен удовлетворить мои претензии, коль скоро господь смотрит с небес! Дарованные безбожному гугеноту земли должны быть отняты. И я хотела бы познакомить вас с владетельным бароном, кому эти земли должны принадлежать, с моим сыном Симоном, который, к счастью, вернулся, как я вижу в окно, с охоты. С этими мужчинами так трудно, поверите ли, метр! Несмотря на зимний месяц, он все-таки умчался со своими сворами гончих. Вот он! Знакомьтесь. В столовую с шумом ворвались пять или шесть собак с грязными лапами, оставляя следы на полу, а за ними вбежал возбужденный охотник в короткополой шляпе с пером и воскликнул: — Виват, мадам! Виват, мсье! Полюбуйтесь на мои охотничьи трофеи. Три зайца на отличный ужин! А как они удирали, вы бы знали! Дух захватывало от скачки! И еще лиса. А на волка придется устроить облаву. Ферма смотрел на барона Симона де Гранжери и не верил глазам. Перед ним стоял молодой граф Рауль де Лейе, правда, чуть старше, чем был он, когда его обвиняли в дуэли, но, раскрасневшийся от скачки на холодном воздухе, Симон выглядел моложе своих тридцати трех лет, отчего сходство его с молодым когда-то графом Раулем де Лейе усиливалось. Еще одно видение из прошлого вывело Ферма из равновесия, и он не удержался от возгласа: — Право, мне почудилось, сударыня, что к вам в дом вошел ваш противник, тяжбу с которым вы хотели доверить мне. — Ба! — глупо рассмеялся Симон. — И этот господин попался на мое сходство с враждебным нам графом де Лейе! Как бы мне получше это использовать? Явиться куда-нибудь вместо него? Мать испепелила взглядом сына за его неуместное замечание, видя, какое впечатление произвело оно на Ферма. У нее уже не оставалось сомнений, что Пьеру все известно, что он обладает страшной тайной рождения Симона. Теперь она была права, ибо Ферма, с присущей ему проницательностью, сделал выводы из обнаруженного сходства. Звенья нанизывались в стройную цепь событий тридцатичетырехлетней давности. «Так вот кто она, «знатная дама», которая не поступилась своей репутацией для спасения любовника! Так вот какова безутешная вдова, жаждущая мести, но покинувшая смертельно раненного мужа, чтобы увидеться с молодым графом! Так вот к кому спешил на свидание Рауль сразу после освобождения из тюрьмы! И вот чей сын только что вышел из комнаты!» — промелькнуло в мыслях у Ферма. Баронесса уже уверилась, что у нее нет иного выхода, как подчиниться воле покойного кардинала. Стараясь не выдать себя, она расспрашивала Ферма: — У вас ведь тоже есть взрослый сын, мой метр? — Да, сударыня, он ученый. — Как это мило! Хочется пожелать, чтобы король пожаловал ему за его заслуги хотя бы титул барона. — Благодарю, сударыня, но ученым пока не принято жаловать титулы аристократов, у них своя иерархия. — Ах вот как? Их звания передаются по наследству? — Не столько звания, сколько знания, сударыня. — Я хочу, чтобы вы поняли меня как отец, дорогой метр. Для меня весь смысл жизни, вся сила моей нерастраченной любви — в Симоне! Конечно, вы, мужчины, осуждаете меня за это? — Вы вынуждаете меня опровергнуть вас, сударыня. — А вы умеете быть учтивым! Или я вынудила вас к этому? — Нисколько, баронесса! Я вполне искренен. «Кто из нас может быть искренним?» — с отчаянием подумала баронесса и с улыбкой предложила: — Не кажется ли вам, дорогой мой метр, милый мой метр, что нам с вами в соблюдение традиций нужно выпить хорошего старого вина за успех нашего дела? Она предложила и ужаснулась, втайне надеясь, что он откажется. А он сказал: — Я не уверен в вашем деле, баронесса. Мне не хотелось бы питать вас призрачными надеждами. У крестьян больше прав на эти земли, чем у вас, если отнять их у графа де Лейе. Эти с присущей Ферма честностью сказанные слова были тем толчком, который помог Орлетте пробудить в себе демона зла: «Он выдал себя с головой! Рассчитывает, что граф де Лейе снова заплатит ему теперь за то, чтобы лишить части своих владений его истинного сына! Значит, Ферма несомненный враг, который не заслуживает ничего другого, кроме «уготовленного ему кардиналом». О боже, боже! Дай мне силы!» — думала она, вся дрожа, но улыбаясь: — И все-таки, милый мой метр, ставший почти родным для меня человеком, я не могу отказать себе в удовольствии выпить вместе с вами старого французского вина с виноградников благословенного юга Франции! Выпить за исполнение сокровенных желаний каждого из нас. Мое желание вы знаете, ужель у вас нет такого? — У меня есть такое сокровенное желание, оно владело мной, когда я ехал к вам. — Если так, то как же нам обойтись без вина? Я пойду распоряжусь, поскучайте две минуты. — И она вышла, шурша шелками. Старый слуга в новой ливрее раньше чем она вернулась принес бутылку вина и два бокала тонкого хрусталя. Затем появилась и баронесса, странно бледная, покусывающая губу, неся для чего-то песочные часы и при виде Ферма превратясь в светскую даму: — Вот перстень, милый метр. Он достался мне по наследству от матери. В нем — волшебная сила, способная выполнить заветные желания, и мое и ваше, если мы поочередно опустим перстень в свои бокалы и осушим их. Согласны? — С моей стороны было бы верхом неучтивости не согласиться с вами, баронесса. — Я опускаю перстень в свой бокал и, загадав желание, выпиваю вино первой, чтобы вы не подумали, будто оно отравлено. — Баронесса! Как можно! — Полно, полно! Теперь я перекладываю перстень в ваш бокал. Вы должны выпить вино раньше, чем пересыплется песок в песочных часах, загадав за это время свое желание. — Если это игра, сударыня, то она не лишена романтичности, а я — поэт. Пока пересыпается песок в ваших часах, я успею, воспользовавшись вашим пером и бумагой, о чем мечтал по дороге к вам, написать свое сокровенное желание. «Сам господь видит, что я не заставляла его ждать, пока перстень пролежит в его бокале пять минут, — старалась выгородить сама себя Орлетта. — Господь своей всемогущей десницей снимает с меня грех». И она взглянула на первую написанную Ферма строчку, ощутив леденящий ужас, но не оттого, на что решилась, а от сознания последствий, если эта бумага будет кем-то прочитана, ибо на ней значилось: «Тайна разложения степеней». Какая наглость — писать донос в ее присутствии, пользуясь иносказаниями! Тайна есть тайна. Степени — высшее сословие. Разложение — распущенность нравов! Он пишет свою последнюю кляузу, пока пересыпается песок! А Пьер Ферма увлеченно писал: «Для доказательства нерешаемости в целых числах уравнения с разложением степени на два слагаемых в той же степени мы предлагаем метод, противоположный ранее предложенному нами методу спуска, с помощью которого нам удалось обогатить математику целых чисел. Предлагаемое же доказательство сформулированной нами теоремы разложения степеней основывается на методе подъема». Закончив описание своего «метода подъема», Пьер Ферма дописал: «Если предложенное доказательство, основанное на противопоставлении свойств «плоских» и «пространственных» и «субпространственных» мест, покажется тем, кто прочтет эти строки, удивительным, то это отразит и мое собственное отношение к найденному доказательству, суть которых в «вероятностных кривых»».

Пока Пьер Ферма писал, песок в песочных часах успел пересыпаться. Баронесса куталась в принесенный платок, хотя от горевшего камина несло жаром. Ничего не поняв в появляющихся под гусиным пером строчках, она отвернулась, что избавило ее от того, чтобы видеть глаза гостя. А он, аккуратно сложив написанную бумагу, спрятал ее в карман камзола: — Итак, сударыня, выразив свое заветное желание, как вы того пожелали, я искренне благодарю вас за перо и бумагу. — И за вино, — хрипло напомнила Орлетта, одержимая теперь лишь стремлением овладеть «страшным», как ей казалось, документом. — И за вино! — подхватил Ферма, залпом выпивая бокал. Перстень звякнул, когда Ферма поставил бокал на стол. Ферма вынул его и передал баронессе: — Теперь, если позволите, сударыня, я предпочел бы отдохнуть в комнате, которую вы мне укажете. — О боже, что я сделала! — не удержалась от возгласа Орлетта и, спохватившись, добавила: — Ах, нет, нет, метр! Я до сих пор не позаботилась о вашем отдыхе. Камердинер заменит меня и проводит вас. — И она с таким отчаянием позвонила в колокольчик, словно это должно было спасти и ее и гостя. Все тот же шаркающий ногами слуга в парадной ливрее появился в дверях и, поняв знак госпожи, сделал Ферма жест следовать за собой. Ферма невольно зевнул, упрекнув себя в неучтивости. В голове у него шумело (какое крепкое вино, сразу бьет в голову!), и он, нетвердо ступая, пошел следом за слугой, отвесив готовой разрыдаться, смертельно бледной баронессе прощальный поклон. Это был последний поклон великого математика XVII века Пьера Ферма! Через час его не стало… Орлетта с гулко бьющимся сердцем, со свечой в руках на цыпочках подошла к двери отведенной Ферма комнаты и некоторое время прислушивалась. Потом вошла в нее, готовая объяснить свое появление заботой о госте, а в глубине души надеясь, что перстень за годы «выдохся» и Ферма просто спит. Но он лежал на кровати, не раздевшись. Орлетта потрогала его руку и отдернула свою, ощутив мертвящий холод. Он был мертв, как и предрекал «серый кардинал», в «святости своей и христианской любви» убеждая, что «он не узнает уже горестей, уготовленных ему в жизни…». Дрожащими руками Орлетта стала обшаривать карманы гостя, пока не нашла недавно написанную «Тайну разложения степеней» — доказательство великой теоремы, которое в течение столетий будут тщетно стараться воспроизвести множество ученых. Но для Орлетты этот листок был разоблачением, грозящим низложением ее сына Симона из баронов в незаконнорожденного и бесправного человека. «Скорее, скорее уничтожить проклятую тайнопись, в которой ничего нельзя понять!» И Орлетта, шепча клятву постричься в монахини, чтобы замолить свои великие грехи, поднесла бесценный для науки документ к пламени свечи — и через минуту доказательство Ферма его великой теоремы перестало существовать, от него не осталось даже пепла, растоптанного ногой будущей игуменьи монастыря кармелиток в Бетюне, превратившейся по воле умершего «серого кардинала» в «волчицу», а «человек хуже зверя, когда он зверь», как скажет впоследствии, размышляя о человеческой сущности, Рабиндранат Тагор.
Послесловие к третьей части
От человека остаются только дела его.М. Горький
9 февраля 1665 года в «Журнале ученых» («Journal des Savants»), который начал выходить во Франции взамен подвижнической переписки, которую вел до конца жизни аббат Мерсенн, а вслед за ним Каркави, был помещен некролог Пьеру Ферма. В этом некрологе говорилось: «Это был один из наиболее замечательных умов нашего века, такой универсальный гений и такой разносторонний, что если бы все ученые не воздали должное его необыкновенным заслугам, то трудно было бы поверить всем вещам, которые нужно о нем сказать, чтобы ничего не упустить в нашем «ПОХВАЛЬНОМ СЛОВЕ»». И хотя уже при жизни Пьер Ферма был признан первым математиком своего времени, о его юридической деятельности говорится в том же «Похвальном слове» как о выполняемой им «с большой добросовестностью и таким умением, что он славился как один из лучших юристов своего времени». А о его поэтическом творчестве на латинском, французском и испанском языках говорилось, что «он писал стихи с таким изяществом, как если бы он жил во времена Августа и провел большую часть своей жизни при дворе Франции или Мадрида». После же его смерти, последовавшей «во время одной из служебных поездок» (как сказано, видимо, без каких-либо расследований обстоятельств его кончины), слава его не только умножилась, но поставленные им перед ученым миром, решенные им самим задачи были столь значительны, что на протяжении более чем трех столетий вызывали не только фундаментальные работы таких корифеев науки, как Эйлер, Лейбниц, Гюйгенс, Ньютон, Лагранж и другие, но и создание новых отраслей математики: теория вероятностей, теория алгебраических чисел, с помощью остроумнейших приемов которой ученые пытались доказать великую теорему Ферма, остающуюся и поныне маяком для искателей математических истин.
Эпилог
Мечты придают миру интерес и смысл.А. Франс
Закрываем последнюю страницу романа, где действует Мним. С кем же мы прощаемся? С автором, превратившимся на время в Мнима, чтобы, мечтая о своем герое XVII века, оказаться рядом с ним? Или прощаемся с самим великим математиком, каким он представлен в романе, рожденный своей славой и открытиями? Но, быть может, «Мним» надо отнести все-таки к моему былому попутчику, неведомо как появившемуся в пустом купе движущегося поезда, «путешественнику во времени из прошлого в будущее»? И наконец, не следует ли признать доказательство великой теоремы, записанное перед кончиной Пьером Ферма, к «мнимым доказательствам», не удовлетворяющим дотошных математиков? Все эти вопросы в первую очередь мучили автора, и чтобы ответить на них, требовалось установить, существует ли на самом деле Аркадий Николаевич Кожевников? Найти его взялся мой сын Олег Александрович, если помните, военный моряк, капитан 1-го ранга. Связанный по службе наряду с другими флотами также и с Тихоокеанским, он во время полета на Камчатку с разрешения командования задержался на сутки в Новосибирске. И представьте, нашел нашего МНИМА! Он побывал и у него на службе в Сибгипротрансе, и даже дома, убедившись в полной реальности его существования. Более того, он познакомил Аркадия Николаевича с уже начатым к тому времени мной романом. Аркадий Николаевич был настолько любезен, что прислал с моим сыном письмо, которое считал возможным включить в эпилог романа о Пьере Ферма, перед которым он преклонялся. Письмо Аркадия Николаевича представляет, на мой взгляд, несомненный интерес для чистых математиков, поскольку гипотетически воспроизводит возможное доказательство великой теоремы, сделанное самим Пьером Ферма. После долгих раздумий я все же не решился затруднить читателя путешествием в математические дебри, оставляя возможность для тех, кто не побоится этого, связаться с самим Аркадием Николаевичем Кожевниковым по адресу, который он вручил мне, как описано в прологе романа. Однако строго математически обоснованный вывод А. Н. Кожевникова о том, что для полного доказательства нерешаемости в целых числах выражения xn + yn = zn при n › 2 достаточно убедиться в этом на любом примере с показателем степени больше 2 (что сделано самим Пьером Ферма для биквадратов!), совпадает с результатом того образного доказательства, которое записал мой герой романа Пьер Ферма в замке баронессы де Гранжери перед своей кончиной и которое, уничтоженное баронессой, не дошло до нас! Для автора главное не столько в этом «доказательстве», сколько в образе великого математика, каким он ему представился, дела которого продолжают волновать ученых и в наше время. И примечательно — честное слово! — что Пьер Ферма жил именно в то «мушкетерское время», которое так красочно описал неувядающий Александр Дюма, но которое было не только эпохой острых шпаг и коварных интриг, но и острого ума гениальных ученых, знакомство с которыми может быть интересно читателю. Конец
Москва — Переделкино 1981–1982 гг.
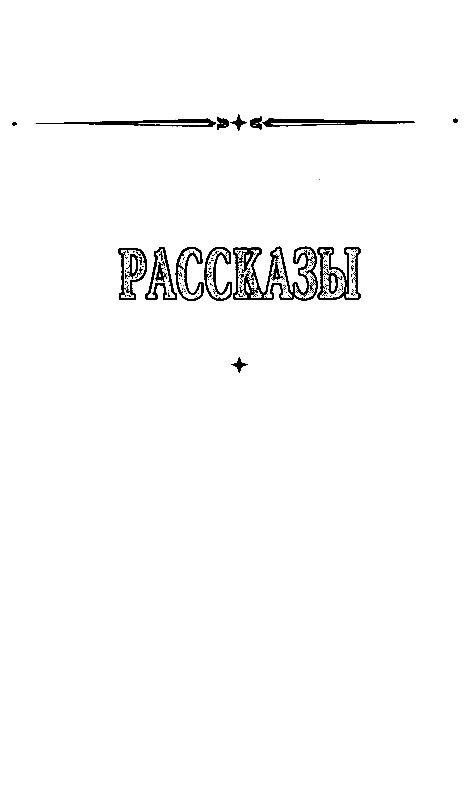
РАССКАЗЫ КОЛОДЕЦ ЛОТОСА
Для мудреца вокруг тысяча загадок, для глупца или полузнайки — все ясно.Индийская пословица
Блистательный молодой граф де Лейе, удививший несколько лет назад высший свет своим неожиданным уходом в скучный мир математики, в прошлый очередной четверг в салоне баронессы де Невильет так объяснил гостям свой поступок. Он рассказал занимательную историю трехсотлетней давности, когда его далекий предок граф Рауль де Лейе был спасен от незаслуженной казни за участие в запрещенной кардиналом Ришелье дуэли неким юристом из Тулузы Пьером Ферма, который отдавал свой досуг математике. Вспоминая этот рассказ графа де Лейе, маркиз де Вуазье, далекий предок которого как раз и был убит на той злосчастной дуэли, спросил графа: — Неужели, граф, чувство благодарности к спасителю вашего далекого предка так велико в вас, что вы решили заняться математикой всерьез, хотя этот Пьер Ферма занимался ею попутно. — Видите ли, маркиз, — с галантным поклоном ответил граф де Лейе, — Пьер Ферма в свое время считался выдающимся юристом, но для нашего века он стал великим математиком прошлого, заложившим основы многих новых отраслей математики. Он шутя делал одно открытие за другим и› представьте, не публиковал своих выводов, предлагая современникам найти их самим. И только через сто лет другой великий математик, член русской Академии наук Эйлер, доказал все его теоремы, все, кроме одной. Математики мира вот уже триста лет тщетно ищут ее доказательство, которое, по словам Пьера Ферма, было «удивительным» и им найденным. Четыре года назад, в 1908 году, немецкий любитель математики Вольфскель назначил премию в 100 тысяч марок тому, кто повторит доказательство Ферма. Вот я и оказался в числе тех, кто попытался это сделать и… превратился в математика. — Боже мой! — всплеснула крохотными ладошками миниатюрная баронесса де Невильет. — И вы получите такую огромную сумму? — Увы, нет, баронесса! Теоремы Ферма, которую называют великой, я не доказал, но математикой увлекся, как можно увлечься лишь самой прелестной из женщин. И должен вам сказать, что именно математика свела меня действительно с самой удивительной красавицей, которой равной не было в тысячелетиях, красота которой равнялась лишь ее уму и свету Солнца, когда она три тысячи лет назад стала единственной в истории женщиной — фараоном в Древнем Египте.. — Граф! — воскликнула баронесса. — Вы показали себя неповторимым рассказчиком, увлекли нас сначала Пьером Ферма, а теперь неведомой красавицей древности. Вы обречете нас на непередаваемую скуку, если не расскажете, что преподнесла вам ваша таинственная математика, способная переносить вас через тысячелетия. Уверяю вас, все мы готовы принести себя ей в жертву, лишь бы услышать ваш новый рассказ, — говорила баронесса, предвкушая успех своего знаменитого в Париже четверга. — Охотно, — согласился граф. — Однако я буду говорить о себе в третьем лице, предпочитая видеть все снова вместе с вами как бы со стороны, предупредив вас, что в рассказанном не будет ни слова вымысла. И граф де Лейе рассказал о раскопках в Египте, которые проводил его друг, археолог Детрие.
Любовь — это и есть одно из самых удивительных ЧУДЕС СВЕТА
Археолог Детрие стоял на берегу Нила и кого-то ждал, любуясь панорамой раскопок. Кожа его была так темна от загара, что, не будь на нем светлого клетчатого костюма и пробкового шлема, его не признали бы европейцем. Впрочем, черные холеные усы делали его похожим на Ги де Мопасана. Непринужденность гасконца и знание местных языков, арабского и в особенности языка, на котором говорили феллахи, сходного с языком древних надписей, столь дорогих археологам, позволяли ему здесь быстро сходиться с людьми. Например, с самим пашой, от которого зависела выдача разрешений на раскопки в Гелиополисе. Важный чиновник в неизменной своей феске гордился тем, что по традиции турецкой знати в знак религиозного усердия вызубрил наизусть весь коран, не понимая в нем ни единого арабского слова, что не мешало ему править арабами. С археологом Детрие он был приторно-вежлив, сносно болтал по-французски, потчевал его черным кофе и, жадно облизывая губы, расспрашивал о парижских нравах на плац Пигаль. А в душе презирал этих неверных гяуров за их постыдный интерес к развалившимся капищам старой ложной веры. Но он обещал европейцу, обещал, обещал… Однако разрешение на раскопки было получено лишь после того, как немалая часть банковской ссуды, выхлопотанной через парижских друзей, перешла от Детрие к толстому паше. Таковы уж были нравы сановников Оттоманской империи, во владении которой скрещивались интересы надменных англичан и алчных немецких коммерсантов, требовавших под пирамидами пива и привилегий, обещанных в Константинополе султаном. Детрие мало интересовался этим соперничеством. Как чистый ученый, он больше разбирался в былой борьбе фараонов и жрецов бога Ра, древнейший храм которого ему удалось раскопать. 1912 год был отмечен этим выдающимся достижением археологии. Храм был огромен. Казалось, кто-то намеренно насыпал здесь холм, чтобы сохранить четырехугольные колонны и сложенные из камня стены с бесценными надписями на них. Но это сделал не разум, а забвение и ветры пустыни. Археолога Детрие заинтересовали некоторые надписи, оказавшиеся математическими загадками. Жрецы Ра и математика! Это открывало много. Об одной из таких надписей, выбитой иероглифами на гранитной плите в большом зале, и написал Детрие в Париж своему другу-математику, пообещавшему в ответ самому приехать на место раскопок. Его и ждал сейчас Детрие. Но меньше всего думал он увидеть всадника в белом бурнусе, подскакавшего на арабском скакуне в сопровождении туземного проводника в таком же одеянии. Впрочем, не его ли друга можно было встретить в Булонском лесу во время верховых прогулок знати всегда экстравагантно одетым? То он был в цилиндре, то в турецкой феске, то в индийском тюрбане. Ведь он прослыл тем самым чудаковатым графом, который сменил блеск парижских салонов на мир математических формул. Кстати, в этом он был не одинок, достаточно вспомнить юного герцога де Бройля, впоследствии ставшего виднейшим физиком (волны де Бройля!). Детрие и граф де Лейе подружились в Сорбонне. Разные специальности, выбранные ими, разъединили, но не отдалили их друг от друга. Они всегда вместе гуляли по бульвару Сен-Мишель и встречались на студенческих пирушках, пили вино, пели песни и веселились с девушками. Граф осадил коня и ловко соскочил на землю, восхитив тем проводника, подхватившего поводья. Друзья обнялись и направились к раскопкам. — Тебе придется все объяснять мне, как в лицее, — говорил граф, шагая рядом с Детрие в своем развевающемся на ветру бурнусе. Его тонкое бледное лицо, так не вязавшееся с восточным одеянием, было возбуждено. — Раскопки ведутся на месте одного из древнейших городов Египта, — методично начал археолог. — Гелиополис — «город Солнца». В древности его называли «Ону» или «Ей-н-Ра». Здесь был религиозный центр бога Ра — победителя богов, который «пожирал их внутренности вместе с их чарами». Так возвещают древние надписи: «Он варит кушанье в котлах своих вечерних… Их великие идут на его утренний стол, их средние идут на его вечерний стол, их малые идут на его ночной стол…» — декламировал цитаты археолог. — Прожорливый был бог! — рассмеялся граф. — Эти религиозные сказания отражают не только то, что Солнце, всходя над горизонтом, «пожирает» звезды, но и отражает, пожалуй, реальные события древности. — Битву богов с титанами? — Нет. Воевали между собой не столько сами боги, сколько жрецы, им поклонявшиеся. Так, с жрецами бага Ра всегда соперничали жрецы бога Тота Носатого (его изображали с головой птицы ибис), сыном которого считался фараон Тутмос 1. Любопытно, мой граф, что наследование престола у египтян, как пережиток матриархата, шло по женской линии. — Постой, великий древнесчет! Я в невежественной своей темноте слышал лишь о двух египетских царицах — Нефертити и Клеопатре. Обе украсили бы собой бульвар Сен-Мишель. — Жила и другая, как раз дочь Тутмоса Первого, и, быть может, даже более прекрасная, чем эти прославленные красавицы. Однако Клеопатра, как известно, была гречанкой (по линии Птолемея, соратника Александра Македонского). А Нефертити не правила страной. Она была лишь женой фараона Эхнатона, смелого преобразователя. Ее изображали даже сидящей на коленях у мужа… — Какая непростительная добродетель! — шутливо воскликнул граф. — А вот жившая много раньше Хатшепсут (или Ха-тазу), та была единовластной правительницей, женщиной-фараоном, едва ли не единственной за всю историю Египта. — Постой, постой! Не о ней ли говорили, что она была ослепительно красива? — Видимо, о ней. — Как же она воцарилась? Как королева красоты? — На ней и сказалась матриархальная традиция наследования престола, который передавался не сыну, а дочери фараона. Дочь которой, в свою очередь, наследовала трон. — Ха-ха-ха! — рассмеялся граф. — Представь, я вижу здесь не столько матриархат, сколько заботу о чистоте фараоновой крови. — Что ты имеешь в виду? — Расчет, холодный расчет, приближающийся к математическому. И в данном случае расчет этот построен на недоверии к женщине. Археолог искренне удивился. — А как же! — с озорной улыбкой стал разъяснять граф де Лейе. — Фараонова кровь с гарантией может быть передана только через мать наследнику, поскольку отцовство фараона никогда не может быть установлено с абсолютной достоверностью. — Ну, знаешь! — возмутился Детрие. — Под твоими «формулами» кроется неприкрытый цинизм. По-твоему, жена фараона могла принести наследника от постороннего отца? — Какой же это цинизм? Не всегда, конечно. Но… по теории вероятностей такой случай не исключен, А вот при древнеегипетском престолонаследии даже такой случай исключался. — Нет! Не допускаю у древних такого цинизма. — Тогда продолжай, посмотрим, на что твои древние египтяне были способны! — Итак, престолонаследницей становилась дочь фараона, вернее, дочь его жены. И эта наследница должна была выйти замуж за собственного брата. — Ага! — прервал Лейе. — Тот же момент соблюдения чистоты крови. Ну если хочешь, то — высшая форма аристократизма. Прямой путь к вырождению через кровосмешение. Недаром я все еще холост! — Дочь фараона, наследуя трон и выйдя замуж за брата, уступала ему этот трон. Хатшепсут была дочерью Тутмоса Первого, раздвинувшего границы своего царства Та-Кен за третьи пороги до страны Куш и доходившего до Сирии, до Евфрата. Она наследовала от отца власть фараона и передала ее по традиции своему супругу и брату Тутмосу Второму. Он был болезнен и царствовал лишь три года. — Естественный результат кровосмешения! — А вот после его смерти Хатшепсут не пожелала передать при своей жизни власть фараона своей дочери и ее юному мужу, впоследствии Тутмосу Третьему, и стала царствовать сама. За двадцать лет властвования она прославилась как мудрая правительница и тонкая художница. — Так это про нее говорили, — воскликнул граф, — что она красивее Нефертити, мудрее жрецов, зорче звездочетов, смелее воинов, расчетливее зодчих, точнее скульпторов и ярче самого Солнца? — Пожалуй, это не так уж преувеличено. Действительно, эта женщина глубокой древности должна была обладать необыкновенными качествами, чтобы удержать за собой престол. Ей пришлось изображать себя на нем в мужском одеянии с приклеенной искусственной бородкой. — Фу, какая безвкусица! — возмутился граф. — Дама в усах! Ярмарка. — Ты не сказал бы этого, увидев ее скульптурные изображения. Они прекрасны! — Рад был бы полюбоваться. Где их найти? — Это нелегко. Большинство ее изображений уничтожено мстительным фараоном Тутмосом Третьим, захватившим трон после Хатшепсут и прославившимся как жестокий завоеватель. Но все равно тебе стоит посмотреть поминальный храм Хатшепсут в Фивах — грандиозное здание с террасами, на которых при ней рос сад диковинных деревьев, привезенных из сказочной страны Пунт. Увы, теперь вместо деревьев можно увидеть лишь углубления в камне для почвы, в которой росли корни, да желобки орошения. Но все равно зрелище великолепно — гармонические линии на фоне отвесных Ливийских скал высотой в сто двадцать пять метров. Такой же высоты был и здесь холм; мы раскопали его, чтобы освободить под ним храм бога Ра. Его ты и видишь перед собой. Учти — в нем бывала сама Хатшепсут.Быть может, она здесь боролась с врагами престола, отстаивая свои права фараона и… — И? — И женщины, — улыбнулся археолог. — Снимаю шляпу перед древней красавицей. А что, если она касалась рукой вот этой колонны? — И граф погладил шершавый от времени камень, потом стал оглядывать величественные развалины, пытаясь представить среди них великолепную царицу. Археолог провел его в просторный зал с гранитной стеной и остановился перед выбитой на камне четыре тысячи лет назад надписью. — Я переведу тебе эту странную надпись. Оказывается, жрецы не только сажали на трон фараонов, вели счет звездам, годам и предсказывали наводнения Нила. Они были и математиками! — Это уже интересно! — Слушай: «Эти иероглифы выдолбили жрецы бога Ра. Это стена. За стеной находится колодец Лотоса, как круг солнца; возле колодца положен один камень, одно долото, две тростинки. Одна тростинка имеет три меры, вторая имеет две меры. Тростинки скрещиваются всегда над поверхностью воды в колодце Лотоса, и эта поверхность является одной мерой выше дна. Кто сообщит числа наидлиннейшей прямой, содержащейся в ободе колодца Лотоса, возьмет обе тростинки, будет жрецом бога Ра. Знай: каждый может стать перед стеной. Кто поймет дело рук жрецов Ра, тому откроется стена для входа. Но знай: когда ты войдешь, то будешь замурован. Выйдешь с тростинками жрецом Ра. Помни: замурованный, ты выбей на камне цифры, подай камень. Однако помни: подать надо только один камень. Верь, жрецы Ра будут наготове, первосвященники подтвердят, таковы ли на самом деле выбитые тобой цифры. Но верь, сквозь стену колодца Лотоса прошли многие, но немногие стали жрецами бога Ра. Думай. Цени свою жизнь. Так советуют тебе жрецы Ра». — Как это понять? — спросил граф. — Ради этого я и просил тебя приехать. Очевидно, здесь проходили испытания претенденты на сан жреца Ра. Их замуровывали за стеной до тех пор, пока те или решали задачу, передавая через отверстие для света и воздуха камень с выдолбленным ответом, или умирали там от истощения и бессилия. — И вы откопали эту экзаменационную аудиторию? — Конечно. Мы можем пройти в нее. Тростинок там не сохранилось, так же, как и колодца, но камень для ответа и даже медное долото лежат на месте. Пройдем. Для нас это не так опасно, как для древних испытуемых. — Прекрасно! — отозвался граф и храбро шагнул в пролом стены. Они оказались в небольшом помещении, напоминавшем каменный мешок. Свет проникал через пройденный ими проем и маленькое отверстие, сделанное как раз по размеру лежащего на полу камня из мягкого известняка. Рядом виднелось медное долото. — Должно быть, немного верных ответов было выбито этим долотом, — сказал археолог, поднимая его с полу. — Почему ты так думаешь? — Я бился над этой задачей несколько дней. Но я завтракал, обедал, ужинал регулярно. Боюсь, что в этой камере жрецов остались бы мои кости. — Прекрасно, — задумчиво повторил граф, — Попробуем перевести твою надпись еще раз. На математический язык. И сопроводим это чертежом на этой тысячелетней ныли. И граф, взяв у Детрие долото, нарисовал им на пыльном полу камеры чертеж, говоря при этом: — Колодец — это прямой цилиндр. Два жестких прута (тростинки). Один длиной два метра, другой — три, приставлены к основанию цилиндра, скрещиваясь на уровне предполагаемой воды в одном метре от дна. Легко понять, что сумма проекций на дно мокрых или сухих частей тростинок будет равна по диаметру — наидлиннейшей прямой, содержащейся в ободе колодца Лотоса, как говорится на языке жрецов. — Мы обнаружили остатки ободов колодца, но сами они, увы, не сохранились. — А жаль! Можно было бы вычислить длину царского локтя, которая поныне остается загадкой. — Ты можешь вычислить? — Если ты меня замуруешь здесь. — Ты шутишь? — Нимало! Я уже считаю себя замурованным. Я мысленно возвожу в проеме каменную стену. Ты можешь оставить меня здесь. Я не проглочу ни крупинки еды, не выпью ни капли влаги, даже вина… пока не решу древней задачи. Жди моего сигнала в окошечке «Свет — воздух». Детрие знал чудачества своего друга и не стал с ним спорить. Он оставил математика в каменной комнате, напоминавшей склеп, наедине с древней задачей жрецов. Интересно, имел ли шансы математик пройти испытание на сан жреца Ра четырехтысячелетней давности? Выйдя в просторный зал, Детрие оглянулся. Ему показалось, что вынутые его рабочими гранитные плиты каким-то чудом снова водрузились на место, превратив стену зала в сплошной монолит. Археолог даже затряс головой, чтобы отогнать видение. Во всяком случае, математик имел право на уединение для решения, быть может, сложной задачи, которая археологу оказалась не по плечу. Детрие вышел на воздух. Пахнуло жарой. Солнце стояло над головой. До обеда было еще далеко. Детрие, любивший поесть, вздохнул, представляя себе накрытый в ресторане стол. Проводник в бурнусе держал под уздцы двух лошадей, укрыв их в тени. По Нилу плыли лодки с высоко поднятой кормой и загнутым носом. В небе — ни облачка. Детрие сел в тени колонны и погрузился в раздумье. В его воображении вставали жрецы Ра, владевшие математическим аппаратом лучше, чем он, окончивший Сорбонну. Что происходило в каменном склепе колодца Лотоса с замурованными там претендентами на служение богу Ра? Сначала из окошечка просовывался камень с выбитыми на нем цифрами, может быть, неверными. Потом через это отверстие до слуха проходивших мимо жрецов могли доноситься крики, стоны, мольбы умирающих с голоду испытуемых, которым не суждено было стать служителями храма. Не суждено? Нет! Они не смогли ими стать, как не смог бы стать жрецом Ра сам Детрие. Археолог так живо представил себе все это, что передернул плечами. Тень колонны ушла. Археологу пришлось пересесть, чтобы укрыться от палящих лучей. Несколько раз он возвращался в зал, граничивший с комнатой колодца Лотоса. Из нее не раздавалось ни звука. Мучительно хотелось есть. Детрие, как истый француз, был гурманом. Он рассчитывал вкусно пообедать со своим гостем и никак не ожидал его новой эксцентрической выходки — лишить себя, да и его, обеда из-за решения древней задачи! Они должны были поехать во французский ресторан мадам Шико. Турки особенно любили посещать его из-за пленительной полноты (в их вкусе) хозяйки. Она, верно, уже заждалась, исхлопоталась. Вчера она согласовывала с Детрие замысловатое меню, которое должно было перенести друзей на бульвар Сен-Мишель или на Монмартр. Креветки, нежнейшие креветки, доставленные в живом виде из Нормандии, устрицы. И белое вино к ним. Спаржа под соусом из шампиньонов. Буйа-бесс — несравненный рыбный суп. Бараньи котлеты с луком и картофелем по-савойски — или бургундские бобы. И вина! Тонкие французские вина, для каждого блюда свои: белые или красные. Наконец, сыры! Целый арсенал сыров, радующих сердце француза! Это на тот случай, если господа не наелись и хотят закрепить ощущение сытости в желудке. И потом… кофе й сигары во время задушевного послеобеденного разговора. Ждать уже не было сил. Детрие решил хоть силой вызволить друга из заточения и решительно направился в зал. Однако насилия не понадобилось. Еще не войдя в зал, он услышал стук. Из окошечка выпал камень и лежал теперь под ним на полу. Детрие нагнулся, чтобы поднять, его. О боже! На нем медным зубилом были нацарапаны, кощунственно нацарапаны на бесценной реликвии какие-то цифры. Детрие, возмущенный до глубины души, поднял камень и прочитал: «d = 1,231 меры». В «замурованном» проеме стоял сияющий граф де Лейе. Его узкое бледное лицо, казалось, помолодело. Археолог с упреком протянул ему камень: — Ты исцарапал реликвию! — Иначе мы не смогли бы обедать, — обезоруживающе заявил математик и улыбнулся совсем по-мальчишески. — Но я не могу проверить, — развел руками Детрие. — Боюсь, что ты, археолог, не больше древних жрецов разбираешься в аналитической геометрии. Но все же смотри. Войдем в склеп. Я все написал там на полу. Внимай! Назовем расстояние от точки пересечения тростинок до конца короткой тростинки на дне через r. Теперь представим, что тростинка скользит одним концом по вертикали, а другим по горизонтали (по дну колодца). Из высшей математики известно, что точка на расстоянии r будет описывать эллипс. Я записал уравнение этого эллипса. Вот оно:
 И граф показал на исчерченный пыльный пол.
— Теперь все очень просто, — продолжал он. — Нужно решить это уравнение для у = 1 и x = r2 - 1 — величина проекции мокрого отрезка длинной тростинки. Получаем уравнение. Правда, четвертой степени, к сожалению, 5r4 — 20r3 + 20r2- 16r + 16 = 0. Как это тебе нравится? Красивое уравнение?
Детрие почесал затылок, рассматривая чертеж на полу и написанные на нем формулы.
— И такие уравнения решали древнегреческие жрецы? — с сомнением произнес он.
— Ничего не могу сказать. Совершенная загадка! Нам, математикам двадцатого века, решить такое уравнение под силу только потому, что, к нашему счастью, формулы для корней такого уравнения были получены в шестнадцатом веке итальянским математиком Феррари, учеником Кардано.
— И ты решил?
— Разумеется. Считай меня отныне жрецом бога Ра и достань откуда-нибудь из музея соответствующее одеяние. Обещаю появиться в нем в Булонском лесу.
Детрие посмотрел на исцарапанный камень.
— Диаметр равен 1,231 меры?
— Именно! К сожалению, мы не знаем, какая она была. Дай мне найденные здесь ободья, и я скажу тебе, каково численное выражение этой меры в современном исчислении. Скорее всего это был неведомый царский локоть древних египтян.
— Увы, я уже признавался тебе, что ободья не сохранились, так же как и тростинки. Именно поэтому ты не сможешь стать жрецом бога Ра.
— Как так? — возмутился граф де Лейе.
— В надписи сказано, что жрецом станет тот, кто, решив задачу и сообщив ответ, выйдет из камеры с тростинками. А тростинок у тебя нет. Какой же ты жрец?
И оба француза расхохотались.
Проводник уступил свою лошадь археологу, и ученые поехали к ресторану мадам Шико.
— Дорого бы я дал за то, чтобы узнать, — сказал математик, придержав коня, чтобы оказаться рядом с археологом, — как они умудрялись три с половиной тысячи лет назад решать уравнение четвертой степени.
— А может быть, у них был какой-то другой способ? — усомнился археолог.
— Ты шутишь! — рассмеялся граф де Лейе, — Это невозможно. — И он пришпорил лошадь.
И граф показал на исчерченный пыльный пол.
— Теперь все очень просто, — продолжал он. — Нужно решить это уравнение для у = 1 и x = r2 - 1 — величина проекции мокрого отрезка длинной тростинки. Получаем уравнение. Правда, четвертой степени, к сожалению, 5r4 — 20r3 + 20r2- 16r + 16 = 0. Как это тебе нравится? Красивое уравнение?
Детрие почесал затылок, рассматривая чертеж на полу и написанные на нем формулы.
— И такие уравнения решали древнегреческие жрецы? — с сомнением произнес он.
— Ничего не могу сказать. Совершенная загадка! Нам, математикам двадцатого века, решить такое уравнение под силу только потому, что, к нашему счастью, формулы для корней такого уравнения были получены в шестнадцатом веке итальянским математиком Феррари, учеником Кардано.
— И ты решил?
— Разумеется. Считай меня отныне жрецом бога Ра и достань откуда-нибудь из музея соответствующее одеяние. Обещаю появиться в нем в Булонском лесу.
Детрие посмотрел на исцарапанный камень.
— Диаметр равен 1,231 меры?
— Именно! К сожалению, мы не знаем, какая она была. Дай мне найденные здесь ободья, и я скажу тебе, каково численное выражение этой меры в современном исчислении. Скорее всего это был неведомый царский локоть древних египтян.
— Увы, я уже признавался тебе, что ободья не сохранились, так же как и тростинки. Именно поэтому ты не сможешь стать жрецом бога Ра.
— Как так? — возмутился граф де Лейе.
— В надписи сказано, что жрецом станет тот, кто, решив задачу и сообщив ответ, выйдет из камеры с тростинками. А тростинок у тебя нет. Какой же ты жрец?
И оба француза расхохотались.
Проводник уступил свою лошадь археологу, и ученые поехали к ресторану мадам Шико.
— Дорого бы я дал за то, чтобы узнать, — сказал математик, придержав коня, чтобы оказаться рядом с археологом, — как они умудрялись три с половиной тысячи лет назад решать уравнение четвертой степени.
— А может быть, у них был какой-то другой способ? — усомнился археолог.
— Ты шутишь! — рассмеялся граф де Лейе, — Это невозможно. — И он пришпорил лошадь.
* * *
Когда жрецы с бритыми головами без париков ввели черноволосого юношу в «Зал Стены», его охватила дрожь. На гранитной плите грозной преградой перед ним встала НАДПИСЬ. Он познавал жуткий смысл иероглифов, и колени его подгибались. Если бы Прекраснейшая знала, на что он обречен! Своей божественной властью она спасла бы его, отвратила бы от него неизбежную гибель, уготовленную бессовестными жрецами, так обманувшими Ее!.. «СКВОЗЬ СТЕНУ КОЛОДЦА ЛОТОСА ПРОШЛИ МНОГИЕ, НО НЕМНОГИЕ СТАЛИ ЖРЕЦАМИ БОГА РА. ДУМАЙ. ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ. ТАК СОВЕТУЮТ ТЕБЕ ЖРЕЦЫ РА». Совет жрецов! Совет нечестивости! Удар копьем в спину, а не совет!.. Если бы знала Прекраснейшая о существовании «Зала Стены», о колодце Лотоса, об этой надписи и неизбежной теперь судьбе ее юного друга, которого через три тысячи ударов сердца заживо замуруют в каменном колодце Смерти!.. Юноша тупо смотрел, как жрецы вынимали из Стены тяжелые камни, чтобы потом, когда он «пройдет сквозь Стены», водворить их на место, отрезав его от всего мира, оставив без еды и питья в каменном мешке, его, живого, сильного, ловкого, которого любила сама Прекраснейшая, подняв его из пыли, когда он целовал следы Ее ног!.. Могла ли подумать живая богиня, что жрецы Амона-Ра предадут Ее? Не они ли по воле Ее отца Тутмоса I после кончины Ее супруга и брата Тутмоса II возложили на голову Прекраснейшей бело-красные короны страны Кемт? Не они ли присвоили Ей мужское имя «Видящего истину Солнца» — Маатка-Ра, которое не смел произнести вслух ни один смертный? И не они ли отвергли притязания на престол юного мужа Ее дочери, которая при жизни матери не могла наследовать фараонову власть и передавать ее супругу? И не жрецы ли Амона-Ра объявили святотатством богослужение жрецов Тота Носатого, провозгласивших самозванца фараоном Тутмосом III? И вот теперь… Ужель жрецы Амона-Ра устрашились женской любви Божественной к низкорожденному, поднятому Ею из праха, в котором надлежало лежать, распластавшись на земле, каждому неджесу или роме, свободному или коренному жителю страны Та-Кемт? О чем можно передумать за три тысячи ударов сердца? Какие картины короткой своей жизни снова увидеть? Дом родителей, простых нечиновных роме на берегу царицы рек Хапи. Ночи на плоской кровле с любимой звездой Сотис на черном небе. Пыль окраин Белой стены (Мефиса), где только улицы перед дворцами и храмами залиты вавилонской смолой, глушившей стук копыт и шум колес. Тайная дружба с детьми домашних рабов, и рабы в каменоломнях, измученные, безучастно терпеливые к побоям и окрикам надсмотрщиков. Детские игры со щенком гиены в каменоломне предков, из которой уже взяли весь ценный камень. Уединение в заброшенном каменном карьере, где он, еще мальчишка, пробовал высечь голову прекрасной женщины. Она жила в его незрелой мечте. И когда, уже повзрослевший, способный перегнать любого из эфиопских скороходов, бежавших впереди колесницы властителя, побороть любого из ее стражей и соперничать с ваятелями любого храма, он увидел Ее, Прекраснейшую, то узнал в ней свою Мечту. Она снизошла до того, чтобы посмотреть игры юношей, и отметила его среди победителей. Он лежал в пыли у Ее ног и надеялся поцеловать след несравненной ноги, изваять которую достоин лишь лучший из оживляющих камень. Сначала она сделала его своим скороходом. Однажды жрецы Носатого пытались перехватить его, несшего царский папирус. Получив несколько ран, он все же отбился от нападавших и доставил послание в храм Амона-Ра. И тогда в одной из комнат храма, где жрецы Ра пытались спасти ему жизнь, Она удостоила его светом своих глаз. Она была живой богиней. Видевшей Истину, а пришла в келью к раненому юноше как женщина. Он попросил у жрецов мягкой глины и к следующему Ее приходу сделал Ее лицо, пообещав перевести его на камень. Прекраснейшая смеялась, говоря, что она словно смотрится в зеркало. И в знак своего восхищения работой юноши подарила ему отшлифованную пластинку редчайшего нетускнеющего металла железа, оправленного в золотую рамку, В нее можно было смотреться, как в поверхность гладкой воды. Царица сделала его потом ваятелем при Великом Доме, как иносказательно надлежало говорить об особе фараона. Прекраснейшая сама владела тайной глаза. Ее руки были безошибочны. И они были еще и нежны, что узнал Сененмот в самый счастливый день своей жизни. Он делал одно изваяние царицы за другим и не переставал восхищаться Божественной, не смея даже помышлять о земной любви. Но живой богине дозволено все. Однако Она стала не только Божественной возлюбленной сильного и талантливого юноши, но и его заботливой наставницей. Она не уставала учить его премудростям знаний, доступных только Ей и жрецам. Жрецы узнали об этом и встревожились. Слишком большую власть мог получить этот новоявленный избранник Прекраснейшей. Однако удалить его от Божественной ни у кого не было средств. Ни у кого, кроме тех, кто… обладал хитростью и лукавством. А эти свойства высечены на оборотной стороне Знания. Жрецы, советники Прекраснейшей, льстиво хвалили Сененмота, одобряя внимание к нему Хатшепсут. Они поощряли даже Ее занятия с ним, уверяя, что высшее Знание может оправдать близость низкорожденного к ярчайшему Светилу, каким была Царица. И тогда царица Хатшепсут согласилась, чтобы Ее ваятель стал жрецом бога Ра. Казалось, в этом не было ничего плохого. Обретя жреческий сан, Сененмот входил в высший круг, очерченный в охват золотого трона. Сененмот тоже согласился на это. Ему пока не побрили наголо, как еще предстояло, голову, а лишь подстригли его черные кудри и повели в священный город храмов Ей-и-Ра, расположенный к северу от Мемфиса, столицы владык Кемта. Великий храм бога Ра не просто потряс Сененмота. Он пробудил в нем страстное желание создать храм еще более величественный и прекрасный, посвященный Прекраснейшей, Ее неумирающей Красоте. И не из холодного камня создал бы он его, не мрачными статуями и колоннами внушал бы преклонение перед Прекраснейшей, а перенесенным в храм лесом живых растений, которые террасами спускались бы с огромной высоты, равной высоте величайшей из пирамид. И не голый камень пустыни, тысячелетиями отражающий солнечные лучи, а живая зелень благоухающих, деревьев, поглощающая эти лучи, даруя тень, журчание ручьев и птичий гомон говорили бы всегда не о смерти и величии почившего, а о неумирающей Красоте Живого! С этими мыслями юный ваятель Великого Дома вошел в храм бога Ра, чтобы стать его жрецом. Но… Его провели в «Зал Стены», где он прочитал жуткую надпись. Оказывается, для того чтобы стать жрецом бога Ра и остаться приближенным своей божественной Возлюбленной, Сененмот должен был на правах испытуемого пройти через каземат колодца Лотоса, откуда не было выхода замурованному там, если не будет им решена1 неразрешимая для простого смертного задача жрецов. Но был ли Сененмот простым смертным? Помнил, ли он то, чему учила его божественная Наставница, повелевающая видимым миром? Равная богам, непостижимая для людей! Но если Она равна богам, неужели не придет Она к нему на помощь? Он устремит к Ней свою мольбу, свой зов, который не может не услышать любящее сердце женщины или возвышенные чувства Бо-. гини. Думая о Ней, юноша Сененмот храбро ступил через порог проделанного в Стене жрецами проема. Он увидел перед собой круг колодца, рядом большой кусок известняка и около него медное долото. И даже легкий камень для ударов по долоту при выдалбливании цифр был здесь припасен. Света становилось все меньше. Жрецы с удивительной сноровкой заделывали за его спиной Стену, намертво замуровывая его, как в могиле. Собственно, эта келья и была уготована ему, как могила, куда запрятан отныне неугодный жрецам любимец Живой Богини, спрятан с Ее согласия, раз Она одобрила решение сделать его жрецом Ра, правда, не подозревая, какой ценой он может заплатить за такую попытку. Сененмот верил, что Она даст о себе знать, что Она хватится его, потребует от жрецов, чтобы он вернулся, узнает об их коварном заговоре и придет к нему на помощь! Он верил в это, и силы не изменили ему.

В камере становилось все темнее… Только совсем небольшое отверстие, через которое едва можно было просунуть припасенный для ответа камень, пропускало теперь свет. За Стеной слышались глухие удары. Жрецы завершали замурование… Глаза постепенно привыкали к полумраку. Напротив оставленного отверстия «Свет — воздух» у стены что-то белело. Сененмот сделал шаг вперед впервые после того, как он застыл перед кругом колодца, пока жрецы заживо замуровывали его. Он сделал шаг и остановился. Он различил наконец то, что привлекло его внимание. Это был человеческий череп… и кости скелета с поджатыми ногами. Видимо, несчастный умер сидя или скорчился на полу. Немного поодаль лежал еще один скелет… и еще… Жрецы только впустили его сюда, не позаботившись о том, чтобы убрать останки тех, кто хотел и не мог стать жрецом Ра! А может быть, вовсе и не хотел, а насильно был брошен сюда, чтобы самому себе вынести смертный приговор в горьком бессилии решить непосильную задачу. Впервые Сененмот подумал о задаче. До сих пор он даже не допускал мысли, что ее можно решить. Надпись на стене, отделившей его теперь от мира, отпечаталась у него в мозгу всеми своими иероглифами. Он мог бы начертить их на каменном полу. Он взглянул на пол и увидел две тростинки неравной длины. Ах вот она! Одна — две меры длиной, другая — три. Если их спустить в колодец, они скрестятся на поверхности стоящей там воды в одной мере от дна. Сененмот встал на колени и заглянул в колодец. Было слишком темно, чтобы разглядеть, где в нем вода. Во всяком случае, до нее не удалось дотянуться рукой, чтобы зачерпнуть ее ладонью и напиться. Губы у Сененмота ссохлись, и он провел по ним языком. Но пить еще не хотелось. Он встал и прошелся по темнице. В противоположном углу он обнаружил еще несколько человеческих черепов и груду костей. Было похоже, что кто-то намеренно свалил все эти останки в одну кучу. Это могли сделать лишь те, что лежат сейчас в виде нетронутых скелетов… и те, что счастливо вышли отсюда жрецами бога Ра. Может быть, они, прежде чем попасть сюда, изучали науку чисел? А он, Сененмот, имевший лишь одну учительницу Любви и Знаний, что вынес он из преподанных уроков? Он знает счет, познал части целого и умеет соединять и разделять их. И только… О тайне, скрытой в треугольниках, он лишь мельком слышал от своей Наставницы. В священном треугольнике, если одна сторона имела три меры, а другая четыре, третья непременно должна была иметь в себе пять мер! В том была магическая сила чисел! А как связать наидлиннейшую прямую, содержащуюся в кольце обода, с его выпрямленной длиной? Эту тайну, говорят, знали жрецы, но таили ее как святыню. Как же стать жрецом, не зная этих тайн? Тысячи ударов сердца замурованного юноши сменяли одна другую. Глаза его привыкли к полутьме, и он вместо решения задачи, от которого зависела его жизнь, стал рисовать на полу воображаемый уступчатый храм, который бы построил своей Богине, если бы остался жив и вышел отсюда. Однако выхода из колодца не было. Гармоничные, задуманные им линии уступов не будут волновать людей в течение тысячелетий, они умрут вместе с незадачливым ваятелем и несостоявшимся зодчим у этого колодца Лотоса. И какой-нибудь другой приговоренный к смерти несчастный или вразумленный знанием будущий жрец соберет его истлевшие кости, свалит их в кучу вместе с останками других неудачников. «Нет!» — мысленно воскликнул Сененмот и вскочил на ноги. Он стал яростно метаться по каменному мешку, как неприрученная гиена, натыкаясь на стены. Сколько времени прошло? Село ли солнце? Впервые он ощутил голод и жажду. Где же Прекраснейшая? Неужели Богиня не чувствует на расстоянии его беды? Или Она придет? Придет своим царственным шагом, заставляя падать ниц всех встречных жрецов, включая самого Великого Ясновидящего? Но Хатшепсут не шла. Сененмот сел у колодца, взял долото и малый камень, придвинул к себе камень побольше и стал что-то выбивать на нем. Неужели он уже решил задачу смертников? Или Божественная неведомым способом внушила ему правильное решение? Нет, никакого ответа юноша не знал. Он выбивал на мягком камне профиль своей Божественной Возлюбленной, профиль Хатшепсут. Но нет! Напрасно ему надеяться, что жрецы, завороженные знакомым лицом, возникшим на камне, освободят его. Не для того они бросили его сюда! Однако Хатшепсут не может не хватиться своего любимца. Она придет, непременно придет. И тогда услышит его голос. Он будет звать Ее и откроет Ей через отверстие «Свет — воздух» коварный замысел жрецов. Она спасет его, спасет! Время шло. И никто не окликнул заключенного в смертную камеру юношу через узкое отверстие, сообщавшее его с внешним миром, вернее, с «Залом Стены», скрытым в огромном храме. Страшно хотелось есть и пить. Сколько времени можно бесполезно просидеть у колодца, в котором где-то внизу есть вода? Но как достать ее, если рукой не дотянуться? Он убедился в этом, едва вошел сюда. Тростинки! Две тростинки разной длины! Кстати, задача требует назвать длину наидлиннейшей прямой, заключенной в ободе колодца! Можно измерить ее тростинкой. Но как? Какими мерами он располагает? Тростинка в две меры, тростинка в три меры, и… можно еще получить и одну меру, как разность их длин. Достаточно ли это для измерения, если не знаешь магических чисел? Сложив вместе две тростинки, Сененмот убедился, что поперечник обода колодца несколько больше одной меры. Но насколько? Как это определить? Он представил себе, как тщетно силились рёщить это те, от которых остались здесь черепа и гнилые кости? Он встал и уложил все черепа в одну кучу, кости скелетов — в другую. Он непроизвольно прибрал свое последнее убежище, в котором ему предстояло закончить жизнь. Кто приберет его кости? Смертельно хотелось пить, даже больше, чем есть. Как было сказано в иероглифах, кончавших надпись? «Сквозь стену колодца Лотоса прошли многие, но немногие стали жрецами бога Ра. Думай. Цени свою жизнь. Так советуют тебе жрецы Ра». «Думай!» До сих пор он не думал, он только ждал помощи извне. А если надеяться на это нечего? Тогда надо думать, как советуют жрецы! Думать! Но что может придумать он, знающий лишь части целого числа, не прикасавшийся к магическим числам? Нет! Он может придумать многое, очень многое! Аллею статуй Прекраснейшей… Сады на уступах храма, который он для Нее воздвигнет! Постой же, постой! Если тебе известны части целого, то вспомни, как раз частей целого и не хватало при измерении поперечника обода колодца! Частей целого! Но как эти части определить? Чем? Пить, пить! Только пить! В голове мутится. Очевидно, солнце прошло через зенит и все живое спряталось в тень, предаваясь дневному сну. Сененмот спать не мог и не хотел. Он хотел пить! И тогда ему пришло в голову, что у него есть тростинки, достающие до дна колодца. Их можно смочить в воде, а потом обсосать. Спеша, он стал спускать обе тростинки сразу, вынимать их из колодца и жадно обсасывать. В рот попадали лишь капли влаги, но и это было наслаждением. Сотни раз, не меньше, опускал Сененмот тростинки в колодец Лотоса, прежде чем хоть слегка утолил жажду. Теперь он умрет не сразу — не от жажды, а от голода… Жить без пищи можно много-много дней. Неужели же Она не придет? Увы! Жрецы не допустят Ее в «Зал Стены», скроют его существование… или покажут разве что для того, чтобы прочитала «Надпись» с заданием испытуемому и узнала его судьбу. Но если Она будет рядом, он должен почувствовать Ее близость! Выглянуть в отверстие «Свет — воздух» невозможно — до него едва дотянуться руками, чтобы выбросить камень с ответом… И даже голоса Ее он не услышит, потому что Она в немом молчании прочитает НАДПИСЬ и с поникшей головой выйдет из зала. Хатшепсут, Хатшепсут, моя Хатшепсут! Отзовись! Ведь тебя любит твой Сененмот! И ради любви к тебе не хочет умереть! А если не хочешь умереть, то внемли жрецам, которые написали: «Думай. Цени свою жизнь». Думать? Думать, думать ради Нее и ради себя! Прекраснейшая учила, что наука чисел построена на измерении. На измерении! Все, что познает человек, все, что он постигает, он измеряет! Должен измерить! Быть мудрым — это уметь измерять! Разве не так Она сказала? Измеряют уровень воды в Ниле, измеряют наделы земли феллахов, измеряют ожидаемый урожай, измеряют богатства храмов и фараонов, число рабов и число талантов золота. Измеряют высоту пирамид и длину их теней. Но чем измерять ему, замурованному? Измерять есть чем, только надо подумать как! Есть ведь целых две тростинки, их можно использовать для измерения наидлиннейшей прямой — поперечника обода колодца. На тростинках есть меры: одна, две, три, но нет частей целого. А нельзя ли получить эти мелкие меры? Вооружившись медным долотом, Сененмот прежде всего отметил на тростинках величину одной меры, двух мер, три меры. Затем он отметил и величину наидлиннейшей прямой, заключенной в ободе колодца, которую нужно измерить. Вычтя из нее одну меру, он получил ту часть целого, которую пока не знал, как измерить. Он стал ломать себе голову над тем, какие величины для измерений может он получить. Он начал думать, действовать… и уже одно это придало ему силы. В голове просветлело, как-то сама собой пришла мысль, что если тростинки опускать в воду наклонно, то мокрые части на тростинках будут разные. Он тотчас опустил тростинки одну за другой, вынул и примерил. Оказалось, что разность длин мокрых частей будет для него новой мерой, малой мерой, как он назвал ее. Отметив ее надсечкой, он стал размышлять, что бы измерить этой новой мерой. Ведь она же была долей целого, долей одной меры. Интересно, сколько раз уложится новая мера в одной мере? Он тщательно измерил половину короткой тростинки, где поставил отметину одной меры. Радости его не было границ! Малая мера уложилась в одной мере ровно шесть раз! Работа уже увлекла Сененмота. Он представил себе, что Прекраснейшая руководит им, находится где-то рядом. Но на самом деле Она была далеко, и он доходил до всего сам. В его руках уже была одна шестая меры. Можно ли ею измерить наидлиннейшую прямую, поперечник круга? Его длина была у него отмечена на длинной тростинке. И он тотчас приложил ее к своим новым мерам. И сразу уныние овладело им. Все напрасно. Ничего не получилось. Малая мера уложилась семь раз, а восьмой раз вышла за пределы отметины. Сокрушенно смотрел Сененмот на лишний отрезок, который невольно тотчас отметил долотом. И вдруг понял, что обладает еще одной мерой. Надо было тотчас определить, какую часть главной меры она составляет. Он судорожно стал измерять и… не поверил глазам! Его новая самая маленькая мера (лишнего отрезка) уместилась в главной мере десять раз! Итак, как учила Прекраснейшая, он имеет в измеренном поперечнике одну целую (шесть малых мер) и еще две лишние меры, то есть одну треть. Однако из этой трети нужно вычесть одну десятую. Теперь ученику Хатшепсут ничего не стоило сосчитать, что наидлиннейшая прямая, заключенная в ободе колодца, имеет длину в одну и тридцать семь тридцатых (37/зо) меры. Это и есть ответ, который теперь нужно лишь выбить на мягком камне. Он послужит ключом к запертой двери в Мир, где властвует Божественная! Сененмот тотчас принялся за дело. Он торопился. Торопился выйти из склепа, забыв, что он голоден. Современники Сененмота, как и он сам, не знали десятичных дробей, не умели выразить одну треть как 0,3333 в периоде и не догадывались о возможности вычесть из этой величины одну десятую, получив поперечник колодца — 1,233 меры. Это на три тысячных меры отличало измеренную юношей величину от той, которую люди почти через четыре тысячи лет научатся вычислять с помощью той математики, которую сами назовут высшей. Но для жителей древнего царства Та-Кемт полученный Сененмотом результат был практически точен. Более точного они и представить себе не могли. И жрецы, выдумавшие задачу, очевидно, и рассчитывали, что найденные дополнительные меры целое число раз уложатся в основной мере. Записав на камне свой ответ в присущей тогда манере в виде ряда дробей, в сумме составляющих найденную им величину, Сененмот вытолкнул камень через отверстие «Свет — воздух». Теперь оставалось ждать, что жрецы выполнят то, что гласит надпись, встретят его с тростинками, как нового жреца бога Ра! А если они не выполнят этого? Если они предпочтут, чтобы он остался в каменном мешке колодца Лотоса? И никогда больше не появлялся бы на свет? Но до его слуха донеслись глухие удары. Жрецы стали размуровывать узника, ставшего их новым собратом. Они вынули гранитные плиты, образовали проем. Юноша с огромными продолговатыми глазами, держа в каждой руке по тростинке, стоял в образовавшемся проеме. В его черных волосах серебрилась седая прядь. — Приветствую тебя, новый жрец бога Ра! — встретил его Великий Ясновидец. — Ты показал себя достойным великого дела служения богу Ра и Божественной. Жрецы сейчас обреют твою голову и дадут тебе парик, но прежде взгляни на свое отражение. — И он передал Сененмоту отобранное у него при заключении в камеру колодца Лотоса отделанную золотом зеркальную пластинку из какого-то редкого, нетускнею-щего металла. И он увидел свою седину, которой заплатил за найденное решение. Божественная будет видеть его отныне лишь в парике жреца. Она не узнает, чего стоило ему его возвращение к Ней.
На следующий день после обеда в ресторане мадам Шико археолог Детрие вместе со своим гостем математиком графом де Лейе отправились в Фивы. Граф непременно хотел увидеть своими глазами чудо архитектуры, гениальное творение древнего зодчего поминальный храм великой царицы Хатшепсут в Дайр-эль-Бахари. Они выбрали водный путь и, стоя на палубе под тентом небольшого пароходика, слушали усердное хлопанье его колес по мутной нильской воде и любовались берегами великой реки. Графа интересовало все: и заросли камышей на берегах, и возникавшие нежданно скалы, и цапли, горделиво стоящие на одной ноге, и волы на горизонте, обрабатывающие поля феллахов. В заброшенных каменоломнях он воображал себе толпы «живых убитых», трудившихся во имя величия жесточайшего из государств, как сказал о Древнем Египте Детрие. Двести пятьдесят с лишним километров вверх по течению пароходик преодолевал целый день с утра до позднего вечера. На палубах то появлялись, то сходили на берег бородатые феллахи, одетые в дурно пахнущие рубища, заставлявшие графа закрывать нос тонким батистовым платком. Арабы, истовые магометане, расстилали на нижней палубе коврики для намаза и в вечерний час возносили свои молитвы аллаху. Важные турки в фесках делали в эти минуты лишь сосредоточенные лица, не принимая молитвенных поз. Худенький чернявый капитан-ливанец предлагал европейцам укрыться у себя в каюте, рассчитывая вместе с ними выпить вина, но они отказались, предпочитая любоваться из-под тента берегами. Граф восхищался, когда Детрие бегло болтал с феллахами на их языке. — А что ты думаешь, — с хитрецой сказал Детрие. — Когда я бьюсь над непонятным местом древних надписей, я иду к ним для научных консультаций. Сами того не подозревая, они помогают мне понять странные обороты древней речи и некоторые слова, которые остались почти неизменившимися в течение тысячелетий, несмотря на давление чужих диалектов, в особенности арабского и теперь турецкого. К сохранившемуся древнему храму Хатшепсут в Фивах французы успели добраться лишь на следующее утро. Как зачарованные стояли они на возвышенности, откуда открывался, вид на три террасы бывших садов Амона. Садов теперь не осталось, но чистые, гармоничные линии, как обещал Детрие, четко вырисовывались на фоне отвесных Ливийских скал, отливавших огненным налетом. Как вырезанные, выступали они на небесной синеве. Древние террасы храма и зелень былых садов когда-то сказочно вписывались в эту гармонию красок. — Это в самом деле восхитительно! — сказал граф. — Теперь представь себе на этих спускающихся уступами террасах благоухающие сады редчайших деревьев, их тень и аромат. — Великолепный замысел! Кто построил этот храм? Мне кажется, его должна была вдохновлять сказочная красота Хатшепсут. — Храм сооружен для нее гениальным зодчим своего времени Сененмотом. Он был фаворитом царицы Хатшепсут, одновременно ведая казной фараона и сокровищами храмов бога Ра. — Он был кастеляном? — Он был художником, ваятелем, зодчим и жрецом бога Ра. — Жрецом Ра? Значит, ему пришлось пройти через каземат колодца Лотоса, — с хитрецой заметил граф. — Я не подумал об этом. Но, очевидно, это так. Строитель этого храма, по-видимому, был неплохим математиком, решая уравнения четвертой степени, доступные лишь вам, современным ученым. — Нет, скорее всего он не вычислял диаметр колодца, как это делал вчера я, а измерял его, как было принято в Древнем Египте. — Но ты сам вчера отрицал возможность другого решения. — Это было вчера, — рассмеялся граф. — За время пути я не просто любовался берегами, я многое передумал, решил. Но не все… — Как? — удивился Детрие. — Ты не все решил? — Я дошел до того, что геометрическая задача жрецов таит в себе неразгаданные тайны геометрии. Я успел вычислить в уме, что от поверхности воды в колодце до верхнего конца длинной тростинки было расстояние, равное корню квадратному из трех. А до верхнего конца короткой — равно в три раза меньше. — Корень квадратный из трех? А что это означает? — Ему придавал большое значение Архимед. Большой катет прямоугольного треугольника с углом в. шестьдесят градусов, где малый катет равен единице, равен корню квадратному из трех. Архимед выражал его с огромной точностью простой дробью, он встречается в ряде математических выражений. Думаю, что геометров двадцатого века заинтересует, как построить колодец Лотоса с помощью линейки и циркуля, найти связь между шестидесятиградусным треугольником и хитрой фигурой жрецов. И этот созданный математиком храм я решусь назвать «Храмом Любви». — Да, храм в Дайр-эль-Бахри достоин этого, — почему-то вздохнул археолог. — Это одно из чудес света. — Ну, конечно же! — подхватил граф. — Любовь — это и есть одно из самых удивительных чудес света!
«ЗАВЕЩАНИЕе» НИЛЬСА БОРА
У входа в науку должно быть выставлено требование: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета».К. Маркс
1. Воспоминания
Говорят, все писатели рано или поздно принимаются за мемуары. Работая в жанре научной фантастики, я считал себя от этого застрахованным, и вдруг… Передо мной четкая фотография, снятая нашим фотографом Центрального дома литераторов А. В. Пархоменко. На ней группа писателей, моих товарищей по перу. На первом плане поэт Семен Кирсанов, в заднем ряду Леонид Соболев, Георгий Тушкан, Борис Агапов. В центре группы передо мной, проводившим эту встречу, стоит очень пожилой человек рядом со своей заботливой женой. У него усталое лицо с большим ртом и высоким лбом, живые, острые глаза. Это Нильс Бор, великий физик нашего времени, один из основоположников современной физической науки, а также один из создателей первой атомной бомбы. Он романтически бежал на парусной лодке из оккупированной гитлеровцами Дании. Он создал Копенгагенскую школу ученых, пройти которую считал за честь любой даже выдающийся физик первой четверти XX века. Нильс Бор говорил тогда на встрече с советскими писателями, что в физике назревает кризис. Кризис «от переизбытка знаний». Сложилось положение, сходное с концом XIX века, когда, казалось бы, все физические явления были объяснены, найденные закономерности выражены в виде механики Ньютона и теории электромагнитного поля Максвелла. Все опыты подтверждали господствовавшие теории. Все, кроме одного, кроме опыта Майкельсона, доказавшего, как известно, что скорость света от скорости движения Земли НЕ ЗАВИСИТ. Казалось, объяснить этот парадокс невозможно. Кое-кто хотел бы закрыть на него глаза. Но появился человек с «безумной», как сказал Нильс Бор, идеей — Эйнштейн! Он выдвинул теорию относительности и перевернул все прежние представления физиков. Он создал для готового рухнуть храма познания новый фундамент, на который теперь надо было этот храм перенести. Опыт Майкельсона был объяснен. Но какой ценой! Ценой отказа от обычных представлений во имя того, что законы природы действуют одинаково во всех условиях. Это простое и бесспорное положение приводило к неожиданным и головоломным парадоксам, которые понимали и принимали далеко не все физики. Тогда говорили, что едва ли шесть современников Эйнштейна понимали его. В числе их был Макс Планк, введший понятие о кванте. Он первый поддержал Эйнштейна, утешая его, что «новые теории никогда не принимаются. Они или опровергаются, или… вымирают их противники». Впрочем, Эйнштейна нисколько не беспокоило, признают ли его теорию или нет. Он был так уверен в своей правоте, что только пожимал плечами по поводу непонимания его мыслей. Но мысли его были по-настоящему «безумны», с точки зрения консервативных умов, конечно. Именно поэтому они и сыграли такую большую роль в развитии науки. Так закончил свое выступление Нильс Бор. Кто-то из нас нашел уместным пошутить: — Недаром, значит, говорят, что на будущем Всегалактическом конгрессе какой-нибудь из высокочтимых ученых — собратьев по разуму, подняв свои щупальца, скажет: «Земля? Ах, это та планета, на которой жил Эйнштейн!» Нильсу Бору перевели шутку, и он устало улыбнулся. — Скажите, профессор, — начал мой сосед. — Теперь, когда люди овладели внутриядерной, энергией… Нильс Бор поморщился. — …когда научились взрывать атомные бомбы… — Это надо безусловно запретить! — твердо вставил Нильс Бор.. — …Ясен ли теперь механизм разрушаемого атомного ядра? Помог ли в этом Эйнштейн? — закончил свой вопрос писатель. — Эйнштейн, безусловно, помог. В прошлом веке энергетические процессы велись, на молекулярном уровне. Молекулы входили в различные химические соединения. При этом выделялась энергия, скажем, при горении. Атомная энергия — это энергия на более глубоком уровне проникновения в вещество. И именно на этом уровне подтвердились многие из парадоксальных принципов Эйнштейна. Но… в физике снова назревает кризис из-за «переизбытка знаний». Прежде все было ясно. Атом состоит из протонов и нейтронов в ядре и электронов в оболочке. Планетарные схемы атома поначалу удовлетворяли физиков. Но вскоре, подобно опыту Майкельсона, в физику стали врываться сведения о существовании каких-то неведомых элементарных частиц, для наглядной картины модели атома совсем ненужных. Поведение же старых, уже известных частиц становилось необъяснимым. Скажем, электрон проявил двойственность, ведя себя одновременно и как частица, и как волна. Чтобы осознать все это, пришлось ввести понятие «неопределенности», найти его строгое математическое выражение. Но появляются все новые и новые частицы, удивляя необъяснимостью поведения, кратковременностью существования и неожиданными характеристиками. Кто знает, сколько их еще появится?.. — Профессор, может быть, элементарные частицы, в свою очередь, состоят из каких-либо более мелких «кирпичиков»? Что, если электрон действительно неисчерпаем? — был задан Нильсу Бору вопрос. Познания действительно неисчерпаемы, в том числе и в отношении элементарных частиц. Но чтобы понять и объяснить то, что лежит в основе этой неисчерпаемости, нужны новые «безумные» идеи. Прежние теперь уже кажутся само собойразумеющимися. Впрочем, дело не в опровержении старых идей, а в том, чтобы старые теории были верными в частном случае, как это произошло с теорией относительности, включившей в себя классическую механику Ньютона и максвелловскую теорию электромагнитного поля, верных при малых скоростях движения, несопоставимых со световыми. Вместе со своими друзьями по перу я провожал Нильса Бора и его супругу, помогал им одеться, усаживал в ожидавшую их машину. А сам все время думал о его словах насчет «безумных» идей. Они не давали мне покоя, когда я ехал домой. Я все старался вспомнить какую-то «безумную» физическую идею. И даже ночью не мог долго заснуть, чего со мной никогда не бывает. Но все же заснул… и увидел во сне страшные дни боев на Керченском полуострове. Тогда я вспомнил все. Таковы ассоциации подсознательного мышления. То, что было накрепко забыто, всплыло теперь в памяти во всех деталях. В моей памяти ожил невысокий, плотный человек, очень мягкий и воспитанный. Он тотчас вскакивал, едва во время разговора с ним я почему-либо поднимался. Поначалу я думал, что виной всему моя шпала военного инженера третьего ранга и его два кубика артиллерийского лейтенанта. Но потом я понял, что это просто черта его характера. Фамилию его я вспомнить не мог, но или в ней, или в имени его присутствовал «Илья», поэтому я условно буду называть его «Ильин». Встретились мы на Керченском полуострове в трагические дни немецкого наступления. Я возглавлял особую группу Главного военно-инженерного управления, направленную маршалом Воробьевым в распоряжение командующего инженерными войсками Крымского фронта генерал-полковника Хренова. В мою задачу входило испытать в бою изобретение, сделанное совместно с моим другом (ныне он академик, назовем его Осиповым), — управляемую на расстоянии противотанковую танкетку-торпеду. Пусть теперь уже управляют с Земли космическими аппаратами, один из которых создан под руководством академика Осипова, удостоенного за это высших правительственных наград, но тогда наша наивная танкетка, управляемая по проводам, могла принести большую пользу в бою. Кроме нескольких сухопутных торпед, на вооружении моей группы был еще легкий танк с вмонтированной в него передвижной электростанцией, которая питала электромоторы торпед. Маленький артиллерийский лейтенант заинтересовался нашей «новой техникой», с любопытством рассматривал ее и заметил, что стелющиеся за танкеткой провода легко перебить снарядами или минами. Конечно, это было уязвимым местом наших танкеток. Рядом с лейтенантом стоял командир дивизии, не помню уже его фамилии, грузный, озабоченный полковник. Он рассердился на слова лейтенанта: — Ежели бояться снарядов и мин, так и воевать нечего! Вас послушать, так и линию связи тянуть нельзя. Вдруг перебьет снарядом? Артиллерийский лейтенант щелкнул каблуками и согласился с начальником. Тот обратился к сопровождавшему его невысокому полковнику, который оказался писателем Павленко: — Важна неожиданность. Торпеды — средство оборонительное. Их. надо выпускать внезапно из укрытия, из подворотни или из капонира, прямо на танк, а не гнать ее с разматывающимся проводом через простреливаемое поле. Вот, помню, читал я в вашем романе «На востоке»… — И, взяв Павленко за плечи, командир дивизии повел писателя в свой блиндаж. Он был из числа тех командиров, которые недавно смелой высадкой отбили Керченский полуостров у гитлеровцев и теперь, держа оборону, сковывали силы врага, мешали развивать наступление на материке. Потом командир дивизии вызвал меня и обстоятельно объяснил нашу задачу. Он, видимо, верил в торпеды, хотя главную ставку делал все же на противотанковые батареи. По указанию командира дивизии наши танкетки-торпеды были тщательно спрятаны и замаскированы. Танк-электростанция расположился за холмом, и провода от него к находящимся в засаде танкеткам провели по специально вырытой для этого траншее. Мои помощники инженер Катков и техник-лейтенант Печников должны были управлять торпедами из укрытий. Батарея противотанковых орудий стояла рядом с. нашей позицией. Нам с артиллеристом привелось ночевать вместе. После ужина в полутемном блиндаже, освещаемом коптилкой из гильзы, у нас и произошел знаменательный разговор. — Знаете ли, товарищ военинженер, — начал лейтенант, — никак не могу забыть свои физические проблемы. — Да, сейчас другие проблемы, — заметил я. — Но ведь законы природы все те же. И все так же надо их понять и объяснить. Я удивился, искоса посмотрев на лейтенанта, размышляющего накануне боя о законах природы. — Конечно, вы инженер, а не физик, — полувопросительно сказал лейтенант, глядя на меня. Я ответил, что вместе с Осиповым возглавляю научно-исследовательский институт, что мы сотрудничаем с академиком Иоффе и потому я имею некоторое отношение к физике. — Тогда я расскажу вам, — решил он. — Кто знает, что случится со мной хотя бы этой ночью. Успею ли я опубликовать то, что открыл… — Открыли? — Ну, может быть, так еще рано говорить. Дело не в открытии как таковом, а в модели элементарной частицы, как мы ее себе можем представить. — Значит, вы хотите представить себе не только модели атома, но и частички, из которых он состоит? — Вот именно. Вы сразу меня поняли. Лейтенант оживился. Коптилка освещала часть его лица и один ус. Говорил он тихим голосом, размеренно, терпеливо. — Вы сказали о модели атома, — начал он. — В девятнадцатом веке атом считали неделимым. Кстати, древнегреческое слово «атом» значит «неделимый». Наш двадцатый век ознаменовался разгадкой строения атома. И лейтенант напомнил мне о Нильсе Боре, о его планетарной модели атома с вращающимися электронами вокруг центрального ядра. Он сказал об условности этого сходства, поскольку в действительности все не так просто, и подчеркнул, что центральное ядро обладает значительно большей массой, чем электрон. Удерживается электронная оболочка вокруг ядра благодаря взаимодействию электрических зарядов. Ядро заряжено положительно, электроны — отрицательно. — Наука не может остановиться, скажем, на электроне как конечной стадии познания. — Конечно. Так считал Ленин. — Все было ясно. Есть протоны, электроны, обнаруживаются нейтроны. Но вот беда: стали появляться непрошеные частицы, для модели атома вовсе не нужные. Их уже шесть штук!.. Куда их девать? Они отличаются от протонов и электронов своей неустойчивостью, коротким сроком жизни. Физиком Дираком были предсказаны, а потом экспериментально получены электроны с положительным электрическим зарядом — позитроны. Электрон и позитрон при соприкосновении исчезали, аннигилировали, выделяя энергию согласно формуле Эйнштейна Е = МС2. — Разве может исчезать материя? — Конечно, нет! — воскликнул лейтенант. — Это противоречило бы материалистическому мировоззрению. Речь идет о внутренних структурных изменениях, а не об исчезновении вещества. — Что же остается на месте аннигилированных частиц? — Для этого вам нужно понять модель микрочастицы. Я представляю ее себе в виде двух кольцевых орбит, по которым движутся некоторые материальные носители зарядов фундаментального поля. На одном кольце все они имеют положительный знак, на другом — отрицательный. Их разность и выразится в электрическом заряде частицы. Говоря это, лейтенант вынул из кармана ободок артиллерийского снаряда, потом снял с пальца старомодное обручальное кольцо и положил его внутрь снарядного ободка. Затем он отщипнул от оставшихся после ужина кусочков хлеба мякиш и раскатал несколько белых и черных шариков. Белые он равномерно насадил на внешнее кольцо, а черные (на один меньше) — на внутреннее. — Представим себе, что это носители этих зарядов, — с улыбкой указал он на шарики. — Они вращаются со скоростями, близкими к световым. И по всем законам должны в таком случае излучать энергию. — Но элементарные частицы не излучают, — осторожно заметил я. — Конечно, — согласился лейтенант. — А почему? Да потому, видимо, что внешние и внутренние заряды, вращаясь в одном направлении, но с разными скоростями, полностью компенсируют друг друга. Волна излучения каждой системы накладывается одна на другую так, чтобы горб одной точно приходился на впадину другой. В результате никакого излучения. — Но ведь должно быть очень точное совпадение количества зарядов, скоростей вращения. — Вот именно, — обрадовался лейтенант. — Это можно точно подсчитать и определить, в каких состояниях могут существовать микрочастицы. — Любопытно! — Естественно, что природные структуры сохранились только в своих устойчивых состояниях. Этих состояний ограниченное число. Оказалось возможным расположить их рядами, как в таблице Менделеева. — Это что же? Таблица элементарных частиц? — Не совсем так. Но периодическая система — это точно. Я улыбнулся, услышав от физика военное словечко «точно». — Да, точно, — повторил молодой ученый. — Я употребляю это слово как математическое. В каждом ряду расположатся вот такие кольца с неизменным суммарным числом белых и черных шариков, то есть зарядов фундаментального поля. Понимаете? Но диаметры колец не всегда одни и те же, они могут меняться. А разность таких зарядов на внешнем и внутреннем кольце всегда одинакова. Она равна одному электрическому заряду независимо от их общего числа. Потому мы и знаем элементарные частицы, массы которых отличаются в тысячи раз, а электрический заряд одинаков. Скажем, протон и электрон. Впрочем, я не точен. Могут быть случаи, когда числа электрических зарядов на внешнем и внутреннем кольцах равны между собой. Тогда система нейтральна. — Нейтрон? — догадался я. — Да, например, нейтрон. Еще недавно казалось непонятным, почему такая же, как протон, частица не имеет электрического заряда. Теперь это можно объяснить. В каждом ряду есть наиболее выгодное и устойчивое состояние микрочастицы. В таком виде она скорее всего может существовать даже отдельно от других частиц. Это невозможно для других ее состояний, для неустойчивых. В первом ряду самой такой устойчивой системы является протон. — Но, кроме протона, возможны и другие частицы в этом ряду? — Не частицы, а состояния одной и той же частицы. Все дело в том, что ЧАСТИЧКА-ТО ОДНА! Она лишь может быть в разных состояниях, переходя в известных условиях из одного в другое. Скажем, фундаментом. — Как же возможен переход из одного неизлучающего состояния в другое? Ведь в промежутках будет излучение? — С вами приятно говорить, товарищ военинженер. Вероятно, носители первичных зарядов на орбите в известных условиях сливаются в кольцо. Как известно, кольцевой электрический ток не излучает. В таком состоянии микрочастица, не теряя энергии, может менять свои размеры, даже делиться, чтобы в новом виде снова превратиться в состояние, когда на орбите возникнут как бы материальные узлы, носители зарядов фундаментального поля. — Как же вы докажете, что это так? — Дело в том, что эта модель дает возможность вычислить характеристики микрочастицы, ее массу, электрический заряд, магнитный момент и механический (жироскопический) момент, вызванный вращением носителей зарядов. Потом все это можно сравнить с результатами эксперимента. — И что же? — Совпадение полное! Например: теоретически протон должен обладать массой 1836,171. — Лейтенант написал эту цифру на необструганной доске стола. — А опыт дает от 1836,05 до 1836,18. Электрический заряд, вернее, его квадрат по теории будет 7,29717 #215; 10-3. Опыт дает от 7,29716 #215; 10-3 до 7,29724 #215; 10-3. Наконец, величина механического момента, так называемого «спина», в обоих случаях точно 0,5. А если взять электронный ряд (это третий ряд по моей таблице), то там совпадение чисел просто полное. — Да-а, — только и мог протянуть я, пораженный всем услышанным. — А ведь схема-то простая, — и я указал на кольца с хлебными шариками. — Иначе и быть не может, — мягко улыбнулся мой собеседник. — Все сложное создается из простого. Кстати, хлебные шарики, то есть первичные заряды, можно представить себе расположенными зеркально. — Сказав это, физик поменял местами белые и черные шарики. — Тогда мы будем иметь дело с античастицей — с антипротоном вместо протона и позитроном вместо электрона. Может быть, когда-нибудь люди додумаются до того, чтобы получать энергию от соединения таких зеркальных частиц, которое сопровождается выделением энергии. В те времена, к которым относится наш разговор с физиком-лейтенантом, мало кто думал об использовании ядерной энергии, а он смотрел намного вперед: — Можно представить себе вселенную как вакуум, заполненный материальной субстанцией. — Что же она собой представляет? — Слипшиеся после аннигиляции микрочастицы. = Вероятно, одним из главных законов природы надо признать всеобщий закон сохранения. В природе ничто не уничтожается. Если вакуум образовался в результате аннигиляции зеркально-противоположных микрочастиц, то они, отдав в пространство энергию аннигиляции, ОТНЮДЬ НЕ ИСЧЕЗЛИ. Они существуют, но в слипшемся виде, когда электрические заряды на внешних и внутренних кольцах полностью нейтрализуют и компенсируют друг друга. Их масса как мера вещества находится в скрытом виде и ощутится лишь после проявления ими электромагнитных свойств. А до этого они ничем себя не обнаруживают, ничем, кроме передачи со скоростью света электромагнитных колебаний. — Прежде это называли эфиром. Этаким веществом без массы. — Вот именно. Вакуум, в котором, казалось бы, ничего нет, на самом деле вполне веществен. Вот почему правомерно говорить о его механических свойствах; о полном отсутствии плотности — и одновременно упругости «сверхтвердого тела». — Знаете что, лейтенант. Меня поражает не столько стройность картины, которую вы рисуете, сколько согласие вашей теории с опытом. Почему же этого не знают физики? — Я просто не успел никому сказать о своих мыслях, не показывал результатов. — И мой собеседник с улыбкой посмотрел на исписанную цифрами доску стола. — Дело в том, что я здесь… во фронтовых условиях, продолжаю разрабатывать свою теорию. Я с удивлением посмотрел на маленького тихого лейтенанта. Он нисколько не походил на Эйнштейна, но то, что он говорил, мне казалось не менее значимым, чем далее теория относительности. — А как же Эйнштейн? — спросил я. — С ним тоже полное совпадение, — сказал лейтенант. — Его теория относительности войдет составной частью в более общую теорию, которую мне хотелось бы создать, основываясь на мечте того же Эйнштейна о едином поле. Фундаментальное поле получается действительно единым в разных своих выражениях: и магнитное, и электрическое, и поле сильных и слабых взаимодействий, и даже гравитационное. Все вытекает вот из этой модели, — и лейтенант постучал по кольцам с хлебными шариками. — Но и эта будущая теория станет лишь частью еще более общей теории вакуума, я бы сказал, Теории Фундаментального Поля. Я посмотрел на оживленное лицо лейтенанта, потом на его нехитрое «наглядное пособие». И тут вбежал связной, совсем еще мальчик, с круглыми глазами, в нахлобученной на лоб пилотке. Немцы начали танковую атаку. Я почему-то подумал об Архимеде, который что-то чертил на песке, когда в его родной город ворвались вражеские воины. Римлянин, не желая ждать, пока «безумец» закончит свои вычисления, убил его. Мы с лейтенантом поспешили на свои места. С моего наблюдательного пункта был виден только холмик, за. которым укрылась противотанковая батарея лейтенанта Ильина. Керченский полуостров — голая бугристая степь. С вершины холма можно было разглядеть нефтяные баки на окраине Феодосии. Нигде не было ни кустика, ни дерева. Солдаты вгрызались в землю, используя каждую складку местности. Немецкие танки грозно спускались с пологого холма. Батарея Ильина открыла огонь. Головной танк остановился. Из него повалил клубами, стелясь над землей, черный дым. Остальные танки, обнаружив теперь противотанковые пушки, ринулись на них, стреляя из орудий. Запылал второй танк. Еще один остановился с поврежденными гусеницами. Я не знал, что делается у Ильина, но видел, что через холм к нему переваливают два вражеских танка. Они сомнут батарею гусеницами! Уцелеет ли мой физик? И тут сухопутная торпеда, похожая на крохотную танкетку, выпрыгнула из капонира и устремилась к первому танку, круто взбираясь на холм. Из танка заметили ее, но, вероятно, не поняли, что это такое. На всякий случай дали по ней очередь из пулемета. Должно быть, пули накоротко замкнули обмотку одного из электромоторов. Другой продолжал работать, и танкетка побежала по дуге, обходя танк. Тогда вылетела вторая торпеда, управляемая Печниковым. Танк был слишком близко от нее, чтобы увернуться. Фонтан огня и дыма с грохотом метнулся как-то вбок. Когда дым рассеялся, мы увидели, что у танка разворочена броня. Немецкие танки, несмотря на потери, продолжали лезть на позиции батареи Ильина. Возможно, что взрыв нашей торпеды воодушевил артиллеристов. Они возобновили стрельбу. Еще один танк вспыхнул. Остальные повернули в сторону, попытались было прорваться в другом месте, но там тоже наткнулись на огонь противотанковых орудий. Тогда они поползли обратно. Наступила минута передышки. Я беспокоился за Ильина и стал пробираться от своего наблюдательного пункта по окопам к противотанковой батарее. Тревога моя была не напрасной. Из всех пушек батареи уцелела только одна. Артиллеристы выкатили ее из укрытия для стрельбы прямой наводкой. Лейтенанта около них не было. Я подошел к другой пушке, разбитой снарядом. У колеса лафета на одном колене стояла девушка-санинструктор. Ее расстегнутая сумка с красным крестом лежала на траве. Да, артиллерийский лейтенант, физик, лежал здесь, рядом с двумя убитыми солдатами. Он был еще жив. Его положили на носилки, чтобы отправить в медсанбат. Я заглянул в глаза раненого. Он смотрел на меня, силясь что-то сказать. Губы его беззвучно шевелились. Лейтенанта унесли, убитых оттащили. Рядом с уцелевшей пушкой появились еще двое. Около них стоял уже другой лейтенант, высокий, худой, совсем юный. Он нервно потирал подбородок и старался говорить строгим голосом. Я хотел вернуться на свой наблюдательный пункт, но меня вызвал командир дивизии. Он гневно метался по блиндажу и размахивал руками. Увидев меня, полковник закричал: — Сейчас же грузи свои торпеды. Отступать к переправе! — Как отступать? — опешил я. — Не рассуждать! — рявкнул полковник, багровея. Это был уже совсем не тот человек, который беседовал вчера с Павленко о его романе «На востоке». — Расстреляю! Немцам свою технику хочешь оставить? Я понял, что дело плохо. Полковник, очевидно, с болью в сердце выполнял чей-то приказ. Я выбежал от него и бросился к блиндажу, где провел ночь. Он был совсем близко. Не отдавая отчета в том, что делаю, я нагнулся над необструганным столом и, засветив электрический фонарик, переписал набросанные лейтенантом-физиком цифры. Увидев ободок артиллерийского снаряда с засохшими шариками хлеба, я механически сунул его в карман. Потом я забыл об этом. Нет ничего горше отступления, когда противника только что отбили, когда он не виден и все-таки грозит откуда-то, прорвавшись в неведомом месте. Прошел дождь, дорогу развезло. На ногах налипали пуды глины. Мы отступали до самого Керченского пролива. Оставшиеся торпеды и наш танк-электростанцию пришлось взорвать… Больно говорить, как мы переправлялись через пролив. Не об этом должен быть мой рассказ. Могу только сказать, что переправлялись кто как мог: на лодках, на плотах, счастливцы — на рыбачьих суденышках. Пропустив несколько катеров, мы наконец попали на один из них… Но немецкий самолет потопил его… И мне пришлось вместе со своими товарищами добираться до таманского берега вплавь. Здесь был словно другой мир. Звенели цикады, не слышно было взрывов, стонов, криков… Тихо шуршали о гальку ленивые волны. Светило яркое солнце, но у меня зуб на зуб не попадал. По примеру других я разделся и разложил сушиться мокрое обмундирование. Было странно лежать на песке, греться на солнце, будто на пляже, когда на том берегу был сущий ад. Я расправил лежавшую на камнях гимнастерку и обнаружил в кармане ободок с размякшим хлебом. Я тотчас схватил брюки и нашел в них мокрую тетрадь, в которую переписал в блиндаже цифры. Я не знал, удалось ли всем госпиталям переправиться через пролив, остался ли жив мой собеседник.Когда в конце войны я снова был на фронте и входил с передовыми частями в освобожденную Вену, бои на Керченском полуострове казались туманным сном. А после встречи с Нильсом Бором они мне и в самом деле приснились, конечно, из-за «безумной» идеи лейтенанта-физика. У меня есть знакомые физики. Теперь, пусть и с опозданием, я все же решился рассказать им о том, что узнал в блиндаже. Меня выслушали вежливо, но с улыбкой, потом объяснили, что представления о структуре микрочастиц, высказанные мне за час до боя неизвестным лейтенантом, — жалкое вульгаризаторство. Современные авторитеты, де оставляют места для «наглядных моделей» элементарных частиц. Они требуются только тем, кто не владеет математическим аппаратом, прекрасно выражающим все микроявления. Несколько сконфуженный, я ушел. Тот лейтенант, решил я, очевидно, погиб, потому что никто из знакомых мне физиков не мог вспомнить его выступлений в печати. В физике торжествовало представление, что микрочастица — это точка, познать которую в ее воображаемой структуре просто нельзя. Досадно, но удобно. И вот случилось неожиданное. Нильса Бора давно уже не было в живых. Он ушел из жизни, оставив в науке значительный след. Слушавшие великого физика в московском Доме писателей восприняли его слова о неизбежности появления новых идей как завещание.
В октябре 1967 года мне позвонил по телефону председатель секции физики Московского общества испытателей природы Л. А. Дружкин. — Я знаю, что вы физик в большей мере, чем сами о себе думаете, — сказал он, пригласив меня на очередное заседание секции. Там меня ждал сюрприз: доклад о новой теории элементарных частиц. Я не удивился. Сейчас многие пытаются представить себе кирпичики мироздания. Достаточно вспомнить о таинственных кварках!.. Докладчик показался мне незнакомым. Время наложило свой отпечаток и на меня и на него. Он приближался к пятидесятилетнему рубежу, я миновал шестидесятилетний. Но я сразу узнал его, едва он заговорил. Тот же мягкий голос, предупредительно вежливое отношение ко всем, кто, его слушает. Осторожные выражения и предельная скромность. Как преобразилась, выросла его теория!.. Нет, он не сидел сложа руки все это время! Московское общество испытателей природы в высшей степени авторитетная, организация. Здесь докладывали о своих исследованиях выдающиеся русские ученые начиная с 1805 года. Моего старого фронтового знакомого слушали с большим вниманием много физиков, профессоров, докторов наук, не говоря уже об увлеченной молодежи. Да, теперь физикам-экспериментаторам было открыто уже не шесть, а около двухсот элементарных частиц. Большинство из них были короткоживущими, неустойчивыми, что не находило объяснения с точки зрения прежних теорий. В эти теории, чтобы свести концы с концами, приходилось вводить «произвольные» постулаты. Докладчик насчитал их 28!.. В своей теории он отказывался почти от всех постулатов, сохранив лишь три, характеризующие основные законы природы. Остальные «постулаты» или доказывались, исходя из его теории, или отвергались как недоказанные. Пожалуй, в любой теоретической работе самым главным надо признать соответствие ее опыту. Сидевшие вместе со мной физики могли убедиться в поразительном совпадении теоретических расчетов докладчика с результатами современных экспериментов. Все элементарные частицы, когда-либо обнаруженные, находили свое место в периодической системе микрочастиц, а их характеристики совпадали до пятого знака и выше во всех тех случаях, когда экспериментальные данные были известны. А когда неизвестны? Тут, пожалуй, физиков ждал наибольший сюрприз. Периодическая таблица предсказывала существование большого числа частиц, еще не открытых. Слушателям был продемонстрирован каталог микрочастиц, характеристики которых вычислены по формулам автора теории электронно-вычислительными машинами в Ленинграде. Впоследствии бесстрастной и безошибочной ЭВМ был создан впечатляющий каталог элементарных частиц, как существующих, так и предсказуемых. Оказывается, все эти двадцать пять лет он не торопился с публикацией своей работы, которая должна была перевернуть многое в представлениях физиков. Конечно, то, что он говорил, теперь мало напоминало наш разговор в блиндаже. Это была уже «корректная», математически глубоко обоснованная теория. По крайне мере так охарактеризовал ее первый из выступавших после доклада — ныне заслуженный деятель науки и техники, доктор наук, профессор М. М. Протодьяконов, один из руководителей Института физики Земли Академии наук СССР. Один за другим говорили физики. И ни один из них на этом заседании физической секции, которая состоялась в старом здании Московского университета, не выступил против теории, впервые услышанной мной двадцать пять лет назад. Надо признаться, что потом в скептиках недостатка не было, впрочем, как и всегда. Вспомним слова Макса Планка Эйнштейну. Но, оказывается, не только мне она стала тогда известна. В конце заседания председатель секции физики Л. А. Дружкин сказал, что более двадцати лет следит за развитием этой теории. Московское общество испытателей природы приняло решение опубликовать эту новую теорию микрочастиц. Как-то ее воспримут ученые во всем мире? Мне известен только один случай, когда крупнейший современный физик де Бройль, многие годы утверждавший, что невозможно наглядно объяснить происходящие в элементарных частицах процессы, взошел на кафедру Сорбонны и объявил, что все эти годы ошибался. Его пытались отговорить, урезонить, но он стоял на своем, перейдя в лагерь тех, кто искал ответа на загадки строения вещества не только в математических формулах, но и в наглядных картинах. Помню, что сидевший рядом со мной редактор издательства «Мысль», не зная о моей былой встрече с докладчиком, шепнул: — А ведь он немного похож на молодого Эйнштейна. Конечно, на молодого он уже не походил. Я-то докладчика видел молодым!.. Но что-то в нем было такое, что позволило моему редактору верно подметить сходство. Наше знакомство с Ильиным — намеренно продолжаю так называть его — возобновилось. Мы часто и много беседовали. Я понимал, как нелегко ему будет убеждать скептиков и опровергать противников. Под впечатлением возобновленного знакомства я пошел к своему старому другу, с которым когда-то изобретал танкетку-торпеду, — к академику Осипову. Четверть века мы с ним шли каждый своим путем. Я писал книги, а он… О его делах, пожалуй, лучше всего скажет то, что он уже и Герой Социалистического Труда, и лауреат Ленинской премий, и академик… Словом, он мог бы быть героем любого из моих фантастических романов, живой, энергичный, изрядно поседевший, но по-прежнему подвижный, с огромным лбом и мефистофельским профилем. Я знал о былых увлечениях моего друга. Он когда-то мечтал свести воедино все поля: и магнитное, и гравитационное, и инерционное. И подходил к этому вопросу как инженер-электрик, спроектировавший на своем веку немало машин. Я рассказал ему о новой теории микрочастиц. — Слушай, — сказал он. — Ты же писатель-фантаст. Ты должен экстраполировать, представить себе, что из всего тобой услышанного следует. — Хорошо, — ответил я. — Хочешь, я напишу, будто бы ты заинтересовался этой теорией и решил применить ее в жизни. Он расхохотался и хлопнул меня по плечу: — Валяй, Саша. Обещаю, что если ты напишешь так, как надо, то я пойду вместе с твоим лейтенантом в бой. Вот каким образом в этот реалистический рассказ вошла фантастическая мысль. Я получил право представить себе моего академика, ринувшегося в бой за…
2. Мечты
За что мог ринуться в бой такой человек, как он? За теоретические представления? Нет, не такого он был склада. Он создавал действующие машины, которые делали переворот в технике. Итак, прежде всего академик должен был встретиться с моим фронтовым знакомым. И они встретились, как я представил это себе. Кабинет академика помещался в старинном особняке. Еще при мне ученый приказал убрать все стыдливые экраны, прикрывавшие живопись и деревянные украшения стен. В окнах остались цветные витражи. Но все это не мешало неистовому директору института. Здесь он предавался своим мыслям, беседовал с теоретиками, здесь же разносил незадачливых начальников цехов и лабораторий. Сейчас он ходил по кабинету, очевидно взволнованный. — Вы понимаете, что придумали? — строго спросил он, останавливаясь перед гостем. Гость, низенький и пополневший человек, всегда вскакивал, когда перед ним стояли. Он был так воспитан. Академик никак не мог его усадить. — Слушайте, — заговорил академик. — Вы сами не понимаете, что придумали. Кружочки? На них электрические зарядики? Видите люстру под потолком? На внешнем ободе шесть ламп, на внутреннем пять. Во время войны внутренние лампочки у нас были синими. Другой знак зарядов. Понимаете? Это же модель вашей микрочастицы!.. — Вы совершенно правы, — вежливо согласился гость. — Сидите, сидите. Стоять перед другими академиками будете, которые к ответу притянут. — Я готов. — Так вот. Видите эту люстру? Давайте ее разломаем. — Как разломаем? — опешил теоретик. — А так. В девятнадцатом веке были известны энергетические процессы, которые протекали только на молекулярном, уровне. В нашем веке ученые проникли в глубь атомного ядра и извлекают уже энергию не химических, а внутренних связей. — Да, конечно. — А у вас кольца как связаны? — Это точно подсчитано. Энергия связи, скажем, протона в пятьдесят шесть миллионов раз больше, чем энергия его аннигиляции. — Вот именно. Вот отсюда и плясать будем. Так какая это энергия? . — Энергия внутренней связи микрочастицы. — Не можете выговорить. Это же не химическая, не атомная энергия, это вакуумная энергия. — Пожалуй, вы правы. — Значит, можно поставить перед собой задачу не только убедить почтенных старцев, что микрочастицу можно представить так устроенной, как эта люстра под потолком, а найти способ люстру разломать на части и выделившуюся энергию использовать. Это, брат, уже будущее человечества! Об этом не думали? — Я не позволял себе об этом думать. Я ставил себе сольдо одну главную задачу: дать стройную теорию, согласованную с результатами опытов. А со мной надо идти дальше! Атаковать микрочастицу. Если люди, сообразив, как велика энергия внутриядерные связей, стали ее освобождать и открыли новый, атомный век, то теперь… Понимаете, что теперь? Гость был ошеломлен ураганом мыслей, низвергнувшихся на него. Казалось, он сам создавал циклон, который должен был перевернуть былые представления, а теперь этот циклон вырвался из-под его контроля, и теоретик чувствовал себя увлеченным бешеным вихрем. — У меня есть немало замечательных инженеров, они работают во многих филиалах нашего института. Мы поставим перед ними задачу разрушить микроструктуру. Чем? Да тем самым, из чего она состоит. Имеет она магнитный момент? Имеет. Сам точно его вычислил. А если ударить по этому магнитику магнитным полем немыслимой силы? — Вероятно, можно найти способ воздействовать на микроструктуру. — Теоретически. Но между теорией и практикой пропасть. Будем наводить на нее мост. Вы, конечно, знаете, что наш замечательный академик Петр Леонидович Капица работал у Резерфорда и прославил Кембридж магнитными полями небывалой силы. Он создал электрический генератор мгновенного действия. Нужно было быть замечательным инженером, чтобы найти такое блестящее решение. Какой машиной можно привести в движение сверхмощный импульсный генератор? Капица раскручивал массивный маховик, а потом с маху останавливал его, используя генератор как тормоз. Мгновенная мощность получилась гигантской, магнитные поля — небывалой силы. Мы потом с Сашей, с писателем, с которым вы на фронте встречались и который нас с вами свел, пытались такие электрические пушки сделать. Он даже роман «Пылающий остров» об этом написал. Аккумуляторы нужны необычайной силы, сверхаккумуляторы. Капица — тот тоже строил аккумуляторы, которые жили один миг, включались и — пффф!.. Магнитное поле опять огромное получалось. — Да, я все это читал. — Вернемся к тому, что вы читали на новом уровне. Техника развивается по спирали. Ныне в промышленности металл штампуют магнитными взрывами. Слыхали? — Нет, не слышал. — Напрасно. Очень интересно. Создается колебательный контур: самоиндукция, емкость. В емкости можно накопить огромную энергию и мгновенно перевести ее в магнитное поле. Ох как нам с Сашей нужны были такие конденсаторы, когда с электропушками возились! Не было их. И потом, когда в промышленности стали мечтать о магнитной штамповке, тоже не имели таких конденсаторов. А институты не хотели их разрабатывать. Не перспективно! К счастью, появились лазеры. Вот для них стоило разработать могучие конденсаторы, о которых мы в свое время еще с Абрамом Федоровичем Иоффе вот в этом кабинете мечтали. Разработали. И теперь штампуют. — Достаточно ли таких конденсаторов или машин для тех целей, о которых вы сказали? — Конечно, недостаточно!.. Созовем всех наших инженеров и поставим перед ними сумасшедшую задачу, «безумную», как говорил Нильс Бор, — сделать такую электрическую машину, которая на миллионную долю секунды, сама превратясь в пар, создала бы, пусть в одной точке пространства, магнитное поле немыслимой величины, больше тех полей, которые существуют в микрочастицах. И разломаем этим полем «микролюстру». Гость академика ушел от него ошеломленный, он ожидал критики его теоретических мыслей или поддержки, но никак не такого взлета фантазии. Академик был человеком дела. Ему не требовалось ни напоминаний, ни консультаций. Годы бегут незаметно, сразу и не сообразишь, сколько их прошло, когда приходишь к нему в тот же самый длинный кабинет с камином, со стенами, отделанными резным деревом, и потолком, покрытым живописью. На этот раз к академику Осипову мы пришли вместе с моим былым фронтовым знакомым Ильиным. — Летим в Феодосию, — объявил академик, далее не спрашивая нашего согласия. — Почему в Феодосию? — изумился я. — Керченский полуостров нужен. То самое место, где ты первые наши танкетки на фашистские танки пускал. Там будем магнитные взрывы проводить, «люстры» ломать. Я не понял, при чем здесь люстры, но мой спутник прекрасно это понял и взволновался.И опять передо мной, как в давние военные годы, степь Керченского полуострова. В ясный весенний день она вся покрыта тюльпанами. Цветы рассыпаны среди сочных трав, разноцветные, нежные, но без запаха, с восковыми чашечками, хранящими росинки. Академик Осипов больше всего на свете любит эти степные цветы. Он, кажется, забыл, для какой цели привез сюда нас, и увлеченно собирает букет, нет, не букет, а целую охапку тюльпанов. Мы помогаем ему, но ему все мало. Такой он во всем. Ему всего мало. Я стоял на вершине холма, и дух захватывало от бегущих по степи пестрых волн. Далеко в лиловом мареве виднелись как бы меловые утесы. Это гигантские многоэтажные дома Феодосии. Может быть, отсюда я смотрел когда-то на видневшиеся вдали нефтяные баки. Я старался представить себе, где были окопы и капониры, где находился блиндаж. Может быть, такие мысли были и у моего немного печального спутника. Мы все трое понесли цветы в «блиндаж» — так называл академик Осипов подземный наблюдательный пункт, откуда управляли магнитными взрывами. В ложбину между холмами свозят все обломки машин, которые удается собрать в степи после очередного опыта. Академик смеется: — У нас эти машины как бы боепитание для армии. Снаряды, научные снаряды, которые мы взрываем во славу будущей вакуумной энергии. В этих машинах-снарядах, живущих лишь одно мгновение, магнитное поле в миллионы раз больше, чем прежде известные. Нагруженные цветами, мы шли дальше, а академик говорил: — Вакуумная энергия — хитрая штука. Про люстру, которую мы с твоим другом разламывали в моем кабинете, слыхал? — обратился он ко мне. — Путешествовать по периодической таблице между клетками будем!.. — Как это понять? — спросил я. — Он знает, — кивнул академик на нашего спутника, почти скрытого в охапке цветов. — Он нашел, что микрочастицы могут существовать только в энергетически компенсированных состояниях. А кто сказал, что не могут быть промежуточные состояния, когда излучение происходит как раз за счет энергии внутренней связи микрочастицы, то есть за счет вакуумной энергии? Кто сказал, что звезды светят благодаря только термоядерным реакциям, которые будто бы там происходят? Никто там не побывал. И я туда не хочу. Слишком жарко. А почему жарко? Может быть, потому, что там происходит некомпенсированное излучение. — Это очень интересно, — сказал физик-теоретик. — Я тоже так думаю, — кивнул академик и начал спускаться в «блиндаж». Последний раз оглядываюсь на степь. Где-то свистят суслики, высоко в небе кружит коршун. Ветерок донес запах моря. Полутемный ход в подземную лабораторию. Подземелье с бетонированными стенами и сводом. Пахнет свежей краской и горелой изоляцией. Академик морщится. По лицу его видно, что он готов кого-то распекать. Перед нами высокий худой саперный капитан сочень серьезным лицом. Я уже знаю, что академик применил взрывные электрические машины, где вместо двигателя работает сила взрыва, развивающая умопомрачительные мощности. Осипов отдает приказ саперному капитану увеличить заряд взрывчатки в несколько раз. Тот щелкает каблуками и выходит, покосившись на охапку тюльпанов, сунутую в ведро. — Это что! — восклицает академик. — Это цветочки. Сейчас мы хоть молекулу рады зажечь. А если вздумаем второе солнышко зажечь для полярных областей или подводное солнце для течений, которые решим подогреть? Вот тогда будут ягодки! — Тогда понадобятся уже другие машины, — замечает физик. — Конечно, — соглашается академик. — Но и наши электромашинные снаряды со взрывными двигателями сослужат нам службу. И сослужили! В этот день в степи уже нет тюльпанов. Травы пожухли, и над ними поднимаются жаркие струйки воздуха. Контуры холмов искажаются и дрожат. В лиловом мареве нельзя различить меловых утесов феодосийских зданий. Из подземной лаборатории мы выходим словно в раскаленную печь. Тихо в знойной унылой степи. Только к вечеру проснутся и заведут свою нескончаемую песню цикады. Молодые помощники академика бегут впереди нас к яме, в которой произошел очередной взрыв, уничтоживший электрическую машину мгновенного действия. Мощность ее, как нам объяснили, по сравнению с первыми опытами увеличилась в сотни тысяч раз. Мы шли смотреть ее обломки, то, что осталось от статора и ротора, хотя в обычном понимании их в машине нет. Они не столько двигались друг относительно друга в момент взрыва, сколько способствовали нарушению магнитного равновесия, и сила взрыва, сочетаясь с разрядом мощнейших конденсаторов, создавала в одной точке магнитное поле запредельной силы. Молодые люди, опередив нас троих, стоят на краю ямы. — Давайте, давайте, орлы, — торопит академик. — Позаботьтесь очистить яму для следующего взрыва. — Не надо, — говорит один из инженеров. — Теперь не надо. — Как не надо? Что вы сияете? — сердится академик. — Это не мы сияем, Андрей Гаврилович. Это там. — Ничего не вижу, — нетерпеливо расталкивает их Осипов. — А вы подвиньтесь сюда, Андрей Гаврилович, чтобы вон тот осколок не заслонял. Теперь видите? — Горит! — восклицает академик Осипов. В голосе его звучит былой комсомольский задор. — Черт меня возьми, светится! — Может быть, это остаток от взрыва, раскаленная крупинка? — осторожно предполагает Ильин. — Вот всегда они такие, теоретики! — с деланным возмущением обрушивается на гостя Осипов. — Какой же это остаток, когда смотреть больно! Вы же артиллерийским офицером были. Понимаете ли вы, что точка излучает! Мы с физиком с нужного места и сами теперь видим, что среди черных дымящихся обломков машины, несмотря на яркий солнечный свет, сверкает ослепительная звездочка.
Рабочие дни для академика Осипова стали сплошными праздниками. Мы с Ильиным никуда не поехали, как рассчитывали прежде, а остались на «магнитном полигоне». «Звездочку» с величайшими предосторожностями достают из ямы. Она мельче самой малой крупинки песка, но, едва попадает на высушенную зноем траву, тотчас поджигает ее. Дым стелется по степи, словно пустили по ней палы. Пришлось перенести «звездочку» в подземелье, и туда уже нельзя войти без жароупорных костюмов. Точные приборы учитывают все излучаемые молекулой большие калории тепла. В разбитой у холма палатке за складным столиком сидит физик-теоретик и считает, считает. Он закладывает основы будущей теории вакуума. Академик Осипов то и дело подходит к нему, и они что-то оживленно обсуждают. Шумит больше академик, а Ильин, как всегда, говорит ровным, тихим голосом, вставая, когда академик приближается к нему. — Как в топке парового котла! — радостно объявляет мне академик. — Это уже, брат фантаст, техническое решение задачи. Можно зажечь любое количество таких «звездочек», перевернуть всю энергетику мира! Ведь каждая будет светиться несколько столетий! — и он указал на подземелье. Над ведущими вниз ступеньками поднимались знойные струи воздуха. Но неистовому Осипову и этого мало. Для него «звездочка» только первый шаг. Он уже мечтает о новой великой географии Земли, которую создаст человек, он уже видит исполинскую электрическую машину, приводимую в действие мощным ядерным взрывом и поднятую ракетой на орбиту искусственного спутника. На высоте несколькихтысяч километров произойдет безопасный инициирующий ядерный взрыв, почти вся энергия которого на миг перейдет в магнитное поле. И тогда над Землей зажжется новое, вакуумное солнце. Академик уже видит, как оно восходит и заходит вместе с настоящим, но его лучи не скользят в полярных областях по поверхности, а падают почти отвесно, не теряют своего тепла в толстом слое атмосферы, а равномерно нагревают Заполярье, создавая там такой же климат, как и в средних широтах. И мысленно видит академик магнитный взрыв даже под водой. Вспыхнувшее там «подводное солнце» станет нагревать морские течения, изменяя в нужную сторону климат Земли, который должен стать управляемым. Академика не смущает поднятие уровня океана. Ведь материки можно отгородить ледяными дамбами. Изменится география Земли. Навсегда будет покончено с пресловутым энергетическим голодом. Никогда не иссякнут энергетические ресурсы, заключенные в каждой молекуле любого вещества.
3. Возможности
Мой старый друг дочитал принесенные ему страницы. — Ах, Саша, Саша! — с упреком сказал он. — Неисправимый фантаст! Никак ты не можешь увидеть самого главного. — Разве я мало увидел? — удивился я. — Я не говорю, что мало. Я говорю, что не все. Написав о вакуумной энергии, ты забыл про вакуум. — Как так «забыл»? — Помнишь, у твоего фронтового друга говорится (Осипов, оказывается, уже изучил изданную Пулковской обсерваторией работу физика-теоретика), что вакуум — это слипшиеся зеркальные частицы. Что это значит? — Вероятно, их молено разделить. — Верно. Возбудить вакуум. — Но на это надо затратить очень много энергии. — На каком уровне? На уровне ядерной энергии. Возбудив вакуум, мы как бы из ничего, а на самом деле из скрытой материальной субстанции, какой является вакуум, получим пары микрочастиц. А уж эти частицы можно использовать, чтобы забрать у них энергию микросвязей уже на новом уровне вакуумной энергии, которая на несколько порядков выше, чем ядерная энергия, затраченная на возбуждение вакуума. — Значит, ты считаешь, что энергию можно получить из пустоты? — Так скажут только люди, у которых в голове пусто. Не из пустоты, а из вакуума, состоящего из квантов материи, представляющих собой… Что? — Он вонзился в меня вопрошающим взглядом. — Слипшиеся частички и античастички. — Верно! И еще ты, занимающийся инопланетными делами, не учел, что для звездных полетов можно использовать вакуумную энергию пространства, вакуум, по которому пролетаешь. — Значит, ты поверил в вакуумную энергию? — Американцы говорят: «В бога мы веруем, а остальное наличными». Наличное — это моя специальность. Будем делать вакуумную энергию, так сказать, наличностью. А тогда посмотрим. Кстати, астрономы выдвинули теорию насчет высших цивилизаций космоса, разделили их на три типа. Первый по энерговооруженности равен земной, второй использует всю энергию своего светила, а третий — энергию всей Галактики. Я счел это ерундой. Как использовать энергию звезд, когда расстояния между ними равны тысячам световых лет? А теперь это звучит по-иному. Если быть не только пассивными потребителями всемирного излучения, а самим зажигать солнца вакуумной энергией, то нет видимых границ для роста энерговооруженности. Очевидно, такую цивилизацию нужно отнести уже к типу высшей, которой доступны любые мощности. Неплохая перспектива для человечества! — Подожди, Андрей! Ты предложил мне пофантазировать для того, чтобы решить… — Что ж тут решать… Тащи своего теоретика. И имей в виду, что только та теория верна, которая открывает путь к дальнейшему развитию науки, к новым взлетам фантазии, к новым исканиям и победам, а не заводит знание в тупик. Вот так, фантаст. Пусть тащит свою новую книгу, которую умудрился издать. И он крепко ударил меня по плечу. Я думаю, что он очень точно выразил смысл «завещания» Нильса Бора.ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА
Оказывается, и один в поле воин!
Двадцать лет назад во время путешествия на теплоходе «Победа» вокруг Европы я побывал в Греции. Два десятилетия понадобилось мне, чтобы расшифровать загадку последнего мифа о Геракле, и лишь теперь я готов рассказать об этом. Афины! Средоточие древнего эпоса, колыбель цивилизации. Здесь процветали высокие искусства, театр и поэзия в пору, когда народы теперешней Европы рядились в шкуры и жили в пещерах. Над пестрой мозаикой городских крыш высится скала с плоской вершиной, над которой виднеется что-то вроде короны, похожей на ферзя с шахматной диаграммы. Бело-желтая, словно отлитая из сплава золота с платиной. Но это мрамор. И не зубцы короны, а колонны разрушенного храма. Мы поднимались к Акрополю долго. Дорога оказалась трудной и длинной. Идя по ней, люди священных шествий в свое время проникались благоговейным ожиданием чуда, прежде чем увидеть божественные строения. Поразительно впечатление от величественного полуразрушенного здания Парфенона. В чем секрет? В строгой математической логике сооружения — восемь колонн на короткой стороне храма, семнадцать (именно 17 = 2 #215; 8 + 1) по длинному фасаду? В незаметном глазу наклоне колонн внутрь, который, скрадывая перспективу, как бы выравнивает их, не позволяет им при взгляде снизу «развалиться»? Или в ощущении воздушной легкости и гармоничности храма, пробуждающего невольные воспоминания о богине Афине-Деве, чья исполинская статуя стояла здесь, сверкая золотом в солнечных лучах, хоть и была деревянной, но в драгоценном чехле, служившем древним афинянам «золотым запасом». Теперь от нее осталось лишь место, где она стояла. Но путешествующие атеисты XX века с их пылким воображением готовы были преклониться перед великолепным языческим идолом. Боги Олимпа! Сколько превосходных сюжетов получили мы от наивных, но поэтических верований эллинов! Зевс-громовержец! Силой воцарившийся среди богов. Неистовый сластолюбец, зорко высматривающий для себя земных красавиц. Его покойно-величавая жена, непроклонная Гера, покровительница домашнего очага, беспощадная гонительница рожденных от прелюбодеяния, в том числе и Геракла, побочного сына своего эгидодержавного супруга. Бог света, враг зла, златокудрый, сияющий, но порой жестокий Аполлон с серебряным луком и не знающими промаха золотыми стрелами. Богиня любви Афродита, воплощение женской красоты, рожденная морской пеной… И множество других «узкоспециализированных» богов светлого Олимпа, которым противостоит брат Зевса Аид, правящий скорбным царством теней. Украдкой подобрали мы бесценные сувениры, крохотные хрустевшие под ногами кусочки мрамора. Лишь много лет спустя я узнал, что туда по ночам завозили на самосвалах битый мрамор из карьеров специально для легковерных и жадных туристов, готовых растащить «на память» памятники беломраморной старины. Довольные и взволнованные, вспоминая известные с детства мифы, шли мы по шумным улицам древнейшей из европейских столиц. Афины в отличие от Рима с его остатками Колизея и раскопанными руинами прямо на улицах ничем, казалось, не напоминали своего древнего прошлого, но… На углу переполненного машинами проспекта стоял продавец губок, величественно запрокинув голову, словно рассматривая видимый отсюда Акрополь, и держал на плече палку с ворохом губок, не поддельных, а собранных ныряльщиками со дна морского, чем-то похожих на детские воздушные шарики. Задержавшись у перекрестка, мы все еще говорили о богах Олимпа, об их борьбе с титанами за власть над миром. О том, как они влюблялись, плодили детей, вели вполне человеческий образ жизни и следили за людьми, помогали героям, а великого героя Геракла даже сделали бессмертным. — Рад, что наши древние боги занимают вас, — на чистом русском языке обратился к нам продавец губок. — Жаль, не вижу вас, мои бывшие земляки. — Но мы перед вами, — начал было поэт, но спохватился, поняв, что старик слеп. — Я родился в Колхиде, — продолжал тот, — жил там на берегу вашего Черного моря и до сих пор своими уже незрячими глазами вижу Кавказские горы и ту скалу, к которой бегал еще мальчишкой, ту самую, к которой был прикован Прометей. Он произнес это с таким серьезным видом, что мы переглянулись. — Я мог бы многое рассказать вам о Колхиде, о золотом руне, об аргонавтах, об Одиссее, Геракле… Старый грек заинтересовал нас. — Вы давно перебрались на родину? — спросил поэт. — На «родину предков», — отозвался старик и раздраженно махнул рукой. — Отсюда виден Акрополь, но, увы, не видна наша с вами родина. — Вы тоскуете о ней? — Потому и заговорил с вами, услышав знакомую речь. — Да, мы под впечатлением Парфенона! Какой непревзойденный гений создал его? — Великий зодчий Фидий, друг Перикла, оратора и воина, мечом и словом подчинявшего себе всех. Но, увы, уже без него, — вздохнул старик, — гениальный зодчий по навету врагов, приписавших ему хищения, умер в тюрьме. Но разве найдется в мире столько золота, чтобы оплатить его творения, которыми спустя двести пятьдесят веков любуются люди Земли? — С вами интересно говорить, — признался поэт. — Я мог бы вам рассказать много интересного, чего почти никто не знает. — Может быть, мы пройдем в кафе напротив? — предложил художник. — О нет, почтенные гости! Там «Брачное кафе», туда приходят только люди, желающие вступить в брак, познакомиться. Боюсь, что нам с вами там делать нечего. Я проведу вас в другое место. И он двинулся по тротуару. Мы шли за ним, видя, как колышется за его спиной огромная связка губой. Подошли к кафе с вынесенными на тротуар, как в Париже, столиками. Усатый официант усадил нас за один из них, а мы, скинувшись своей туристской мелочью, хотели угостить нашего спутника, но он запротестовал, сказал несколько певучих слов официанту, и тот исчез. Вскоре он вернулся, неся бокалы с чем-то ароматным, что нужно было потягивать через соломинки. — Никак не могу освоиться с тем, что нахожусь на территории Древней Эллады, — сказал художник. — Так посмотрите вокруг, — сказал слепец, словно видел все лучше нас. — Разве не найдете вы среди людей носатых и мясистых и тех, кто похож на древнегреческие статуи? Девушки, юноши… Представьте себе их с античными прическами, с ниспадающим складками одеянием… Не могу вам помочь в этом, но уверен… Но он помог, помог! И был прав, слепец! Слепыми оказались мы, зрячие! Люди, сидевшие за другими столиками, прохожие на тротуаре если не все, то некоторые из них стали восприниматься нами как дети Эллады. Вот юноша! Если вообразить себе его в тупике, с лентой на лбу, удерживающей пряди волос, его копию можно было бы поставить на пьедестал в музее! А эта девушка, что так заразительно хохочет с подругой! Да обе они с удивительно правильными чертами лица, с линией лба, продолжающей нос, превратись они по волшебству в мрамор, могли бы поспорить с творениями древних мастеров! Я сказал об этом слепому продавцу губок и еще больше расположил его к нам. — Вы обязательно отыщете скалу Прометея в Колхиде. Я вам расскажу, как ее найти. Я мальчишкой лазил на нее и нашел выемку от кольца, к которому повелением Зевса приковали Прометея. На высоте ста локтей. И это кольцо разбил Геракл, освободивший титана. В голосе старого грека звучало столько убежденности, он был так уверен в том, что говорил, что мы снова переглянулись. Старик откинул голову. Его полуседые вьющиеся волосы были повязаны лентой, переходя в густую, тоже полуседую курчавую бороду, обрамлявшую неподвижное лицо. Я подумал, что вот таким мог бы быть Гомер! — Геракл освободил Прометея, приговоренного Зевсом-громовержцем за похищение огня с Олимпа и передачу его людям вместе с ценными знаниями. Но никто не догадывается, что в числе этих знаний было и знакомство с божественной игрой, которой увлекались боги Олимпа, и прежде всего сам Зевс. Он сделал богиней этой игры свою дочь Каиссу, которую прижил с одной восточной богиней, передавшей ей знания игры. — Что это была за игра? — живо заинтересовался я, услышав знакомое имя Каиссы. — Не знаю, господа. Могу только сказать, что это была игра богов. В благодарность за свое освобождение титан Прометей обучил Геракла этой игре. И великий герой, возвращаясь со спутниками из похода аргонавтов, коротал за этой игрой долгие дни плавания. — Это миф? — спросил поэт. — А что такое миф? — в свою очередь, спросил слепец. — Это сказание о случившемся, переданное из поколения в поколение, может быть, и с видоизменениями. Ведь с тех пор прошла не одна тысяча лет. Так предания становились мифами. Кое-что забывалось. Например, конец мифа о великом герое Геракле, который завоевал бессмертие своими подвигами. — Загладив ими тяжкие преступления, — напомнил поэт. — Но боги, назначив ему искупление, учли одно важное обстоятельство. Я не всегда продавал губки. Было время — изучал историю. Первую жену Геракла звали Мегарой. А почему слово «мегера» на многих языках стало символом сквернейшего женского характера? Ведь произношение гласных изменчиво. Отталкиваясь от этого, я делал вывод о возможных причинах преступления Геракла. Почему не предположить, что герой был доведен своей сварливой супругой до исступленного состояния и, не желая, чтобы семя этой женщины жило в его поколениях, в припадке безумия способный и на самоубийство, уничтожил, как самого себя, собственных детей. Нет, я не оправдываю его, но я пытаюсь понять его действия, что, очевидно, сделали и боги, позволив ему искупить свою вину. Не случись этого, не совершил бы он свои тринадцать подвигов, давших ему бессмертие. — Двенадцать, — робко поправил я. Слепец не обернулся в мою сторону. Вдохновенно глядя поверх голов прохожих, словно видя вездесущий в Афинах Акрополь, твердо сказал: — Для людей двенадцать. Для богов Олимпа тринадцать. Об этом мало кто знает. Это результат моих исканий. Я был и археологом, и собирателем народных сказаний. А вот теперь губки… — Если вы позволите, мы купим у вас по губке. Я хотел сказать, по две губки, — заверил художник. Мы с поэтом кивнули. — Признателен вам, господа. Я подарю вам их в память о тринадцатом подвиге Геракла. И слепец заговорил чуть нараспев, словно аэд древности, аккомпанируя себе на струнах невидимой кефары. Иногда он переходил на гекзаметр древнегреческого стиха, а потом, словно спохватываясь, продолжал мерное повествование по-русски. Мы слушали как завороженные. — Когда Геракл победно возвращался из своего последнего похода, жена его Даянира, мучимая ревностью, стараясь сохранить путем волшебства любовь мужа, послала ему великолепный плащ. Она пропитала его кровью кентавра Несса, пытавшегося когда-то ее похитить и сраженного стрелой Геракла. Коварный кентавр, стремясь из царства Аида отомстить Гераклу, сумел уговорить доверчивую женщину взять его кровь, которая якобы вернет ей любовь мужа, если пропитать ею его одежду. На самом же деле кровь эта была отравлена ядом Лейнерской гидры, уничтоженной Гераклом во время второго его подвига. Этот яд, которым Геракл придумал смазывать наконечники своих стрел, сделал кровь кентавра смертельной. И Геракл стал жертвой коварства мстящей ему тени. В великих мучениях вернулся он домой, где его несчастная жена, узнав о своем невольном преступлении, покончила с собой. Желая избежать дальнейших мук, Геракл потребовал от соратников положить себя на костер и поджечь его. И воспылал костер на высокой горе Оэте, взметнулось его пламя, но еще ярче засверкали молнии Зевса, призывающего к себе любимого сына. Громы прокатились по небу. На золотой колеснице пронеслась к костру Афина-Паллада и понесла Геракла, прикрытого лишь шкурой когда-то убитого им во время первого подвига Немейского льва. А нарядный плащ его, пропитанный смесью яда гидры и кровью лукавого кентавра, продолжал гореть. И поднялся от него ядовитый столб черного дыма ненависти и коварства, преградив путь золотой колеснице. То богиня Гера, преследовавшая героя всю его жизнь за то, что он был зачат Зевсом с земной женщиной, и теперь поставила перед ним преграду на пути к вершине светлого Олимпа. Да, герой, очистивший Землю от чудовищ и зла, заслужил обещанное ему бессмертие, но Зевс забыл сказать, где проведет он это бессмертие: на светлом Олимпе среди богов или в скорбном царстве Аида, служа там мрачному брату Зевса среди стонов и мучений теней усопших. И настояла Гера устроить Гераклу последнее испытание, потребовать с него еще один подвиг — сразиться в божественной игре с самим Корченным Тартаром, вызванным для этого из бездны тьмы. Там, за медными воротами, содержал он неугодных Зевсу титанов, туда ввергал из царства Аида попавших прославленных земных мудрецов, которых зловещий Тартар сперва обучал божественной игре, а потом, победив, ибо искусен был в ней, всячески издевался над ними, ввергая в конце концов в свою бездну мрака. Он, Тартар, породивший чудовище Тифоиа и адских многоголосых псов, не знал лучшей радости, чем торжествовать над кем-нибудь победу в божественной игре. Сам Тартар был порождением бога Обмана и богини Измены. Он исходил злобой на всех, корчась от безысходного гнева и неприязни. Такого противника предстояло Гераклу сокрушить, ничья означала для него поражение, иначе не было ему пути на светлый Олимп, и проведет он свои бессмертные дни среди мрака и скорби. Олимпийские боги очень любили божественную игру и чтили богиню Каиссу за ее способность воспитывать игрой волю, отвагу, твердость духа и способность расчетливо находить жизненно важные решения. Корченный Тартар знал, что освобожденный Гераклом Прометей обучил своего спасителя искусству божественной игры, и даже сам хитроумный Одиссей на обратном пути из Колхиды, научившись играть, нередко проигрывал Гераклу. Но злобный Тартар не боялся никого.

Поединок должен был состояться у подножия Олимпа, там, где каждые четыре года проводились игры атлетов. Но никто из смертных не должен был быть свидетелем этой битвы богов (Геракл уже стал равным им!). Боги же Олимпа сошли с его вершины, чтобы насладиться поединком, ибо нет большей радости, чем видеть борьбу умов. Сам Зевс явился со своей супругой Герой и даже поспорил с ней об заклад, ставя на Геракла, а она на Корченного Тартара. Закладом были сокровища пещер далекого Востока, откуда прибыла богиня Каисса, назначенная теперь Зевсом бесстрастным судией этого поединка. В помощь к ней пришла богиня Фемида, которая сменила свои весы правосудия на сосуд, из которого она должна была наливать через узкое горлышко воду попеременно в чашу того из противников, кто обдумывал свои действия. И горе тому, чья чаша переполнится раньше, чем кончится бой, он будет считаться поверженным. Остальные боги разместились вокруг игрового поля, расчерченного на разноцветные клетки, на которых по краям стояли в два ряда фигуры из белого и черного мрамора. Фигуры по указанию сражающихся переносили с клетки на клетку. Противники смотрели на игровое поле со сторон, обмениваясь колкими словами, и для очередного хода подходили к богиням. Фемида, услышав распоряжение о сделанном ходе, тотчас начинала наполнять чашу другого противника, а Каисса передавала приказ карликам кекропам передвинуть нужную фигуру на указанную клетку. Чтобы смертные не приблизились к сонму богов, любующихся схваткой, Зевс — «собиратель туч» нагнал их столько, что почернело небо и сверкающие молнии не только освещали игровое поле, но смертельно напугали всех окрестных жителей, которые не смели показаться из жилищ. И под грозовые раскаты начался бой. Тартар, царь мрака, огромный, хромой, весь перекошенный набок, взял себе черные фигуры. Геракл распоряжался светлыми. Корченный насмехался над своим противником, который, «видно, не привык упражняться в игре ума». «Здесь мало подставить свои плечи под небесный свод вместо титана Атланта, мало оторвать от земли титана Антея, который набирался от нее сил». «Не пригодятся в игре ума отравленные Гераклом стрелы, одной из которых в конечном счете он глупо отравил самого себя!» «И не поможет здесь «навозная выдумка» промыть Авгиевы конюшни повернутой в них рекой». «И уж совсем ни к чему верный глаз стрелка или разрубающий скалы удар меча!» «Думать надо уметь, думать! Головой играть, а не мускулами!» Так насмешливо выкрикивал Корченный Тартар, стараясь унизить и запугать своего врага. Конечно, Тартар был искусен в божественной игре. Но ему хотелось не только выиграть сражение, но еще и поиздеваться над Гераклом подобно царице Ливии Омфале, которой герой во искупление минутной вспышки гнева добровольно продал себя в рабство на три года. Вздорная женщина старалась вволю насладиться за этот срок, глумясь над сильнейшим из сильнейших. Она унизительно наряжала его в женские платья, заставляла ткать и прясть, но так и не смогла сломить терпение и выдержку героя. Но здесь перед лицом всех богов обидные выкрики Корченного Тартара достигли цели, лишив Геракла спокойствия и ясности мысли. Слишком он был вспыльчив и горяч. Неоправданная поспешность Геракла позволила Тартару, даже не вводя в бой всех своих сил, добиться значительного материального преимущества. Богиня Гера сказала эгидодержавному супругу: — Смотри, Зевс, твой сын потерял тяжелую колесницу. Любой оракул предречет теперь ему поражение. Ничего не ответил Зевс, свел только грозно брови, и еще пуще засверкали молнии из сгустивших туч. А Корченный Тартар кричал: — Смотри, герой, носивший бабьи платья, это не просто сгущаются тучи над тобой, это растет моя черная рать! Смолчал Геракл, только глубокие морщины прорезали его лоб. — Я заставлю тебя плясать в моей бездне! И загоню тебя туда еще на игровом поле! — грозил Корченный, приплясывая и припадая на одну ногу. Искусными ходами вынудил он царя беломраморных фигур перейти все игровое поле и вступить «в край мрака», где в начале игры построена была черная рать. Вздохи прокатились по подножию Олимпа. Переживали боги. Многие любили Геракла, но коль скоро дело доходит до заклада, приходится считаться с мрачной силой Корченного, который перешел на самые отвратительные оскорбления противника: — Не сын ты Зевса, а помет анатолийского раба, прельстившего твою мать Аклмену. Анатолиец ты! Вскипел Геракл, схватил рукой камень, чтобы бросить им в оскорбителя, но оплавился камень в его ладони, словно был он осколком прозрачной глыбы, встречающейся под белой шапкой высоко в горах за Колхидой или в царстве великанов на далеком севере. Рассыпался в горячей руке оплавленный камень, и вспомнил Геракл, что бьется с богом мрака, сыном Обмана и Измены, бьется на игровом поле. И сдержался он, сказав, как когда-то так же оскорблявшему его великану: — Пусть на словах ты победишь. Посмотрим, кто победит на деле. Восхитилась богиня Каисса Гераклом, не выдержало женское сердце бесстрастной богини. Воспользовавшись тем, что Корченный продолжал кричать обидные для Геракла слова, обращаясь к наблюдавшим за игрой богам, она шепнула Гераклу: — Герой, я не могу как судия подсказать тебе план борьбы, но как богиня божественной игры я вижу, что хоть и меньше у тебя светлых сил, чем сил мрака, все же ты можешь одолеть их, если совершишь свой тринадцатый подвиг на тринадцатом ходу… Геракл гордо прервал ее: — Я сражаюсь один на один. — Да, один ты и одолеешь врага, если рискнешь после пяти ходов остаться на игровом поле один против всей черной рати, если отважишься принести в жертву богине Победы всех беломраморных воинов, чтобы один лишь светлый царь со стрелами выстоял против сонма врагов семь ходов и еще один ход, не защищаясь, а нападая. — Семь ходов и еще один одному против всех? — отозвался Геракл. — Но так даже в бою не бывает! — Это не просто бой, это твоя жизнь на Олимпе, это бессмертие! Я сказала тебе, ЧТО ты можешь сделать за тринадцать ходов, но не сказала КАК. И тем не преступила клятвы судии. И она отошла к богине Фемиде, лившей воду в чашу задумавшегося Геракла, который смотрел на игровое поле, заполненное беломраморными и смольно-черны-ми фигурами. Он думал, а струйка воды из узкого горлышка кувшина Фемиды грозила переполнить его чашу. «Богиня Каисса все видит на игровом поле, но как увидеть смертному на пороге бессмертия то, что доступно ей?» Так думал Геракл, пока яркой молнией не озарился его ум. Когда герой сделал свой ход, боги ахнули. Бог сна Гипнос даже вскочил с каменной скамьи, ибо такого не увидишь и во сне! Ворвавшийся в стан светлых герой черных фигур уже уничтожил тяжелые беломраморные колесницы, копьеносца и грозил убить кентавра. Но Геракл не только оставил того на погибель, а бросил и второго своего кентавра в самую гущу вражеских сил. Однако хитрый Тартар разгадал уготовленную ему западню и вместо того, чтобы сразить ворвавшегося в его лагерь кентавра, уничтожил другого, которого загнал перед тем в безысходность. Геракл же, осененный открывшимся ему планом, поставил следующим ходом снова под удар, но на этот раз своего копьеносца, дерзко грозя копьем царю Корченного Тартара, который сам же ограничил свободу его действий, допустил к нему в лагерь царя беломраморных. К тому же и жадно сберегаемые Корченным в резерве огромные силы черных тоже стесняли их царя. Наглого копьеносца, конечно, можно было сразить, и Корченный, не задумываясь, сделал это. Тогда Геракл нацелил одну из оставшихся у светлого царя стрел прямо в грудь черному царю. Пришлось Корченному бросить на помощь ему героя черных, который прикрыл бы своей силой черного царя. И тут Геракл обрушил на противника столь свойственные ему при свершении подвигов удары, каждый из которых дорого стоил ему. Сначала в жертву богине Нике принесен был кентавр, еще глубже врезавшийся в толпу врагов, затем пал там и сам герой светлых, оставив белого царя одного в поле. Некому было теперь его защищать. Но по воле Геракла он не защищался, а нападал, используя оставшиеся в его колчане стрелы. И ход за ходом, а было их семь и еще один, Геракл так сжал вражескую рать, словно заползшую в его колыбель змею или как придавил к земле адского пса Кербера, или Критского быка, или Немейского льва, шкура которого украшала теперь его могучий торс. Корченный смолк. Он уже не выкрикивал оскорблений Гераклу, а хрипло отсчитывал ходы, не отходя от своей переполнявшейся водой времени чаши. Семь ходов и еще один, как предрекла богиня, понадобились Гераклу, чтобы бросить на колени врага, сделать неизбежным появление на поле новых беломраморных воинов, в которых превращались достигшие края поля стрелы. Богиня победы Ника опустилась на игровое поле и коснулась великого героя своим крылом. Боги расплачивались друг с другом оговоренными закладами. Зевс сказал Гере: — Нет, не бесценные сокровища далеких пещер передашь ты мне. Раз ты проиграла, то должна отказаться от своей ненависти к Гераклу, который совершил свой тринадцатый подвиг и взойдет теперь на кручи Олимпа. Гера поникла головой: — Хорошо, Зевс, считай, что сын твой Геракл, став бессмертным на Олимпе, выиграл в своем тринадцатом поединке и мою любовь, которая, клянусь богиней правды и врагов обмана, будет так же глубока, как и былая моя ненависть, сопровождавшая всю его жизнь на Земле. И мы дадим ему в жены богиню. — Каиссу, — решил Зевс. Боги встали. Корченный Тартар шумел. — Я требую переиграть! — вопил он. — Богиня Каисса постыдно шепталась с Гераклом, а продавшийся им бог Гипнос сидел на четвертой скамье и смотрел на меня, навевая сон. Я проспал последние ходы, и только потому Гераклу удалось довести до конца свой нелепый и ложный план. Но богиня Фемида, за которой было последнее слово, объявила претензии Корченного Тартара презренными. Богиня же Каисса, передвигая с помощью карликов кекрепов беломраморные и смолисто-черные фигуры, показала всем, что, как бы ни играл Тартар, победа Геракла была неизбежной. Слепой старец кончил свой певучий рассказ о последнем подвиге Геракла. Он сидел спокойный, величавый, и пальцы его шевелились, словно перебирали струны невидимой кефары. — Неужели это были шахматы? — спросил я. — Я не играю в них, — вздохнул старик. — Я только передал ход игры, как рассказывали прадеды, а им их прадеды. Это такое же повествование, как путешествие Одиссея или осада Трои. — Трою раскопали, пользуясь указаниями поэмы Гомера, — заметил художник. — Да, Шлиман! — кивнул слепец. — Может быть, и сейчас найдется кто-нибудь, кто по моему рассказу раскопает «игровую Трою», разгадает, ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ИГРОВОМ ПОЛЕ богов у подножия Олимпа. Мы расстались с нашим удивительным продавцом губок.
Подаренная им губка вот уже двадцать лет лежит у меня на столе, напоминая о встрече с «ожившим Гомером», лежит укором мне, поэту шахмат, все еще не расшифровавшему игры, в которой ее богиня Каисса не устояла перед обаянием героя. Понадобились два десятилетия, чтобы я все-таки «откопал шахматную Трою», чтобы мог теперь предложить вниманию читателей свой вариант того, что произошло на игровом поле под Олимпом после слов Ка-иссы. Вот какая позиция могла сложиться в шахматах (если это были шахматы!) в результате самонадеянной игры Корченного Тартара и неискушенного Геракла, у которого все же нашлось достаточно воли и ума, чтобы разгадать скрытый путь к выигрышу. В этой позиции белые могут выиграть единственным этюдным путем, описанным в мифе о Геракле.
 Первым ходом они жертвуют коня (кентавра), вторгаясь в стан черных.
1. Ке6!
Но черные разгадывают ловушку, связанную со взятием этого коня: 1… de 2. d6 — и атака белых неотразима: 2… Od4 3. Ф: еб Od5 4. d7 и выигрывают. Или: 2… ed 3. Ф: е6+Се7 4. dc Kpf8 5. de+ К: е7 6. Ф: f6 + Kpg8 7. К: h6 и мат.
Потому-то черные и взяли другого коня, не видя непосредственной угрозы и увеличивая материальное преимущество.
Но теперь их ошеломляет новый удар слона (копьеносца), грозящего непосредственно черному королю:
1… Ф:g4 2. С:с6!
Слона приходится брать, ибо отход короля 3… Kpf7 ведет к разгрому черных — 3. d6, и уже не спастись. Попытка же ввести в бой ферзя обречена — 2… Ф f5 3. Cd7+ Kpf7 4. Kd8+ — и выигрыш белых! Если же 2… Ф: h5, то 3. С: d7+ Kpf7 4. d6, и черные или теряют ферзя, или получают мат ферзем на f7. Но чем взять дерзкого слона? Если конем 2… К: сб, то последует 3. dc dc 4. К: d8 Фс4 5. Ф с4 be 6. еб с выигрышем. Или 4… Фg7 5. Феб и мат следующим ходом.
Безопаснее взять слона пешкой:
2… dc
Но теперь освободился путь для броска белой пешки с серьезной угрозой черному королю:
3. d6
Взятие этой пешки развязывает неотразимую атаку белых: 3… ed 4. cd С: d6 5. ed Ф§ 3 6. Kf4! Ф f4. 7. Феб + Kpf8 8. Kpd7, и у черных нет защиты. Если 8… Феб, то 9. d7 Ф: еб + 10. fe Кре7 11. Крс7 и выигрывают.
Вот почему Корченный Тартар вынужден был вмешательством ферзя отвести удар белой пешки (стрелы) с поля d7.
3. Фd1
Но белые планомерно освобождают диагональ для действия своего ферзя, чтобы провести комбинацию «удушения» черных.
Первым ходом они жертвуют коня (кентавра), вторгаясь в стан черных.
1. Ке6!
Но черные разгадывают ловушку, связанную со взятием этого коня: 1… de 2. d6 — и атака белых неотразима: 2… Od4 3. Ф: еб Od5 4. d7 и выигрывают. Или: 2… ed 3. Ф: е6+Се7 4. dc Kpf8 5. de+ К: е7 6. Ф: f6 + Kpg8 7. К: h6 и мат.
Потому-то черные и взяли другого коня, не видя непосредственной угрозы и увеличивая материальное преимущество.
Но теперь их ошеломляет новый удар слона (копьеносца), грозящего непосредственно черному королю:
1… Ф:g4 2. С:с6!
Слона приходится брать, ибо отход короля 3… Kpf7 ведет к разгрому черных — 3. d6, и уже не спастись. Попытка же ввести в бой ферзя обречена — 2… Ф f5 3. Cd7+ Kpf7 4. Kd8+ — и выигрыш белых! Если же 2… Ф: h5, то 3. С: d7+ Kpf7 4. d6, и черные или теряют ферзя, или получают мат ферзем на f7. Но чем взять дерзкого слона? Если конем 2… К: сб, то последует 3. dc dc 4. К: d8 Фс4 5. Ф с4 be 6. еб с выигрышем. Или 4… Фg7 5. Феб и мат следующим ходом.
Безопаснее взять слона пешкой:
2… dc
Но теперь освободился путь для броска белой пешки с серьезной угрозой черному королю:
3. d6
Взятие этой пешки развязывает неотразимую атаку белых: 3… ed 4. cd С: d6 5. ed Ф§ 3 6. Kf4! Ф f4. 7. Феб + Kpf8 8. Kpd7, и у черных нет защиты. Если 8… Феб, то 9. d7 Ф: еб + 10. fe Кре7 11. Крс7 и выигрывают.
Вот почему Корченный Тартар вынужден был вмешательством ферзя отвести удар белой пешки (стрелы) с поля d7.
3. Фd1
Но белые планомерно освобождают диагональ для действия своего ферзя, чтобы провести комбинацию «удушения» черных.
 Ферзь черных уже не контролирует поле g7, и Геракл может пожертвовать сначала на g7 коня, а потом на f7 ферзя (героя!).
4. Kg7+ C:g7 5. Фf7 + Кр: f7
Итак, король белых остался один на доске против черного воинства: короля, ферзя, ладьи, слона и двух коней! По рассказу слепого грека, царю светлых предстоит целых восемь ходов быть в поле одному, вооруженному лишь «стрелами» (пешками!), и не только выстоять, но победить противника!
6. е6+ Kpf8 7. d7 — вот он, смертельный зажим!
Тартар делает попытку вырваться хотя бы конем. Но у Геракла мертвая хватка, которую не раз познали враги (см.: диаграмму на стр. 296):
7… b4 8. а4
Тартар лукав и пытается оплести противника коварной сетью.
8… bЗ!
Никак нельзя сейчас 9. e8Ф? Ф d8 10. Кр: d8 be, и Геракл повержен! Но сила великого героя не только в гневном напоре, но и в ледяном спокойствии:
Ферзь черных уже не контролирует поле g7, и Геракл может пожертвовать сначала на g7 коня, а потом на f7 ферзя (героя!).
4. Kg7+ C:g7 5. Фf7 + Кр: f7
Итак, король белых остался один на доске против черного воинства: короля, ферзя, ладьи, слона и двух коней! По рассказу слепого грека, царю светлых предстоит целых восемь ходов быть в поле одному, вооруженному лишь «стрелами» (пешками!), и не только выстоять, но победить противника!
6. е6+ Kpf8 7. d7 — вот он, смертельный зажим!
Тартар делает попытку вырваться хотя бы конем. Но у Геракла мертвая хватка, которую не раз познали враги (см.: диаграмму на стр. 296):
7… b4 8. а4
Тартар лукав и пытается оплести противника коварной сетью.
8… bЗ!
Никак нельзя сейчас 9. e8Ф? Ф d8 10. Кр: d8 be, и Геракл повержен! Но сила великого героя не только в гневном напоре, но и в ледяном спокойствии:
 9. cb КЬ5 +
Тартар отдает своего коня, идя на все!
10. ab cb 11. d8Ф + Ф:d8 + 12. Кр: d8 b4!
Вот каково дно черного замысла! Сыграй здесь Геракл торжествующе 9. сб? и черным пат — ничья, закрывающая герою путь на светлый Олимп!
Однако Геракл настороже и не оставляет врагу никаких шансов. Своим тринадцатым ходом он завершает свой тринадцатый подвиг.
13. Крс7!
Черный король распатован, и белая пешка неизбежно пройдет на край доски, матуя черного короля.
Вот здесь богиня Победы Нике, очевидно, и опустилась на игровое поле, коснувшись крылом Геракла.
Корченный Тартар скандалил, пытаясь доказать, что план Геракла был ложным и опровержению помешал бог Гипнос, усыпивший бдительность Корченного Тартара.
Тогда богиня Каисса показала, что, если бы Корченный Тартар на восьмом ходу играл бы иначе, это не помогло бы ему:
9. cb КЬ5 +
Тартар отдает своего коня, идя на все!
10. ab cb 11. d8Ф + Ф:d8 + 12. Кр: d8 b4!
Вот каково дно черного замысла! Сыграй здесь Геракл торжествующе 9. сб? и черным пат — ничья, закрывающая герою путь на светлый Олимп!
Однако Геракл настороже и не оставляет врагу никаких шансов. Своим тринадцатым ходом он завершает свой тринадцатый подвиг.
13. Крс7!
Черный король распатован, и белая пешка неизбежно пройдет на край доски, матуя черного короля.
Вот здесь богиня Победы Нике, очевидно, и опустилась на игровое поле, коснувшись крылом Геракла.
Корченный Тартар скандалил, пытаясь доказать, что план Геракла был ложным и опровержению помешал бог Гипнос, усыпивший бдительность Корченного Тартара.
Тогда богиня Каисса показала, что, если бы Корченный Тартар на восьмом ходу играл бы иначе, это не помогло бы ему:
 8… Ф:b5 9. а8Ф+; Фе8 10. h5!
Но, конечно, не 10. Ф:е8, как показывал Корченный, после чего ему хотелось 10… Кр: е8 11. h5 Cf8! 12. Kpb7 Kpd8 13. Кр: а7 Крс7 — и ничья! При внимательной же игре будет совсем не так!
10… КЬ5+ 11. ab bЗ 12. ab cb 13. Ф:е8+; и снова выигрыш на тринадцатом ходу!
8… Ф:b5 9. а8Ф+; Фе8 10. h5!
Но, конечно, не 10. Ф:е8, как показывал Корченный, после чего ему хотелось 10… Кр: е8 11. h5 Cf8! 12. Kpb7 Kpd8 13. Кр: а7 Крс7 — и ничья! При внимательной же игре будет совсем не так!
10… КЬ5+ 11. ab bЗ 12. ab cb 13. Ф:е8+; и снова выигрыш на тринадцатом ходу!
Поскольку мне после двадцатилетних усилий удалось воспроизвести на шахматной доске «шахматную Трою», описанную «ожившим Гомером XX века» битву богов на склоне Олимпа, во мне утвердилось убеждение, что шахматная игра, завезенная с Востока, была известна и древним грекам, найдя даже свое отражение в одном из мифов. И возможно, что старинные ограничения действий фигур были последующими искажениями ее первоначальных «божественных» правил, восстановленных ныне полностью. Пусть это лишь гипотеза, но, может быть, она придется кому-нибудь по сердцу!
Лечебное средство
Они вернулись через час на такси и в полицейской машине с моргающим фонарем на крыше. Мы тут же, к величайшему удивлению прохожих, облачились в неуклюжие костюмы и вполне могли вообразить себя на Марсе, как заметил не без юмора наш усатый щеголь с радиометром, который привел нас по радиоактивному следу от обворованного пакгауза к этому дому. Инженер теперь походил на всех нас, кроме шерифа, выделявшегося завидным ростом. Прежде он был мясником и лихо разделывал туши. Он пожелал непременно перецепить свою шерифскую звезду на скафандр. Противорадиационные костюмы были неимоверно тяжелы, будучи освинцованными. Я чувствовал, что меня пригибает к земле, по которой и в обыкновенном костюме хожу не слишком проворно. Подъем на четвертый этаж был не только для меня, но и для моего приятеля Отто, толстого начальника пострадавшей железнодорожной станции, а также не менее грузного, чем он, старшего инженера, ворчуна, не прекращающего брюзжать, сущим мучением. Однако мы заползли наверх. Шериф, когда инженер с аппаратом остановился перед нужной дверью, резко позвонил, а потом стал стучать в нее ногой. Дверь вскоре открылась, и в ее проеме появилась испуганная изможденная женщина с девочкой лет шести, с торчащими косичками и круглыми от страха глазами, льнущей к материнскому бедру. Вообще-то было отчего испугаться. Вид у нас, конечно, был ужасающий: толпа в шесть человек (включая прибывших полисменов), наряженная как на маскараде. — Сюда! — приглушенным маской хриплым басом приказал шериф. — Вперед! — И он пропустил в дверь инженера с аппаратом, отстранив рукой хозяйку. Счетчик заставил повернуть направо мимо туалетной комнаты на кухню. Инженер водил своим аппаратом, словно обнюхивая всю убогую обстановку, наконец указал на полку. — Боже! Что вы ищете, джентльмены? Это же просто сахарница! — со слезами в голосе произнесла бедная женщина. Детектив Дэвидсон с завидной отвагой и предосторожностями движением фокусника сиял с полки сахарницу, около которой счетчик залился соловьем, словно сопровождая этим цирковой аттракцион… Сахарница оказалась на столе. — Где ваш муж, мэм? — грозно спросил шериф. — Он болен, сэр, не встает с кровати уже второй день. — Так. А когда это случилось в пакгаузе? — тем же тоном вопрошал глава нашего «марсианского» отряда. — Как раз с того времени он в постели, сэр, — угодливо отозвался долговязый Дэвидсон. — Вы-то откуда знаете? — возмутилась женщина. — Заболеть человеку не дают. Наряжаются бог знает как и врываются в частную квартиру. Я буду жаловаться. — Жаловаться будете врачам! — грубо оборвал ее шериф, поглаживая свою звезду на скафандре. — Ведите меня к мужу. Кто он такой? — Что вы хотите от него? Это Джон Смит, каких много. Копал землю, таскал тяжести. Сейчас без работы. Болен. И даже пособия по безработице уже не получает. Срок вышел. А у него дети. Он не встает. — Поднимем. Небось через каменную стену перемахнул, как спортсмен. — Да накажет вас бог за такие слова, сэр! — Наказывать будут не меня, мэм. Давайте его сюда, стаскивайте с койки, не то мои молодчики сделают это за вас. — Я здесь. Я сам притащился. Что вам надо? — послышался слабый голос появившегося в коридорчике человека с бледным лицом и впалыми глазами. — Мне нужно ваше полное признание. Чистосердечное. И без всяких фокусов. Где вы взяли эту штуку? — И шериф показал на лежащую рядом с сахарницей вынутую из нее ампулу. — Я нашел ее, сэр. Кто-то обронил. Я не сообразил, что она представляет какую-то ценность, не то непременно принес бы ее в полицию. — Так. Кто бывал у вас в доме после хищения ампулы? — Шериф? Это вы? Я не узнал вас в этом костюме. Я всегда голосовал за вашу партию. У меня были мои парни, чтобы поглазеть на находку. — Поглазели? А где ты ее нашел? В пакгаузе? — Может быть, сэр. Я случайно забрел туда… в поисках работенки. Помочь там… или что. — Так где ж она была? Отвечай и не виляй! — Валялась под ногами, сэр. — Валялась? Внутри свинцового контейнера? — Контейнеры были рядом, сэр. Это точно. — Рядом с тем, который ты взломал? Так. Ну и зачем ты показывал ампулу приятелям? — Они сказали мне, что она наверняка лечебная, сэр. Только, чтобы полечиться ею, надо иметь кучу денег. А у моей жены рак груди. Видите, как она выглядит? Двое детей. Работы нет, а лечиться надо. Ой как надо! Мне ампулы не жаль. Возьмите, пожалуйста, если она кому-нибудь поможет. Дай-то бог. Я католик, сэр. И мы ждем ребенка. — Еще? Ну, кролики! В тюрьму тебе его принесут на свидание. — За что, сэр? За то, что я нашел ее, эту дрянь? — Нашел, нашел, не спорю. Внутри свинцового контейнера, который ломом вскрывал. Где он, твой лом? Куда забросил? — Мы найдем его, господин шериф, — заверил частный детектив таким тоном, словно у него в руках был радиометр. — Отыщем, где он лежит. — Ну, собирайся в тюрьму, негодяй! Эй, наручники! — Не нужно, сэр. Право, не нужно, — вежливо попросил инженер с аппаратом. — Как так не нужно? А закон? — Он прав, господин шериф. Действительно не требуется, — подтвердил детектив. Отто толкнул меня локтем в бок: — Вы понимаете что-нибудь, Джим? Я мрачно кивнул. Инженеры, отведя шерифа в сторону, что-то объясняли ему. — Ладно! — громогласно возвестил он и, обернувшись к полисменам, властно приказал: — Найти этих глупцов-приятелей, что рассматривали ампулу. Всех — тотчас в госпиталь! А этого, — он ткнул пальцем в беднягу вора, — оставить здесь. Но выходить из дома не позволим, пока не вынесут. Вперед ногами. — Что вы такое говорите, сэр? — ужаснулась женщина. — Повторяю то, что мне разъяснили господа инженеры, а они свое дело знают… на пригородном заводе. Ваш мистер Смит стащил в пакгаузе такую дьявольскую штуку, которая, считай, уже отправила его к праотцам. Пусть передаст им привет от местной власти. У меня там есть «подопечные», которым я помог туда попасть. — Это же лечебное средство, сэр! — запротестовал похититель. — Лечебное, — усмехнулся шериф, — против такой болезни, как твоя неудачная жизнь, негодяй, и всей твоей семьи тоже. Вот так, леди и джентльмены! — Как? Что вы такое говорите? — еще больше побледнел похититель. — И моя семья тоже? — А как же! Ты, должно быть, неграмотный? О нейтронной бомбе слыхал? — Что-то там болтали. И даже читал где-то… — Болтали и писали, что все останется нетронутым, кроме живности. А живность в твоей паршивой квартире известна: ты да твоя семья. Вот так. — Сэр! — запротестовала несчастная женщина. — А как же дети? Вы не имеете права так шутить! — И она заплакала. Мы ушли.
ГОСТЬ ИЗ КОСМОСА
Когда-то, путешествуя по Арктике, я записал наиболее интересные беседы, рассказы, воспоминания и опубликовал потом «Полярные новеллы». Но тогда я не рискнул включить некоторые из бесед в кают-компании, которые уносили нас не только за пределы Арктики, но и за пределы нашей планеты. Однако именно они отозвались потом на всей моей жизни. Потому с особым чувством я снова переношусь на родной мне борт «Георгия Седова».
— Сегодня вечером устроим встречу с учеными, — сказал однажды Борис Ефимович.
Я знал, что вместе с палеонтологом Низовским к нам на корабль перебрался географ Васильев, руководитель экспедиции на дальний архипелаг.
Кроме того, у нас на борту был… астроном.
Он попал на «Седова», когда корабль стоял в Устье.
Я вышел тогда рано утром на палубу, чтобы хоть издали посмотреть на материк. Ведь я не видел его уже несколько месяцев.
Узенькая дымчатая полоска на горизонте…
Но все-таки это краешек Большой Земли!
На воде, такой же оранжевой, как занявшаяся заря, показался моторный катер. Он шел от берега.
— Новые пассажиры, — сказал мне старпом, — три человека. Астрономическая экспедиция.
— Астрономическая экспедиция? Здесь, на Севере? Зачем?
Старпом ничего не мог разъяснить.
Подошел катер. По сброшенному штормтрапу на палубу поднялись трое.
Первый был низенький, широкий в кости, но худощавый человек в роговых очках. Я заметил чуть косой разрез необычно продолговатых глаз на скуластом, сильно загорелом лице, с выпуклыми надбровными дугами, делавшими выражение его несколько странным.
Очень вежливо поклонившись мне еще издали, он подошел и представился:
— Крымов Евгений Алексеевич. Астроном. Высокоширотная экспедиция. А это — Глаголева Наташа… То есть Наталья Георгиевна. Ботаник.
Измученная девушка в ватной куртке слабопожала мне руку. Вахтенный помощник Нетаев сразу же отвел ее в приготовленную каюту.
Третий пассажир был юноша, почти мальчик. Он очень важно распоряжался подъемом вещей из катера.
— Пожалуйста, осторожнее. Это приборы, научные приборы! — кричал он. — Говорю вам, приборы! Понимать надо!
Приборы уже лежали на палубе. Ничего похожего на телескоп я не заметил.
Что делает астрономическая экспедиция в Арктике? Разве отсюда лучше видны звезды?
Вечером, пользуясь стоянкой в порту острова Дикого, Борис Ефимович пригласил своих гостей — ученых — в салон.
Буфетчица Катя принесла шпроты из заветных запасов. На столе появился капитанский коньяк.
Ученые, включая ботаника Наташу, теперь уже розовощекую и бойкую, с удовольствием отдали должное и закускам и напитку.
Я спросил Крымова:
— Скажите, какова цель вашей астрономической экспедиции?
Протягивая руку к шпротам, Крымов ответил:
— Установить существование жизни на Марсе.
— На Марсе! — воскликнул я. — Вы шутите?
Крымов удивленно посмотрел на меня через круглые очки.
— Почему шучу?
— Разве можно наблюдать отсюда Марс? — спросил я.
— Нет, в это время Марс вообще плохо виден.
— Астроном и ботаник изучают Марс в Арктике, не глядя на небо? — Я руками развел.
— Марс мы изучаем у себя в обсерватории в Алма-Ате, а здесь…
— Что же здесь?
— Мы ищем доказательства существования жизни на Марсе.
— Это очень интересно! — воскликнул Низовский. — Я с детства увлекаюсь марсианскими каналами. Скиапарелли, Лоуэлл! Эти ученые, кажется, занимались Марсом?
— Тихов, — внушительно сказал Крымов, — Гавриил Адрианович Тихов!
— Создатель новой науки — астроботаники! — бойко вставила девушка.
— Астроботаники? — переспросил я. — Астра — звезда… И вдруг ботаника! Что может быть общего? Не поднимаю.
Наташа звонко рассмеялась.
— Конечно же, звездная ботаника! — сказала она. — Наука, изучающая растения других миров.
— На Марсе, — вставил Крымов.
— У нас при Академии наук Казахской ССР создан сектор астроботаники, новой советской науки, — гордо пояснила Наташа.
— Как же астрономы и вдруг в Арктике очутились? — спросил капитан.
— Видите ли, — сказал Крымов, — нам приходится искать условия, сходные с существующими на Марсе. Он в полтора раза дальше от Солнца, чем Земля. Атмосфера его разрежена, как у нас на высоте пятнадцати километров. Климат там резок и суров.
— Вы только подумайте, — вмешалась Наташа, — на экваторе днем там плюс 20, а ночью минус 70 градусов.
— Крепковато, — сказал капитан.
— В средней полосе, — продолжал Крымов, — зимой (на Марсе времена года подобны земным)… зимой днем и ночью минус 80 градусов.
— Как в Туруханском крае, — заметил молчавший до этого географ.
— Да. Климат Марса суров. Но разве здесь, в Арктике, не бывает таких температур? — Крымов беседовал охотно. Видно, он был влюблен в свою звездную ботанику.
— Вот теперь понимаю, почему вы здесь, — сказал капитан.
— И жизнь существует в Арктике, — продолжал астроном. — А на Марсе ведь есть и более благоприятные условия. У полярных кругов, например, где солнце не заходит по многу месяцев, температура и днем и ночью держится около плюс 15 градусов. Это же прекрасные условия для растительности!
Я не выдержал:
— И что же? На Марсе есть растительность?
— Пока еще у нас не было прямых доказательств, — уклончиво ответил Крымов.
Капитан налил всем коньяку.
— Наверное, замечательная это специальность — астрономия. У нас, моряков и полярников, принято рассказывать о себе. Вот бы вы, товарищ географ, и вы, товарищ Низовский, а особенно, вы, астрономы, рассказали бы, как учеными стали, — предложил Борис Ефимович.
— Что ж тут рассказывать, — отозвался Низовский. — Учился в школе, потом в университете, остался при кафедре аспирантом… вот и все.
— Меня ученым сделала страсть, — сказал Валентин Гаврилович Васильев. — Страсть к новому, жажда передвижения. Я исходил, исколесил всю нашу замечательную страну. Вот теперь до Арктики добрался. А как подумаешь, сколько еще неисхоженного, неизведанного на наших просторах, радостно становится. Пью за необъятную и красивейшую нашу Родину! — сказал географ и выпил рюмку.
Все последовали его примеру.
— А вы? — обратился капитан к Крымову. — Вы что расскажете нам?
Крымов стал чрезвычайно серьезным.
— Это очень сложно, — задумчиво начал он, потирая свои выпуклые надбровные дуги, — и очень долго рассказывать.
Мы все стали просить. Наташа выжидательно смотрела на своего руководителя. Очевидно, она не знала его биографии.
— Пожалуй, я расскажу, — согласился наконец Крымов. — Я родился в эвенкийском стойбище. Раньше эвенков звали тунгусами.
— Вы эвенк? — воскликнула Наташа.
Крымов кивнул.
— Я родился в эвенкийском чуме в тот год, когда в тайге… Вы все, наверное, слышали про Тунгусский метеорит, который упал в тайгу?
— Слышали немного. Расскажите, это очень интересно, — попросил Низовский.
— Это было необыкновенное явление, — сразу оживился Крымов. — Тысячи очевидцев наблюдали, как над тайгой возник огненный шар, по яркости затмивший солнце. Огненный столб уперся в безоблачное небо. Раздался ни с чем не сравнимый по силе удар… Этот удар прокатился по всей земле. Он был слышен за тысячу километров от места катастрофы: зарегистрирована остановка поезда близ Канска, в восьмистах километрах от места катастрофы. Машинисту показалось, что у него в поезде что-то взорвалось. Небывалый ураган прокатился по земле. На расстоянии четырехсот километров от места взрыва у домов сносило крыши, валило заборы… Еще дальше — в домах звенела посуда, останавливались часы, как во время землетрясения. Толчок был зафиксирован многими сейсмологическими станциями: Ташкентской, в Иене, Иркутской, которая и собрала показания всех очевидцев.
— Что же это было? — спросил Низовский. — Толчок от удара метеорита о землю?
— Так думали, — уклончиво ответил Крымов. — Воздушная волна, вызванная катастрофой, два раза обошла земной шар. Она была отмечена барографами в Лондоне и других местах.
Странные явления наблюдались во всем мире в течение четырех суток после катастрофы в тайге. В Западной Сибири и по всей Европе ночью было светло, словно в ленинградские белые ночи…
— Когда это было? — спросил капитан.
— В год моего рождения, — ответил Крымов, — в тысяча девятьсот восьмом году. Огненный ураган пронесся тогда по тайге. За шестьдесят километров, в фактории Вановара, люди теряли сознание, чувствуя, что на них загорается верхняя одежда. Воздушной волной многих оленей подбросило в воздух, а деревья тайги… Верьте мне, я из тех мест и много лет участвовал в поисках метеорита… Все деревья в радиусе тридцати километров вырваны с корнем, почти все сплошь! В радиусе шестидесяти километров они повалены на всех возвышениях.
Небывалое опустошение произвел ураган. Эвенки бросались в поваленную тайгу искать своих оленей, лабазы с имуществом. Они находили только обугленные туши. Горе посетило тогда и чум моего деда Лючеткана. Мой отец, ходивший в поваленную тайгу, видел там огромный столб воды, бивший из земли. Отец умер через несколько дней в страшных мучениях, словно его обожгло… Но на коже у него не было никаких ожогов. Старики испугались. Запретили эвенкам ходить в поваленную тайгу. Назвали ее проклятым местом. Шаманы говорили, что там на землю спустился бог огня и грома — Огды. Он, дескать, и жжет невидимым огнем всех, кто туда попадает.
В начале двадцатых годов, — продолжал Крымов, — в факторию Вановара приехал русский ученый Леонид Алексеевич Кулик. Он хотел найти метеорит. Эвенки отказались сопровождать его. Он нашел двух ангарских охотников. Я присоединился к ним. Я был молод, хорошо знал русский язык, кое-чему научился в фактории и ничего на свете не боялся.
Вместе с Куликом мы прошли через гигантский лесовал и обнаружили, что корни всех бесчисленных деревьев, миллионов поваленных стволов направлены в одно место — в центр катастрофы. Когда же мы увидели эпицентр, то были поражены. Там, где разрушения от упавшего метеорита должны быть наибольшими… лес стоял на корню. Это было необъяснимо не только для меня, но даже и для русского ученого. Я видел это по его лицу.
Лес стоял на корню, но это был мертвый лес — без сучьев, он походил на врытые в землю столбы…
Посредине леса виднелась вода — озеро или болото.
Кулик предположил, что это и есть воронка от упавшего метеорита.
Простодушный, общительный, он объяснял нам, охотникам, словно мы были его учеными помощниками, что где-то в Америке, в пустыне Аризона, есть огромный кратер — тысяча двести метров в диаметре, сто восемьдесят метров глубиной. Кратер образовался тысячи лет назад от падения гигантского небесного тела, метеорита, такого же, как и тот, что упал здесь, и который непременно надо найти. Тогда-то я и загорелся желанием помогать русскому профессору.
На следующий год Кулик вернулся в тайгу с большой экспедицией. Он нанимал рабочих. Конечно, я был первым. Мы искали осколки метеорита. Осушили центральное болото в мертвом лесу, исследовали все углубления, но… никаких следов не только от метеорита, но и оставленной им воронки не нашли.
Десять лет ежегодно возвращался в тайгу Кулик, десять лет я сопровождал его в его бесплодных исканиях. Метеорит исчез.
Кулик предполагал, что он провалился в болото, а болото затянуло воронку. Но мы бурили почву и наткнулись на неповрежденный слой вечной мерзлоты толщиной двадцать пять метров. После бурения по буровой скважине поднялась вода. Если бы метеорит пробил, расплавил этот слой мерзлоты, слой не мог бы восстановиться: земля там теперь и зимой не промерзает глубже чем на два метра.
После второго года работы экспедиции я уехал вместе с Куликом в Москву и стал учиться там. Но каждое лето возвращался на поиски метеорита в родные места. Работы Кулика продолжались. Я всегда сопровождал его. Теперь я уже не был полуграмотным таежным охотником. Я был студентом университета, много читал, начинал даже кое-что критиковать в нашей науке. Но об этом я ничего не говорил Кулику. Я же знал, с какой страстной уверенностью искал он свой метеорит, даже стихи метеориту посвящал… Как мог я сказать ему о своем убеждении, что метеорита никогда не было?
— Как не было? — воскликнул Низовский. — А следы катастрофы, а поваленные деревья?
— Да, катастрофа была, а метеорита не было, — внушительно сказал Крымов. — Я задумался над тем, как мог остаться на корню лес в центре катастрофы. Чем вызывается взрыв при падении метеорита? Метеорит влетает в земную атмосферу с космической скоростью — от тридцати до шестидесяти километров в секунду. Обладая значительной массой и гигантской скоростью, метеорит несет огромную энергию движения. В момент остановки метеорита, при ударе его о землю, вся эта энергия должна перейти в тепло, это и вызывает взрыв чудовищной силы. Но в нашем случае этого не произошло… Самой встречи метеорита с землей не было.
Для меня это было очевидным. Существование мертвого леса навело меня на мысль, что взрыв произошел в воздухе, на высоте примерно трех — пяти километров, как раз над этим самым лесом.
— Как же так в воздухе? — недоверчиво заметил Низовский.
— Взрывная волна ринулась во все стороны, — уверенно продолжал Крымов. — В том месте, где деревья были перпендикулярны ее фронту, то есть непосредственно под местом взрыва, волна не повалила деревья, она лишь срезала с них все сучья. Там же, где ее удар пришелся под углом, все деревья в радиусе тридцати — шестидесяти километров были повалены. Взрыв мог произойти только в воздухе.
— В самом деле… это похоже на истину, — задумчиво потирая подбородок, сказал Низовский.
— Но какой взрыв мог произойти в воздухе? — рассуждал вслух астроном. — Ведь перехода энергии движения в тепло при ударе не было и не могло быть, так как удара не было. Этот вопрос мучил меня.
В университете у нас был кружок межпланетных сообщений. Я увлекался Циолковским, его межпланетной ракетой с запасами жидкого кислорода и водорода. Однажды мне пришла в голову мысль — это была очень смелая мысль. Если бы Кулик был со мной, я тотчас рассказал бы это ему, но… началась война. Несмотря на свой преклонный возраст, Леонид Алексеевич Кулик пошел добровольцем на фронт и погиб.
Крымов помолчал, потом продолжал:
— Я был на другом участке фронта. Часто наблюдал взрывы крупных снарядов в воздухе. И все больше и больше убеждался, что в тайге взрыв произошел именно в воздухе. И мог он быть только взрывом топлива в межпланетном корабле, пытавшемся опуститься на Землю.
— Корабль с другой планеты? — почти закричал Низовский, вскакивая с места.
Географ откинулся на спинку стула. Капитан крякнул и выпил рюмку коньяку. Наташа сидела с широко открытыми глазами и смотрела на Крымова, словно видела его в первый раз.
— Да, гость из Космоса — корабль с другой планеты. И скорее всего с Марса. Только на Марсе можно предполагать существование жизни… Тогда я думал, что взорвались запасы жидкого водорода и кислорода — единственный вид топлива, годный для космических полетов. Так я думал прежде…
— Как? — воскликнула Наташа. — А теперь вы думаете иначе? — В голосе ее было явное разочарование. Как видно, гипотеза насчет гостя из Космоса пришлась ей по душе.
— Да. Теперь я думаю иначе, — спокойно повторил Крымов. — Атомные взрывы в Японии убедили меня, какого рода топливо было на межпланетном корабле.
После войны я посвятил себя проблеме Марса. Мне нужно было доказательство существования жизни на этой планете. Я стал учеником Тихова… И вот я здесь с экспедицией, которая должна изучить поглощение тепловых лучей северными растениями.
— А что это докажет? — спросил капитан.
— Еще в прошлом веке Тимирязев предложил попытаться обнаружить на Марсе хлорофилл. Это дало бы уверенность, что зеленые пятна на Марсе, меняющие свой цвет по временам года точно так же, как меняет его земная растительность, что эти зеленые пятна — области, покрытые растениями.
— И что же, удалось открыть хлорофилл?
— Нет, не удалось. Полос поглощения в спектре, присущих хлорофиллу, на Марсе нет. Более того, если сфотографировать зеленые пятна Марса в инфракрасных лучах, то они не становятся белыми, как земные растения.
Все это как будто говорило против существования на Марсе растительности. Но Гавриил Адрианович Тихов сделал замечательный вывод. Почему земная растительность выходит белой на таких снимках? Потому что она отражает тепловые лучи, они не нужны ей. Но на Марсе солнце светит скупо. Там растения должны стараться использовать все возможное тепло. Не потому ли зеленые пятна не становятся белыми в инфракрасных лучах? Короче говоря, поэтому мы, астрономы, в Арктике. Мы проверяем, отражают ли северные растения тепловые лучи.
— И что же? — спросили все мы хором.
— Не отражают! Не отражают! Они поглощают их, как и марсианские растения! — вскричала Наташа. — Мы можем доказать, что жизнь на Марсе существует, что зеленые пятна — это сплошные хвойные леса! Что знаменитые марсианские каналы — это полосы растительности шириной от ста до шестисот километров!
— Подождите, Наташа, — остановил астроном свою помощницу.
— Каналы? — повторил Низовский. — Значит, они все-таки есть? Ведь недавно говорили, что это оптический обман.
— Каналы на Марсе сфотографированы. Фотопластинка не обманывает. Их сфотографировано больше тысячи. Они изучены. Доказано, что они появляются, постепенно удлиняясь от полюсов к экватору, по мере таяния полярных льдов Марса.
— Полосы растительности удлиняются со скоростью трех с половиной километров в час, — вмешалась Наташа, которой было не под силу молчать.
— Со скоростью течения воды в водоводах? — изумился географ.
— Да. С этой скоростью, — подтвердил астроном. — Кажется поразительным, что вся эта сеть полос растительности состоит из идеально прямых линий, главные из которых, как артерии, идут от тающих полярных льдов к экватору.
— Несомненно, это грандиозная ирригационная сеть, созданная марсианами для орошения полей, которые мы и принимаем за каналы. А каналов, конечно, нет. Есть заложенные в земле трубы, — уже увлекаясь, предположил Низовский.
Крымов с улыбкой поправил его:
— Заложенные не в Земле, а в Марсе.
— Значит, жизнь на Марсе есть! Значит, вы правы! — продолжал Низовский.
— Пока с уверенностью можно только сказать, что жизнь на Марсе не исключена.
— Чего доброго, марсиане действительно могли прилететь на Землю в тысяча девятьсот восьмом году, — сказал капитан.
— Могли, — невозмутимо ответил Крымов.
— Вот только этого земным людям не хватало, — проворчал Борис Ефимович, раскуривая трубку.
— Марс — планета умирающей жизни. Обладая меньшим размером и меньшей силой притяжения, чем Земля, Марс не смог удержать около себя первоначальную атмосферу. Ее частички отрывались от планеты и улетали в космическое пространство. Воздух на Марсе редел, испарялись моря, и водяные пары исчезали в глубинах Космоса… Воды на Марсе осталось так мало, что она вся могла бы поместиться в одном нашем Байкале.
— Значит, они летели для того, чтобы захватить нашу Землю! — решил Низовский. — Им нужна наша цветущая планета.
— Мало нам гитлеров, — проворчал капитан, — теперь имей дело еще и с марсианами.
— Я думаю, что вы ошибаетесь. Уэллс и другие писатели Запада, задумываясь об общении миров, не мыслят себе ничего другого, кроме захватов и войн. У них, на Западе, мозги уж так устроены. Свои звериные законы капитализма они готовы распространить на все галактики. На мой взгляд, зная положение с водой на Марсе и видя грандиозные ирригационные сооружения марсиан, мы можем сделать другой вывод об их общественном устройстве, которое позволяет им вести плановое хозяйство в масштабе всей планеты.
— Вы хотите сказать, что там какой-то совершенный общественный строй? — воскликнул Низовский.
— Развитие общественной жизни разумных существ не может привести ни к чему другому, — убежденно сказал географ.
— Несомненно, — подтвердил Крымов. — Но вода исчезает с Марса, продолжает исчезать. Обитатели планеты должны заботиться о том, чтобы жизнь была возможной для будущих поколений, как заботятся о жизни будущих поколений и наши современники. Марсианам необходимо добыть для Марса воду… Она есть, вода. Есть на ближайших к Марсу планетах, и в первую очередь в избытке на Земле. Возьмите Гренландию. Она покрыта трехкилометровым слоем льда. Если бы его удалить, климат Европы значительно улучшился бы. Под Москвой росли бы апельсины. В то же время переброшенный на Марс лед, растаяв там, покрыл бы всю планету пятидесятиметровым слоем то есть практически заполнил бы впадины былых океанов и снова оживил бы планету на многие миллионы лет!
— Значит, марсианам понадобится только земная вода, а не сама Земля? — спросил Низовский.
— Конечно. На Земле условия жизни настолько отличны от марсианских, что марсиане не могли бы ни дышать, ни свободно передвигаться по нашей Земле — ведь здесь они весили бы вдвое тяжелее. Представьте самих себя с удвоенным весом. Марсианам совсем не к чему завоевывать Землю. Кроме того, достигнув высокой культуры и совершенного общественного строя, они, быть может, знают войны лишь по своим историческим исследованиям. Они придут к нам на Землю, как к друзьям, за помощью, за льдом.
— Дружба планет! — воскликнул Низовский. — Но как же можно перебросить на Марс гренландский лед?
— Если металлический корабль может совершить межпланетное путешествие, то такое путешествие может совершить корабль, сделанный из льда или наполненный льдом.
Такие корабли, посылаемые с Земли на Марс, конечно, не сразу, может быть, в продолжение многих столетий, перебросят, наконец, весь гренландский лед на Марс, который за это время приспособится к новым, лучшим, чем прежние, условиям. Атомная энергия даст межпланетным кораблям необходимую силу.
— Атомная энергия, — сказал географ. — Вы уверены, что в тунгусской тайге взорвалось атомное топливо?
— Вполне уверен. Этому очень много доказательств. К сказанному еще могу добавить. Светлые ночи после катастрофы. Тогда наблюдались проникающие даже сквозь тучи зеленоватые и розоватые лучи. Несомненно, это было вызвано свечением воздуха.
В момент взрыва корабля все его вещество превратилось в пар и умчалось вверх, где остатки радиоактивного вещества продолжали свой распад, заставляя светиться воздух. Вспомните легенду о боге Огды, поражавшем невидимым огнем. Что это за огонь, который не оставляет ожогов на теле? Ведь это было не чем иным, как радиоактивным последействием, которое в течение определенного времени имеет место после атомного взрыва.
— Все это чрезвычайно походит на то, что было в Нагасаки и Хиросиме, — сказал географ.
— Но кто же летел к нам, почему они погибли? — спросила Наташа.
Крымов задумался.
— Я обратился к видным астронавигаторам с просьбой рассчитать, когда было выгодно марсианам вылететь с Марса и прилететь на Землю. Ведь Марс приближается к Земле особенно близко один раз в пятнадцать лет.
— Когда же это было?
— В тысяча девятьсот девятом году! — выпалила Наташа.
— Значит, не получается, — разочарованно заметил капитан.
— Если хотите знать, то не получается. Марсианам было выгодно прилететь на Землю в тысяча девятьсот седьмом году, в тысяча девятьсот девятом году, но никак не тридцатого июня тысяча девятьсот восьмого года.
— Какая жалость! — воскликнул Низовский.
Крымов улыбнулся.
— Подождите. Я не сказал всего. Расчет астронавигаторов указал на поразительное совпадение.
— Какое? Какое?
— Если бы межпланетный корабль летел с Венеры, то самым выгодным днем прилета было бы тридцатое июня тысяча девятьсот восьмого года.
— А когда произошла катастрофа в тайге?
— Тридцатого июня тысяча девятьсот восьмого года.
— Черт возьми?! — вскричал Низовский. — Неужели это были жители Венеры?
— Не думаю… Кстати, астронавигаторы указывают, что условия полета с Венеры на Землю в те дни были удивительно благоприятны. Ракета должна была вылететь двадцатого мая тысяча девятьсот восьмого года и, летя в том же направлении, как и Венера и Земля, все время находиться между ними, прибыв на Землю за несколько дней до противостояния Венеры и Земли.
— Конечно, это были жители Венеры! Это бесспорно! — горячился Низовский.
— Не думаю, — упрямо возражал астроном. — На Венере слишком много углекислоты, там замечены ядовитые газы. Там трудно предположить существование высокоразвитых животных.
— Но ведь они же прилетели? Значит, они существуют, — настаивал Низовский. — Ведь не будете же вы утверждать, что с Венеры прилетели марсиане?
— Вы угадали. Именно это я предполагаю.
— Ну, знаете ли! — отшатнулся Низовский. — Какие у вас доказательства?
— Они есть. Вполне разумно предположить, что в поисках воды, которую можно будет использовать, марсиане решили обследовать обе соседние планеты — и Венеру, и Землю. Сначала в наиболее выгодный срок они прилетели на Венеру. Кстати, тогда очень удачно сочетались противостояния планет, а потом… двадцатого мая тысяча девятьсот восьмого года вылетели с Венеры на Землю… Видимо, путешественники погибли в пути от действия космических лучей, от встречи с метеоритом или еще по какой-нибудь причине. К Земле приближался уже неуправляемый корабль, во всем подобный метеориту. Потому-то он и влетел в атмосферу, не уменьшив скорости при торможении. От трения о воздух корабль раскалился, как раскаляется метеорит. Оболочка его расплавилась, и атомное топливо оказалось в условиях, когда стала возможна цепная реакция. В воздухе произошел атомный взрыв. Так и погибли космические гости именно в тот день, когда их ракета, как говорят теперь точные расчеты, должна была опуститься на Землю… Возможно, что на Марсе с тревогой ждали этого дня.
— Почему вы так думаете?
— Дело в том, что в тысяча девятьсот девятом году, во время великого противостояния, многие астрономы Земли были взволнованы световыми вспышками, наблюдавшимися на Марсе.
— Неужели сигналы?
— Да, кто-то заговорил о сигналах, но голоса эти затонули в возражениях скептиков.
— Они давали сигналы своим путникам, — сказала Наташа.
— Возможно, — ответил астроном. — Прошло пятнадцать лет. К этому времени, к тысяча девятьсот двадцать четвертому году, на Земле уже существовало открытое русским ученым Поповым радио. И вот во время противостояния Земли и Марса многие радиоприемники приняли странные сигналы. Тогда закричали о радиосигналах с Марса. Заговорили о шутке Маркони. Но он опровергал это. Падкий на сенсации, он даже сам пытался поймать марсианские сигналы, организовал специальные экспедиции, но… ничего не принял. Никто не расшифровал странных сигналов, принятых на длине волны 300 тысяч метров, на какой не работали земные радиостанции.
— А в следующее противостояние? — возбужденно спросил Низовский.
— В тысяча девятьсот тридцать девятом году ничего замечено не было ни астрономами, ни радиотехниками. Если марсиане в предыдущие противостояния пытались связаться со своими путешественниками, то возможно, что потом они сочли их погибшими.
— Как это все логично… Как все это волнующе! — сказал Низовский.
— Вот видите, почему я стал астрономом, — заметил Крымов. — Я, кажется, рассказал вам много больше, чем хотел. Это коньяк виноват.
— Простите, — сказал Низовский, — я палеонтолог… Мы по кусочкам кости можем восстановить облик когда-то жившего на Земле животного. Разве нельзя представить себе, как выглядит разумный обитатель Марса? Ведь вы знаете условия его существования. Опишите, как выглядел бы гость из Космоса.
Крымов улыбнулся.
— Я думал об этом. Извольте, скажу… Кстати, я читал предположение одного из ваших коллег, палеонтолога и писателя профессора Ефремова. Я с ним во многом согласен… Единый мозговой центр и расположенные вблизи него органы стереоскопического зрения, слуха… Это все обязательно. Конечно, обязательно и вертикальное положение существа, дающее наибольший обзор местности. Теперь о внешности. На Марсе климат суров, температура резко меняется. Вероятно, марсиане не очень красивы. Они должны обладать защитным покровом, толстым слоем жира, густой шерстью или кожей фиолетового оттенка, поглощающей, как и марсианские растения, тепловые лучи. Роста марсиане маленького… ведь там небольшая сила тяжести… мускулы у них развиты меньше, чем у нас. Ну, что еще? Ах, да! Дыхательные органы… Они развиты у них в высшей степени. Ведь они должны использовать ничтожное количество кислорода, имеющееся в марсианской атмосфере. Впрочем, я не ручаюсь за точность…
— А как могут выглядеть разумные существа, живущие на Венере? задумчиво спросил Низовский.
Астроном рассмеялся.
— Вот по этому поводу я ничего не могу сказать. Мы еще слишком мало знаем…
— А все-таки… они прилетели с Венеры, — тихо сказал Низовский.
Крымов покачал головой,
Разошлись мы далеко за полночь. Борис Ефимович был в восторге от этого вечера, от ученых.
— Вот это человек! Какая у него единая линия в жизни! Такого бы к нам в Арктику!
Я помню прощание с астрономом. Вместе с Наташей он высаживался на Холодную Землю, чтобы исследовать еще и там отражательную способность местной растительности.
Ошеломленные услышанным накануне рассказом, мы стояли на палубе, смотря на покидающих нас астроботаников.
Мог ли я предполагать тогда, что навеки буду связан с тунгусской тайной!..
В катер спускали приборы. Наташа и Крымов махали нам руками. Капитан дал прощальный гудок, он всегда так делал, внимательный Борис Ефимович.
Низовский перегнулся через релинги и крикнул:
— С Венеры!
— С Марса! — крикнул в ответ Крымов. Он не улыбался, был серьезен.
Катер все уменьшался, прыгая на волнах. Он приближался к зубчатой линии далекой земли.
Через час он вернулся.
Мысленно я был в далекой тунгусской тайге.
Послесловие автора к рассказу «Гость из космоса»
Гипотеза, рассказанная астрономом во время рейса «Седова» в сороковых годах, повела после публикации рассказа к нескончаемым спорам и научным дискуссиям. Они длились более четверти века и продолжаются и сейчас. Возникший интерес к проблеме Тунгусского метеорита послужил поводом для организации самодеятельных научных экспедиций, вслед за которыми в тайгу отправились и официальные экспедиции Комитета по метеоритам Академии наук СССР и филиала ВНИИ геофизики. Все новые и новые гипотезы о природе тунгусского дива не перестают появляться и у нас, и за рубежом. Ряду ученых, высказывавших по этому поводу различные точки зрения, присваивались ученые степени. Исследование тунгусского дива продолжается, хотя неоднократно сообщалось, что оно якобы завершено. Да, возможна. Если почти четыреста лет назад, 17 февраля 1600 года, на площади Цветов в Риме за такую высказанную вслух мысль мракобесы сожгли на костре инквизиции замечательного ученого Джордано Бруно, то ныне мало кто из ученых берется защищать былую точку зрения об исключительности нашей планеты, только на которой и появилась в силу необычайного стечения обстоятельств жизнь, увенчанная в результате эволюции Разумом. Материалистически мыслящие ученые вслед за Фридрихом Энгельсом полагают, что жизнь появится всюду, где условия будут благоприятствовать ее зарождению. Если не рассматривать существование незнакомых нам форм жизни, скажем, кремниевой, а ограничиться лишь углеродистой, то условия для ее развития в первом приближении таковы: температура не выше +100 °C и не ниже — 100 °C; наличие углерода, входящего основной частью наряду с водой в строение живых организмов; наличие кислорода, главного участника жизненных энергетических реакций живых организмов, конечно, воды и, наконец, отсутствие в атмосфере планеты ядовитых газов. Все эти условия, казалось бы, могут быть соблюдены лишь в исключительных случаях. Но если искать их среди бесчисленных звезд и их планетных систем, то по теории вероятностей эта исключительность может оказаться не столь уж редкой. Многие ученые сходятся на том, что таких миров множество, расходясь лишь в оценках количества их: десятки тысяч или миллионы, даже миллиарды. Особенно интересны, конечно, наши соседи — планеты Солнечной системы. До недавнего времени их изучали лишь астрономы, но со вступлением человека в космос к ним полетели автоматические межпланетные станции, советские «Венеры» и «Марсы», американские «Маринеры» и «Пионеры». Из числа планет — носителей жизни, казалось бы, сразу отпадали планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они скованы вечным льдом и окружены, как считалось, ядовитыми атмосферами. Однако американский планетолог Карл Саган готов был сделать исключение для Юпитера, в грозовой аммиачной и углекислой атмосфере которого, но его мнению, как раз и могла зарождаться жизнь. Сообщения пролетавших вблизи Юпитера станций «Пионер» пока не дали однозначного ответа на волнующий всех вопрос. Невыясненным оказалось и положение на самых «подозрительных» с точки зрения существования там жизни планетах Венера и Марс. Венера допускала наиболее оптимистические гипотезы, проверить которые было особенно трудно, поскольку планета скрыта непроницаемым слоем облаков. В разное время бытовали различные гипотезы об условиях на ее поверхности. Долгое время считалось, что Венера — сестра Земли, что на ее поверхности температура колеблется в допустимых для существования белков пределах. Однако более точные сведения, полученные от советских и американских автоматических станций, почти убили такую веру ученых в благоприятные условия на Венере. Температура там, по-видимому, исчисляется сотнями градусов по Цельсию, а состав атмосферы говорит о преобладании в ней углекислого газа при ничтожном количестве кислорода и паров воды. Противоречивыми оказались оценки периода вращения Венеры вокруг своей оси. Если первоначальная радиолокация, по свидетельству академика Котельникова и члена-корреспондента Академии наук СССР И. Шкловского, установила период вращения в девять с долями дней, то последующие исследования дали уже совсем неожиданный результат — более двухсот дней при вращении в обратную, чем предполагали, сторону. С советской автоматической станцией, опустившейся на поверхность Венеры, связь, как известно, сразу же была потеряна. Теперь ученые склоняются к мысли о непрохождении радиосигналов через венерианскую атмосферу. Это делает многие выводы о природе Венеры сомнительными. Тайны ее ждут своего разрешения. Не менее загадочно обстоит дело и с другой «обещающей» планетой — с Марсом.ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МАРС?
Марс — планета почти вдвое меньшей массы, чем Земля. Он удален от Солнца на расстояние в полтора раза большее, чем Земля. Марс вращается вокруг своей оси за 24 часа 37 минут. Ось вращения его наклонена к плоскости орбиты примерно так же, как и у Земли. Поэтому на Марсе происходит та же смена времен года, как и у нас. Установлено, что Марс окружен очень разреженной атмосферой, состав которой расценивался по-разному. Долгое время полагали, что углекислоты в ней примерно то же процентное содержание, что и на Земле, однако кислорода отмечали лишь сотую долю от земного содержания. Исследования автоматических станций, становившихся искусственными спутниками Марса, внесли полную сумятицу в представление о составе марсианской атмосферы. Оказалось, что основной ее состав — углекислота, кислорода же и паров воды — ничтожное количество. Это никак не вязалось с заснятой поверхностью Марса, на которой отчетливо видны были русла былых рек, берега больших водоемов, характерные признаки водной эрозии. Напрашивался вывод, что когда-то вода на Марсе была в немалом количестве. Американские ученые выступили с гипотезой о двух равновесных состояниях марсианской атмосферы: известном сейчас и прежнем, когда она была сопоставима по плотности и составу с земной. Оставалось решать, почему изменилась марсианская атмосфера. В этом плане интересна гипотеза советского астронома Ф.Ю. Зигеля. Он обратил внимание на устойчивые тригональные системы среди планет нашего Солнца. Так, на орбите Юпитера, кроме него самого, еще две группы астероидов — троянцы, опережающие и догоняющие. Расстояния между ними и Юпитером равны расстоянию их до Солнца. Все эти космические образования, как и Солнце, находятся в вершинах равносторонних треугольников. Такое же образование замечено и около Земли, имеющей, как оказывается, не только спутника Луну, но и еще пылевидного спутника (облака Кордылевского), составлявших все вместе с Землей тригональную систему. Возможно, что Марс, Фаэтон, существовавший на орбите нынешних астероидов, его вероятных осколков, а также Луна когда-то находились на одной общей орбите, составляя тригональную систему. После гибели Фаэтона, распавшегося на астероиды, равновесие было нарушено, Марс и Луна перешли на собственные орбиты, более близкие к Солнцу. Получая от светила больше тепла, эти планеты потеряли свои атмосферы: Луна полностью, а Марс большую ее часть. Через какое-то время Луна прошла в «опасной» близости от Земли и была захвачена ею, Марс же обрел устойчивую орбиту, на которой находится и поныне. В его атмосфере остались лишь тяжелые молекулы углекислоты, а более легкие, азота и кислорода, обретя тепловые скорости, превышающие скорость убегания от планеты, много меньшую, чем на Земле, улетели безвозвратно в космос, так же как и водород, и пары воды. Все открытые водоемы и реки на Марсе испарились, поскольку вода уже не могла в них сохраняться при новой разреженной атмосфере. Во время этой гипотетической предыстории Марса на нем могла развиться жизнь, впрочем, точно так же, как и на столь же гипотетическом Фаэтоне, планете, по размерам своим приближающейся и к Марсу, и даже к Земле. После катастрофы, происшедшей с Фаэтоном, в измененных условиях жизнь на Марсе должна была или исчезнуть, или приспособиться к новым условиям. В этих новых условиях жизнь не исключена, но и не доказана, хотя многие наблюдения прежних лет говорят в пользу ее существования. Не прояснили проблемы и последние автоматические станции американцев, исследовавшие поверхность Марса. Особенное внимание всегда привлекали так называемые марсианские каналы, эти геометрически правильные образования на поверхности Марса, идущие по дугам больших кругов и покрывающие планету правильной сеткой. Ни на одном космическом теле, кроме Марса, таких образований не замечалось. Особенность их заключалась еще и в том, что они появлялись и исчезали в соответствии со сменой времен года, отражая распространение весной зеленой волны, идущей от полюсов к экватору сначала в одном, потом в другом полушарии. На полюсах Марса были обнаружены белые шапки, которые могли быть водой или твердой углекислотой. Они таяли поочередно в «летнее» время каждого полушария, окружаясь темной полосой как будто влажной почвы. Все это позволило высказать предположение, что на Марсе есть растения. Их изучала новая наука астроботаника.
ЧТО ТАКОЕ АСТРОБОТАНИКА?
Эта наука создана одним из выдающихся советских астрономов, ныне покойным членом-коррес-пондентом Академии наук СССР Гавриилом Адриановичем Тиховым. Тихов первый сделал фотоснимки Марса через цветные светофильтры. Этим путем ему удалось точно установить окраску и закономерность ее смены в разных частях планеты в разное время года. Особенно интересными оказались пятна, названные когда-то морями. Эти пятна меняли окраску с зеленовато-голубым оттенком весной на бурые летом и на коричневые тона зимой. Тихов провел параллель этих изменений с переменой окраски вечнозеленой тайги в Сибири. Зеленая весной, голубоватая в дымке, тайга в летнюю пору буреет, а зимой обретает коричневый оттенок. В то же время окраска обширных пространств Марса оставалась неизменной — красновато-коричневой, во всем подобной окраске земных пустынь. Предположение о том, что меняющие окраску пятна Марса — зоны сплошной растительности, требовало доказательств. Попытки обнаружить спектральным методом на Марсе хлорофилл, обеспечивающий фотосинтез и жизнь земных растений, не увенчались успехом. Земные растения, как сообщено в рассказе, характерны еще и тем, что, сфотографированные в инфракрасных лучах, они получаются на снимках белыми, словно покрытые снегом. Если бы зоны предполагаемой на Марсе растительности получились на снимках в инфракрасных лучах такими же белыми, можно было бы не сомневаться в существовании растительности на Марсе. Однако новые снимки Марса не подтвердили смелых предположений. Но это не смутило Г.А. Тихова. Он подверг сравнительному исследованию отражательную способность растений на Юге и на Севере. Результаты оказались поразительными. Белыми на фотоснимках в инфракрасных, тепловых лучах получались только растения, которые отражали, не используя эти лучи. На Севере растения (например, морошка или мхи) не отражали, а поглощали тепловые лучи, которые были для них отнюдь не излишними. На снимках в инфракрасных лучах северные растения не выходили белыми, как не выходили белыми и зоны предполагаемой растительности Марса. Это исследование, подкрепленное полярными и высокогорными экспедициями учеников Тихова, позволило ему сделать остроумный вывод, что растения, приспосабливаясь к условиям существования, обретают способность поглощать необходимые и отражать ненужные лучи. На Юге, где солнца много, растения не нуждаются в тепловых лучах спектра и отражают их, на Севере, бедном солнечным теплом, растения не могут позволить себе такой роскоши и стремятся поглотить все лучи солнечного спектра. На Марсе, где климат особенно суров и солнце скупо, растения, естественно, стремятся поглотить как можно больше лучей, и понятны неудачи сравнения в этом отношении марсианских растений с южными растениями Земли. Они скорее похожи на растения Арктики. Придя к такому выводу, Тихов нашел также и разгадку неудач, связанных с попытками найти на Марсе хлорофилл. Дальнейшее изучение этого вопроса все больше убеждало Тихова в сходности развития марсианских растений и земных. Он обнаружил на Марсе зоны растительности, как он считал, в обширных пустынях, по отражательной способности подобные тем, которые растут у нас в пустынях. Интересны сообщения Тихова о массовом цветении некоторых областей марсианских пустынь ранней весной. По цвету и характеру эти зоны цветения на Марсе очень напоминают, по его мнению, огромные пространства пустынь Средней Азии, на короткое время покрывающиеся сплошным ковром красных маков. В последнее время своей деятельности Тихов высказывал также предположения о возможной растительности на Венере. Не все ученые разделяли точку зрения Г.А. Тихова. Полет к Марсу автоматических станций «Марс» и «Маринер» не принес исчерпывающих доказательств в пользу существования или отсутствия какой-либо растительности на Марсе. Об этом все еще можно лишь гадать. Астроботаника ждет нового этапа своего развития.
ЕСТЬ ЛИ КАНАЛЫ НА МАРСЕ?
Впервые эти странные образования были обнаружены Скиапарелли во время великого противостояния в 1877 году. Они представились ему правильными прямыми линиями, сетью покрывающими планету. Он назвал их «каналами», первым высказав осторожную мысль, что это искусственные сооружения разумных обитателей планеты. Мнения о каналах Марса периодически меняются до сих пор. Автоматические межпланетные станции передали на Землю множество фотографий поверхности Марса, где никаких каналов не обнаруживается. Однако на фотографиях, снятых с помощью земных телескопов, эти каналы просматриваются. Похоже, что эти таинственные образования не видны с близкого расстояния и не представляют собой что-то сплошное, непрерывное. Снятые с близкого расстояния, они как бы подобны типографскому тексту, снятому через микроскоп. Рассмотреть буквы, прочесть фразы, конечно, невозможно. Много трудов в изучении марсианских каналов вложил выдающийся американский астроном Лоуэлл. Создав специальную обсерваторию в пустыне Аризона,где прозрачность воздуха благоприятствовала наблюдениям, Лоуэлл открыл и изучил огромное число каналов. Он разделил их на главные артерии (наиболее заметные, двойные, как он утверждал, каналы), которые шли от полюсов через экватор в другое полушарие, и на подсобные каналы, идущие от главных и пересекающих зоны в различных направлениях по дугам больших кругов, то есть по наикратчайшему пути по поверхности планеты. В ту пору казалось, что Марс не имеет заметных гор. Ныне его гористый рельеф установлен фотоснимками с близкого расстояния. Лоуэлл говорил о двух сетях каналов: одной, связанной с южной полярной областью тающих льдов, и другой — с такой же северной областью. Эти сети были видны попеременно. Когда таяли северные льды, можно было заметить каналы, идущие от северных льдов; когда таяли южные льды, телескоп фиксировал каналы, идущие от южных льдов. Лоуэлл объявил о существовании грандиозной системы ирригации, созданной марсианами, использующими воды тающих полярных льдов. Он даже вычислил, что мощность их водонапорной системы должна в 4 тысячи раз превышать мощность Ниагарского водопада. Подтверждение своей мысли Лоуэлл видел в том, что каналы появлялись постепенно по мере таяния льдов. Они удлинялись как бы по мере продвижения по ним воды. Установлено, что расстояние в 4250 километров по поверхности Марса удлиняющийся канал (или вода в нем), но скорее всего волна появляющейся в результате орошения растительности, проходит за 52 дня, что составляет 3,4 километра в час (скорость пешехода!). Лоуэлл увидел даже в точках пересечения каналов темные пятна, которые назвал городами, или оазисами. Однако не только в наши дни межпланетных автоматических станций, но и во времена Лоуэлла при рассмотрении Марса в более сильные телескопы каналы «исчезали». Идея Лоуэлла не нашла всеобщего признания. Поскольку вместо каналов удавалось увидеть лишь скопления отдельных точек, каналы стали приписывать оптическому обману (глаз ведь склонен соединять рассыпанные точки в прямые линии!). Г.А. Тихов впервые сфотографировал каналы Марса в Пулковской обсерватории. Фотопластинка не глаз, она не способна впасть в ошибку. Дальнейшее фотографирование марсианских каналов Тремплером привело к созданию целой карты марсианских каналов, где их насчитывалось до тысячи штук. И все же… однозначного ответа на вопрос о существовании каналов нет. Хотя их окраска во всем соответствует окраске пятен, считавшихся Тиховым зонами сплошной растительности. Они так же «зеленеют» весной, буреют осенью, становятся коричневыми, сливаясь с фоном пустынь, зимой. Ширина каналов (если бы они были) могла достигать от ста до шестисот километров. Это привело к мысли, что каналы вовсе не каналы, не открытые выемки с текущей в них водой, а скорее полосы растительности, или оазисы, расположенные над водоводами, питающими растительность талой водой полюсов. Скептики предпочитают считать каналы геологическими образованиями, трещинами или разломами. Но надо сказать, что в этом случае снимки с близкого расстояния отметили бы подобные образования с особой отчетливостью. Очевидно, вопрос о существовании каналов и растительности на Марсе будет решен одновременно. И в случае положительного решения тотчас встанет вопрос об их искусственном происхождении и о том, кто их мог создать.
КАКОВЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ТУНГУССКОЙ КАТАСТРОФЫ 1908 ГОДА?
На основании показаний более тысячи очевидцев — корреспондентов Иркутской обсерватории — установлено. Ранним утром 30 июня 1908 года по небосводу над тунгусской тайгой пролетело огненное тело (характер болида), оставляя за собой след как падающий метеорит. В семь часов утра по местному времени над лесом близ фактории Вановара возник ослепительный шар, казавшийся ярче солнца. Он превратился в огненный столб, который уперся в безоблачное небо. Прежде ничего подобного при падении метеоритов не наблюдалось. Не было подобной картины и после падения на Дальнем Востоке сихотэ-алинского метеорита, рассыпавшегося в воздухе. Его осколки загрузили несколько вагонов. От Тунгусского же метеорита не удалось найти ни одного осколка. Сразу после падения был слышен удар, многократно повторившийся, словно гром, перешедший в раскаты. Звук был слышен за тысячи километров от места катастрофы. Вслед за звуком пронесся ураган страшной силы, срывавший с домов крыши и валивший заборы на расстоянии сотен километров. В домах звенели стекла, останавливались часы, колебались полы. Содрогание земной коры было отмечено сейсмологическими станциями в Иркутске, Ташкенте, Иене (Германия). В Иркутске (ближе к месту катастрофы) отметили два толчка. Второй был слабее и, по утверждению директора станции, был вызван воздушной волной, дошедшей до Иркутска с опозданием вслед за земной. Воздушная волна была зафиксирована также и в Лондоне и дважды обошла земной шар. В течение трех дней после катастрофы на территории Европы и севере Африки в небе на высоте 86 километров наблюдались светящиеся облака, позволявшие ночью фотографировать (под Москвой) и читать газеты (на парижских бульварах). Академик А.А. Полканов, находившийся тогда в Сибири, ученый, умевший наблюдать и точно фиксировать виденное, записал в дневнике: «Небо покрыто плотным слоем туч, льет дождь, и в то же самое время необычайно светло. Настолько светло, что на открытом месте можно довольно свободно прочесть мелкий шрифт газеты. Луны не должно быть, а тучи освещены каким-то желто-зеленым, иногда переходящим в розовый, светом». Если бы этот загадочный свет, замеченный академиком Полкановым, был отраженным солнечным светом, он был бы белым, а не желто-зеленым и розовым. Спустя двадцать лет советская экспедиция Кулика побывала на месте катастрофы. Результаты многолетних поисков экспедиции точно переданы астрономом в рассказе. Предположение о падении в тунгусскую тайгу грандиозного метеорита хотя и более привычно, но не объясняет. а) Отсутствие каких-либо осколков метеорита. б) Отсутствие воронок или кратера. в) Существование в эпицентре катастрофы стоячего леса. г) Наличие после взрыва грунтовых вод под давлением. д) Фонтан воды, бивший в первые дни после катастрофы. е) Появление ослепительного, как солнце, шара в момент катастрофы. ж) Несчастные случаи с эвенками, якобы побывавшими в месте катастрофы в первые дни. з) Удивительный феномен роста уцелевших из-за рельефа местности деревьев, которые растут в десять раз быстрее, чем прежде, или так же быстро вырастают там вновь. и) Содержание в годичных слоях спиленных в районе катастрофы деревьев радиоактивных элементов. Внешне картина тунгусской катастрофы полностью совпадает с картиной атомного взрыва. Предположение такого взрыва в воздухе над тайгой объясняет все обстоятельства катастрофы следующим образом. Лес в центре стоит на корню, поскольку взрыв произошел на высоте до десяти километров и воздушная волна, ринувшись сверху, валила деревья, когда удар приходился под углом, вертикальным же ударом лишь срывала сучья фронтом волны, оставляя деревья на корню. Светящиеся облака — действие улетевших ввысь остатков радиоактивного вещества, продолжавшего свой распад в верхних слоях атмосферы. Выпавшие на землю остатки радиоактивного вещества вместе с соками попадали в деревья, откладываясь в годичном слое, соответствующем 1908–1909 годам. Эти же радиоактивные вещества служат стимуляторами роста деревьев, что не объяснялось до сих пор никем. При возгонке, превращении в пар всего взорвавшегося вещества, исключалось нахождение каких-либо остатков взорвавшегося тела.
ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЗРЫВ РАДИОАКТИВНОГО МЕТЕОРИТА?
Нет, невозможен. В метеоритах встречаются все те вещества, какие находят на Земле. Содержание, скажем, урана в метеоритах составляет около одной двухсотмиллиардной доли процента. Для цепной реакции ядерного взрыва требуется уран-235 или плутоний, не встречающийся в природе, притом в исключительно чистом виде. Взрыв неизбежен, если урана-235 или плутония будет больше, чем критическая масса, взрывающаяся сама по себе. Если бы такой метеорит, допустим это на минуту, по капризу природы образовался где-то во вселенной, он должен был взорваться в первый же миг своего существования. Если предположить ядерный взрыв в тунгусской тайге в 1908 году, приходится допускать искусственное происхождение взорвавшегося вещества, которое могло служить топливом космического корабля с другой планеты, потерпевшим аварию над тунгусской тайгой.
МОЖНО ЛИ СВЯЗАТЬ ГИБЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ С МАРСОМ?
Чтобы подтвердить предположение, высказанное в рассказе астрономом, нужно не только проанализировать все обстоятельства тунгусской катастрофы, но и знать о Марсе много больше, чем мы знаем. По подсчетам астронавигаторов, 1908 год был невыгодным для прямого перелета с Марса на Землю, но если лететь на Землю через Венеру, которая как бы подвезет корабль к Земле, то этот год был самым выгодным. Если предполагать посещение инопланетян с другой звезды, то их звездолет не мог опускаться к Земле, он должен был бы остаться на околоземной орбите, направив на поверхность планеты исследовательскую «шлюпку» — малый космический корабль на ядерном топливе, который и погиб, так и не осуществив контакта. В ту пору у людей не было аппаратов для слежения за искусственными спутниками Земли. Никто не заметил чужепланетный звездолет на околоземной орбите.
КАК БЫЛА ВСТРЕЧЕНА ГИПОТЕЗА О ГИБЕЛИ КОРАБЛЯ?
На первых порах после публикации рассказа-гипотезы «Взрыв» (1946 г.), а вслед за тем рассказа «Гость из космоса» (1951 г.) ученые обрадовались увеличению интереса к метеоритике, к Тунгусскому метеориту. Но потом специалисты по метеоритам во главе с председателем Комитета по метеоритам Академии наук СССР академиком В.Г. Фесенковым и ученым секретарем комитета Е.Л. Криновым объявили такую гипотезу антинаучной и повели планомерную борьбу с се сторонниками. Но не только ее сторонники, но и просто любознательные ученые, заинтересовавшись загадкой тунгусского дива, стали организовывать экспедицию в тунгусскую тайгу. Таких экспедиций насчитывается со времен публикации рассказа несколько десятков. Ученые из Москвы и Ленинграда, из Томска, Иркутска и Башкирии и из многих других мест нашей страны, кто за свой счет, кто войдя в запланированные экспедиции под руководством доверенных ученых, искали в тайге опровержения или подтверждения крамольной гипотезы. Особенно эффективны были многократные экспедиции ВНИИ геофизики под руководством А.В. Золотова, которому за его работы по выяснению природы тунгусского взрыва была присвоена степень кандидата физико-математических наук. Он опубликовал монографию «Проблема Тунгусской катастрофы 1908 года», предисловие к которой написано вице-президентом Академии наук СССР академиком Б.П. Константиновым. В этой работе автор приходит к выводу, что тунгусский взрыв мог быть вызван лишь выделением внутренней энергии вещества. Кандидат физико-математических наук В.Н. Ме-хедов из Объединенного института ядерных исследований, исследуя золу деревьев в районе тунгусской катастрофы на радиоактивность, так заканчивает свою работу: «Другими словами, мы снова (как бы фантастично это ни выглядело) возвращаемся к предположению о том, что тунгусская катастрофа вызвана аварией космического корабля, топливом для двигателя которого служило антивещество» (Труды Объединенного института ядерных исследований, г. Дубна, 6-3311, Лаборатория ядерных проблем, В.Н. Мехедов, «О радиоактивности золы деревьев в районе тунгусской катастрофы», 1967 г.). К выводу о повышенном содержании радиоактивных веществ в годичных слоях 1908–1909 годов у деревьев из района тунгусского взрыва пришли также и А.В. Золотов в НИИ геофизики, и участники томской экспедиции в районе катастрофы на Подкаменной Тунгуске, установившие там факт мутации деревьев. Помимо этого установлено, что барограмма, записанная приборами 30 июня 1908 года в Лондоне, никак не походит на диаграмму химического взрыва, а точностью воспроизводит картину ядерного взрыва. Тем не менее специалисты по метеоритам предпочли выдвинуть новую гипотезу о том, что в воздухе взорвалось в тепловом взрыве ядро ледяной кометы.
МОГЛА ЛИ ВЗОРВАТЬСЯ ЛЕДЯНАЯ КОМЕТА?
Спор между фантастом и учеными давно сменился спором между различными группами ученых. А.В. Золотов досконально проанализировал возможность взрыва ледяной кометы, на которой настаивал академик В.Г. Фесенков и другие работники Комитета по метеоритам. Оказалось, что тепловой взрыв, мгновенная возгонка куска льда возможна за счет уплотнения воздуха перед летящим ледяным телом лишь в том случае, когда скорость его превышает 40 километров в секунду. Какова же была подлинная скорость тунгусского тела? Тремя различными путями была получена одна и та же цифра порядка 1–1,6 километра в секунду. Об этом говорит то, что тело одновременно видели и слышали, что исключалось при скоростях порядка 40 и больше километров в секунду, как считалось прежде и как требовалось для кометной гипотезы. Характер вывала леса показывает, что там наложились результаты воздействия двух волн: взрывной и баллистической. А.В. Золотов сумел определить долю баллистической волны от взрывной, а зная величину, характеризующую взрыв, установил силу баллистической волны и скорость летевшего тела 1,6 километра в секунду. Независимо от А.В. Золотова еще много раньше строго научно подошел к вопросу о скорости тунгусского тела известный аэродинамик и авиаконструктор из группы Антонова, автор хороших советских планеров А.Ю. Моноцков. Обработав показания огромного числа очевидцев — корреспондентов Иркутской обсерватории, — он попробовал определить скорость, с какой летел предполагаемый «метеорит» над различными районами Сибири. Он составил карту, нанеся траекторию полета и время, в какое «метеорит» был замечен очевидцами в разных точках траектории. Составленная Моноцковым карта приводила к неожиданным выводам: «метеорит» пролетал над землей, тормозя… Моноцков вычислил скорость, с какой «метеорит» оказался над местом взрыва в тунгусской тайге, и получил 0,7 километра в секунду (а не 40–60 километров в секунду, как до того считалось). Скорость эта приближается к скорости полета реактивного самолета и сопоставима с вычисленной А.В. Золотовым величиной. Моноцков пришел к выводу на основании своей карты, что имеет дело с «летательным аппаратом», с межпланетным космическим кораблем. Если бы метеорит упал с такой ничтожной скоростью, то, исходя из выводов аэродинамики, получается, что для того, чтобы произвести наблюдаемые разрушения в тайге, соответствующие взрыву миллиона тонн взрывчатого вещества, он должен был обладать массой не в миллион, как считалось, а в миллиард тонн и по меньшей мере километром в поперечнике, чего, по свидетельству всех очевидцев, безусловно, не было. Порядок величин скорости, вычисленных А.В. Золотовым и А.Ю. Моноцковым, совпадает, резко отличаясь от предположений специалистов по метеоритам, не подкрепленных никакими расчетами. Приходится поражаться, что в научных исследованиях ученые ради защиты своих первоначально высказанных взглядов пренебрегают достоверными фактами, их опровергающими. Кандидат наук, доцент Московского авиационного института Ф.Ю. Зигель, давний сторонник гипотезы о ядерном взрыве в тунгусской тайге в 1908 году, пошел еще дальше Моноцкова в анализе карты полета тунгусского тела. Он убедительно показал, что «тело», пролетая с юга на север между Канском и Иркутском, над Кежмой резко повернуло на восток (его видели в Преображенке, в двухстах километрах на восток от места взрыва), а к Вановаре «тело» подлетало с востока, взорвавшись в шестидесяти километрах к северу от нее. Таким образом получается, что «тело» двигалось к месту своей гибели с юга, а подлетело с востока. Подобный маневр петли (не говоря уже о торможении, отмеченном Моноцковым) способен произвести отнюдь не метеорит, а лишь летательный аппарат, пилотируемый или телеуправляемый.
УПОРНЫЕ ПОИСКИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, НОВЫЕ ГИПОТЕЗЫ
К варианту восточной гипотезы пришли и работники Комитета по метеоритам Академии наук СССР Игорь Зоткин и Михаил Цикулин. Они пытались воспроизвести развал деревьев на модели, где взрыв имитировался бикфордовым шнуром. При некоторых положениях шнура натыканные внизу спички, имитирующие деревья тайги, разваливались схожим образом с действительной картиной катастрофы. Правда, угол наклона шнура выбирался произвольно и был крутым, что не соответствовало непосредственным наблюдениям очевидцев, оценивающих наклон траектории менее десяти градусов. Крутой угол падения тела исключал возможность видеть его на значительном удалении, однако авторы модели пренебрегали этим. Другие ученые за океаном, американцы из Института теории относительности Джексон и Рейн, не побывав в тунгусской тайге, не ознакомившись с деталями многочисленных исследований и опираясь лишь на один из выводов авторов модели тунгусской катастрофы и крутой угол наклона бикфордова шнура, выдвинули новую экстравагантную гипотезу о том, что тунгусское тело было «черной дырой», то есть коллапсировавшей когда-то до размеров пылинки звездой, обладающей гигантской массой. Она якобы прошила земной шар насквозь. Неувязки малообоснованного вывода американских ученых сразу бросаются в глаза. Напрасно они ищут подтверждения своим выводам в судовых журналах кораблей-антиподов тунгусской тайги, плававших в тот день где-то на противоположной точке земного шара, напрасно ищут возможных свидетелей феномена вылета «черной дыры» — пылинки из океана. Кажется странным, как специалисты по теории относительности пренебрегают тем, что дело не в размерах пылинки, если даже и допустить ее существование, а в том, что масса ее должна была намного превышать массу Солнца. И не прошила бы эта грандиозная гравитационная масса нашу бедную планету, а, взаимодействуя с нею, сбила бы ее с орбиты вокруг Солнца, не говоря о других катаклизмах. Американские ученые не были первыми в выдвижении гипотез о тунгусском диве. Нобелевские лауреаты Коун и Либи на десяток лет раньше выдвигали предположение, что тунгусский взрыв был аннигиляцией вещества и антивещества, к каким выводам пришел и Мехедов из Дубны, правда отнеся это антивещество не к природному метеориту, а к топливу неведомого космического корабля. Интерес к загадке тунгусской катастрофы не ослабевает. Конечно, трудно признать, что мы имеем дело не просто с феноменом природы, а с результатом чьей-то разумной деятельности. Однако в наши дни, когда собираются всемирные конференции по поводу связи с внеземными цивилизациями, отбрасывать без рассмотрения такой вариант было бы ненаучно. Надо думать, что окончательное решение проблемы останется за беспристрастной наукой. Автор не счел возможным коренным образом менять опубликованные прежде комментарии, ограничившись лишь необходимыми уточнениями в связи с последними достижениями науки.
МАРСИАНСКАЯ ПАРТИЯ
Судить о достоинствах человека на основании его игры в шахматы можно более точно, чем на основе всех антропологических и графологических исследований,Карел Крупский
На этот раз «кают-компания» была на палубе речного теплохода, нарядного, белоснежного. Был жаркий вечер. Нестерпимая духота в каютах выгнала всех на палубу. Пассажиры, как и на океанском лайнере или на ледокольном пароходе, где мне привелось послушать немало рассказов, собирались группами, сдвигая, шезлонги и стулья. Уходившие пейзажи подсказывали интересные истории. И, как водится, кое-кто играл в шахматы. Мы подсели к играющим. Моего знаменитого спутника узнали сразу. Партнерам показалось кощунством продолжать при нем партию, и они вскоре смешали фигуры. Седой полковник очень интересно рассказывал о боевом эпизоде. Яркая белая береза на высоком берегу напомнила ему вот такую же, стройную русскую березу, которая одиннадцать раз переходила из рук в руки, превратившись в обугленный пень. Но гитлеровцам он не достался. Когда полковник смолк, один из шахматистов вспомнил, что я когда-то выступал у них в институте с рассказами. Он выдал меня присутствующим и предложил эстафету рассказчика передать мне. Синеглазая девушка с древнегреческим узлом волос на затылке, оказывается, читала в одной из моих книг неосторожное обещание рассказать продолжение весьма необычной встречи. — Это правда, о чем вы написали? — с надеждой спросила она. — Конечно, — улыбнулся я. — Ведь рассказ был в кают-компании. — Шахматисты рассмеялись. Но девушка осталась серьезной. — Вы увиделись еще раз с марсианином? Через полгода? — Нет. Через десять лет. Полковник поморщился: — О каком марсианине может идти речь, если Марс — мертвая планета? — Не скажите, — возразил я — Мнения планетологов расходятся. Если существование жизни на Марсе пока не доказано, то возможность жизни в «марсианских условиях» стала предметом экспериментов. — Позвольте! Но ведь их не оказалось на фотографиях, полученных американской автоматической станцией «Маринер-4», — возразил полковник. — Я отвечу вам словами доктора Пнккеринга, одного из руководителей эксперимента. Американский спутник «Тирос» с высоты 800 километров получил 20 тысяч фотографий Земли такого же масштаба, как и снимки «Маринера-4» (мельчайшая деталь — около трех километров). И среди этих 20 тысяч фотографий Земли нашлась только одна, на которой можно бы разглядеть следы жизнедеятельности разумных существ. На всех остальных Земля казалась необитаемой. А ведь с «Маринера-4» передали только 20 снимков. Но вот по многим тысячам фотографий, которыми располагали астрономы, была составлена подробная карта Марса с его удивительными каналами. Они, видимо, представляют собой полосы растительности, начинающей развиваться от полярных шапок после начала их таяния, распространяясь все дальше к экватору. Похоже, что талая вода полярных шапок Марса используется для орошения в масштабах всей планеты. — Выдумки! — замахал руками полковник — Разве в марсианских условиях возможна жизнь? Там и кислорода-то нет! — Американский исследователь С. Зигель воссоздал марсианскую атмосферу в камере. И, представьте себе, в ней прекрасно жили без всяких скафандров не только насекомые, но даже черепахи, не говоря уже о прорастающих семенах растений. Любопытно, что у черепах изменялось количество крови, а также и былая потребность в большом количестве кислорода. — Не понимаю, — пожал плечами полковник. — Говорить о цивилизации марсиан всерьез? — А почему бы нет? Именно так говорит о ней президент Академии наук БССР В. Ф. Купревич в своих статьях. А наш астроном Ф. Ю. Зигель доказывает, что спутники Марса, которые теперь многими признаются искусственными, появились менее ста лет назад. — И вы верите в марсиан? — сердито спросил полковник. — Вы сами поверите, если только услышите все с самого начала, — увлеченно сказала девушка. И мне пришлось рассказать, как это случилось и в первый и во второй раз: — Я дежурил тогда в Центральном аэроклубе. Нет, я не летчик, просто состоял в секции астронавтики Центрального аэроклуба СССР имени Чкалова. Я заметил «его» в окно, когда он шел по двору аэроклуба. Я словно нарочно задержался, будто знал, что он придет. Что-то странное показалось мне в его походке, когда он перебирался через сугроб. Еще более странным показался он вблизи. Дело было не в его маленьком росте и, казалось бы, затрудненных движениях, не в некоторой непропорциональности тела, рук и ног, даже не в крупной шишковатой и совершенно лишенной волос голове… Меня поразил взгляд его умных глаз, измененных диковинными, неимоверно выпуклыми стеклами очков. Его огромные, чуть печальные глаза проникали в собеседника и все понимали… Положив на стол рукопись, он посмотрел на меня с ласковой улыбкой и, конечно, заметил мой легкий испуг. — Нет, это не для литконсультации и не для печати, — сказал он. Я вопросительно посмотрел на него. — Я знаю, что преждевременно говорить о межпланетном полете и составе экипажа корабля. И все же мне хочется заручиться поддержкой вашей секции. Передо мной стоял не юноша, с ним нельзя было пошутить, нельзя было посоветовать ему овладеть науками, которые понадобятся исследователю планет. Непостижимым путем он понял меня и сказал: — Я не астронавт, не геолог, не врач, не инженер. — Он чуть задержал дыхание. — Хотя мог бы быть каждым из них. Но все же я рассчитываю на поддержку, ибо мне необходимо… вернуться… на Марс. Мне стало не по себе. — Обыкновенный псих, — прервал мой рассказ молодой шахматист, который слушал со скептической улыбкой. — И у меня мелькнула такая мысль. Припомнилось, как в 1940 году я читал письмо одного заведующего универмагом в городе Свердловске, просившего помочь ему вернуться… на Марс. Говорят, во всем остальном работник торговли был вполне нормальным человеком. Посетитель улыбнулся. В глазах его я прочел, что он опять понял меня. Я поймал себя на том, что не только он угадывает мои мысли, но и я понимаю его даже без слов. Легче всего было счесть его больным. — Да, — сказал посетитель. — Первое время я попадал в сумасшедший дом, пока не понял, что бесполезно убеждать людей в том, что я не человек. Я развернул рукопись и нахмурился, увидев испещренную странными знаками страницу. Что это? Мистификация? — Я мог бы написать на любом из распространенных земных языков, но… важнее было убедить людей, что невозможно разумному индивидууму придумать в одиночестве неведомый язык со всей его выразительностью и гибкостью, нельзя изобрести письменность для записи всех богатств этого языка. Важно, чтобы люди поняли, что ЭТО НАПИСАНО представителем ДАЛЕКОГО МУДРОГО ПЛЕМЕНИ, живущего в суровом мире увядания… — Но как это прочесть? — не выдержал я и тотчас увидел за очками ласковое участие. — Ваше время располагает кибернетическими машинами, способными расшифровать даже древние иероглифы. Мои вряд ли будут труднее. Если расшифрую я сам, мне не поверят. Я почти понял, кем написана странная рукопись, и ощутил нелепость своего положения. Кто заинтересуется этой встречей: весь мир или группа психиатров? Через выпуклый хрусталь очков на меня смотрели передающие и читающие мысли глаза. Разве возможна с ними ложь или двоедушие, ханжество или лицемерие? Мы расстались, договорившись встретиться в этой же самой комнате или у меня дома через полгода… Ну, а потом… Потом многое изменилось. Запущен был первый искусственный спутник Земли, космонавтикой стали заниматься уже не любители, а научные институты. — А рукопись? — спросила девушка. — Ведь ее расшифровали? — Да. Нашлись энтузиасты, которые из чистого любопытства проверили возможности своей электронно-вычислительной машины. Академик, руководивший ими, смеясь говорил, что можно даже ночные огни города расшифровать в виде поэтического произведения, коль скоро они навевают на поэта вдохновение. Машина расшифровала несколько первых страниц дневника… — Дневника? — удивился полковник. — Да, дневника, в котором день за днем записывались впечатления марсианина, спрыгнувшего с помощью какого-то аппарата на Землю перед трагической гибелью марсианского корабля в тунгусской тайге в 1908 году. — Опять тунгусский метеорит! — воскликнул полковник. Мне не хотелось спорить о тунгусском взрыве, хотя я не переменил своих взглядов. Достаточно того, что мое участие в этом споре привело ко мне марсианина в первый раз (уходя он признался в этом). Я мечтал опубликовать дневник марсианина, даже написать об этом роман, но… кроме первых и последних страниц дневника, основной его части не было. Выдумывать мне не хотелось. А сам марсианин больше не появлялся. Пришел он через десять лет, когда люди уже дважды посадили на Луну автоматическую станцию, когда послали такие же станции к Венере и Марсу, забросили на Венеру вымпел, сфотографировали Марс. — Он принес вам остальные страницы дневника? — спросила девушка. — Нет. Он усомнился, что, опубликованные в виде романа, они могут привлечь к нему внимание. На этот раз он пришел ко мне домой с новым планом доказательства того, что он чужепланетное существо, представитель высокоразвитой цивилизации. — Может быть, у него сердце с правой стороны? — пошутил кто-то из слушавших. — Его организм удивительно похож на человеческий. Он утверждал, что обладает исключительными умственными способностями. И хотел с моей помощью продемонстрировать это всему миру. — Он умел делать сложные вычисления в уме? — спросил полковник. — Он попросил меня устроить ему встречу с самым знаменитым шахматистом (он знал о моей причастности к шахматам). И снова, сказав об этом, он угадал мои мысли. — Вы думаете, вам трудно будет уговорить прославленного гроссмейстера встретиться с безвестным противником? Вы только сведите нас, я сам постараюсь убедить его. И я познакомил его с одним из выдающихся шахматных дарований, вы извините, гроссмейстер, что я так говорю о вас. — Польщен, — отозвался мой спутник, молчавший до сих пор. — Теперь признайтесь, что вы почувствовали, когда я представил вам его в Шахматном клубе? — В первое время я был обескуражен, — признался гроссмейстер. — Потом постарался понять, чего хочет этот странный человек. — Человек? — воскликнула девушка. — Таким он мне показался. Потом я почувствовал, что не могу не пойти ему навстречу. — Ну, ясно! Гипноз, — решил полковник. — Я тоже так было подумал. Поэтому, когда мы сели уже за шахматный столик, я старался не смотреть ему в глаза, обдумывая варианты. — Он разгадывал ваши намерения за доской? — забеспокоился молодой шахматист. — Не больше чем любой противник. Он сказал, что намерен продемонстрировать на шахматной доске торжество мысли, торжество гуманизма. — Но почему это надо доказывать с помощью шахмат? — снова пожал плечами полковник. — Мне это показалось понятным, — ответил гроссмейстер. — Я, конечно, не поверил, что это марсианин. Я счел его за чудака, быть может, даже больного… но… Почему шахматы, спрашиваете вы? Да потому, что условная концепция шахмат, как известно, позволяет математикам проводить эффективное сравнительное программирование электронно-вычислительных машин. В шахматах, пусть в условной форме, воспроизводятся некоторые аналоги жизни и борьбы. Мне показалось занятным «проверить» того, кто называл себя марсианином, и, не скрою, я в равной степени хотел и разоблачить его и… убедиться, что он действительно марсианин. — Партия сыграна недавно, — снова вступил я. — Вернее сказать, сыграно пять партий. Четыре окончились вничью, а вот пятую партию… ее стоит опубликовать. Может быть, она в самом деле докажет, что партнером гроссмейстера было существо, обладающее необыкновенными способностями. — Как? Неужели он выиграл? У вас? — изумились оба шахматиста. — Дело не в исходе партии, — заметил гроссмейстер. — Вы увидите, что дело совсем в ином. С идеями моего противника согласится любой прогрессивный человек, но вот способ демонстраций этих идей на шахматной доске способен удивить. — Покажите нам эту партию, — попросили все, даже не знающие шахмат.
— Я не буду рассказывать, «как дошел до жизни такой». Я был несколько раздосадован предыдущими ничьими и считал своим долгом непременно выиграть, а это всегда опасно. Словом, я не остановился перед тем, чтобы пожертвовать ладью и получить позицию, когда появление моего нового ферзя неизбежно. Это, как я думал, решало партию в мою пользу. Но… тут-то и началось марсианское продолжение. Марсианин играл белыми и сделал ход: 1. е5-е6 Если бы он взял ладьей на f7, то я бы легко выиграл: 1. Л:f7? d1Ф 2. е6 КаЗ+ 3. Крb4 Фс1 4. СсЗ Ф: е3 5. е7 С:f4, или 4. Ла7 С:f4 5. Cf6+ C:g5 6. С:g5+ Кр:g5 7. е7 Фс4+ и снова белые проигрывают. И мне не оставалось ничего лучшего, как поставить своего желанного ферзя. 1. … d2 — d1Ф Если бы я взял предложенную им пешку, он задержал бы мою: 1.. fe? 2. Лd7! — и я не могу ставить ферзя 2… d1Ф? 3. Cf6+ и выигрыш. Теперь уже марсианин не стал брать пешку, учтя, что после 2. ef? Ка3+ 3. Kpb6 Фb1+ 4. Кра6 Фf5 черные выигрывают. И он сыграл: 2. е6 — е7 Положение сложилось напряженное, но оно не казалось мне безнадежным. Белая пешка стремится в ферзи, однако у меня достаточно средств бороться с нею. Я бросил в бой коня: 2. … Кb1 — а3+ 3. Kpb5 — b6! Удивительно тонкий ход! Марсианин рассчитал все. Сходи он: 3. Крс5? Фс2+ 4. Kpd5? Фс4+ 5. Кре4 Фе6+. 6. Kd5 Фе6 + 7. Кре5 Cg7+, и я бы выиграл. Или: 3. Крс6? Фа4+ 4. Крс7 Кb5+ 5. Kpb6 Kd6, а если 5. Kpd8, то Фа8+ с выигрышем. 3. Кра5? Кс4+ 4. Крb4 Kd6 6. Лd7 С:f4 и победа за мной. 3. … Ка3-с4 + Мне не помогло бы 3. … Фа4? 4.Кd5! Кс4+ 5. Крс7 Фа5+ 6. Kpb8 Ф:d5 7. е8Ф Фd6+ 8. Крс8. Проигрывало и 7. … Kd6 8. Лb4. Или после 4. … Фb5+ 5. Крс7 Фе8 6. Лb4! Кb5+ 7. Kpb6 Фb8+ 8. Кра6, увы, с выигрышем у белых. 4. Крb6-с5 Фd1-а4 В этом положении марсианин решил отдать проходную пешку, казалось бы, единственную свою надежду. Он ходит: 5. Лb7 — b4! Ладья встала в глубокую засаду против моего короля, который был отделен от нее целыми тремя фигурами. Одновременно взводится пружина задуманного марсианином механизма. Мне ничего не оставалось, как взять опасную пешку. 5. … Фа5-а7+ 6. Крс5:с4 Фа7:е7 И вот здесь-то марсианин и спустил взведенную пружину, обрушив на меня целый фейерверк жертв. 7. Kf4-g6+ f7:g6 8. Cd4 — f6 4+ Фе7:f6 Марсианин своеобразно демонстрирует торжество мысли. На моей стороне сила, но, увы, смотрите, как она оборачивается против меня же! 9. Kpc4-d5+ Я мог бы попробовать 9. … Cf4? отдавая ферзя и слона за ладью, но получал безнадежный пешечный эндшпиль. 10. Л:f4+ Ф:f4 11. ef Kpg4 12. Кре5 h4. 13. Кре4. Это был бы «серый проигрыш», недостойный моего противника. Честно сказать, видя все последующее, я не считал себя вправе помешать ему довести замысел до конца: 9. … Kph4-g5 10. h2-h4+ Kpg5-f5 И теперь следуют уже неизбежные удары, утверждающие торжество дальнего расчета: 11. g2-g4+ h5:g4 12. Лb4 — f4+ Конечно, не 12. е4 + Kpf4 13. е5+ Kpf6 14. ef Kp:f6 15. Л:g4 Крf5 с выигрышем ферзя, но не партии. 12. … Ch6:f4 13. e3-e4X. Да! В этой партии я получил мат, которым горжусь. Финальное положение говорит само за себя. Эта позиция прекрасно иллюстрирует победу мысли над грубой силой. Фигуры черных, подчиняясь строгой шахматной логике, но, будто загипнотизированные, заняли свои места вокруг черного короля, стиснув его со всех сторон, отняв у него все нужные ему поля. Двух белых пешек оказалось достаточно, чтобы поразить целую вражескую рать. Эту проигранную партию я включу в сборник своих лучших произведений. — Может быть, я не слишком много понимаю в шахматах, сказала девушка, — но мне хочется думать, что ОН все-таки был действительно марсианином. — Не знаю, не знаю, — сказал полковник. — Удивительно. — Вам надо будет опубликовать все как оно было, — посоветовал мне один из слушавших. — Я сделал одну попытку: послал позицию из этой партии на Всемирную шахматную олимпиаду. И там ее автору, то есть, по существу говоря, марсианину, была присуждена золотая олимпийская медаль. Я храню ее до нашей будущей встречи с марсианином.
МАТЧ АНТИМИРОВ
Знаменитый шахматист является артистом, ученым, инженером и, наконец, командующим и победителем.Ежи Гижицкий. «С шахматами через века и страны» — Хотели бы вы сыграть партию с Полом Морфи? — спросил я нашего прославленного гроссмейстера. Он удивленно посмотрел на меня: — Посылать ходы на сто с лишним лет назад и получить ответы из прошлого? Бред! — А если серьезно? — Машина времени? Знаю я вас фантастов! Четырехмерный континиум «Пространство — Время»… Это понятие ввел Минковский для математического оформления теории Эйнштейна. Но ведь время-то там нельзя измерять так же, как расстояния! Знаем! — И все же… Сыграть с самим Морфи? Рискнули бы? — искушал я. Гроссмейстер был задет за живое. — О каком риске может идти речь? Теоретически я готов, но… И я рассказал тогда гроссмейстеру, что в день, когда к нам в Центральный Дом литераторов приехал известный польский фантаст Станислав Лем, там была встреча с телепатами. Думая доставить польскому гостю удовольствие, я пригласил его послушать «парапсихологов»: ведь фантаста должно интересовать все, что ве укладывается в рамки известного. Станислав Лем прекрасно говорит по-русски и даже охотно поет наши песни, в чем я убедился, отвозя его вечером после встречи. Так что ему не представляло труда слушать докладчика. Я украдкой поглядывал на Лема и видел, как тот саркастически улыбался или хмурился, когда докладчик, оперируя очень умными научными терминами, вспоминая даже нейтрино, доказывал, что есть полная возможность проникать телепатическим чувством сквозь любые преграды. И, оказывается, не только через тысячи километров, но и во Времени — в прошлое, в будущее. Здесь мы с Лемом многозначительно переглянулись. Но парапсихолог нимало не был смущен скептицизмом, который по всем законам телепатии должен был ощутить. Он говорил о модных гипотезах существования антимиров. Его надо было понимать в том смысле, что наш ощутимый мир соседствует в каком-то высшем измерении с другими мирами, представляющими собой тот же наш мир, но смещенный во времени. Образно это можно вообразить себе в виде колоды карт, где каждая карта отражала бы наш трехмерный мир в какой-то момент времени. Вся же колода якобы сдвинута так, что карты, лежащие сверху, находятся уже в завтрашнем дне и дальше, а карта, покоящаяся в колоде под нашей, «сиюминутной», картой, — это прожитый нами вчерашний день. И таких слоев времени несчетное множество. Ясновидение же и прочие виды гадания, столь распространенные в прошлом, а за рубежом и сейчас, это якобы не что иное, как способность проникать «высшим взором» из нашей карты в соседнюю. После доклада мы с Лемом вдоволь посмеялись над «научным обоснованием» хиромантии. Лем человек невысокого роста, подвижный, умный, острый на язык, веселый, улыбаясь, сказал, что на этом докладе не хватало еще одного фантаста — Герберта Уэллса. Ему, придумавшему «машину времени», но не придавшему ей никакого реального значения, любопытно было бы услышать, будто перемещение во времени возможно в любую сторону… — Если проколоть иглой колоду карт, — подсказал я. — Вот именно! — подхватил Лем и добавил: — Впрочем, оракулы, кудесники, предсказатели существовали и раньше Уэллса. — А цыганки и сейчас раскидывают карты, — напомнил я. — «Ой сердэнко, позолоти ручку. Будут тебе через трефового короля бубновые хлопоты, а через червонную даму дальняя дорога и казенный дом, то есть туз пик», — смеясь, сказал Лем. — А ведь гадальная колода карт нечто знаменательное, не правда ли? В ней — образ антимиров, смещенных во времени. Об этом разговоре с маститым фантастом несколько лет спустя я рассказал профессору Михаилу Михайловичу Поддьякову, доктору технических наук и заслуженному деятелю науки и техники, когда мы с ним ехали в один из подмосковных физических центров. Ученый широких взглядов, он живо интересовался всем, что отходило от общепринятых догм. Сам он был классиком горного дела, но завершал фундаментальный труд о строении атома, что могло бы служить второй его докторской диссертацией, на этот раз в области физико-математических наук. Шутя он говорил о себе, что его чтут за горное дело, а он чтит «игорное». Профессор Поддьяков имел в виду шахматы, сблизившие нас с ним, помимо физики. Мы оба были действительными членами секции физики Московского общества испытателей природы и гордились членством в нем Сеченова, Менделеева, Пастера и Фарадея. Михаил Михайлович обладал редкой способностью математического анализа. С присущим ему юмором он рассказывал, как стал учителем «математических танцев». Удивленный, я переспросил и узнал, что в тридцатые годы проходил он курс западных танцев, вернее, серию курсов, поскольку оказался на редкость неспособным учеником. Однако, будучи незаурядным математиком и шахматистом, не привыкшим сдаваться в сложных положениях, он решил провести математический анализ всех танцевальных па, которые ему не давались. Составил уравнения и блестяще решил их. После этого дело пошло. Он уже не обступал «медвежьими лапами» туфелек своих партнерш и даже сам стал учить танцевать других и брал призы на бальных конкурсах. — Неужели шахматы помогли? — изумился я. — Научили всегда искать выход, — подтвердил профессор. — И математика, конечно. Кстати, о Станиславе Леме, телепатии и цыганках, — неожиданно перевел разговор Михаил Михайлович. — Конечно, закон причинности в природе нельзя обойти. Следствие не произойдет раньше причины, яйцо не появится прежде курицы, вылупившейся из него еще цыпленком. Физическое тело не может переместиться в воображаемой колоде трехмерных карт, смещенных во времени, но… — Что «но»? — насторожился я. — Передача нематериального сигнала как будто не противоречит закону причинности. — Сигнала? — обрадовался я. — Что вы имеете в виду? — испытующе спросил профессор. — Обмен сигналами, скажем, с прошлым. — Хотите рассказать предкам, что их ждет? — Нет. Беседу на равных. Например, сыграть шахматную партию… ну с Морфи. — Если бы вы не были фантастом, я бы возмутился, — улыбнулся мой собеседник. — Но почему? Вы ведь всегда против догм. Я не знаю, можно ли передать сигнал во времени с помощью физических машин пли аппаратов. А что, если попытаться сделать это с помощью ясновидцев, этих чудодеев нашего века? Они якобы видят на расстоянии даже содержимое несгораемых шкафов. О них писали и в прошлом. Может быть, кто-нибудь из них в состоянии установить контакт с подобным же медиумом девятнадцатого века и через него связаться с Полом Морфи! — Морфи бросил играть в шахматы, — слабо сопротивлялся профессор. — Это будет тайная партия. Вроде как бы оккультная. — Оккультизм меня не интересует, но научные эксперименты, даже экстравагантные, привлекают, — признался Михаил Михайлович. — Только ради этого я помогу ваморганизовать «матч антимиров». Хорошо звучит? Однако отрицательный результат эксперимента, несомненно, будет позитивным вкладом в науку, для которой требуются однозначные решения. — В науку? В шахматную, во всяком случае, — заверил я. — Хорошо. После нашего с вами знакомства с самой могучей на Земле физической машиной под Москвой я дам вам окончательный ответ. Может быть, на международной конференции, на которую я уезжаю за рубеж, удастся кого-нибудь заинтересовать. Мы осматривали исполинские залы синхрофазотрона-гиганта, а я все думал о ясновидящих. Все ли они шарлатаны? Есть ли явления, пока не понятые людьми, но которыми они пользуются веками? Основная дорожка ускорителя элементарных частиц могла бы служить не только для их разгона, но и для испытаний скаковых лошадей. Однако чем же связана эта чудо-машина, помогающая проникнуть в тайны мироздания, с тайнами ясновидения? Что имел в виду профессор? В Западной Европе есть некий ясновидец, который состоял даже на службе в полиции. Я сам видел документы и кинокадры его деятельности. К нему обращаются всякий раз, когда нужно найти исчезнувшего человека. И он, якобы видя погибшего, безошибочно описывает окружающую обстановку и в конце концов приводит сыщиков к его телу, где бы оно ни находилось — на земле или под водой. Чепуха какая-то, сказал бы Станислав Лем, да и Герберт Уэллс не поверил бы. Одно дело литературный прием (здесь все дозволено!), другое- реальное представление о соседствующих с нами антимирах, куда, как в окошко, заглядывают наделенные противоестественными способностями медиумы. На Западе шарлатаны от ясновидения создали нечто вроде «индустрии предсказаний», извлекая из нее немалые барыши. И есть там прославленные дамы, с которыми советуются о грядущем даже видные политики, старающиеся не попасть впросак. Мне привелось, как и многим телезрителям, видеть фильмы кинематографистов ГДР, заснявших одну такую западногерманскую гадательницу. Она выглядела довольно вульгарно и уж во всяком случае менее романтично, чем любая цыганка из табора. И все-таки, размышлял я, глядя на огромный зал камеры «Светлана», где мерно, громко и загадочно вздыхала от внутренних взрывов какая-то огромная труба, отсчитывая контакты с микромиром, неужели можно представить себе наш мир единым» но слоистым?.. Все в нем происходит с неумолимой последовательностью и даже одновременно для всех его слоев (я сам обрадовалэтой спасительной мысли!), однако если «протыкать колоду карт» иглой под неким углом, то отверстия окажутся в разных местах воображаемой карты, соответствующих прошлому или будущему-под каким углом поставить иглу сигнала! Только мысленно следя за ходом этих размышлений, можно было понять мой неожиданный вопрос бородатому физику, объяснявшему нам с профессором Поддьяковым суть открытого здесь «серпуховского эффекта» — элементарные частицы, оказывается, могут проникать одна сквозь другую. И я спросил, думая о своем: — А миры и антимиры, смещенные во времени, не могут проникать один через другой, подобно элементарным частицам? Профессор Поддьяков один понял меня, а бородатый физик удивился и хмуро заметил, что «серпуховский эффект» не подтвердился. Михаил Михайлович заговорщически подмигнул мне. «Серпуховский эффект» не подтвердился, элементарные частицы не проникают одна сквозь другую. А миры и антимиры? А что видят ясновидящие? Возможна ли шахматная партия с Полом Морфи? У прославленного гроссмейстера, к которому я обратился с фантастическим предложением, было богатое воображение. — Не берусь спорить, возможно ли сыграть с Полом Морфи» но я с удовольствием сыграл бы, — сказал он. Теперь дело было за мной и профессором Поддьяковым, находившимся в заграничной командировке. Я дал в адрес конгресса, в котором он участвовал, телеграмму: «Достойный партнер найден». И получил ответ: «Состязание состоится». Признаться, я был взволнован. До конца я никак не мог поверить в телепатию и ясновидение. Но даже такой ученый, как Циолковский, утверждал, что нет в мире семьи, которая не могла бы припомнить хоть одного случая, объяснимого лишь признанием телепатии, этого загадочного общения людей на расстоянии. Чем черт не шутит! Может быть, и в самом деле мир — исполинская колода карт, некое «слоистое образование» из трехмерных движущихся во времени пространств. И в этом «слоистом пироге», или «Книге Вселенной», нужно лишь под определенным углом направить луч сигнала, чтобы он «проткнул» нужный нам листок в прошлом или будущем… И шахматам в этом историческом открытии будет принадлежать особая роль! С помощью ясновидящих? Пусть даже и с помощью перципиентов, индукторов, медиумов, этих живых физических аппаратов, способных посылать и принимать сигналы. Пока мы еще не можем их смоделировать, но использовать вправе! Пользовалось же человечество электричеством, сто лет не зная толком, с чем имеет дело! Предстояло найти ясновидящего. Может быть, на Западе это было бы легче. Пришлось обратиться к нашим энтузиастам телепатии. Мне помогла страстная единомышленница парапсихологов, супруга недавно скончавшегося академика, полная и эффектная Дина Марковна. Она познакомила меня с весьма нервной дамой, остро переживающей недавний разрыв с мужем, которого она, по собственному убеждению, направляла в жизни и вывела в люди. Проходя болезненный для женщин возрастной период, она стала нелюдимкой, подозревая всех, даже детей и мать, в недобром к себе отношении. Склонная к истерическому состоянию, она порой впадала в некий транс, когда в ней пробуждалось «ясновидение». К сожалению, она совершенно не знала шахмат. Это меня не остановило. Неуравновешенной даме предстояло сделать попытку связаться с ясновидящим, современником Пола Морфи, жившим за океаном, что, впрочем, для ясновидящих значения не имело. Что там какие-нибудь десять тысяч километров расстояния, когда речь идет больше чем о ста годах!.. Ясновидящий прошлого должен был уговорить Морфи сыграть шахматную партию с далеким его шахматным потомком. Профессор Поддьяков запросил меня по телефону о найденной ясновидящей даме и почему-то остался очень доволен всем, что я о ней рассказал. Через день он телеграфировал, что партию можно начинать. Партия игралась в Центральном Доме литераторов, в комнате правления Дома. Она имела два входа: со стороны коридора второго этажа и с главной лестницы, ведущей в Большой зал, где начиналась демонстрация кинокартины «Солярис» по роману Станислава Лема (знаменательное совпадение!). Несколько ступенек надо было преодолеть уже в самой комнате. Они были отгорожены барьером. В углу комнаты стоял письменный стол директора ЦДЛ с телефонами, напротив, примыкая к перилам барьера, — большой, для членов правления, покрытый зеленым сукном. За ним мы не раз принимали именитых гостей. Помню, тут беседовали приезжавшие к нам Нильс Бор, Лео Сцилард, академик Несмеянов… Много раз сиживали за ним прославленные космонавты. Сейчас спиной к телевизору одиноко пристроился за шахматной доской наш любимый гроссмейстер. С лестницы доносились голоса заполнявшей кинозал публики, которой предстояло увидеть па экране фантастическую ситуацию на другой планете с океаном-мозгом, а в скромной комнате правления ничто не выдавало готовящегося здесь события, по значению своему не меньшего, чем общение с океаном-мозгом Соляриса. Впрочем, мы, участники события, говорили вполголоса, двигались неслышными шагами, выражение лиц старались сделать торжественным. Все-таки матч антимиров! Общение с прошлым! Я пытался представить себе легендарного Пола Морфи в его родовой гасиенде, негра-певольнпка, входившего на цыпочках в его кабинет, где уже расставлены на старинном столике с инкрустациями шахматные фигуры. Может быть, негр поправляет дрова в камине? Впрочем, в Нью-Орлеане жарко… Мне было определенно жарко, хотя на улице стояла дождливая осень. Ясновидящая дама на время сеанса потребовала полного уединения. Она лучше всего впадала в состояние ясновидения, когда поблизости никого не было. Она уже призналась, что установила общение с неким клерком нью-орлеанского банка, который хорошо знает и уважает семью Морфи, даже помнит отца Пола, строгого судью. Ясновидящая, безусловно, не знала подробностей биографии Пола Морфи! Я начинал доверять ей. Но как же она будет передавать ходы, не зная шахматной нотации? — Я воспринимаю только образы, — пояснила ясновидящая. — Я вижу доску и стоящие на ней фигуры. По телефону я сообщу, какая из них передвинется. Для связи с нашей ясновидящей отвели кабинет заместителя директора, сообщавшийся с комнатой директора через помещение секретаря. У телефона дежурила Дина Марковна, которая буквально священнодействовала. По указанию ясновидящей она прижимала к уху телефонную трубку и переставляла фигуры на доске, а энтузиасты эксперимента — член правления Дома, главный редактор популярного молодежного журнала и два писателя-шахматиста, драматург и прозаик, оба отчаянные скептики и снобы, — сообщали гроссмейстеру на шахматном языке ход Морфи. Никто из моих помощников в эксперимент не верил. Все ждали повода для того, чтобы посмеяться. Профессор Поддьяков по-прежнему был за океаном. Что касается гроссмейстера, то он, подозревая подвох, все же был прост и спокоен, впрочем всегда готовый обратить происходящее в шутку. Но никаких шуток не было. Партия советского гроссмейстера с Полом Морфи, умершим сто лет назад, состоялась! Представьте, Пол Морфи через банковского клерка предложил своему партнеру (это нашему-то гроссмейстеру!) фигуру вперед. Получив отказ, он извинился и, как истый джентльмен, пожелал играть черными. Я не буду приводить всей партии, чтобы не заставлять скептиков тщетно сличать ее со всеми известными из наследия Морфи. Могу сказать, что игрался один из малоизвестных в девятнадцатом веке закрытых дебютов, который современной теорией разработан достаточно полно. Вероятно, Пол Морфи не раз удивлялся своеобразным ходам своего партнера, избиравшего неведомые для времен Морфп пути развития. Однако Морфи остался самим собой, гениальным шахматистом атакующего стиля. Положение обострилось, и черные, отдав копя за пешки, рассчитывали на грозную лавину своих пешек. Белый король застрял далеко от своей столицы, куда рвались черные пехотинцы, непременно желавшие стать генералами. Вот какое создалось на доске положение 132. Позиция эта интересна тем. что нашему гроссмейстеру удалось также блеснуть своим комбинационным талантом и протипопоставить наступавшему Морфи необыкновенную ничью! Такой ничьей в девятнадцатом веке не знали! Позиционная ничья рождена современностью. Предоставим же слово самим шахматным фигурам… CHESS132.GIF 1. Kd1! Белые предвидят приготовленную Морфи жертву коня на g4 и в то же время предотвращают ход с4-сЗ. 1. .Kg4+ 2. Kpg5 Kf2! Морфи все-таки жертвует коня, рассчитывая на неотвратимый прорыв пешки сЗ! Прорыв действительно неотвратим, но… белые противопоставляют плану черных топкий замысел. Они принимают жертву. Легко видеть, что отказ от нее ведет к поражению, например: 3. Кс3+? Кре6 4. Kf1 d1Ф, и черные легко выигрывают. Кстати, белые не могли на первом ходу сыграть 1. Kf1: черные ответили бы 1…Kg4+ 2.К: g4, и теперь 2…d1K! Избегая вилки и нападая на беспомощную белую пешку Ь2, черные легко выигрывают окончание. Итак, на третьем ходу белые принимают жертву коня. CHESS133.GIF 3. К: f2 сЗ (133). Теперь пешку не остановить. Но и не надо! CHESS134.GIF 4. Kge4 с2 5. Кс3+ (134) Крс4 6. Kfd1 с1Ф (135) — вот оно, желанное материальное преимущество — ферзь с грозной проходной пешкой против двух коней! Однако кони могут тревожить черного короля: 7. Ke3+ Kpd4 8. Ked1. Надо вернуться, чтобы захлопнуть клетку, в которой оказался новорожденный ферзь. Ясновидящая дама передала Дине Марковне по телефону, что Морфи пожал руку невидимому противнику в знак признания ничьей. Я победоносно посмотрел на своих друзей-шахматистов, на прозаика и драматурга. Ну что? CHESS135.GIF CHESS136.GIF Кстати, клетка, в которой мечется ферзь, довольно просторная — он безопасно может располагаться на четырех полях: с1, c2, а1, а2. Но не стоит ли черным пожертвовать своего незадачливого ферзя? Скажем, 8. .Ф: Ь2, и теперь если белые возьмут ферзя конем — 9. К: Ь2, то 9. .Кр: сЗ с выигрышем. Однако у белых есть лукавый промежуточный шах 9. Kb5+Kpc4 (136), и после 10. К: Ь2+ уже черным надо думать о ничьей. И все же психологически трудно примириться с бесполезностью такого материального преимущества, как ферзь, имеющий по крайней мере четыре поля для маневра. Ведь с его помощью черный король в дуэли с белым всегда будет иметь запасный темп для оттеснения. Королю черных достаточно достигнуть, полей f4 или f3. Тогда можно отдать ферзя на d1 и прорваться королем на е2 с выигрышем. Неужели черным не выполнить такого плана? Пусть на пятом ходу после шаха конем с сЗ (134) король пойдет иначе: 5. .Креб 6. Kfdl Kpe5 7. Kpg4 Kpf6 8. Kpf4 с1Ф!" г 9. Kpg4 Kpg6 10. Kpf4 Kph5! 11. Kpg3 Kpg5. Король оттеснен, желанное поле f4 близко! Но у белых есть ресурс — 12. Ке4+ (138) Kpf5 13. КесЗ Фа1 14. Ke3+Kpg5 15. Ked1 Kph5 16. Kph3 Kpg5 17. Kpg3 Фс1 18. Ке4+. Ничья! CHESS137.GIF CHESS138.GIF Мы еще долго сидели в ЦДЛ, анализируя фантастическую партию из матча антимиров. В анализе деятельное участие принимал и главный редактор молодежного журнала. Он был человеком увлекающимся. С высоты своего огромного роста он с присущей ему энергией набросился на меня с требованием написать популярную статью о проведенном эксперименте. Он любил «научные сенсации», а меня считал мастаком по таким делам. И на этот раз я, может быть, рискнул бы на выступление в печати, если бы не все то, что последовало за памятным вечером. Посмотрев на экране вымышленную ситуацию на вымышленной планете, кинозрители расходились, не подозревая, что рядом за дверью в самом деле произошло поистине фантастическое событие, но дальнейшее было еще фантастичнее… Михаил Михайлович вызвал меня телеграммой в аэропорт, куда прилетел из командировки. Мы были с ним в очень хороших отношениях, по встречать его мне пока не приходилось, и я понял, что у него были на то веские основания. Самолет «Панамерикэн» шел на посадку. Мне удалось прорваться на летное поле вместе с почитателями наших спортсменов, удачно выступивших за рубежом. Дальше все было как в одном из популярных фильмов. По трапу вереницей спускались молодые, дышащие здоровьем парни, на лету подхватывая брошенные им букеты цветов. Михаил Михайлович, подлинный герой фантастической эпопеи, сошел никем не замеченный, одним из последних. Мы обменялись с ним рукопожатием. — Но какова позиционная ничья! — сразу начал Поддьяков. — Два коня против ферзя! Каково? Я недоуменно уставился на него. Откуда он знает? Я не сообщал ему текста партии! — Гроссмейстер, — профессор назвал одно из самых громких шахматных имен, — в восторге от выдумки своего противника. Она поистине достойна Морфи. — Как так Морфи? — запротестовал я. — Морфи играл черными, а позиционную ничью сделали белые. Михаил Михайлович улыбнулся: — Это у вас тут Морфи играл черными, а там, за океаном, Морфи играл белыми. Черными согласился играть лучший гроссмейстер Запада. — Он поверил в ясновидение? — Там многие этому верят. А вот как у вас тут поверили… — и он с улыбкой развел руками. Я почувствовал себя уничтоженным. — Значит, гроссмейстеры играли не с Морфи, а между собой? — упавшим голосом спросил я. — Конечно. Иначе партии бы не было! Ведь мы же договорились сделать вклад в шахматную науку. — Как же передавались ходы? А клерк из Нового Орлеана? — Этот банковский служащий нам, очень помог. Вы, конечно, помните об опытах с подводными лодками? На борту их находились перципиенты, угадывающие карты, которые предъявляли им на берегу индукторы, находящиеся за тысячи километров. — Да, я слышал но не придавал им значения. — И напрасно! Один из этих перципиентов и был нашим банковским служащим. Ему удалось установить контакт с вашей телепаткой. Оба думали, что общаются с прошлым и передают ходы великого Морфи. Хотя на деле связь с прошлым и не была установлена, результат эксперимента едва ли нужно считать отрицательным. Тем более что аналогичный эксперимент был проведен одним из американских космонавтов, находившимся на Луне. Правда, есть сомнения в чистоте эксперимента… — Но у нас! Есть же шахматная партия! — Что бы ни случилось, она украсит шахматные издания. Отчет же об эксперименте — сответствующее отделение Академии наук. — Кесарево — кесарю, — уныло сказал я и решил не писать для молодежного журнала статьи о победе над Временем. Вместо нее я написал этот рассказ.
КУСОК ШЛАКА
Теплоход «Победа» вошел в Гибралтарский пролив в сумерки. Исполинская скала, один из столпов Геркулеса, отчетливо виднелась справа. Там в каменных складках таились английские пушки. А за скалой начиналась испанская земля. Налево зажигались огни Танжера. Сзади темнели воды Средиземного моря, впереди чувствовался Атлантический океан. Из Африки дул холодный ветер. Ко мне подошел аспирант Феликс, тот самый, который рассказывал в кают-компании о следах на Земле, оставленных звездными пришельцами. На теплоходе советские туристы, путешествующие вокруг Европы, два дня говорили только о гостях из Космоса, забыв Айя-Софью, руины Парфенона и римский Колизей. Я смотрел в сторону Африки, силясь представить себе знойную пустыню Сахару, скопление скал с древнейшими рисунками… существ в скафандрах. — Когда я смотрю на море, я не могу отделаться от тревоги, — сказал аспирант. — Боитесь шторма? Аспирант покачал головой. Огромный, в тяжелых очках, он задумчиво смотрел на воду. — Мне всегда кажется, что мы плывем по жидкой… взрывчатке. — Взрывчатке? — пораженный, переспросил я. — Я искал вас, — непоследовательно сказал Феликс. — Я хотел вам показать письмо американского журналиста, с которым вместе был в Африке. — Вы были в Африке? — Да. С экспедицией, искавшей тектиты. — Ах, эти стеклянные метеориты, которые не похожи ни на какие другие. — Не только не похожи. Они и другого возраста. Все метеориты ровесники Земли, им миллиарды лет. А в тектитах есть изотопы, скажем, алюминия-26, которые могли образоваться лишь миллион лет назад. Вероятно, тогда они один раз и выпали на Землю. — Я вижу, Феликс, вас всегда привлекают загадки науки. Пришельцы из Космоса… потом тектиты. — Я заинтересовался пришельцами из Космоса, потому что занимался тектитами. — И вы разгадали тайну тектитов? — Боюсь, что да. — Боитесь этого? — Да, боюсь, — решительно ответил аспирант. Я с интересом смотрел на него. Его силуэт вырисовывался теперь на фоне звезд. Берега Гибралтара скрылись во мгле. Танжер рассыпался огнями, как часть звездного неба. — Все метеориты, в том числе и тектиты, это осколки когда-то существовавшей планеты, — начал аспирант. — Ее орбиту угадал еще Кеплер. Он обратил внимание, что расстояние планет до Солнца возрастает по определенному закону. Но после Марса на Юпитере получался скачок, ступенька на кривой. Для ее плавности между орбитами Марса и Юпитера как бы не хватало одной планеты. Кеплер указал ее орбиту. Астрономы стали лихорадочно искать неизвестную планету. И вскоре обнаружили маленькую планетку Цереру. Поперечник ее был около четырехсот километров. Потом на той же орбите нашли еще три малых планетки, включая Весту с диаметром в 285 километров. А потом… потом все на той же круговой, — обратите внимание, почти НА КРУГОВОЙ орбите! — было обнаружено несколько тысяч малых космических тел обломочной формы, названных астероидами. Многие ученые сошлись во мнении на том, что кольцо астероидов образовалось из остатков когда-то существовавшей планеты. — Фаэтон, — подсказал я. — Но отчего он погиб? Столкновение космических тел? Аспирант покачал головой: — Если бы тела столкнулись, то они не могли бы остаться на прежней орбите планеты, они полетели бы по равнодействующей, то есть получили бы вытянутые эллиптические орбиты. — Но могла же планета взорваться, как бомба!.. — И тогда осколки разлетелись бы, не остались бы на круговой орбите. Нет! Механизм гибели планеты иной. Она как бы треснула под влиянием чудовищного сжатия сразу со всех сторон. — Что могло так сжать планету со всех сторон? — Очевидно то, что окружает ее твердь, — в о д а. — Океаны! — догадался я. — Но разве могут взорваться океаны? Впоследствии мне привелось задать этот вопрос одному из крупнейших физиков современности, принимавшему участие в создании атомной бомбы, самому Нильсу Бору. А тогда… Тогда аспирант достал из кармана стекловидный кусок. — Это тектит, — сказал он. — На его поверхности видны следы прохождения атмосферы, так называемые регаглипты, доказывающие его космическое происхождение. Но состав тектитов говорит, что они возникли из о с а д о ч н ы х п о р о д, они могли образоваться на дне или на берегу океанов. — На другой планете? — На планете Фаэтон. Обычные метеориты — это осколки соударяющихся частей распавшейся планеты; постепенно под влиянием притяжения Юпитера и Марса они разошлись, распределившись по законам небесной механики по кольцу. А тектиты… может быть, это — п е р в и ч н ы е о с к о л к и, образовавшиеся в момент взрыва… и именно тогда долетевшие до Земли. — Но Земле не угрожает такой взрыв? — Ученые считают, что наша планета, как естественное образование, устойчива, но… Я выжидательно смотрел на аспиранта. — Потому я и хотел прочесть вам письмо журналиста Роя Бредли. — О чем? — О взрыве атомной бомбы… над африканским городом. — Но этого еще не было! — запротестовал я. — Пока не было, но… может быть. Рой участвовал в нашей экспедиции за тектитами. Мы много говорили с ним. Он сказал, что напишет мне… и я помогу это опубликовать. Он напишет о том, что может случиться в любую минуту, если накалять положение и дальше. — Читайте. И он стал читать. Я забыл, что слушаю его и где нахожусь… «…Я обещал вам написать о ней… Что ж… Лианы тогда завидовали мне. Они свисали отовсюду, хватали за ноги, били по лицу, цеплялись за руки… Я шел впереди по звериной тропе и отводил в сторону живые шнуры непроходимого занавеса. Эллен шла сзади и напевала. Нагло любопытные обезьяны рассматривали нас сверху. Они перескакивали с дерева на дерево, как легкие тени. Я следил за ними, но не мог разглядеть кроны деревьев. Куда-то вверх уходили могучие стволы, с которых свисали темные рыжие бороды мха. Цветы были повсюду: вверху, сбоку, под ногами. Кощунством казалось на них ступить. Противоестественно яркие, с влажными бархатными лепестками, жадными и мягкими, с пестиками на длинной поворачивающейся ножке, свисающие с ветвей, осыпающие пыльцой, или жесткие, с острыми тонкими лепестками, с виду нежными, но режущими, с иноцветной серединой — цветок в цветке… Дурманящие орхидеи — любовные взрывы природы всех оттенков радуги, завлекающие краской и запахом, красотой и желанием, провозвестники будущих семян жизни… Сумасшедшие африканские цветы! Казалось, что они живут в неистовом ритме движения и красок, породившем исступленные негритянские танцы. Я мог поклясться, что цветы двигались, они заглядывали в лицо, они пугливо отстранялись или пытались нежно задеть за щеки, прильнуть к губам, они шумно вспархивали, взлетали… Конечно, это были уже не просто цветы, а… попугаи, но они были подобны цветам — такие же яркие, но еще и звонко кричащие. Обезьяны перебегали тропинку, показывая свои лоснящиеся зады, и одобрительно щелкали языками. Им тоже хотелось заглянуть нам в глаза. Они, конечно, знали, что мы были счастливы! Они завидовали!.. Мы провели с Эллен ночь в джунглях, в шалаше из банановых листьев, она пела свадебную песню перед звездным алтарем. Не было на свете женщины прекраснее ее, не было в мире существа более мягкого, доверчивого… Утром она послала меня разыскивать ручей. А когда я вернулся ни с чем, то застал ее одетой, европейской и недоступной, успевшей умыться. (Черные мальчишки из ближней негритянской деревни принесли ей воды.) И теперь мы шли к аэродрому. Он уже был виден, стена джунглей осталась за спиной. Мы взялись за руки. — Я думаю, — сказал я, — что нам не так уж важно ждать здесь, в Африке, атомного ада. Надо поскорее удрать в Нью-Йорк. Она усмехнулась и пожала мне пальцы. — Глупый Рой, — только и сказала она. — Разве… мы не вернемся вместе? Эллен отрицательно покачала головой. Я не знал, зачем она прилетела в Африку, я вчера встретил ее на аэродроме, и она сама придумала шалаш в джунглях… — Все это была шутка? — хрипло спросил я. — Нет, Рой, нет родной… Это не шутка. Я твоя жена… И ты мой муж… перед звездами, перед Вселенной! — Так почему же?.. — Милый Рой, ни ты, ни я не принадлежим самим себе. — Но друг другу? — протестующе воскликнул я. — Только друг другу. И будем принадлежать, но… Вот уже и аэродром. Нас провожала ватага черномазых ребят. Они показывали нам дорогу. — Рой, вы хотите, чтобы у нас было столько детей? — спросила Эллен, доставая из сумочки пачку долларов и давая каждому по долларовой бумажке. Негритята шумно закричали и убежали, унося нежданную добычу. Эллен грустно смотрела им вслед. — Ну вот, Рой… Никогда не забывай этой ночи… — Я не люблю слова «никогда». — Никогда, — повторила Эллен. — Я тоже не хочу этого страшного слова. Мы ведь увидимся, Рой… Я не знаю когда, но мы увидимся… Я чувствовал в себе пустоту. — Вот и мой самолет! — грустно сказала она. Мы шли по летному полю, мне хотелось кричать, выть, кататься по бетону дорожки. Навстречу нам шел штатский в темных очках, которого я мысленно назвал детективом. — Хэлло, Марта! — крикнул он Эллен. — Не хотите ли вы, чтобы самолет из-за вас задерживался? — Я ничего не имела бы против, — ответила Эллен, смотря только ей присущим взглядом в темные очки. — Надеюсь, джентльмен не будет в претензии, что останется один? проворчал детектив. — Я всегда буду с ним, — отпарировала Эллен. — О-о! — сказал детектив и предложил мне сигарету. Мне очень хотелось курить, свои сигареты я раздарил негритятам, но я отказался. — Ты будешь писать мне? — спросил я Эллен. Она сначала отрицательно покачала головой, потом взглянула на детектива и сказала: — Не знаю… Детектив отвел меня в сторону: — Надеюсь, сэр, вы поняли, что ни меня, ни Марту вы никогда не видели… Она шла вместе с очкастым и ни разу… ни разу! не оглянулась на меня. Я видел, как разбегался по бетонной дорожке самолет. Баллоны тяжелых колес оторвались от земли, пилот убрал шасси уже в воздухе. Я остался один, чтобы все видеть в стране, где ждали конфликта. Это был мой горький бизнес!.. Я не мог представить себе, что будет с Эллен, но мог представить, что произойдет здесь… И я должен был не только представлять, но и писать об этом. Я ведь был корреспондентом нейтральной державы. …Не думал я, что мой репортерский каламбур может всерьез обсуждаться в Совете Безопасности и послужит поводом для всего, что потом случилось. Мой пробковый шлем был пробит навылет. Может быть, было бы лучше, если б дружественный мне снайпер, засевший словно в густой роще в листве баобаба, взял прицел чуть пониже… Окопов в джунглях никто не рыл. Танки через «проволочные заграждения лиан» и надолбы из поверженных исполинов джунглей пройти не могли. В душной и пышной чаще солдаты сражающихся армий просто охотились друг за другом, как это испокон веков делали жившие здесь воинствующие племена каннибалов. Но в джунглях щелкали не только одиночные выстрелы затаившихся охотников, не только трещали автоматы преследователей, не только бухали, разворачивая сцепившиеся корни, заградительные мины, поражая осколками вертлявых обезьян, которые так же кричали и стонали, корчась в предсмертных муках, как и раненые люди… Сквозь непроглядную гущу листвы, лиан, орхидей и стволов со свисающим мхом почти беззвучно, с неуловимым нежным пением летели стрелы… Я рассматривал их в колчанах простодушных черных бойцов, которым не хватило винтовок. Мне показалось, что наконечники стрел чем-то вымазаны. Я посмеялся, заметив, что не хотел бы оцарапаться о них. И я пошутил в очередной корреспонденции, что против танков и бомбардировщиков, защищающих права обворованных владельцев рудников и копей, применяется «отравленное оружие». Увлекшись, я даже вспомнил о Женевских соглашениях, запрещающих применение отравляющих средств. А ведь там не сказано, что отравляющими могут быть только газы. Могут быть и… стрелы? Газеты босса напечатали мою корреспонденцию с самыми серьезными комментариями. Босс сказал, что это моя лучшая находка. Во всем мире поднялся невообразимый шум. Командование войск, которым симпатизировали газеты босса, предъявило противнику ультиматум. На следующую стрелу, нарушающую международные соглашения, ответом будет ядерная бомба. Совет Безопасности не мог прийти к единогласному решению. Мое имя упоминалось в ООН. А я не выходил из бара. Я жил в загородном отеле, указанном мне боссом. Кроме меня, там обитали офицеры, «коммунистические советники», нейтральные наблюдатели и мои коллеги, репортеры. Они завидовали моей славе, а меня снедала тоска. Я пил, сосал, хлестал виски, джин, ром, пунш, коктейли, привык даже к проклятому африканскому зелью, забыв, что его приготовляют беззубые старухи, сплевывая в кувшин пьянящую слюну. Бармен снова и снова наливал мне двойные порции. А здоровенный черномазый швейцар, милейший парень, эбеновый Геракл, осторожно втаскивал меня в лифт, а из лифта в мою комнату, где включал все четыре вентилятора на стенах и пропеллер под потолком, которые поднимали в моем номере жаркий смерч. Я умирал от жары, жажды и тоски. Я не хотел больше идти в джунгли, я не хотел больше видеть дикарских стрел и писать о них!.. Жаркий ветер, рожденный бессмысленно вращающимися лопастями, мутил мне ум. Я лежал поперек бессмысленно широкой кровати и изощрялся в отборных и бессмысленных ругательствах, удививших бы даже Эллен… Явился мой черномазый приятель, доставлявший меня из бара, и сказал, что меня требуют вниз к телефону. О, милые нью-йоркские доктора! Вам бы следовало понять, что протрезвляюще действует на таких клиентов, как я!.. В трубке звучал скрипучий, чужой и чем-то знакомый голос: — Хэлло, Рой Бредли? — Какого черта? — мрачно отозвался я. — А вот такого черта! Вы ничего о н е й не знаете? — Ничего. — Угодно вам получить от н е е записку? — Что?! — воскликнул я, мигом протрезвев. Я прижался щекой к раскаленному от жары аппарату. — Если можете взгромоздиться на джип, — продолжал он, — я буду ждать вас в три часа ноль восемь минут пополудни. Национальный банк, напротив парка, на углу набережной. Там стена без окон. Не люблю окна. — О'кэй! — сказал я. — Я думал, что вы сволочь. — Ну, а я продолжаю так думать о вас. Три ноль восемь. — О'кэй, мы еще выпьем с вами. Вы все еще носите темные очки? — У меня глаза разного цвета. И солнце здесь яркое. Постарайтесь не напиться. Боже! Какая сказочная страна! Все вспорхнуло вокруг, переливаясь оперением райских птиц. Их щебетанье врывалось, как первозданная музыка природы. Я уже понимал зовущие ритмы местных танцев, я готов был кружиться в экстазе, исступленно прыгать под звуки барабана, самозабвенно вертеть туловищем. Я уже понимал простодушно открытые сердца детей джунглей, с которыми словно заключил освещенный любовью союз. Я налетел на своего эбенового Геракла и расцеловал его. Он подумал, что теперь уж я действительно пьян, и поволок меня в номер. Но я был трезв, как папа римский, и счастлив, как нищий, нашедший бумажник. И я подарил негру свой бумажник со всем содержимым. Но он, каналья, оказывается, засунул мне его обратно в карман. Я шел по вестибюлю и улыбался всем. Даже «коммунистические советники» показались мне милыми… Потом я мчался, сидя за рулем джипа с опознавательными знаками нейтральной державы. Дорога сверкала, она казалась расплавленной, в ней отражалось солнце, протягивая по асфальту золотистую дорожку, как луна на воде. Такие дорожки, по поверью, ведут к счастью. Я мчался за своим счастьем. Вдруг руль потянуло вправо. Я нажал на тормоза. Над ухом раздался свист. Это была стрела… Пришлось остановиться. Спустили сразу обе шины. Я проехал ярдов двести, чтобы быть подальше от стрел, и порядочно «изжевал» резину. Я посмотрел на часы. Время неумолимо! Он сказал три ноль восемь, не три с четвертью, не три ноль ноль, а именно ноль восемь. Этим подчеркивалась точность. А я сидел под жгучими лучами африканского солнца и рассматривал разрезы, — да, да! не проколы, а разрезы! — в баллонах. Эти проклятые черномазые поставили на шоссе ловко прилаженные ножи. Оказывается, я пролетел, не останавливаясь, через контрольный пост. Черные солдаты, трое с луками, двое с ружьями, подошли ко мне и выразили, пощелкивая языками, свое сожаление. Не разобрали, что я американец. Двое стали помогать мне. Резина была бескамерная, приходилось ремонтировать покрышки на месте. Вероятно, я был изобретательно красноречив, но мое красноречие разбивалось о невежественную глухоту черных солдат. Мы уже починили одну шину, другое колесо заменили на запасное. Можно было ехать. Было три часа ноль семь минут. Я живо представил себе детектива в темных очках, скрывавших разный цвет его глаз. Он расхаживал около стены без окон и ждал меня. Небо было эмалево-синим. Под таким небом все люди должны быть счастливыми. Я слышал или читал где-то, что облака в небе — это упущенное людьми счастье. Чем более затянуто небо, тем несчастливее люди под ним. А когда людям особенно хорошо, небо совсем чистое. Я был уверен, что разноглазый в темных очках ощущает то же самое, есть же у него жена, мать, невеста, может быть, дети. Он показал себя человеком, позвонив мне. Он не мог уйти! Он дождется меня!.. Я буду читать записку, написанную ее рукой, буду мысленно слышать сводящий меня с ума е е голос!.. Небо было синим и чистым. В нем что-то блеснуло. На большой высоте шел самолет. На некотором расстоянии от него тянулись белые расплывающиеся хвосты сразу нескольких «комет». Я понял. Это были «догоняющие ракеты». Они несли смерть отважному пилоту, но казалось, что кто-то хочет украсить небо, рисуя на его эмали эти белые следы, словно отделывая его под диковинный синий мрамор. Кажется, «догоняющие ракеты» сбили самолет… слишком поздно… От самолета успела отделиться белая точка. Может быть, пилот успел выпрыгнуть с самолета? Нет! Самолет пошел вниз, оставляя за собой черный след, уже на горизонте. Пилот не мог выброситься заблаговременно… Черные солдаты смотрели из-под ладоней на растущую белую точку, вернее на пятнышко. Все ниже, ниже, ниже… Я поймал себя на том, что не дышу. А черные солдаты пересмеивались. Они ничего не понимали. Мне следовало вынуть фотоаппарат, но у меня окостенели руки. Лоб стал потным. Я только успел надеть темные очки. Вспышка была ослепительной. Я понимаю теперь рассказы о слепых от рождения, которые на единый в жизни миг видели адский свет. До этой секунды нестерпимо сверкавшее африканское солнце потускнело, стало медным… Лицо опалило лучами другого вспыхнувшего светила, неизмеримо более яркого, жгучего, бьющего испепеляющей жарой, пронизывающего живые клетки, свертывающего листья деревьев, иссушающего травы… Я услышал крики. Черные солдаты выли от боли. Лучевой ожог! Не я ли читал о том, как в Нагасаки или в Хиросиме на расстоянии нескольких километров выгорали черные буквы афиш, напечатанные черной краской… Черный цвет поглощает тепло лучей. Меня спас белый цвет кожи, подобный бумаге афиш. А черные лица солдат уподобились типографской краске и оказались обожженными. Впрочем, это только предположение. Негры выли, скорчившись, закрыв лица руками, согнувшись в поясе, а я вскочил в джип и понесся вперед. Солдаты кричали, может быть, хотели остановить… Я сам не понимал, что делал. Самым глупым будет признаться, что я думал о маленьком листке бумаги, который держал в кармане разноглазый детектив. Я видел, как вскипала ножка черного гриба. Сначала она была белой, словно пар вырвался из-под земли. Потом она стала темнеть, поднимаясь все выше, выше и выше… куда выше, чем летел сбитый самолет. Я мчался по шоссе и видел, как стала расплываться в небе головка черного гриба безобразной темной шляпой. Ножка была неровной и извивалась… И только теперь на меня обрушился звук. Я нажал на тормоза. Скрип их не был слышен. Я откинулся на спинку сиденья, голова разрывалась от обрушившегося на меня удара. У меня не хватило ума бежать. Вероятно, я выполнял свой бизнес, чтобы стать очевидцем и иметь возможность все описать для газет, но я, клянусь, думал совсем о другом. Я хотел только добраться до Национального банка… У меня хватило ума достать из багажника защитный костюм. Говорят, я был первым человеком, появившимся в пострадавшем городе в противоядерном костюме. Я походил на тех самых «марсиан», древние фрески которых обнаружил на скалах в Сахаре французский искусствовед профессор Анри Лот. Сначала я встретил толпы бегущих и казалось бы непострадавших, только панически напуганных людей. Они бежали по шоссе, и мне пришлось почти затормозить машину, чтобы не раздавить кого-нибудь. Они бежали, вытаращив белки глаз, что-то крича. Они несли на руках детей, тащили узлы, катили загруженные велосипеды и коляски. Некоторые из них падали, другие ступали по упавшим. Я отчаянно сигналил. Мой вид «марсианина» пугал их. Они шарахались в сторону, и я мог ехать дальше. А дальше… был ад. Нужно быть помешанным, чтобы двигаться дальше. Я и был помешанным. У меня была маниакальная идея найти детектива с запиской. Только представив это, можно понять, почему я так поступал. Сначала мне встретились сметенные хижины. Вернее, я видел пустыри, начисто выметенные от того хлама, который стоял на них. Валялись лишь тазы, ведра, руки, ноги, головы, тела мужчин и женщин, обломки кроватей и трупы детей… У меня было ощущение, словно я впервые узнал о том, как приготовляется зелье беззубых старух… Мне пришлось выйти из машины и снять защитный шлем. Меня вырвало… Наклоняясь к земле, я увидел на ней маленькую черную перчатку. Я поднял ее. Это оказалась оторванная детская кисть… Я зарыл ее в пепел. Здесь никто не помогал друг другу. Тут были только мертвые или умирающие. Я ехал дальше. Дальше стало еще хуже, если это можно себе представить. Я добрался до домов европейского типа, то есть я добрался до их развалин. Бесформенные холмы битого кирпича, вывороченные бетонные плиты, из-под которых там и тут торчали черные руки или задранные, тоже черные, ноги… Я остановил машину. Мне хотелось откопать хоть кого-нибудь. Со мной рядом оказалось несколько солдат и один здоровенный испуганный негр, напоминавший моего Геракла. Мы стали вместе разбрасывать камни. Мы откопали белую женщину, блондинку с наклеенными длинными ресницами. Она смотрела на меня умоляюще. У нее была раздавлена грудь. Я отвернулся. Мы еще откапывали, переносили несчастных, складывали вдоль тротуара. Какой-то европеец, которому неведомо как оторвало обе ноги, требовал, чтобы я пристрелил его. Я должен был это сделать, но не сделал… Это был могучий, когда-то статный, наверное, человек, он смотрел на меня злыми глазами, он требовал, он просил, он встал бы на колени, если бы они у него были… Он хотел только одного — смерти. Я не дал ему ее. Смерть сама скоро возьмет его без меня. Это было малодушие. Да, я был малодушен. Я двигался по ужасному, развороченному, уничтоженному за доли секунды городу, полному едкого дыма. Я видел столько трупов, словно раздался трубный глас Страшного Суда… и все могилы раскрылись, покойники встали… и упали в позах кричащего страдания, задавленные, обезглавленные, четвертованные, заживо зажаренные, изуродованные изощренной сверхиспанской инквизицией… Но я знал, что и те, кто вместе со мной вытаскивали из-под развалин еще дышащих людей, так же как и «спасенные», все равно умрут в страшных мучениях, пораженные неизлечимым лучевым недугом. Спасет ли меня мой костюм? Я ехал дальше. Меня принимали за ядерного комиссара. От меня ждали указаний, распоряжений. И я давал эти указания, приказывал, действовал энергично, словно я впрямь был командиром в лагере пострадавших. Я поступал непроизвольно, может быть, уже не от ума, а просто от сердца… Я достиг кварталов, где бушевали пожары. Нечего было и думать их тушить. Нужно было лишь помочь чудом уцелевшим уйти от моря огня… Трудно было понять, что горит. Горели руины, огонь вырывался из груд щебня, дым шел из выбитых окон. Какие-то безумцы вытащили из подземного гаража пожарную машину и поливали бушующее пламя из беспомощной кишки. Я похвалил их. Я все время ехал вперед по кругам дантова ада, сквозь дым, смрад и огонь… Эпицентр катастрофы казался мне самым страшным, я стремился к нему. В центре города уцелели деревья, они лишь потеряли кору и сучья, торча обожженными столбами. Многие дома стояли без крыш, с проломленными межэтажными перекрытиями… Но дома стояли, смотря на творящийся вокруг ужас пустыми глазницами окон, из которых там и тут вспышками гнева вырывались клубы дыма. Автомобили были вдавлены в мостовую в тех местах, где застал их взрыв. Трудно было узнать в железном ломе, загромождавшем асфальт, еще минуты назад мчавшиеся машины. На них словно обрушился чудовищный молот, расплющивший их на наковальне… Из-под них растекалось масло с радужными разводами. А рядом высыхали мокрые пятна, оставшиеся, вероятно, от проходивших по тротуару людей… От людей!.. Никому никогда я не пожелаю увидеть что-либо подобное. Проклятье всем! Проклятье богу в небесах! Проклятье человеку на земле! Горе всевышнему, допустившему все это своей высшей властью! Горе земным рабам его, в своей безысходной дерзости добившихся того, что случилось!.. Я продолжал отдавать распоряжения. Откуда-топоявившиеся люди, уцелевшие или примчавшиеся выполнять долг, за который они расплатятся жизнью, пытались что-то сделать. Одну из улиц заливало водой. Прорвало водопровод. Другая улица была полна зловонья, под гору стекала мутная река из разбитой канализации. Я ехал и ехал дальше. Иногда выходил из машины, чтобы сесть на щебень и рыдать. Зачем создан человек? Зачем развивается культура? Чтобы найти свой конец? Эллен говорила, что всему есть начало и всему есть конец. Так неужели же это конец мира и мне, простейшему из смертных, дано его видеть. чтобы самому встать в процессию идущих за последним решением? Меня спасла Эллен, спасла тем, что существует. Меня спасло исступленное мое чувство, заслонившее от меня наступавший со всех сторон ужас. Я сошел бы тогда с ума, ибо невозможно было не сойти с ума, не имея света во тьме. У меня был этот свет. Знала ли Эллен, узнает ли она когда-нибудь, чем она была для меня в эти минуты! Страшные минуты, бесконечные минуты. Высохшая кровь, щебень и пепел… Я знаю, будет написано в газетах, что репортер агентства «Ньюс энд ньюс» Рой Бредли проявил находчивость, энергию, самоотверженность… Что все это значит по сравнению с тем, что я видел, проявляя все эти бесполезные качества!.. К вечеру я добрался до набережной, на которой стоял когда-то Национальный Банк. Теперь там лежал огромный холм щебня, обрываясь с одной стороны отвесной, чудом уцелевшей стеной без окон. Я шел по мостовой, с трудом передвигаясь в своем громоздком костюме… Будут ли у меня дети? Зачем? Чтобы их вытаскивали из-под развалин, чтобы они исчезали на дне радиоактивного кратера? Под ногами хрустело стекло, по земле рассыпаны были стекловидные камни… У Национального Банка одна стена была сплошным окном, в другой стене окон не было. Где-то здесь он стоял в три часа ноль восемь минут пополудни. Мерзкие мысли заползают в мой мозг в самые неподходящие минуты. Гадкая мыслишка терзала меня. Да, я хотел найти труп разноглазого… пусть заваленный обломками небоскреба, которые я готов был раскидать, чтобы найти в истлевшем кармане бесценный для меня клочок бумаги! Я старался представить себе его, сутулого, в шляпе набекрень, в темных очках… Дрожь пробежала у меня по спине. Я снял темные очки, спасшие мое зрение в момент взрыва. Я не верил себе. Я видел его… Я видел его тень на стене, на остатке стены, срезавшей холм щебня. Вот здесь он стоял, когда его осветила сбоку вспышка взрыва, тень его упала на стену и отпечаталась на ней. Сутулая, со шляпой набекрень, с острыми уголками заметных сбоку очков… Тень была, а человека, превратившегося в газ, испарившегося вместе с клочком столь желанной для меня бумаги, его, живого, ждавшего, вредившего и делавшего добро, добивавшегося блага себе и даже подумавшего обо мне, его… не было. Было от чего сойти с ума. Может быть, я и сошел с ума, смотря на чудовищную, насмехающуюся надо мной, обвиняющую весь мир, запечатленную на стене тень человека, который еще сегодня был живым… Я встал на колено, словно хотел поклониться его тени. И я поднял с земли стекловидный кусок шлака, кусок ядерного шлака. Я унес его с собой, как напоминание о страшном преступлении Разума, которое, как вещественное доказательство, когда-нибудь будет фигурировать на суде людей или на Суде над людьми». Аспирант кончил читать. Мы оба молчали. Я стоял потрясенный. Я мысленно видел американского журналиста, держащего стекловидный ядерный шлак в руках. Аспирант протягивал мне стекловидный кусок шлака. — Что это? — отшатнулся я. — Кусок ядерного шлака, — ответил аспирант. — Он был приложен к письму. — Так, значит, взрыв был? — Да, был. Рой присутствовал при нем. Взрыв считался испытательным, но Рой мысленно видел все, что описал. Он поднял там кусок шлака с земли. Теперь этот кусок держал в руках я. Аспирант взял со столика другой, совершенно такой же кусок, который мы уже рассматривали. — Тектит, — напомнил он. — Они неотличимы! — воскликнул я. — Не только внешне… но и по химическому составу, по структуре, по обезвоженности… — Значит… значит тектиты — ядерные шлаки Фаэтона?.. — …который погиб от термоядерного взрыва океанов. Я изучал лицо Феликса. Оно было серьезно и даже чуть торжественно. — Но чем мог быть вызван этот взрыв? — почему-то шепотом спросил я его. — Вспомните… когда американцы взрывали водородную бомбу в Бикини… В американском атомном центре Беркли некоторые ученые тогда высказывали опасения о глобальной, всеобъемлющей реакции вод океанов, которую может начать опытный взрыв. — Океан не взорвался, — напомнил я. — Но взрыв тогда оказался большей силы, чем ожидали. С тех пор сила ядерных бомб все возрастала, и кто знает, чем могло это когда-то кончиться. — Где? — На Фаэтоне. Он массой превосходил Марс, находился дальше от Солнца, чем Земля, скорее остывал. Жизнь там могла появиться прежде, пройти все стадии развития раньше… — Я понял вас. Так вот почему вас интересовали инопланетные цивилизации, их контакты с нами!.. — Да. Цивилизация фаэтов могла проходить ту же кризисную стадию развития, которую сейчас проходит человечество, овладев ядерной энергией. Там тоже могли быть свои даллесы и Эйзенхауэры, форрестолы и аденуаэры, свои атомные генералы, свои безумные поджигатели ядерной войны… И вот миллион лет назад, после взрыва во время безумной войны на Фаэтоне одной из сверхбомб взорвались все океаны планеты… Тогда и упали на Землю долетевшие до нее осколки ее атомных шлаков — тектиты… Я смотрел на два совершенно неотличимых стекловидных куска. Я думал о судьбах цивилизаций. Современные ученые допускают существование сотен тысяч, даже миллионов цивилизаций в одной только нашей Галактике. Неужели таков их неизбежный конец? Нет!.. Миллион раз «нет»! Самоубийство среди цивилизаций Вселенной такая же редкость, как самоубийство среди людей, каждый из которых переживает кризисную пору. У одних мысль о конце жизни пробегает легкой тенью, других она в определенном возрасте мучительно преследует. Но только единицы из миллионов гибнут. Также и во Вселенной!.. Очевидно, на Фаэтоне и произошел этот редчайший случай самоубийства цивилизации. Да полно! Возможен ли взрыв океанов?! Можно ли об этом серьезно говорить? Феликс подарил мне атомный шлак, присланный американцем. Вместе с рукописью Роя Бредли я храню тектит и ядерный шлак Фаэтона. …Недавно у нас в Москве был крупнейший ученый современности датский физик Нильс Бор. Он встретился в узком кругу с писателями. Мне посчастливилось проводить эту встречу. Мои друзья помнят, как я задал ему прямой вопрос: — Возможна ли глобальная реакция воды океанов при взрыве сверхмощной ядерной бомбы? Что же ответил маститый физик? — Я это не исключаю, — с серьезным лицом сказал Нильс Бор. Нильс Бор не исключает этого!.. — Но если это было бы и не так, — закончил он, — то все равно ядерное оружие надо запретить, оберегая будущее человечества. Я смотрю на два стекловидных куска, я перечитываю написанные американцем страницы и вспоминаю об аспиранте. Он всерьез изучал следы звездных пришельцев, которые, как он думал, могли прилетать в нашу солнечную систему, чтобы исследовать причину гибели планеты у нашей звезды… а может быть, и предотвратить гибель планеты, где развивался разум. Развивался Разум!.. Разум, именно разум должен стать гарантией, чтобы судьба Земли не стала судьбой Фаэтона!.. И этого не случится! Никогда!.. Об этом должен думать, это должен понять и это должен решить каждый человек!..Александр Казанцев КЛОКОЧУЩАЯ ПУСТОТА Три научно-фантастических романа-гипотезы
Она и плачет и хохочет,Хоть пустота, а все ж клокочет.Сирано де Бержерак
Книга первая ОСТРЕЕ ШПАГИ
Искателей истин судьба нелегка,Но тень их достанет в веках облака.Пьер Ферма

Научно-фантастический роман-гипотеза о магистре прав, чисел и поэзии и его современниках в трех частях, с прологом и эпилогом
ПРОЛОГ
Ни куб на два куба, ни квадрато-квадрат и вообще никакая, кроме квадрата, степень не может быть разложена на сумму двух таких же.Мы с сыном, капитаном первого ранга, инженером, думали, что едем в купе вдвоем, но, когда в окне вагона замелькали трубы уральских заводов, с верхней полки вдруг спустился человек, назвавшийся Аркадием Николаевичем. Он оказался приятным собеседником, и я ему обязан всем, что дальше расскажу. — А я думал, что вас нет, — простодушно признался я ему. Аркадий Николаевич улыбнулся: — Что ж, считайте меня «мнимой величиной», есть в математике такое понятие.[31] Величина существует, и в то же время она мнимая. — Как это понять? «Мним»? — спросил мой Олег. Наш попутчик рассмеялся: — Вот не слышал такого слова. Впрочем, оно точно выражает суть явления, связанного с «машиной времени». — Вы допускаете ее? — искренне удивился я. — В свое время категорически отрицал, ибо она противоречит закону причинности. Не может следствие произойти раньше причины, ребенок появиться раньше матери. Но потом… потом нашел оправдание. Мой Олег сочетал в себе эмоциональность с дотошностью: — И допускаете, что можно перенестись в недавнее прошлое, встретиться с собственной бабушкой, когда она была хорошенькой, и жениться на ней, став самому себе дедом? — Если бы это было возможно для мнима. — То есть? — У каждого есть своя «машина времени» — это его ВООБРАЖЕНИЕ. Оно способно перенести и в прошлое, и в будущее, и за тридевять земель. Можно «присутствовать» при исторических событиях, скажем, стоять рядом с сумрачным императором во время битвы при Ватерлоо, но лишь как мнимая величина. — Как мним? А это здорово! — восхитился Олег. — И Наполеон, скрестив руки на груди, пройдет сквозь меня, как через облачко тумана!.. — Поскольку вы находитесь там как плод собственного воображения. — Словом, «я тебя вижу, а ты меня нет!» — Если хотите, то да. — Но ведь вас-то мы видим, а вы назвали себя мнимой величиной. — Я просто заметил на столике вашу книжку «Теорема Ферма» и вспомнил о своем недавнем путешествии на триста лет назад, когда я находился рядом с Ферма, как «мним». — Что? — поразился я, косясь на попутчика. Надо сказать, что у меня склонность к фантазии сочетается со скептицизмом. Мне доводилось встречаться с «марсианином», приходившим ко мне (как я четверть века назад описал в своем рассказе «Марсианин»), чтобы доказать свое неземное происхождение, и со свидетелями приземления из космоса «летающих тарелок», даже с Иисусом Христом, который явился ко мне сообщить об «открытии самого себя». Оказывается, любое желание одного техника по телевизорам из Львова телепатически передавалось окружающим и беспрекословно выполнялось. Видимо, я был исключением, а потому мне с немалым трудом, но все же удалось убедить его прислать (но уже из Львова) подробное описание его «прозрения». Каюсь, я терзался тем, что упустил, быть может, интересного для науки человека-экстрасенса, наделенного необыкновенными способностями. Аркадий Николаевич не был телепатом, но, логически мысля, угадал мои опасения: — Уверяю вас, я совершенно в своем уме. Мне просто потребовалось для теории насыпей, над которой работал, доказательство Великой теоремы Ферма. — xn+yn=zn — не имеет целочисленных решений при n>2, — вмешался Олег. — Но этого доказать ученые не смогли в течение трехсот лет, даже создав новую отрасль математики. — Алгебраическую теорию чисел. Вы правы. Ферма не знал ее, написав на полях «Арифметики» Диофанта: «Ни куб на два куба, ни квадрато-квадрат и вообще (заметьте, «вообще» — обобщение!) никакая, кроме квадрата, степень не может быть разложена (заметьте, «разложена»!) на сумму двух таких же. Я нашел удивительное доказательство этому, однако ширина полей не позволяет здесь его осуществить», — наизусть процитировал Аркадий Николаевич. — Приведено в этой книжке, — показал я брошюру, захваченную Олегом в дорогу, — но дальше сказано: «Следует со всей решительностью предостеречь читателя искать элементарное доказательство теоремы Ферма. Можно быть уверенным, что это будет лишь ненужная трата труда и времени. Во всяком случае, ни издательство, ни автор книги[32] «Теорема Ферма» М. М. Постников ни в какую переписку по поводу теоремы Ферма вступать не будут». — Потому мне и нужен был сам Ферма. — Зачем? — Чтобы получить у него его доказательство. — А было ли оно? — вступил Олег. — Ферма мог найти собственную ошибку, как находили впоследствии ошибки в несчетных доказательствах теоремы, а потому не записал и не опубликовал своего доказательства! — Ферма вообще почти никогда не публиковал своих доказательств. Он сделал открытие в математике и как бы просил всех принять его вызов и повторить то, что удалось ему сделать. — Кто же он? Шутник? «Принцесса Турандот от науки» или гордец с непомерным самомнением? — Нет, нет! Просто скромный автор «математических этюдов», предлагаемых, подобно шахматным, для решения любителям математики. — И что же? Доказывали его выводы? Решали эти этюды? — Только Эйлеру в следующем столетии удалось это сделать, исключая Великую теорему, которую доказал только сам Ферма. — Почему вы в этом уверены? — Потому что он подсказывал, как это сделать. — И вы у него это узнали? С помощью спиритического сеанса? — иронизировал Олег. — Нет, зачем же? С помощью анализа его намеков, изучения других сделанных им открытий и с помощью воображения, которое способно все это объединить, создав образ Ферма. — Конечно, «бессмертного академика», как это принято во Франции. — Он даже не слышал о таком звании. Бессмертного, но не по выбору старцев в мантиях или по королевскому указу, а по сделанному им вкладу в науку, ощутимому и в наши дни. — И у вас, говорите вы, состоялась встреча с ним? — наседал Олег. — Я вообразил ее. А «беседа» с ним вылилась в чтение его трудов, изданных полвека спустя его сыном Самуэлем, тоже ученым и поэтом, как отец. — Так! И что же вам сказал «при свидании» Ферма? — В его отказе публиковать свои доказательства, пожалуй, было больше скромности, чем желания возвыситься над всеми, кому он предлагал найти им найденное. Но вместе с этой его чертой в нем можно увидеть и кое-что поглубже. Например, не без скрытого лукавства пишет он на полях книги Диофанта замечания, неоднократно употребляя частицу «ни». И вовсе не для усиления отрицания, а для того, чтобы подчеркнуть существование единого, общего способа разложения степени на сумму слагаемых той же степени. — И есть такая формула? — Конечно, есть! Я отыскал бином Ферма, несправедливо забытый. Отталкиваясь от него, я прошел путем Ферма к доказательству его Великой теоремы. — Кажется, вы докажете сейчас если не теорему, то реальность своего путешествия к Ферма, — пошутил я. — Пожалуй, результат математического вывода может служить таким доказательством. — Так вы же сможете получить знаменитую премию, обещанную за доказательство теоремы Ферма! Аркадий Николаевич усмехнулся: — Это немецкий любитель математики Вольфскель в 1908 году завещал сто тысяч марок тому, кто докажет теорему Ферма. — Но, по вашим словам, вы это сделали! — Нет. Я лишь нашел доказательство у Ферма. — Значит, вы действительно побывали у него, перебирали его записи и смело можете рассказать, как он выглядел триста лет назад. — Записи перебирал, это верно. Мне он представляется из моей «машины времени» (воображения!) веселым, толстым и многодетным человеком, который служил в суде, попутно занимался математикой для души, делая гениальные открытия, не придавая им особого значения. Что же касается получения премии, то она принадлежит его потомкам, а не мне. И вряд ли может их обрадовать. — Ну что вы! Сто тысяч марок — это вещь! — заметил Олег. Аркадий Николаевич расплылся в улыбке: — Вам, конечно, известно, что одинокая и богатая почитательница Жюля Верна после его романа «Из пушки на Луну» завещала свое значительное состояние первому человеку, который ступит на Луну. Им оказался Армстронг. И не так давно в Париже ему вручили премию дамы XIX века. Но, увы, после двух мировых войн и многократных девальваций франка завещанной суммы хватило астронавту лишь на покупку легкого плаща на память о щедрой парижанке. Боюсь, что остатков премии Вольфскеля в марках хватит разве что на одни рукава. — Но не можете же вы утаить от всего мира то, что нашли у Ферма, неважно, побывали у него или нет! — горячился Олег. — Увы, вы сами прочитали в этой брошюре предупреждение. Кто согласится разделить со мной ответственность за найденное мной у Ферма его доказательство? Кто поверит в это? — Но вы же не мнимая величина, а реальный человек? Вместо ответа Аркадий Николаевич протянул визитную карточку, напечатанную на меловой бумаге машинописным шрифтом: «Аркадий Николаевич КОЖЕВНИКОВ, Главный специалист института Сибгипротранс. Новосибирск». На обороте от руки — адрес: «630076, Новосибирск, 76, Вокзальная магистраль, 17, кв. 23». — Прекрасно, — сказал я. — Теперь математики вас найдут, не говоря уже обо мне! Если вы, конечно, не растворитесь сейчас в воздухе. Аркадий Николаевич загадочно улыбнулся и в воздухе не растворился. Поезд подошел к Свердловску. Мы с сыном направились к выходу, где нас встречали уральцы, с которыми я хотел познакомить идущего сзади Аркадия Николаевича. Но… когда я обернулся, то его уже не было. Он словно растворился в воздухе. — Мним! — многозначительно произнес Олег без тени улыбки на лице. Но все-таки он шутил! Мы оба не верили, не могли верить в «машину времени», которая вдруг забросила в купе идущего поезда путешественника во времени на пути из будущего в эпоху Ферма или обратно! Нет, это был самый реальный человек, передавший мне реальную карточку, по которой можно отыскать реальное доказательство теоремы трехсотлетней давности. Я-то, конечно, это сделаю, не знаю, как математики, потому что эта встреча в пути задела во мне самое сокровенное, пробудила неутолимый интерес к удивительному человеку, гордецу или скромному гению, тень которого и поныне тревожит математические умы. Если мой попутчик силой воображения мог перенестись в кабинет Ферма, то не пример ли это для меня, фантаста, быть может, способного вообразить и самого Ферма, и его время, проследить за его жизнью, о которой известен лишь скупой пунктир дат: родился, учился, женился, переписывался, скончался? Не обязан ли я, хоть в виде «мнима», оказаться с ним рядом, чтобы восполнить промежутки между равнодушно вбитыми колышками на его пути? Однако то, что нарисует воображение, не может быть точным отображением ни подробностей жизни подлинного исторического лица, ни поэтических его произведений, не дошедших до нас, ни даже математических открытий, сформулированных, но намеренно не доказанных, словом, все это требует от автора, во избежание справедливых упреков уважаемых историков, осудивших в свое время самого Александра Дюма за вольное обращение с историей (отчего, кстати сказать, популярность его романов не пострадала за счет отнесения их к авантюрному жанру!), словом, все это, быть может, требует от автора, претендующего на безукоризненность повествования, изменения имен персонажей в такой же мере, в какой нельзя точно отразить их исторический облик, располагая слишком скудными и малодостоверными сведениями о них. Но форма научно-фантастического романа позволила автору преодолеть собственные сомнения и, уподобясь «мниму», решиться на фантастический экскурс в историю, в прошлые века, назвав все-таки героев своими именами. Вместе с тем автор не берется утверждать (это дело математиков), что находка его спутника в фирменном поезде «Урал» А. Н. Кожевникова может удовлетворить строгих судей математических доказательств, ибо не Великая теорема Ферма привлекла внимание автора (и, надеюсь, читателей), а сам неповторимый образ непревзойденного математика. Вперед, читатель, если и ты готов превратиться в «мнима»! Вернее, назад! На сотни лет назад!Пьер Ферма
АЛЬПИЙСКИЙ СОНЕТ[33]
Пьер Ферма
Часть первая ЮНОСТИ ПЕРВЫЙ И ЛЕГКИЙ ПОДЪЕМ
Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает свой лик.В. Гете

Глава первая В МУШКЕТЕРСКИЕ ДНИ
В героях повести, которую мы будем иметь честь рассказать своим читателям, нет ничего мифологического.Всему миру известно (благодаря ослепительному таланту Александра Дюма-отца), как в первый понедельник апреля 1625 года в маленький городишко Менг, не найденный мной на современных картах Франции, но тем не менее прославленный рождением в нем ныне малоизвестного автора «Романа о розе» Жана Колпенеля Менгского, въехал знаменитый литературный герой на кляче столь необыкновенной, кажется, поразительно желтой масти, что она вызвала смех и удивление толпы зевак у гостиницы «Вольный мельник», на всякий случай вооруженных чем придется, ибо происходило это событие в полное смут и разбоя время короля Людовика XVII, что величал себя Справедливым, хотя был просто капризным, а подлинно правил Францией коварный, умный и жестокий кардинал Ришелье (герцог Арман Жан дю Плесси). Но мало кто знает, что не у литературного героя, а у подлинного гасконского дворянина д'Артаньяна, впоследствии капитана-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, чьи мемуары, опубликованные в 1701 году, блистательно и вольно использовал для своего романа несравненный Дюма, существовал сверстник, действительный современник, который на самом деле въехал в тот же первый понедельник апреля 1625 года, но не на кляче желтой масти, а в почтовой карете, забрызганной дорожной грязью, не с длинной и грозной шпагой, успешно заменявшей тому образование, а со степенью бакалавра, способной стать острее шпаги, и не с напутствием благородного отца, а в сопровождении почтенного родителя, второго консула городка на юге Франции, носящего название Бомон-де-Ломань, и въехал сей современник д'Артаньяна не в Менг, а в портовый город Тулон, где тоже встретил пеструю толпу людей, которые собрались, однако, не по поводу появления всадника на кляче редкой масти или прибытия грязноватой почтовой кареты, а просто, как обычно, толкались вблизи порта с его ящиками, тюками, корзинами, досками, бочками, шумного из-за разноязычного говора, ругани, скрипа и грохота телег, душного благодаря острым запахам ворвани, рыбы, жареных каштанов, фруктов и все же чем-то волнующего из-за дыхания моря, моря, не виданного прежде молодым бакалавром. В толпе мелькали разноцветные платки на лохматых матросских головах, всевозможные береты, кепи, шляпы с перьями и без перьев, порой виднелись издали заметные чалмы правоверных мавров, побывавших в Мекке, а изредка над всей этой пестротой проплывал замысловатый женский головной убор, напоминая парусник, рассекающий морские волны. Отец и сын из Бомон-де-Ломань не направились по примеру остальных пассажиров почтовой кареты к гостинице «Пьяный шкипер» с ржавым якорем над входом вместо вывески, а пошли прямо в порт, где у набережной сгрудилось несметное число лодок, шлюпок, фелюг и рыбачьих суденышек и в солидном отдалении от них на рейде стояли со спущенными парусами несколько каравелл и других парусников. Почтенный второй консул Бомон-де-Ломань стал подыскивать суденышко, которое могло бы за недорогую плату пересечь Средиземное море и доплыть до Египта, не перевернувшись в пути. Такое желание толстого француза так заинтересовало нескольких владельцев фелюг и возбудило в них столь беспокойные чувства, что они окружили второго консула из Бомон-де-Ломань, галдя, толкаясь и наперебой предлагая свои услуги. Все эти люди в фесках, принесенных завоевателями из Османской империи, с дубленной всеми ветрами коричневой кожей и продувными физиономиями. Почтенному второму консулу показалось, что это пираты устремились к нему, беря его на абордаж, и он отчаянно защищался, довольно беспомощно размахивая короткими руками. Однако шумные предложения услуг продолжались до тех пор, пока метр Доминик Ферма, так звали второго консула, не остановил свой выбор на одном из египтян, который лучше других объяснялся по-французски и менее других походил на морского разбойника, хотя, несомненно, был им, заломив за доставку двух французов в Александрию тысячу пистолей — цену совершенно разбойничью. — Да вся твоя грязная фелюга с тобой вместе в придачу не стоит этого мешка золота! И пусть сам святой Доминик подтвердит мою правоту, — воздев руки к небу, возгласил тучный француз. Надо отдать должное возмущенному метру Доминику Ферма, он был расчетлив и скуп, не взяв с собой даже слуги. Пока отец торговался с моряками, его сын вышел на берег, наслаждаясь дуновением ветра и любуясь морским простором, небесной синевой и белокрылыми чайками, срывающими пену с морской волны. Молодой человек был поэтом, владел несколькими языками и писал стихи с одинаковым изяществом и по-латыни и на древнегреческом, а также на французском и испанском языках, и, как с похвалой отзывались о нем знатоки светской поэзии, писал так, словно подолгу жил при дворе самого императора Августа или при дворах католических королей в Париже или Мадриде. Теперь под шум прибоя и крики чаек он сочинял стихи о море. Ему вспомнилась строчка из восьмой песни «Илиады»: «Долго как длилося утро и день возрастал светоносный…» И сами собой стали слагаться гекзаметром размеренные строки гимна — ослепляющей красоте стихии и рождающей возвышенные чувства, стихи, сочиненные не на французском, а на древнегреческом языке, потому что наш поэт весь был полон мечты о путешествии в Александрию к могиле великого Диофанта, загадочную надпись на могильном камне которого он мечтал сам прочитать и перевести, ибо, по слухам, ее надо было решать как математическую задачу. Длинные мягкие волосы волной ложились на плечи молодого человека, обрамляя задумчивое лицо, удлиненное тяжеловатым носом, но освеженное девичьими нежными губами с пробивающимися над ними усиками, а большие умные глаза смотрели как бы сквозь рассматриваемый предмет. Так, по крайней мере, показалось юркому французу с плутовским взглядом и притворной улыбкой, который подошел к юному бакалавру и не мог понять восторга поэта перед морем и чайками. Кивнув в сторону метра Доминика Ферма, окруженного владельцами фелюг, он произнес: — Я слышу, почтенный господин подыскивает фелюгу для морского путешествия, быть может совместно с вами, сударь? Молодой бакалавр лишь проницательно посмотрел на говорившего, отчего юркий француз поежился и стал оправдываться приказом своего хозяина отыскать в порту возможных попутчиков. Между тем спор на набережной не утихал, и хриплый голос моряка продолжал настаивать на тысяче пистолей, якобы названной им по велению самого аллаха, а срывающийся фальцет второго консула Бомон-де-Ломань выкрикивал, что морской разбойник пытается выманить у него в четыре раза больше, чем допустит сам господь бог! Неожиданно к торгующимся подошел высокий стройный офицер в мундире королевской гвардии, с нарядной шпагой на боку и с изысканной вежливостью произнес: — Почтенный метр, и ты, любезный, ваши достаточно громко произнесенные слова сделали участниками вашего спора многих, в том числе и меня, могущего предложить вам решить ваш спор так, чтобы каждый получил бы или отдал то, что желает. Моряк и метр Доминик Ферма замолчали от изумления, а блестящий офицер продолжал: — Нет ничего проще, почтенный метр, вам заплатить за доставку вас с сыном в Александрию двести пятьдесят пистолей, а тебе, любезный, получить свою тысячу пистолей. Моряк и буржуа, только что так громко спорившие, стараясь перекричать друг друга, теперь надолго смолкли, как бы состязаясь в разгадывании удивительной задачи, пока наконец моряк первым не обрел дар слова и не начал выражаться высоким стилем знатных господ, бог знает где научившись этому, притом жалостным, но по-прежнему хриплым голосом: — Его светлости господину высокородному офицеру угодно посмеяться над бедным моряком, который слабее в искусстве счета, чем ученые господа, но он хорошо считает до трех, а потому знает, сколько у него сварливых жен, а уж кучу детей пересчитать не может, хотя знает, что их надо кормить, поить, одевать, наряжать и украшать серьгами и кольцами, что стоит никак не менее тысячи пистолей. — Я же сказал, любезный, что ты получишь их, а вы, почтенный метр, не истратите больше того, что хотели. — Но как? — Как? — воззрились на офицера оба спорщика. Внезапно в разговор вступил подошедший Пьер Ферма, бакалавр: — Это не так трудно определить. Вероятно, господин офицер имеет в виду, что на фелюге отправимся не только мы с отцом, но и он со своим слугой, а шкипер не только переправит нас в Александрию, но и доставит обратно в Тулон. Половину же расходов, очевидно, господин офицер намерен принять на себя. — Ах вот как! Слава святому Доминику! — обрадовался второй консул. — Как же, Пьер, ты додумался до решения, столь же неожиданно простого, как и удачного? — Прежде всего, потому, что оно принадлежит не мне, а господину офицеру, чей слуга признался мне, что отыскивает попутчиков своему господину. Остальное — дело арифметики. — Я счастлив буду иметь такого попутчика, как его светлость! — обрадованно воскликнул метр Доминик Ферма. — О нет, нет! — поморщился офицер. — Я не граф и уж тем более не герцог, чтобы обращаться ко мне как к светлости. — И, обернувшись к Пьеру Ферма, поклонился и неразборчиво назвал свое имя, потом снова обратился к Ферма-отцу: — Я служу его величеству королю и его высокопреосвященству кардиналу. — Ниспошли господь успеха им во всех их мудрых делах, и его величеству и его преосвященству, а также и вам, сударь, за то, что вы так блистательно решили, казалось бы, неразрешимую задачу. Пусть кто-нибудь скажет, что я не прав. — Однако ее с завидной легкостью решил и ваш сын, метр. Это делает ему честь. Офицер был лет на десять старше Пьера Ферма и говорил о нем чуть свысока. Молодому бакалавру это не доставило удовольствия, но, обладая характером скорее добрым и веселым, чем заносчивым, он не придал этому особого значения, полагая, что ничто так не сближает людей, как совместное путешествие. Все это время египтянин тщетно силился одолеть вопрос, как же он получит свое золото, если этот толстый скряга останется довольным? И он на всякий случай снова завел разговор о своих трех сварливых женах, детях, нарядах и украшениях для них. Тогда метр Доминик Ферма, обретя отличное расположение духа, решил пошутить и, обращаясь к моряку, сказал: — Вот что, милейший разбойник. Ты так много болтаешь о сварливых женах, что послушай теперь притчу о них. Святой Доминик учил, что в рай попадают не только праведники, но и глубоко несчастные люди. И следит за этим святой Петр, у которого ключи от рая. Однажды не совсем праведная душа умершего поведала, какие горести познала в жизни от сварливой жены. Долго взвешивал святой Петр грехи и несчастья бедного мужа и все-таки открыл ворота рая. Второго же горемыку, натерпевшегося от двух сварливых жен, он пропустил в рай без размышлений. Но тут, расталкивая локтями души умерших, к воротам рая стал пробиваться некто, отстранив даже самого святого Петра. «Куда ты?» — спросил тот его. «У меня было вдвое больше сварливых жен, чем у того, кого ты только что пропустил без раздумий, — четверо!» — «Э, нет! — ответствовал Петр. — Дураков в рай не пускают!» Так что, милейший, пока не поздно и у тебя только три сварливых жены, переходи скорей в истинную веру святой католической церкви! — И почтенный буржуа заколыхал в смехе всем своим грузным телом и затряс жирными подбородками. — О несчастный неверный! Да замкнутся твои уста, пока всесильный аллах не услышал твои кощунственные речи! Как только можно выговорить такое! — Религиозный страх так обуял моряка, что он заколебался было, но желанный мешок золота предстал перед его мысленным взором и взял верх, а потому египтянин закончил смиренно: — Видно, аллах посылает испытание, и мне придется, высокородные господа, плыть с вами в Аль-Искандарию, лишь бы не настиг нас всех гнев великого аллаха. — Ну вот и хорошо, — решил блестящий офицер и добавил, кладя руку на шпагу: — Но пусть моя шпага, любезный шкипер, будет гарантией твоего достойного поведения на фелюге. Имей в виду, что это оружие так же не терпит шуток, как и арифметика, в которой ты, по твоим словам, слабоват. — Да спасет меня аллах и всех жен и всех детей моих! — только и мог вымолвить египтянин, снимая и надевая феску. Следом за ним четыре француза двинулись к его фелюге, которая, имея на борту лишь одну каюту, ничем не отличалась от других фелюг, чьи хозяева оказались менее удачливыми, чем их собрат, мысленно уже держащий в руках обещанный французами мешок золота. — И вы никогда прежде, юный друг мой, не плавали в море? — снисходительно поинтересовался у Пьера офицер. — Только в мыслях, мечтах и стихах, которым я отдаю свой досуг, — простодушно признался Пьер Ферма. — Я бы посоветовал вам, молодой мой друг, отдавать свой досуг более значительным занятиям, чем стихосложение, например философии или математике, к которой вы, возможно, расположены, если вам, конечно, чужды такие благородные занятия, как фехтование и верховая езда. Пьер Ферма ничего не ответил своему новому спутнику, только чуть заметно улыбнулся. В отличие от него он знал, с кем имеет дело.Александр Дюма
Глава вторая ШПАГА И ВЕТЕР
Где мысль сильна — там дело полно силы.Долгие дни плавания по Средиземному морю могли быть скучными для кого угодно, но лишь не для нашего молодого бакалавра с душой поэта, ибо в это первое морское путешествие все восхищало его, и прежде всего удивительная переменчивость моря, которое он ни разу не видел одинаковым, то величественным в застывшем эмалевом спокойствии, словно заимствованном, как и цвет бесподобной синевы, у ясного неба, то искрящимся от горизонта к горизонту серебристой рыбьей чешуей с горящей золотом солнечной дорожкой, то мятущимся, с морщинами бегущих под хмурыми тучами валов, похожих на сорванные неведомой силой холмы родных апеннинских предгорий с вершинами, вздыбленными в неистовом беге пенными гривами, то мертвым, усталым, баюкающим певучей сказкой слепца о далекой, сотрясающей мир битве гороподобных великанов, которым по пояс облака. — Не угодно ли будет моему молодому спутнику развлечься в сражении за шахматной доской? — услышал увлеченный мечтой поэт голос своего попутчика в офицерском мундире. Как всегда, а это было уже не раз, бакалавр согласился и стал наблюдать, как юркий слуга офицера Огюст, выполняя приказ господина, принес из каюты клетчатую доску и поставил ее на бочонок между двумя вынесенными для партнеров подушками. Почтенный Доминик Ферма, с трудом переносивший морское путешествие, увидев, что Огюст подготовляет шахматное сражение, тоже выбрался на палубу и с оханьем и причитаниями, вызванными тошнотой, занял место в стороне от доски, на которой офицер расставлял уже резные фигуры. — Шахматная игра освящена самим его высокопреосвященством господином кардиналом, поскольку, как известно, его величество и его высокопреосвященство проводят немало времени за этой благородной игрой, что отнюдь не вредит государственным делам, — назидательно заметил метр Ферма. — Разыгрывая испанскую партию и всячески уклоняясь от столкновения с испанским королем, — весело отозвался молодой бакалавр. — Солдату не дано судить о политике, если его высокопреосвященство и его величество в великой заботе своей о благе страны направят ее или по стезе мира, или по тропе войны, — заметил офицер, делая ход пешкой от своего короля. — Могут ли войны приносить благо народам? — спросил Пьер Ферма, делая ответные ходы, кстати сказать, разыгрывая ту же испанскую партию, излюбленную шахматистами того времени. — Если вы склонны к философии, сударь, — заметил офицер, — то это лишь может порадовать меня, поскольку философия, подобно математике, организующей числа, организует человеческое мышление, каковое следует считать неотъемлемым свойством человеческой души. — А что мы знаем о ней, кроме обещанного церковью ее бессмертия? — не без некоторого юмора спросил Пьер Ферма. — Я уже испытан вашей склонностью, юный друг мой, задавать окружающим загадки, но на этот раз должен заметить, что нет вопроса более трудного из всех могущих быть заданными, однако я все же попытаюсь дать ответ на него. — Неужели? — с улыбкой спросил Пьер Ферма, жертвуя легкую фигуру для начала атаки. Его партнер задумался, стараясь хоть на этот раз уйти от разгрома и не дать торжествовать над ним юнцу, столь же беспечно веселому, сколь и недостаточно почтительному к более старшему по возрасту спутнику дворянского звания. Но эта мысль не изменила снисходительного тона, избранного офицером в отношении Пьера Ферма, хоть тот и выигрывал у него одну за другой шахматные партии, которые все же скрашивали длительное морское путешествие. — Если говорить философски, мой юный друг, то душу надо рассматривать как часть двуединого начала, соединяющего душу и тело. — Извините за незрелые вопросы, сударь, — сказал Пьер Ферма, развивая атаку на шахматной доске, — но как представляете вы себе эти двуединые части целого, душу и тело? — Премудро, да согласится со мной святой Доминик! — воскликнул Ферма-старший. — Подобные рассуждения впору услышать от их преосвященств во время теологического спора, не говоря уже о самом их высокопреосвященстве господине кардинале! — Мне приходилось выражать эти свои мысли именно его высокопреосвященству, который, уверяю вас, отнесся с большим вниманием к тому, что именно душа обладает мышлением, служа оживлением мертвого механизма человеческого тела и обладая к тому же и волей. И особенного внимания его высокопреосвященства заслужила формула «Я мыслю — следовательно, существую!». — Как же так? Как же так? Осел не мыслит, а существует! — воскликнул Доминик Ферма. Офицер усмехнулся: — Возможно, вы, метр, согласитесь со мной в том, что человек может быть ослом, но осел не может быть человеком, ибо не обладает душой. — Вы говорили о войне для блага страны. Но может ли быть война благом для людей? Не служит ли свидетельством обратному море, по которому мы плывем? — Что именно мыслит ваша душа, юный мой друг? Что подразумеваете под морем, чуть ли не знаменующим войну? — Если иметь в виду историю ее берегов, то это так. — Историю? — удивился офицер. — Вы знаете историю его берегов? — Конечно, недостаточно, но, изучая языки, а у меня к этому большое влечение, я неизменно сталкивался с тем, что ушедшие в прошлое классические языки — следы и завещания погибших в войнах культур. Хотя бы Египет, куда мы держим курс! Надо ли говорить о его древнем величии? А уничтоженный Римом Карфаген, на месте которого ныне, где Алжир, гранича с новой Османской империей, процветает «государство пиратов»! — Изучение языков, несомненно, пошло вам на пользу, мой юный друг, но я, признавая вашу начитанность в вопросах истории, не рекомендовал бы вам сейчас поминать государство пиратов, вдоль берегов которого мы плывем. — О каких пиратах изволит говорить господин высокородный офицер? — раздался хриплый голос шкипера; он подошел к играющим, чтобы узнать, на какой заклад они бьются. Партия закончилась в пользу Пьера Ферма, и он, положив золотую монету в карман, стал помогать офицеру складывать фигуры в коробку с инкрустациями. Египтянин же, воздев глаза к небу, начал изрыгать хулу на неверных, проигрывающих презренное золото не в благородные кости, вверяясь счастью по воле аллаха, а в языческую игру ума, не упомянутую в коране. Все это египтянин, давая выход своим чувствам, для надежности произнес по-испански, не подозревая, что бакалавр поймет его. Пьер же Ферма так возмутился, что решил проучить зарвавшегося хозяина фелюги. — Что ж, любезный шкипер, — начал он, — вы правы, называя золото презренным, хотя и везете его на своей фелюге, в особенности если учесть близость государства алжирских пиратов, где их кровавое ремесло почитается за славное занятие, ничем не худшее, чем военные походы. И не пиратские ли берега можем мы сейчас разглядеть? А что, если пираты осведомлены о том, что в море плывет египетская фелюга с мешками золота, принадлежащего французам? Есть все основания подозревать, что кое-кто, слушая торгна набережной в порту, мог сообщить пиратам о такой доступной и лакомой добыче, как наша фелюга. Не так ли, любезнейший? — Да запечатает аллах ваши уста, молодой господин! — взмолился шкипер. — Именно этого я боялся, выслушав богохульственные слова вашего почтенного отца, который хотел отнять у меня правую веру, предлагая из-за моих сварливых жен перейти в неверие. И аллах может наказать нас пиратским кораблем, лишив своего верного раба сна и покоя. Подавленный словами Пьера Ферма, шкипер, опустив голову и свесив руки, пошел к рулю, где нес вахту один из двух чернокожих матросов, как узнал Пьер Ферма, невольников. И он даже остался доволен в душе тем, что «лишил египтянина-рабовладельца сна и покоя». Шутка молодого бакалавра оказалась вещей, ибо не успел шкипер добраться до руля, как один из его невольников крикнул от борта, что видит корабль со стороны солнца. Все вскочили, приложив руку к глазам, чтобы солнце не ослепляло. Но именно потому, что солнце светило со стороны страшного пиратского берега, распущенные паруса корабля казались черными, впрочем, может быть, они были действительно сшиты из черной парусины. — Алла, алла! — завопил шкипер. — Я знал, что великий аллах накажет меня за то, что его правоверный решился якшаться с неверными французами, да будет проклято их золото и да будет проклята их неверная вера, о горе, горе мне, несчастному! — Любезный, — строго прервал его офицер. — Я предупреждал тебя, что моя шпага не любит шуток. — Но шутил не я, высокородный господин. Его светлость сами изволили слышать, как этот незрелый француз осмелился вспоминать о береге пиратского государства, о пиратах, которые могли узнать о французском золоте в мешках на моей несчастной фелюге! О горе, горе мне! — Любезный, попридержи язык, иначе вмешается моя шпага. Если это пираты, то мы должны встретить их достойно. Что же касается моего молодого друга, то он был вправе предположить, что среди твоих приятелей с других фелюг, слышавших ваш торг с метром о тысяче пистолей, оказались предатели, которые вышли из порта вслед за твоей фелюгой, чтобы донести о ней пиратам. Так что не пытайся свалить вину с твоих приятелей на моих соотечественников, иначе… — И он выразительно коснулся рукой шпаги. — О горе, горе мне! — причитал шкипер. Меж тем корабль с черными или казавшимися черными парусами приближался. Горячий ветер дул с берега и при большой парусности корабля обеспечивал ему прекрасный ход. Несчастная фелюга со своим ничтожным прямоугольным и косым парусом, казалось, стояла на месте. Передав руль чернокожему невольнику, шкипер направился к французам. — Ваша светлость и другие почтенные господа. Не думайте, что я забочусь о своей жизни. Меня ждут в раю гурии, а здесь — сварливые жены. Я беспокоюсь за вас, кого я взялся доставить в Аль-Искандарию. — Что ты хочешь сказать, любезный? — строго спросил офицер. — Нужно договориться с отважными пиратами, да спасет нас от них аллах. — То есть как это договориться? — забеспокоился и сразу обрел на некоторое время потерянный дар речи метр Доминик Ферма. — Я имею в виду, досточтимый метр, откупиться от них вашим золотом, о котором они прослышали. Пусть они получат этот проклятый металл, вам оставят жизни, а мне — фелюгу с невольниками, если те не перебегут на корабль, чтобы тоже стать пиратами, будучи в душе разбойниками и всегда причиняя мне тем заботы и хлопоты. — Не болтай, любезный, если не хочешь быть проткнутым, как каплун вертелом. — Ваша светлость, пощадите, да простит мне аллах! — Он хочет ограбить нас, клянусь святым Домиником! Ограбить раньше пиратов, недаром он показался мне морским разбойником еще в Тулоне, — вздыхал Ферма-старший. Пьер Ферма тем временем вглядывался в приближающийся корабль: — Паруса казались черными из-за находившегося позади них солнца, теперь корабль чуть изменил курс, чтобы пересечь нам дорогу, а паруса его, если заметите, стали кровавыми, отражая свет зари. Право, это прекрасное зрелище. — Если бы не выброшенный ими флаг, который не заалел от зари, а стал еще чернее, — заметил офицер. — Неужели это и впрямь пираты? Что нам делать, научи нас святой Доминик. — Что касается меня, господа, то вот мое слово офицера и вот вам моя шпага. Я сумею защитить своих соотечественников, пока я мыслю, то есть пока существую. — Но ведь их десятки, сотни, — простонал метр Доминик Ферма. — Эй, любезный шкипер, ко мне! — скомандовал офицер. — Я принимаю на себя команду во время абордажа, на который, несомненно, пойдут пираты. Поведение египтянина могло показаться странным, он расстилал перед каютой молитвенный коврик и, неохотно повинуясь, направился к офицеру. — Какое есть оружие на борту? — Только старые турецкие сабли, ваша светлость, ятаганы. — Сам станешь к рулю, твои черные матросы с саблями будут возле меня по обе стороны, Огюст с двумя пистолетами прикроет нас сзади, мой юный друг, поэт и бакалавр, будет заряжать Огюсту пистолеты, а вы, метр, будете перевязывать раненых, заранее приготовив для этого бинты. Огюст сейчас принесет мои тонкие рубашки, чтобы разорвать их на бинты, а также пистолеты, пули и пороху. — Поистине, ваша светлость, когда вы мыслите, то и мы существуем, да поддержит нас святой Доминик, — проговорил Ферма-старший. Меж тем Пьер, не обращая внимания на отданные офицером распоряжения, стоял у борта и оценивающе рассматривал паруса приближающегося корабля, на борту которого уже виднелись вооруженные саблями люди в самых разнообразных одеждах. Они размахивали абордажными крючьями и что-то кричали. Голосов их пока слышно не было, но корабль, подгоняемый горячим береговым ветром, рвался к своей маленькой жертве. Бакалавр стоял, и его губы шевелились, словно он читал стихи или молитву, однако он не делал ни того ни другого, он считал. Что-то вычислив, он решительно направился к шкиперу. — Любезный моряк, — сказал он, — мне удалось сейчас высчитать, как ты можешь избежать на своей фелюге встречи с пиратским кораблем. — О аллах! Зачем же еще издеваться над бедным мусульманином, почтенный человек? Как может фелюга уйти при таком ветре от многопарусного корабля? Лучше убедите своего уважаемого отца и его светлость пожертвовать золотом, и я, уверяю вас, смогу договориться с пиратами, среди которых найдутся правоверные. — Ты не сможешь уйти на фелюге от корабля при таком ветре, но ты сможешь уйти от него на той же фелюге, идя против ветра. — Против ветра? — опешил моряк. — Так может говорить лишь человек, впервые оказавшийся в море. — Да, но я рассчитал сейчас, как надобно менять курс, двигаясь зигзагами.[34] — О, почтенный господин, некоторые моряки умудряются ходить на парусах против ветра, но самому мне, видит аллах, не приходилось этого делать. — Так придется! — раздался жесткий голос офицера. — Ты будешь повиноваться молодому господину. Я ведь еще не убедился в том, что ты сам не вызвал пиратов к своей несчастной фелюге в надежде, что и тебе кое-что достанется из нашего золота при дележе добычи с пиратами. — И он угрожающе обнажил шпагу. — Я повинуюсь, ваша светлость, как можно не повиноваться такому высокородному господину! — Мой юный друг, вы показываете недюжинные способности. Сможете ли вы давать указания этому предателю, если он действительно предал нас еще в порту, как надо менять курс, чтобы идти против ветра? — Я попытаюсь, — скромно ответил Пьер Ферма. — О святой Доминик, помоги моему сыну, и я выстрою тебе часовню в Бомоне-де-Ломань! — воскликнул метр Доминик Ферма. Огюст, потеряв свою юркость, словно окаменел и лишь дрожал от страха. Оба чернокожих матроса-невольника оставались невозмутимы. Фелюга резко изменила курс и пошла шнырять по морю, казалось, сама приближаясь к пиратскому кораблю. — Это не я, это не я, ваша светлость, так приказывает мне молодой господин! — хрипло кричал офицеру шкипер, видя, что тот не вкладывает шпагу в ножны. На пиратском корабле, видимо, были изумлены поведением суденышка. Теперь уже были слышны торжествующие крики преследователей, которые решили, что жертва сдается и можно скоро поделить добычу. Но фелюга опять резко изменила курс. Чернокожие матросы невозмутимо выполняли приказания, перекидывая паруса, чтобы они оказались под нужным углом дующему с берега ветру. Но как ни маневрировала фелюга, корабль пиратов неотступно надвигался на нее. Мрачный офицер стоял с обнаженной шпагой, метр Доминик Ферма, обессиленный от дрожи в ногах, сел на бочонок, где стояла недавно шахматная доска, уронив голову на руки. Огюст забился под запасной парус. И он не видел, как фелюга буквально прошмыгнула под носом у пиратского корабля. Оттуда прозвучало несколько пистолетных выстрелов, но лишь единственная пуля достигла цели, попав в закутанного в парус Огюста и оцарапав ему ухо, чем он будет гордиться многие годы. При полной парусности огромный и неуклюжий по сравнению с верткой фелюгой корабль промчался мимо нее. Требовалось время, чтобы совершить маневр, поставив паруса так, чтобы идти зигзагом вслед за фелюгой против ветра. Может быть, у пиратов не было столь опытного моряка, или вообще идти такому большому кораблю против ветра было куда сложнее из-за громоздкости при смене курса, но чем яростнее были крики на пиратской палубе, тем менее слышными они становились на фелюге. — Поистине, мой юный друг, то, чего нельзя сделать при попутном ветре, можно сделать при встречном. Ваши действия убедили меня в правильности того, что человек — это связь безжизненного телесного механизма с душой, обладающей мышлением и волей. Мне не привелось применить шпагу, но я рад, что вы применили то, что сильнее ее.В. Шекспир
Глава третья МУДРОСТЬ ИСКУССТВА
В последний понедельник апреля 1629 года, вкусив все прелести морского путешествия, начиная с бесподобных закатов и восходов солнца, неизбежной качки и кончая столь близкой и возможной встречей с так жаждущими этой встречи пиратами, четыре наших француза увидели наконец Александрию (Аль-Искандарию). Жадно всматривался молодой поэт и бакалавр в ослепительную панораму беломраморных, сверкающих на солнце строений и колоннад, лестниц террас, спускающихся с высокого берега к морю, воздвигнутых еще по повелению Александра Македонского его сатрапом и правителем Египта Птолемеем, а потом его наследниками в пору расцвета здесь эллинской культуры. Здания эти выступали из зелени садов как память былого из глубины веков, и Пьер Ферма пожалел, что не застал самого величественного из них, уходящего в облака великана древности, названного одним из семи чудес света, Александрийского маяка, разрушенного землетрясением. Хозяин фелюги, вознося хвалу аллаху и суеверно благодарный французам за спасение своего суденышка, не без расчета получить вторую половину мешка с золотом после обратного рейса в Тулон, и, видимо, не слишком спеша к трем своим сварливым женам, взялся проводить приезжих к аль-искандарийскому звездочету арабу Мохаммеду эль Кашти, весьма почитаемому здесь даже турками за его удачные предсказания, основанные на знании звезд и тайн чисел. Французские гости предусмотрительно запаслись письмами к ученому звездочету, написанными парижским аббатом Мерсенном, соучеником Рене Декарта по коллежу. В мрачную эпоху хитроумных интриг кардинала Ришелье и его помощника в плетении коварных сетей «серого кардинала» Мазарини скромный монах, тоже современник прославленного Александром Дюма д'Артаньяна, в пору Тридцатилетней войны, когда ни в одной из стран Европы не издавалось ни одного научного журнала и почитались лишь дела военные или придворные, скромный монах этот взял на себя многолетний подвижнический труд посредника, вступив в переписку с учеными людьми, среди которых окажутся: во Франции — Этьен и Блез Паскали, Декарт и де Бесси, в Италии — Торричелли, в Нидерландах — сам Гюйгенс и в Египте — арабские знатоки чисел, достигшие даже и под тяжелой пятой Османской империи успеха в науке о числах. Но, прежде чем попасть к ученому звездочету, французам пришлось побывать у турецкого паши, представляющего здесь султана, чтобы получить соизволение на пребывание в Османской империи. Разговор с пашой в окружении роскошных ковров и богато расшитых подушек был кратким, ибо начался с подношения ему того самого мешка с золотом, спасенного от алжирских пиратов. Паша в неизменной феске, с оплывшим лицом, превосходя толщиной даже метра Доминика Ферма, благосклонно принял дар и важно сказал: — Враги врагов моих друзей — мои друзья. Неверные испанцы, да уничтожит их аллах, теснят правоверных, французы же готовятся к войне с испанцами и тем самым становятся нашими друзьями. И пусть офицерский мундир одного из прибывших к нам будет свидетельством того, что другие французы в таких мундирах отомстят неверным испанцам за кровь правоверных мавров. Переводчиком служил шкипер фелюги, снабжая слова паши ссылками на волю и милость аллаха и смотря на мешок с золотом так горестно, словно именно его ограбили тут у всех на глазах, а провожая дальше гостей к дому звездочета, непрестанно вздыхал, взывая к аллаху. Почтенный Мохаммед эль Кашти оказался маленьким, сморщенным человечком с лицом, подобным высохшему и потемневшему апельсину, но с горящими умными глазами. Услышав при вручении писем, что они написаны господином Мерсенном, который особенно высоко, как и прибывшие, ставил арабские знания тайн магических чисел, он выразил свою радость по поводу прибытия таких почитаемых и ученых гостей. И эта радость его удвоилась, когда он услышал по-латыни, что переход христианских стран на арабские цифры взамен римских, оставленных лишь для воспроизведения дат, служит признанием высот арабской математики. Узнав же, что среди гостей прибыл и господин Картезиус, имя которого известно ему по высоконаучным латинским манускриптам, звездочет уже не знал, куда посадить гостей и чем им угодить. В завязавшейся беседе, когда почтительные черные слуги со сверкающими белками глаз принесли дымящиеся чашки с кофе, а также всевозможные восточные лакомства, Мохаммед эль Кашти выразил высшую похвалу цели путешествия почтенных французов — ознакомление с достижениями арабской науки о числах и поклонение могиле великого математика древности Диофанта, ибо сочинения его, с которыми он познакомился, увы, не со всеми, но лишь найденными в Аль-Искандарии, заставили его трепетать от благоговения. Метр Доминик Ферма мысленно взывал к святому Доминику, пораженный тем, что их спутник по морскому путешествию офицер де Карт (так Ферма произносил его дворянскую фамилию), который так отважно готов был защищать шпагой соотечественников, оказывается, известен даже здесь, на краю света, да еще под странным именем Картезиуса[35]. Пьера же Ферма это обстоятельство нисколько не смутило, поскольку благодаря болтливости Огюста он прекрасно знал, с кем путешествует, к тому же латинские сочинения Картезиуса встречались Пьеру Ферма и даже подсказали ему теперь неожиданные выводы, сделанные им с привлечением математической логики. Полезно проследить за ходом его рассуждений, учитывая при этом господство в его время предрассудков, насаждаемых церковью, военными и знатью с ее безраздельной властью. И все же. Известно: господин Декарт публикует свои труды под латинизированным именем Картезиуса, в которое входит корень «карт», частичка же «де», которая у офицера, следовательно дворянина, должна предшествовать фамилии, отсутствует. Для ясности вспомним, что частичка «де» во французском языке знаменует, что такое имя носит не просто «господин такой-то», а «господин владений таких-то», точно так же, как в немецком языке приставка «фон», грамматическая, стала дворянской, означая «господин чего-то», каких-то имений. А в Англии возведение в звание лорда связывалось с заменой прежней фамилии нового лорда названием дарованных ему поместий. Для Пьера Ферма все это само собой разумелось, но тем смелее казалась его догадка о том, что первоначальное имя Декарта звучало как де Карт, последующее же включение дворянской приставки «де» в тусклую фамилию, присущую простолюдинам, Декарт, говорило о внутренней сущности и благородной скромности философа в офицерском мундире, не желающего выделяться среди обычных людей сословным именем своих владетельных предков. Метр Доминик Ферма мог бы рассказать сыну о случаях, когда простолюдин, желая показаться дворянином, выделял из своей начинающейся с «де» фамилии частичку «де» в виде приставки, говорящей о якобы присущей ему знатности. Может быть, молодому поэту, узнавшему в пути глубину философских мыслей своего спутника, хотелось увидеть в нем отказ от спеси своего дворянского сословия, для доказательства чего Пьер и использовал математическую логику. Звездочет сдержал свое слово и проводил французских гостей на запущенное древнее кладбище былого центра эллинской культуры. Старые, местами почерневшие, с проросшей в трещинах травой, мраморные плиты казались воплощением забвения, которому предали это место захоронения неверных правоверные властители Египта, сменяя друг друга, но истово чтя Магомета. — Сделал все, что мог, больше сделают могущие, — сказал на скверном латинском языке маленький араб-звездочет. — Перед вами могила Диофанта с надписью на камне, которую я не могу вам прочитать, поскольку не знаю языческого наречия. — Пусть не огорчает это нашего гостеприимного хозяина, — тоже на ужасном латинском языке, с которым он знаком был лишь по церковному богослужению, заявил метр Доминик Ферма. — Мой сын Пьер с помощью святого Доминика в числе других наук познал и древнегреческий язык, достигнув некоторого совершенства и в переводах стихосложением. — Тирада эта стоила метру Доминику Ферма немалых усилий, принимая еще во внимание непереносимую жару, и он вытер кружевным платком лицо, а потом подбородки, отдуваясь и от жары и от латыни. Маленький звездочет был в белом бурнусе, видимо, хорошо предохранявшем его от жары. Огюст стоял поодаль с кувшином воды, готовый утолять жажду господ, как те того пожелают. — Можете ли вы, мой юный друг, действительно перевести эту древнюю надпись, слухи о которой дошли даже до Парижа? — спросил Декарт. — Охотно, — отозвался молодой поэт. — Очевидно, полезнее перевести надпись сразу на латинский язык, дабы смысл ее стал понятен и нашему уважаемому ученому звездочету Мохаммеду эль Кашти. — Ваше желание делает вам честь, ибо связано, надо думать, с дополнительными трудностями. — Вы совершенно правы, господин Декарт. Сделать стихотворный перевод с языка Гомера на язык Вергилия, сохранив ритмику гекзаметра и введя дополнительно присущие латинским стихам рифмы, которых нет в древнегреческом тексте, несомненно, нелегко, однако выполнимо, — не без желания щегольнуть в красивой, отделанной фразе своим поэтическим искусством произнес Пьер Ферма. Пока молодой поэт занялся стихами двух древних языков, остальные рассматривали мраморное надгробие. — Сколько пистолей он теперь может стоить, этот древний мрамор? — глубокомысленно спросил метр Доминик Ферма. — Во Франции такой старины не найдешь. — Уж не хотите ли вы перевезти это надгробье в Бомон-де-Ломань? — насмешливо спросил Декарт. — Да спасет меня от этого святой Доминик. Я даже не знаю, христианское ли это захоронение? — Могу вас уверить, и наш почтенный Мохаммед эль Кашти подтвердит это, надеюсь, — перешел на латынь Декарт, — что великий Диофант жил в третьем веке и дружил с самим епископом Александрийским. — Хвала аллаху, что я могу подтвердить ваши слова, почтеннейший Картезиус. В введении в «Арифметику» Диофанта, которой я восхищался, упоминается о посвящении ее досточтимому Дионисию, дабы облегчить ему обучение учеников. Известно из сохранившихся здесь и переведенных для меня манускриптов, что Дионисий преподавал в школе для кристианского юношества с 231 по 247 год по вашему христианскому летосчислению, после чего стал епископом Александрийским. — Так что захоронение Диофанта нужно признать вполне христианским, тем более что другой епископ, Анатолий Лаодикийский, живший в Сирии в том же третьем веке, посвятил свой труд по математике Диофанту, — заключил Декарт. — Тем не менее я осмелюсь высказать по этому поводу сомнение, — возразил Пьер Ферма. — В надписи есть указание о том, когда жил Диофант? — раздраженно спросил Декарт. — В надписи вообще нет никаких прямых указаний, но вся она представляет собой загадку, разгадывание которой может дать ответ на то, сколько лет прожил великий Диофант и даже когда он жил. — Если надпись не подтвердит того, о чем мы сейчас говорили с почтенным Мохаммедом эль Кашти, то я предостерегаю вас от ошибочного перевода, который, к сожалению, я не могу пока проверить, но копию здесь написанного постараюсь доставить в Париж. Все это господин Декарт произнес по-французски. Метр Доминик Ферма почтительно кивал, а маленький арабский ученый внимательно смотрел из-под своего белого капюшона. — Я готов прочитать вам сделанный перевод, за несовершенство которого заранее готов принять ваши упреки, однако оговариваясь, что сущность любой из этих строк не искажена переводом ни в какой степени. И молодой поэт прочитал гекзаметром размеренные строки, которые он в отличие от древнегреческого подлинника даже зарифмовал:…Волей богов он шестую часть жизни ребенком рос добрым.Шестой половину бородку и знанья растил человек.Части седьмой был обязан и встречей с подругой и счастьем.Из надмогильной надписи
x/6+x/12+x/7+5+x/2+4 = x.
И тут же вычислил[36], объявив: — x равен 84! Восемьдесят четыре года прожил великий Диофант! Но одно здесь странно… Верно ли вы перевели, юный мой друг, будто в надгробье, то есть в этом уравнении, заключена мудрость искусства Диофанта? — Совершенно точно. Здесь прямое указание на мудрость искусства Диофанта, с помощью которого можно узнать, как долог усопшего век. — Сомнительно. Я не хочу умалять ваши поэтические способности, юный мой друг, но решение подобных уравнений с одним неизвестным под силу было египетским писцам, за тысячу лет до появления Александрии и Диофанта. Вам нужно просто усовершенствовать свой древнегреческий язык, мой друг. И при переводе уделять больше внимания не рифмам, а глубокому смыслу переводимого. Пьер Ферма вспыхнул и поднял глаза с рукописи на Декарта:
— Дело в том, уважаемый господин Картезиус, что великое искусство и мудрость Диофанта действительно приложимы для решения предлагаемой здесь задачи, но не с помощью десяти строк надписи и семи членов выписанного вами уравнения, а всего лишь на основании двух строчек надписи.
Декарт побледнел от гнева и потерял всякую власть над собой:
— Вы оскорбляете память великого ученого древности и произносите недостойные слова, которые я принимаю как личное оскорбление!
И блестящий офицер, встреченный отцом и сыном Ферма в Тулонском порту, схватился за шпагу, которой готов был защищать их в море.
Перепуганный второй консул города Бомон-де-Ломань бросился между спорящими, призывая на помощь святого Доминика.
— Я вызываю вашего недостойного сына на поединок, — громовым голосом на все кладбище объявил офицер королевской гвардии Франции. — Он должен кровью смыть оскорбление, нанесенное праху великого Диофанта и лично мне, чтящему память древнего ученого.
— Если господин Картезиус так чтит память Диофанта, то не лучше ли ему вместо решения уравнения из семи членов выбрать из них всего два, математически разрешив наш спор и подтвердив тем действительно высокое искусство и мудрость Диофанта, — весело произнес Пьер Ферма, с улыбкой смотря на взбешенного офицера.
— Я рассматриваю это как повторное оскорбление! Клянусь этой шпагой, что никогда не последую этому безграмотному совету стихоплета и не попытаюсь найти нелепое решение семичленного уравнения с помощью его двух членов. Прошу почтенного Мохаммеда эль Кашти быть моим секундантом, секундантом сына можете быть вы, почтенный метр, или хотя бы мой слуга Огюст.
— Паша отрубит мою старую голову, если я приму участие в таком поединке между уважаемыми иноземцами, аллах да укротит их! — проговорил араб-звездочет.
— Не угодно ли вам защищаться, мой уважаемый юный друг! Иначе я проткну вас, как подушку, — наступал на Пьера Декарт.
— Вы забыли, почтенный господин Картезиус, — трясясь от страха, заговорил метр Доминик Ферма, — забыли, что у моего сына нет шпаги.
— Ах да, — согласился Декарт, — но мы достанем ее, я пошлю Огюста к шкиперу.
— У него на фелюге только старые турецкие ятаганы, — крикнул со своего места Огюст. — И то ржавые!
— Хорошо, будем драться на ржавых саблях!
— Это тоже невозможно, господин де Карт. Вы носите древнюю дворянскую фамилию и не можете скрестить оружие с человеком простого происхождения.
Декарт яростно вложил шпагу в ножны и крикнул:
— Огюст! Воды!
Слуга подбежал с кувшином к Декарту, и тот, запрокинув голову и подняв кувшин высоко над головой, обливая водой лицо, долго и жадно пил, потом передал кувшин слуге и обернулся к Доминику Ферма:
— Считайте, метр, что вы спасли жизнь сына. Как офицер королевской гвардии я не вправе поднять оружие на человека низкого происхождения, но клятва моя остается в силе. Никакие обстоятельства, клянусь еще раз самим всевышним, никто и никогда не заставит меня решать семичленное уравнение с помощью двух его членов!
Пьер Ферма растерянно улыбался и ничего не говорил. Он смотрел вслед уходящему Декарту чуть печально, ему хотелось броситься за ним, догнать, показать решение, но он не сделал этого из-за уважения к философу, готовый простить ему его вспыльчивость, убежденный, что если б тот дал себе ничтожный труд взглянуть на им же самим написанное уравнение другими глазами, он сразу увидел бы решение, которое наиболее просто дает ответ — 84 года жизни Диофанта.
Но Декарт не сделал этого ни теперь, ни позже до конца своей жизни, став выдающимся философом, призванным ко двору шведской королевы Христины.
Однако любой из читателей, надо думать, без труда найдет и эти две строчки, и решение.
Во всяком случае, арабский звездочет Мохаммед эль Кашти, очень огорченный происшедшей ссорой, легко в уме решил задачу, о чем с уважением сообщил французам.
Дорога с кладбища вела вниз извивающейся лентой, и на ней стали видны две фигуры. Один человек шел позади, неся кувшин на плече.
Пьер Ферма вспыхнул и поднял глаза с рукописи на Декарта:
— Дело в том, уважаемый господин Картезиус, что великое искусство и мудрость Диофанта действительно приложимы для решения предлагаемой здесь задачи, но не с помощью десяти строк надписи и семи членов выписанного вами уравнения, а всего лишь на основании двух строчек надписи.
Декарт побледнел от гнева и потерял всякую власть над собой:
— Вы оскорбляете память великого ученого древности и произносите недостойные слова, которые я принимаю как личное оскорбление!
И блестящий офицер, встреченный отцом и сыном Ферма в Тулонском порту, схватился за шпагу, которой готов был защищать их в море.
Перепуганный второй консул города Бомон-де-Ломань бросился между спорящими, призывая на помощь святого Доминика.
— Я вызываю вашего недостойного сына на поединок, — громовым голосом на все кладбище объявил офицер королевской гвардии Франции. — Он должен кровью смыть оскорбление, нанесенное праху великого Диофанта и лично мне, чтящему память древнего ученого.
— Если господин Картезиус так чтит память Диофанта, то не лучше ли ему вместо решения уравнения из семи членов выбрать из них всего два, математически разрешив наш спор и подтвердив тем действительно высокое искусство и мудрость Диофанта, — весело произнес Пьер Ферма, с улыбкой смотря на взбешенного офицера.
— Я рассматриваю это как повторное оскорбление! Клянусь этой шпагой, что никогда не последую этому безграмотному совету стихоплета и не попытаюсь найти нелепое решение семичленного уравнения с помощью его двух членов. Прошу почтенного Мохаммеда эль Кашти быть моим секундантом, секундантом сына можете быть вы, почтенный метр, или хотя бы мой слуга Огюст.
— Паша отрубит мою старую голову, если я приму участие в таком поединке между уважаемыми иноземцами, аллах да укротит их! — проговорил араб-звездочет.
— Не угодно ли вам защищаться, мой уважаемый юный друг! Иначе я проткну вас, как подушку, — наступал на Пьера Декарт.
— Вы забыли, почтенный господин Картезиус, — трясясь от страха, заговорил метр Доминик Ферма, — забыли, что у моего сына нет шпаги.
— Ах да, — согласился Декарт, — но мы достанем ее, я пошлю Огюста к шкиперу.
— У него на фелюге только старые турецкие ятаганы, — крикнул со своего места Огюст. — И то ржавые!
— Хорошо, будем драться на ржавых саблях!
— Это тоже невозможно, господин де Карт. Вы носите древнюю дворянскую фамилию и не можете скрестить оружие с человеком простого происхождения.
Декарт яростно вложил шпагу в ножны и крикнул:
— Огюст! Воды!
Слуга подбежал с кувшином к Декарту, и тот, запрокинув голову и подняв кувшин высоко над головой, обливая водой лицо, долго и жадно пил, потом передал кувшин слуге и обернулся к Доминику Ферма:
— Считайте, метр, что вы спасли жизнь сына. Как офицер королевской гвардии я не вправе поднять оружие на человека низкого происхождения, но клятва моя остается в силе. Никакие обстоятельства, клянусь еще раз самим всевышним, никто и никогда не заставит меня решать семичленное уравнение с помощью двух его членов!
Пьер Ферма растерянно улыбался и ничего не говорил. Он смотрел вслед уходящему Декарту чуть печально, ему хотелось броситься за ним, догнать, показать решение, но он не сделал этого из-за уважения к философу, готовый простить ему его вспыльчивость, убежденный, что если б тот дал себе ничтожный труд взглянуть на им же самим написанное уравнение другими глазами, он сразу увидел бы решение, которое наиболее просто дает ответ — 84 года жизни Диофанта.
Но Декарт не сделал этого ни теперь, ни позже до конца своей жизни, став выдающимся философом, призванным ко двору шведской королевы Христины.
Однако любой из читателей, надо думать, без труда найдет и эти две строчки, и решение.
Во всяком случае, арабский звездочет Мохаммед эль Кашти, очень огорченный происшедшей ссорой, легко в уме решил задачу, о чем с уважением сообщил французам.
Дорога с кладбища вела вниз извивающейся лентой, и на ней стали видны две фигуры. Один человек шел позади, неся кувшин на плече.
Глава четвертая ОСКВЕРНИТЕЛИ ГРОБНИЦ
Мужество делает ничтожными удары судьбы.Декарт не вернулся в гостеприимный дом арабского звездочета Мохаммеда эль Кашти, и тот был весьма встревожен появлением Огюста, который с непроницаемым видом и необычайной для него замкнутостью забрал вещи своего господина и удалился с таким видом, с каким парламентеры покидают перед штурмом осажденную крепость, считая ее обреченной. Впрочем, отец и сын Ферма отнюдь не чувствовали себя осажденными и заинтересованно знакомились с помощью услужливого хозяина с красотами Аль-Искандарии и с глубинами арабской науки о числах. Однако маленький звездочет не разделял беспечности своих гостей и однажды, снова увидев пронырливого Огюста, который не вошел в дом, а вертелся на углу базарной площади, словно выслеживая своих соотечественников, встревожился не на шутку, боясь, что разгневанный господин Картезиус не отказался от намерения убить молодого француза. Маленький арабский звездочет проникся такой симпатией к своим французским гостям, что втайне изучил расположение звезд, каковое оказалось весьма для них неутешительным. И Мохаммед эль Кашти, стараясь не только уберечь гостей от кровопролитного поединка, но и спасти собственную голову от секиры палача османского паши, перед которым отвечал за заморских гостей, решил увезти французов из Аль-Искандарии, чтобы дать возможность господину Картезиусу остыть. И он предложил почтенным гостям ознакомиться с достойными их внимания примечательностями Египта, с гороподобными пирамидами, искусственными сооружениями, которым нет равных в мире по величине, а также с некоторыми развалинами языческих капищ, конечно, не заслуживающих внимания ревнителей правой веры, но, может быть, любопытных для заморских господ. Узнав о возможности подняться вверх по великой реке Нилу и увидеть своими глазами легендарные чудеса древней страны, Пьер Ферма пришел в восторг. Доминик же Ферма без конца сомневался, опасаясь воображаемых речных пиратов и разбойников пустыни, однако не устоял, узнав, что расходы по найму лодки для путешествия по Нилу берет на себя арабский звездочет, надежно вооружая при этом сопровождающих слуг. И вскоре понурый Огюст хмуро наблюдал, как темнокожие слуги Мохаммеда эль Кашти переносили багаж путешественников в лодки, куда вскоре перебрались и господа Ферма вместе с этим маленьким арабом, который даже не счел нужным отыскать такого сиятельного господина, как Декарт, чтобы узнать, не пожелает ли тот тоже принять участие в плавании по местной речке. Огюст, обретя былую подвижность, помчался к своему господину и, найдя Декарта на постоялом дворе, доложил, что их былые спутники бежали из Александрии. К его недоумению, Декарт не проявил по этому поводу никакого неудовольствия и лишь печально покачал понурой головой, приказав Огюсту подыскать другой постоялый двор или корчму, поскольку в той, где они нашли приют, ему не давали сосредоточиться шумные моряки из слишком близкого порта. Темнокожие слуги Мохаммеда эль Кашти оказались прекрасными гребцами, и лодка, даже в безветрие, ходко шла против течения мимо медленно проплывавших назад берегов, покрытых густой зеленью. Вдали пахари шагали за сохами, в которые были впряжены большерогие быки. Над полем прозрачной дымкой висела пелена тумана, а за нею угадывалась граница плодородной полосы и начинающейся пустыни. — Все, что здесь цветет и живет по воле аллаха, обязано разливам Нила, почтенные господа. Потому наука древних в первую очередь изучала поведение реки. — Как? Вода заливает всю эту зелень? — изумился Доминик Ферма. — Да, река становится порой мореподобной, и мы с вами, окажись в ту пору здесь, плыли бы, почти не видя берегов. — А как же крестьяне? Как спасаются они от наводнения? — расспрашивал второй консул Бомона-де-Ломань, думая о своих земляках во Франции, для которых наводнение всегда бедствие. — Для здешних крестьян, феллахов, которых вы видите на берегу, ниспосланные аллахом наводнения не беда, а радость, ибо все, что растет, это подарок Нила, а также остающегося после наводнения плодородного ила на полях, правда, сами поля, вернее, границы между ними исчезают. — Вот как? — заинтересовался Доминик Ферма. — Не возникают ли споры между землевладельцами? Если бы такое случилось у нас во Франции, то суды оказались бы заваленными тяжбами, можете мне поверить, я в родстве с юридической семьей де Лонгов, из которой происходит моя супруга, мать Пьера. — Да продлит аллах ее дни, досточтимый гость мой! Древние египтяне посвящали свою науку решению задач предсказания наводнений Нила, а также размежеванию после наводнения земельных участков с помощью астрономии и геометрии. — Это интересно, — вступил в разговор Пьер Ферма. — Еще бы! Хотя здесь и полно тайн, хранимых в древности языческими жрецами, которые для своих календарей пользовались звездами, в особенности Сириусом, имея точное представление о его периоде обращения в пятьдесят лет. — Почему Сириус? — При случае я расскажу вам, почтенные гости, поскольку в числе моих слуг есть Оготомелли, мы зовем его Огото. Он из племени догонов, принадлежащего народу бамбара, который живет на плоскогорье, и жрецы там стали хранителями древних тайн, касающихся Сириуса, кое-что передали и Огото. Впрочем, для разделения участков земли, освобожденных после наводнения, древние египтяне пользовались своими тайными знаниями геометрии, достаточно вспомнить их священный треугольник со сторонами 3, 4, 5. Они делали на веревке узлы с расстояниями между ними в три, четыре и пять мер и, натягивая веревку на колышках, получали очень точно прямой угол. — Хозяин, — прервал арабского звездочета негр-гигант. — Что тебе, Огото? — поинтересовался араб. — Всадники скачут по берегу. — Пусть себе скачут, моих гостей интересуют не всадники, а геометрические горы, которые уже хорошо видны отсюда. Это пирамиды, достопочтенные мои гости, эти горы удивят каждого, кто в состоянии мыслить и осознать, что созданы они поистине непосильным для простых смертных трудом, как памятники величайшего ума и забытых ныне знаний. — Да услышат твои уши, хозяин! — снова обратился негр Огото, сверкая белками глаз. — Первый всадник в тюрбане приказывает тебе стоять. — Как стоять? — изумился араб. — Это не иначе как разбойники пустыни! — взволновался старший Ферма. — Недаром я их так страшился! Помоги нам, святой Доминик, спаси нас! — Он лишь видел вооруженный конный отряд, не понимая реплик араба и его слуги. — Досточтимые господа, — обратился к гостям араб, — это непохожие на разбойников, с ними мы могли бы помериться силами. Один мой Огото стоит пятерых, но я вижу у всадников на пике конский хвост, похожий на значок самого османского султана. Неприятно прожужжала стрела, перелетела через лодку и упала в воду. — Может быть, спастись у другого берега? — предложил Доминик Ферма. — Там тоже отряд таких же всадников. Лучше пристать к берегу и выяснить, чего они хотят. Быть может, это к счастью, что они не разбойники, — сказал маленький араб. По его указанию кормчий направил лодку к берегу, а через короткое время она ткнулась в отмель и к ней по воде, вздымая брызги фонтанами, влетели всадники, дико вопя и размахивая над головами ятаганами. Араб-звездочет храбро вскочил на ноги и стал громко кричать им по-турецки, поминая аллаха через каждые два-три слова. Все происходящее было достаточно непонятно французам. Араб обратился к ним: — Досточтимые господа, это несомненное недоразумение, которое, я думаю, скоро разъяснится. Они именем султана требуют, чтобы мы высадились на берег, намереваясь обыскать лодку и отнять у нас якобы похищенные нами из какой-то гробницы сокровища. — Мой бог! Пистоли, коими я обладаю, едва ли можно счесть за сокровище! — взмолился Доминик Ферма. Путникам пришлось подчиниться. Спешившиеся всадники переворошили в лодке все вещи, забрали у слуг их оружие. Араб же невозмутимо объяснял гостям, наблюдая за хозяйничаньем янычар: — В пирамидах, я вам говорил, язычники хоронили своих султанов, или фараонов, как они их называли, окружая мертвецов ценностями, достойными того положения, которое они занимали при жизни. Безбожные грабители, да поразит их аллах, проникают в эти гробницы и, оскверняя их, похищают ценности. По-видимому, османский паша решил вести с ними борьбу, а в начале всякого дела возможны промахи и неудачи, извините его. Бородатый, в тюрбане, всадник с крючковатым носом подскакал к спутникам и, осадив взмыленного коня так, что французов обдало запахом конского пота, громко закричал. Маленький араб с неизменным спокойствием вежливо отвечал ему. Всадник в тюрбане выхватил ятаган и занес его над арабским звездочетом, но, услышав какое-то объяснение, вложил саблю в ножны. — Почтенный начальник отряда, служащий султану и аллаху, счел нас грабителями гробниц и требует, чтобы мы открыли ему наш тайник, куда мы спрятали сокровища. Он обещает нам жизнь, если мы поделимся с ним и с пашой. Я ответил ему, что состою звездочетом при османском паше и предсказываю ему будущее, за что он ценит меня. Почтенный начальник отряда не поверил мне, но решил пока не убивать нас, а заключить в ту самую гробницу, которую мы, по его мнению, ограбили. Я объяснил ему, что чужестранцы — гости самого османского паши и его ждут серьезные неприятности, которые я ему, как прорицатель, могу предсказать, как только появятся звезды. Он не желает испытывать свою судьбу, требуя своей доли сокровищ. — Откуда же мы возьмем ему фараоновы сокровища? — воскликнул Доминик Ферма. — Скажите ему, что святой Доминик сообщит самому господу богу о греховности этого всадника в тюрбане. — Я уже ссылался на аллаха, но это грубый, невежественный воин, он умеет орудовать ятаганом и едва ли знает коран. Двух французов, араба и сопровождающих негров во главе с гигантом Оготомелли под конвоем всадников повели в направлении ближней пирамиды. Маленький звездочет все время убеждал всадника в тюрбане. По-видимому, они о чем-то договорились. Звездочет перевел гостям: — Он решил пока не отрубать нам головы, посылая гонца к османскому паше в Аль-Искандарию, но предупреждает, что не собирается кормить и поить нас до тех пор, пока мы не сознаемся, где спрятали сокровища. — И как долго он будет ждать гонца? — спросил сохранявший спокойствие Пьер Ферма. — Если благословенный паша, да умножит его силы аллах, находится в Аль-Искандарии, а не отправился куда-либо по его высоким делам, то гонец обернется дня в два, поскольку он, возможно, не будет слишком спешить и пожалеет коня, который ему, несомненно, дороже всех нас, вместе взятых, если же паши в городе нет, то нам поможет лишь один аллах. — Весьма утешительны ваши речи, почтенный Мохаммед эль Кашти, — заметил Пьер Ферма. Его отец всхлипнул и добавил: — Не я ли колебался по поводу опасного путешествия в невежественную страну! О святой Доминик! Отчего же ты не удержал меня? Всадники подвели пленников к основанию пирамиды, которая, поражая воображение, уходила ввысь, в эмалево-синее небо, солнце отражалось в полированных плитах, частично снятых, из-за чего солнечная дорожка местами прерывалась. Турки спешились и грубыми окриками и размахиванием ятаганов заставили пленников обойти основание пирамиды, пока не обнаружилось отверстие тайного, теперь открытого хода. Оно было на высоте двухэтажного дома, и к нему нужно было подниматься, скользя по полированным, не снятым здесь плитам. Доминик Ферма задыхался и спотыкался на каждом шагу, Пьер помогал ему, негры шли следом, покорные, ко всему готовые, маленький араб замыкал шествие. Путников втолкнули в темный проем и за последним из них закрыли ход хорошо пригнанной, очевидно, незаметной снаружи плитой. Путешественники оказались во мраке, не имея ни факелов, ни других источников света. Воздух казался затхлым и душным. Постепенно глаза привыкли к темноте, хотя различить друг друга никто из них не мог. — Этот ход ведет, если он неложный, к гробнице. Ложные специально устраивались жрецами, чтобы сбить грабителей с пути, лишив их добычи, — послышался невозмутимый голос арабского звездочета, как всегда говорившего с гостями на латинском языке. — Жаль, что мы не можем осмотреть саму гробницу, — отозвался Пьер Ферма. — Ведь ради этой гробницы сооружалась вся искусственная гора. — Так считают в ваших странах заморские гости, но арабские ученые еще четыреста — пятьсот лет назад пришли к другим выводам: по их убеждению, пирамиды эти построены задолго до царствования погребенных в них фараонов, их детей и матерей, за 12 тысяч лет до начала вашего христианского летосчисления, почти за 13 тысяч лет до начала ислама, в далекие времена царствования царя Сурида, когда люди здесь знали много больше нас с вами, молодой мой ученый и поэт.[37] — Какие же знания подозреваете вы у них, почтенный Мохаммед эль Кашти? — О всемогущий господь наш! Да как вы можете говорить о таких вещах, когда святой Доминик подсказывает мне покаянные молитвы, которые мы должны возносить к всевышнему! — Уверяю тебя, отец, что твой святой Доминик простит нам беседу в темноте, поскольку она проливает свет на тайну сооружения, в котором мы заключены. — Даже тысячелетние тайны приоткроются по воле аллаха, если, помня о нем, размышлять. — Значит, не сами фараоны, почтенный Мохаммед эль Кашти, строили для себя гробницы, чтобы оставить о себе память на тысячелетия? — Конечно, так, ибо человеческой натуре несвойственно готовить самому себе гроб и постоянно иметь его перед своими глазами, да еще такой величины! Куда естественнее согласиться с тем, что горы были уже насыпаны с другой целью и впоследствии использовались как удобное место погребения знатных особ. — С какой же целью они насыпались 13 600 лет назад? — Чтобы заложить древние знания в неисчезающие размеры этих простейших по форме, но исполинских по величине и глубине сокрытых в них тайн фигур. По преданию, идущему еще от фараоновых писцов, хранителей письменности и познания, три главные пирамиды, названия которых выговариваются различно, но по-латыни звучат как пирамиды Хеопса, Хефрена и Маккарена, эти три пирамиды будто бы размерами своими знаменуют какие-то звезды-планеты, но острого зрения арабских звездочетов недостаточно, чтобы проверить ныне эту легенду. Небезынтересно и то, что сумму длин прямых, составляющих основание пирамиды Хеопса, можно представить длиной окружности с радиусом, равным высоте, которая, в свою очередь, как-то связана со звездным небом.[38] — Как? 13 600 лет назад строители пирамид знали о звездах даже больше арабской науки, уважаемый Мухаммед эль Кашти? — Почтенный мой гость, они знали священное число Пи, вычисленное тысячелетия спустя великим эллинским мудрецом Архимедом из Сицилии в городе Сиракузах.[39] — Поистине страшна кара всевышнего, наказавшего древних за великие, видимо, грехи их, лишив обретенных ими знаний, — вставил дрожащим голосом Доминик Ферма. — И, как говорил святой Доминик, знания человеческие, не опирающиеся на чистую веру, заносит временем, как песком пустыни. — Но человек все же снова обретает их, — добавил его сын. — Считая их найденными впервые. Истинно так, ибо такова воля аллаха. — Ох, темна история пирамид, как темно здесь, во чреве их, — горестно вздохнул Доминик Ферма. Мрак угнетал пленников, духота давала себя чувствовать, пробуждая жажду, которую нечем было утолить. Казалось, отчаяние охватило бодрившихся в разговоре ученых, умолкших теперь, отчего наступившая тишина стала невыносимой. И, нарушая ее, снова послышался голос Пьера Ферма: — Кому же древние обязаны своими высокими познаниями, уважаемый Мохаммед эль Кашти? Сохранились ли имена первых писцов, свидетелей закладки пирамид будто бы при царе Суриде? Поняв состояние своего гостя, арабский звездочет охотно откликнулся: — Известно только одно имя — Тота Носатого, языческого бога Луны, мудрости, письма и счета. — Не его ли потом греки называли Прометеем, воспевая как титана, похитившего для людей огонь знания у небес? — Ах, если бы этот греческий герой уделил нам здесь хоть небольшой светильник! — запричитал Доминик Ферма. — Ваш сын, метр, вспомнил о сказочном Прометее как поэт, — успокаивающим тоном отозвался арабский звездочет. — А ведь о ложном боге Тоте древние египтяне вместе с тем говорили и как о существе, которое якобы прилетело на Землю со звезд, и изображали его с птичьей головой, приписывая ему покровительство наук, ученых писцов, священных книг и колдовства (то есть использование тайных знаний). — Святой Доминик, услышав вас, почтенный Мохаммед эль Кашти, — строго возразил Доминик Ферма, — напомнил бы вам, что бог един и вездесущ, он создал и Землю и звезды, и нет среди его ангелов никакого Тота, которого он мог бы послать со звезд на грешную Землю. Так учит нас святая церковь, и не так ли учит вас коран? — Аллах да благословит вас, почтенный метр! — А все-таки, — упрямо вмешался Пьер Ферма. — Конечно, Тот не мог быть богом, к тому же древнегреческие мудрецы учили, что люди существуют и на других звездах. — Они были язычниками, эти философы, да простит их аллах, и жили как бы в такой же темноте, как и мы здесь, в пирамиде. — Но разве святая церковь не может допустить, что всевышний, создав звезды, населил их, как и Землю, разумными людьми «по образу и подобию» своему? — Не знаю, как у вас, христиан, но в коране говорится не о людях, а о гуриях на небе. — Гурии? Но ведь они ублажают там кого-то, не так ли? Какие же были основания у древних для их наивного верования в сошествие Тота с другой звезды? Может быть, они называли ее? Вместо ответа арабский звездочет подозвал своего слугу Оготомелли: — Огото! Подойди к нам. Негра не было видно в темноте, но приближение его ощущалось как присутствие чего-то огромного, дышащего могуче и размеренно. — Огото, ты был в своем племени среди посвященных, которому открывались тайные знания, переданные теми, кто прилетал когда-то на Землю с Сириуса. — Так, хозяин. Огото знает про две звезды знания — Сиги доло и Фини доло. И еще одну звезду рядом. Те, кто прилетал оттуда, говорили, что она вспыхнет и все оставшиеся погибнут. И она вспыхнула, хозяин, через год, как те прилетели к нам. И потом двести сорок лет угасала, пока ее не стало видно. Так передают наши старцы. Истинно так, хозяин. Арабский звездочет переводил рассказ Оготомелли, добавив, что посвященных догонов учили многим премудрым вещам, известным тем, кто прилетал со звезд.[40] Интересная сама по себе беседа происходила, однако, в необычайных условиях и не могла заглушить ни жажды, ни голода, ни угнетающей тьмы заключенных в пирамиде людей, у которых оставалось все меньше надежд на избавление. О своем же гороскопе, раскинутом для гостей перед отъездом с неблагоприятным для них расположением Сириуса, астролог ничего не сказал, предвидя всяческие несчастья, которые уже дали о себе знать.Демокрит
Глава пятая ОРНАМЕНТ ХРАМА БОГА ТОТА
Ум заключается не только в знании, но и в умении применить знание на деле.Гонец, побывавший у османского паши в Аль-Искандарии, вернулся не один, а в сопровождении посланного пашой десятника его личных янычаров, крепкого и ловкого турка с горбатым, крючковатым носом и хитрыми глазами. По велению паши он должен был сопровождать путешественников на случай, если те действительно проникнут в гробницу с сокровищами, на долю которых претендовал паша, убежденный, что у заморских неверных не могло быть другой цели путешествия в Египет. Все это с недвусмысленной ясностью сообщил от имени паши освобожденным путникам, вернее, Мохаммеду эль Кашти Айдын Ага Алигул-оглы, как он напыщенно назвал себя. — Не скрою, уважаемый, — ответил ему Мохаммед эль Кашти, — мы рассчитываем увидеть сокровища древних, но едва ли они устроят благословенного пашу, ибо являются лишь сокровищами ума. Посланный паши лишь усмехнулся. Насчет того, что есть сокровища, которые не интересуют османского пашу, у него было свое мнение. Когда французы в сопровождении арабского звездочета и его слуг вышли из своего заточения на воздух, ослепленные солнечным светом и опьяненные свежим воздухом, они долго не могли прийти в себя, хотя голод и жажда измучили их. Однако пленивший их начальник янычар не собирался утолять их голод и жажду, пришлось рассерженному звездочету пригрозить ему таким гаданием по звездам на его имя, что не только он, но и его потомки до седьмого колена будут помнить своего несчастного предка, нарушившего предписания корана и закон гостеприимства, ибо с момента прибытия специально посланного паши, доблестного янычара Айдын Ага Алигула-оглы чужестранцы и сопровождающие их лица становятся уже не пленниками, а гостями янычар. Бородатый сотник долго не мог уразуметь смысла сказанного астрологом, однако, заподозрив в нем колдуна, решил не навлекать на себя и потомство черных сил шайтанов, с которыми общается этот араб, и приказал накормить и напоить путников. Вернувшись к вытащенной на берег лодке, арабский звездочет убедился, что, кроме весел, там ничего не оставлено. Он потребовал у бородатого начальника воинов, чтобы те вернули его слугам оружие, но тот наотрез отказался, уверяя, что не может разоружать своих всадников, добывших оружие в честном бою, хотя никакого боя, конечно, не было, но спорить с турком не стоило, и даже вмешательство посланника паши не помогло. Но особенно плохо оказалось дело с похищенным продовольствием, без которого невозможно продолжать путь. Хотя араб истощил все свое красноречие, призывая аллаха и грозя проклятием, всадник в тюрбане оставался глухим. Неожиданно на помощь Мохаммеду эль Кашти пришел метр Доминик Ферма. Проявив свою коммерческую сметку, он показал бородатому начальнику всадников свои золотые пистоли, с которыми не расставался в заточении, и предложил выкупить у него похищенное продовольствие. Вид золота сделал свое дело, и за изрядную сумму, которую с причитаниями и взыванием к святому Доминику отсчитал второй консул Бомон-де-Ломань, путники получили обратно все, что у них было отнято (кроме оружия). На жалобу Доминика Ферма посланнику паши тот с невозмутимым видом ответил: — Паша, да благословит всемогущий аллах его дела, не платит жалованья янычарам, с которыми вы имеете здесь дело, господин, они должны сами прокормить себя, потому и стараются найти похитителей сокровищ из гробниц. Если готовишь собак для охоты, не надо их кормить. Доминик Ферма, которому маленький араб перевел эти мудрые мысли, не нашелся, что возразить. Пьер же Ферма напомнил отцу, что и во Франции есть отряды короля или какого-нибудь герцога, которые сами себя кормят. Путешествие в лодке возобновилось. Весла мерно опускались в воду, а скоро удалось поставить и парус и воспользоваться попутным ветром. — Куда направляет лодку твой ум, почтенный звездочет? — спросил Айдын Ага араба. — Чужеземцы заинтересовались древним египетским богом Тотом, который не был богом, потому что аллах един, а скорее всего гостем Земли с чужой звезды. — Великий султан да защитит меня от таких пагубных слов! Где же ты хочешь найти этого мерзостного Тота? — Не Тота, который побывал на Земле много тысяч лет назад, уважаемый Айдын Ага, а лишь храм его. — Боюсь, правоверный, что посещение таких мерзостных мест, как языческие капища, может не понравиться великому султану и благословенному паше. — Благословенный паша, выражающий волю великого султана, уважает чужеземцев и их интерес к древней истории страны и ценит их щедрость, уважаемый Айдын Ага. Айдын Ага замолчал, но глаза его сузились не то хитро, не то зловеще. Что же касается французов, в особенности Пьера Ферма, то интерес после разговора в темноте о легендарном Тоте настолько обострился, что Пьер не раз спрашивал араба, как скоро доберутся они до обещанного храма бога Тота. — Я бы мог показать гостям близкие полузасыпанные песком храмы, вернее, их руины с остатками статуй бога Тота Носатого, но рассудил, что вместо квадратных колонн и обвалившихся сводов куда интереснее увидеть то, что сохранилось в нетленности в глубине земли в тайном храме бога Тота, тем более что Тот имел отношение к геометрии, судя по некоторым его орнаментам, к науке, так почитавшейся египетскими писцами. Потому гостям моим придется потерпеть еще до завтрашнего вечера, когда с помощью аллаха мы достигнем нужного нам места. Пьер готов был ждать сколько угодно долго, тем более что теперь вместо внутреннего хода пирамиды с ее мраком перед ним открывались залитые солнцем живописные просторы когда-то столь богатой и могучей страны, что держала в страхе и повиновении соседние народы. Воображение Пьера рисовало ему сцены древней, давно исчезнувшей жизни, несчастных рабов, копошащихся в каменоломнях, вырубающих там или влекущих оттуда гигантские колонны и плиты для храмов или пирамид. Этих людей считали «живыми мертвыми», они перестали быть «живыми» на поле боя, где сражались как люди, но остались жить уже как рабы, на положении подневольных животных. Представлял он себе и восстания рабов, не раз сотрясавшие древнее царство, смену династий, когда на трон фараонов всходили взбунтовавшиеся вожди рабов, которые продолжали во времена Древнего Царства египетскую историю на основе того же угнетения феллахов и рабов, которыми становились вчерашние господа, познавшие затем плеть надсмотрщика. Египет же оставался Египтом, и бессменные жрецы его по-прежнему властвовали, враждуя между собой в храмах богов Ра и Тота. К вечеру обещанного дня «с помощью аллаха и попутного ветра» араб приказал завести лодку в камыши, объявив, что отсюда они пойдут пешком. Айдын Ага отказался их сопровождать, заявив, что если чужеземцы найдут сокровища, то им придется принести их в лодку, а он, правоверный янычар великого султана, не осквернит себя посещением мерзостного языческого капища. Маленький араб только пожал плечами, скрыв тревогу и неудовольствие. Вереница путников растянулась по едва приметной тропинке. Солнце нещадно палило, слышался звон цикад, сливающийся в назойливый, несущийся отовсюду треск. Тропка поднималась и опускалась, извивалась, обходя выступающие из земли огромные камни. Возбужденному воображению Пьера казалось, что это не просто камни, а остатки древних строений. Но здесь были лишь заброшенные древние каменоломни. Вход в подземелье под каменным обрывом холма мог бы найти лишь посвященный. Метру Доминику Ферма было особенно трудно протиснуться в указанную ему щель между двумя почти вплотную примыкающими одна к другой гранитными плитами. Он решился на это лишь после того, как в щели вслед за маленьким арабом исчезли слуги с факелами, а Огото, при его гигантском росте, пролез с немалым трудом. Пропустив отца вперед, Пьер Ферма проник в подземный коридор последним. Пахнуло сыростью и затхлым запахом пыли. Под ногами хрустел занесенный сюда ветром песок. К свету факелов глаза привыкли не сразу. Коридор вел круто вниз. Навстречу, трепыхая крыльями, вылетела стая летучих мышей. Пьер Ферма невольно пригнул голову, ощущая ветерок от проносящихся над его головой крылатых животных. Сердце его учащенно билось. Он видел впереди в мерцании факелов фигурку арабского звездочета, уверенно сворачивающего в ответвления подземного хода. Наконец все достигли круглого зала. Пьер Ферма оглядывался, слыша рядом тяжелое дыхание страдающего одышкой отца. — Вот изображение Тота Носатого, языческого бога Луны и мудрости, что знаменуется диском луны над головой бога и змеей на этом диске. Мохаммед эль Кашти указал на стену с гладко отполированной изумрудной мраморной плитой, отражающей пламя факелов. На ней отчетливо выступало выполненное золотыми линиями изображение, поразительно свежее, чудесно сохранившееся на протяжении тысячелетий. Бог Тот, как и принято во всех египетских рисунках, был представлен в профиль. Голова его напоминала и человеческую и птичью (птицу Ибиса), волосы-перья, подобно египетскому головному убору, спускались на спину. В одной руке он держал на золотой цепочке Т-образный предмет (какой-то символ), в другой — посох, раздвоенный внизу,[41] с фигуркой птицы вверху. Изображение бога окружалось золотыми иероглифами с фигурками птиц, рыб, вперемешку с волнистыми линиями, черточками и причудливыми знаками. — Да простит мне аллах неспособность познакомить гостей с тем, что написано язычниками, вполне возможно, что здесь отражены и тексты легендарных изумрудных табличек бога Тота с заключенными в них знаниями грядущих поколений,[42] хотя правоверному ясно, что почерпнуть что-либо в языческих ложных знаниях и верованиях нельзя, свидетелем чему сам аллах! Пьер Ферма отлично понял некоторое смятение арабского ученого, в котором боролись интерес к древней мудрости и страх перед запретами ислама, а также он испытывал некоторый страх перед присланным пашой соглядатаем, оставшимся в лодке среди камышей. Рассмотрев изображение бога Тота и непонятные письмена, молодой бакалавр огляделся, но ничего, кроме девяти дверей, ведущих в соседние помещения, не увидел. Он попросил чернокожего гиганта с факелом посветить ему и вошел через ближнюю дверь в каменный каземат, послужив примером для всех остальных. Пьер Ферма подумал, что груды трухи на каменном полу могли быть когда-то столами и стульями, и здесь ученые писцы передавали свои тайные знания вновь посвященным служителям бога Тота. Арабский звездочет поморщился при виде тысячелетнего запустения. — Увы, в отличие от зала, где мы только что побывали, тут не на чем остановить вашего благородного внимания, остается заглянуть в соседние помещения, где, к сожалению, тоже нет ничего примечательного, если не считать примитивного орнамента на стенах. Пьер Ферма насторожился. Достаточно было выразить неприятие чего-нибудь, чтобы привлечь его пристальное внимание. И не отзовись арабский ученый столь пренебрежительно о примитивном орнаменте, Пьер Ферма, возможно, не заинтересовался бы им, но теперь он старался увидеть в пересечении прямых линий нечто большее, чем просто узор. В самом деле, зачем в тайном храме украшать стены бессмысленным пересечением линий? Если здесь действительно передавались тайные знания, то рисунки на стенах должны были как-то способствовать этому! И Пьер Ферма стал вглядываться в орнамент. Поначалу увиденное не вдохновило его: ряд увеличивающихся в размерах квадратов, каждый из которых окружен как бы двойной линией, ограничивающей маленькие квадратики. Все эти геометрические фигуры вписывались одна в другую, доходя до потолка, и, видимо, могли бы выйти за его пределы. Это обстоятельство особенно насторожило Пьера Ферма, он стал пристально вглядываться в настенное изображение и вдруг задрожал от волнения. Озаренный, он угадал в малом квадрате, затем в более крупном, потом в самом крупном в левой нижней части орнамента графическое изображение математической формулы, хорошо ему известной, берущей начало от знаменитого открытия Пифагора. Как пожалел Пьер Ферма, что с ним нет сейчас Декарта, именно ему мог бы рассказать он о своей догадке, позволившей на миг как бы ощутить дыхание самого легендарного бога Тота, хранителя тайны, готовой открыться Пьеру Ферма! Маленький звездочет уловил в выражении лица молодого гостя нечто необычайное и осторожно спросил его, что удалось обнаружить ему в незатейливом орнаменте. — Клянусь вечной истиной, почтенный Мохаммед эль Кашти, но мы находимся сейчас рядом с самой удивительной загадкой, которую можно задать всем знатокам чисел как Европы, так и других частей света, и прежде всего вам, уважаемый звездочет и знаток арабской науки о числах. — Что можно увидеть в полутьме, гость мой? — Я увидел здесь яркий луч солнца, сверкнувший в подземелье! Свет солнца, дающего жизнь всему живому, будящему мысль во всем разумном! — Свет солнца в тайном храме бога Тота? Хорошо, что нас не слышат былые жрецы этого капища, которые смертельно враждовали со жрецами Ра — бога Солнца, попеременно сажая на трон угодных им фараонов и пополняя в эти периоды казну храмов. Клянусь аллахом, они сочли бы ваши слова кощунством, и вам дорого пришлось бы заплатить за свой поэтический пыл. — Не поэтический, почтенный Мохаммед эль Кашти, а математический! Но если есть в математике поэзия, то она вскрывает себя именно здесь! Должно быть, всевышнему было угодно, чтобы именно так завершилась в этом подземелье тысячелетняя вражда поклонников солнца и служителей знания, которые, даже запрятанные в вечную тьму, сверкнули истинным солнцем! Рассмотрите малый квадрат в нижнем левом углу, окруженный прямоугольным узором из маленьких квадратиков! Их девять! Один в правом верхнем углу и два раза по четыре примыкающих к сторонам малого квадрата. Следовательно, сторона малого квадрата равна четырем единицам, сторона большого — пяти, а площадь всех девяти маленьких квадратов равна квадрату со стороной в три единицы. Так ведь это же священный египетский прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4, 5! — Поистине поэзия полезна математике, мой юный гость! Вот тот случай, когда воображение по воле аллаха становится мудростью. — Но это не все, не все, почтеннейший звездочет и наш гостеприимный хозяин! Если бы я был язычником, то попросил бы отца занять у вас денег на покупку стада быков в сто голов. — О святой Доминик! Зачем ему сто быков? — воздел руки к потолку метр Доминик Ферма. — Откуда я возьму такие деньги? — Когда великий Пифагор сделал свое открытие о прямоугольном треугольнике, он принес в жертву греческому богу Зевсу сто быков. — О горе мне видеть лишившегося разума сына! — Не горе, а радость, мой почтенный родитель, должна обуять вас! Сам уважаемый Мохаммед эль Кашти подтвердит, что часть квадрата, похожая на лесенку, равна площади второго катета в три единицы. Их можно пересчитать, эти квадратики! Девять, как и дверей в зале бога Тота, что наверняка не случайно! — Истинно так, — смущенно произнес арабский ученый. — Я все понял. — О нет, не все! Не все! Чтобы все понять, надо уяснить связь между всеми квадратами, уместившимися на стене, и теми, которые не уместились, а потому не изображены. — Поистине, когда всевышний хочет наказать кого-нибудь, он лишает его рассудка. Несчастный сын мой видит уже ненарисованное, блуждая в мире призраков! — Я имею в виду, — обращаясь уже не к отцу, а только к арабу, продолжал Пьер Ферма, — что мы имеем дело в этом орнаменте не только с теоремой Пифагора, не только с квадратом суммы двух величин, равной сумме их квадратов и удвоенному их произведению, но и со священным египетским треугольником, более того, со священными рядами таких треугольников, и я уверен, что вы, знаток арабской науки о числах, найдете и второй и третий треугольники первого ряда, а также треугольники второго и третьего рядов, изображенных с такой гениальной скупостью здесь, на стене.Аристотель
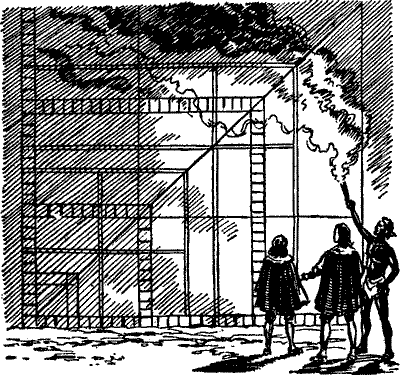 — Да просветит меня аллах! Я действительно вижу квадраты, построенные на сторонах треугольника с катетами 5, 12 и гипотенузой 13! Достаточно лишь сосчитать число квадратиков, примыкающих к стороне первого квадрата.
— Как я и ожидал, почтенный Мохаммед эль Кашти, вы решили эту задачу так же быстро, как и на могиле Диофанта.
— Третий треугольник со сторонами 24, 7 и 25 найти так же просто, но аллах не умудрил меня отыскать ваш второй ряд.
— Его квадраты выполнены двойными линиями: если посчитать их размеры по квадратикам слева, то получится: малый катет 8, гипотенуза 17, а разность площадей дадут квадрат второго катета, равного 15! Ну а простой линией изображен всего один — первый квадрат треугольника третьего ряда со сторонами 35, 12, 37! Следующие же треугольники и их ряды на стене не уместились.
— Премудро, но точно, юный мой гость не только поэт, но и великий знаток чисел!
— Как блистательно заканчивается наше путешествие в загадочный мир языческого знания, да простит меня святой Доминик! — отдуваясь, как после тяжелого бега, заявил обрадованный метр Ферма.
— Не заканчивается, почтенный мой родитель, а только начинается!
— Как? Мы поедем еще куда-нибудь? — ужаснулся толстяк.
— Нет, нет! Я имею в виду мир чисел, дорогу куда прокладывает этот волшебный орнамент.
— Буду счастлив, почтенный поэт и знаток счета, идти по этому пути за вами следом! — с поклоном, торжественно произнес арабский ученый.
— Да просветит меня аллах! Я действительно вижу квадраты, построенные на сторонах треугольника с катетами 5, 12 и гипотенузой 13! Достаточно лишь сосчитать число квадратиков, примыкающих к стороне первого квадрата.
— Как я и ожидал, почтенный Мохаммед эль Кашти, вы решили эту задачу так же быстро, как и на могиле Диофанта.
— Третий треугольник со сторонами 24, 7 и 25 найти так же просто, но аллах не умудрил меня отыскать ваш второй ряд.
— Его квадраты выполнены двойными линиями: если посчитать их размеры по квадратикам слева, то получится: малый катет 8, гипотенуза 17, а разность площадей дадут квадрат второго катета, равного 15! Ну а простой линией изображен всего один — первый квадрат треугольника третьего ряда со сторонами 35, 12, 37! Следующие же треугольники и их ряды на стене не уместились.
— Премудро, но точно, юный мой гость не только поэт, но и великий знаток чисел!
— Как блистательно заканчивается наше путешествие в загадочный мир языческого знания, да простит меня святой Доминик! — отдуваясь, как после тяжелого бега, заявил обрадованный метр Ферма.
— Не заканчивается, почтенный мой родитель, а только начинается!
— Как? Мы поедем еще куда-нибудь? — ужаснулся толстяк.
— Нет, нет! Я имею в виду мир чисел, дорогу куда прокладывает этот волшебный орнамент.
— Буду счастлив, почтенный поэт и знаток счета, идти по этому пути за вами следом! — с поклоном, торжественно произнес арабский ученый.
Глава шестая ЦАРСКИЙ ДАР
Великие люди бывают великими даже в мелочах.По возвращении в Александрию Пьер Ферма, заставив отца страдать от скуки, уединился в отведенной ему Мохаммедом эль Кашти комнате и несколько дней не показывался оттуда. Гостеприимный хозяин напрасно посылал к нему слуг, вынужденных в конце концов приносить еду в его убежище, потому что одержимый бакалавр отказывался оторваться от стола. Маленький звездочет втайне радовался такому поведению молодого гостя, избегавшего тем самым нежелательной встречи с господином Картезиусом и возможного повторного вызова на поединок, который стоил бы головы самому Мохаммеду эль Кашти. Правда, из вежливости арабский ученый не делился с метром Домиником Ферма своими опасениями, а уверял гостя, что его сын занят важнейшим делом, и если не стихами, навеянными впечатлениями от путешествия в страну пирамид и языческих капищ, то математическими исследованиями прямоугольных треугольников, которыми он имел основания увлечься. Метр Доминик Ферма, поминая своего святого, только вздыхал по поводу того, что пора возвращаться во Францию, и что неизвестно еще, как удастся избежать встречи с пиратами на обратном пути, и что напрасно сын его занят тем, что можно с успехом делать дома. Тут арабский ученый восстал против уважаемого гостя: — Как можно вымолвить такое, почтенный гость мой? Достойно ли лишить меня законной гордости по поводу того, что под крышей моего дома по воле аллаха разгадывается одна из примечательных находок угасшего мира древних! Пьер Ферма действительно был занят завершением таблицы рядов простейших (не имеющих общего делителя) пифагоровых троек (сторон прямоугольных треугольников), когда в доме Мохаммеда эль Кашти начался такой переполох, что встревоженный бакалавр отложил в сторону законченную рукопись и вышел из комнаты. Первым на глаза ему попался Огюст, который, очевидно, подкарауливал его. Теперь, смущенно опустив лукавый взор, он уступил Пьеру дорогу. За несколько минут до этого в дом арабского звездочета вошел в парадном мундире гвардейского офицера короля Франции со шпагой на бедре Рене Декарт, блестящий и грозный. Маленький араб, сжавшись в комочек, с ужасом смотрел на него, словно видел впервые. Он показался ему огромным, с львиной гривой волос, падающих на плечи, властным лицом с тяжелыми чертами и массивным носом. Все в его облике выражало горделивую силу и благородство. С высокомерной изысканностью Декарт поздоровался с арабским ученым и метром Домиником Ферма, не обращал внимания на шум, поднятый слугами арабского дома и Огюстом, объясняющимися между собой на разных языках столь же громко, как и непонятно обеим сторонам. — Не откажите в любезности, метр Ферма, пригласите для беседы со мной вашего сына. Но почтенный заместитель мэра французского города потому и добился своего поста, что был человеком, искушенным в дипломатии, к тому же состоявшим в некотором родстве с юридической семьей де Лонг, поэтому он с предельной вежливостью ответил: — Бесконечно рад видеть вас, высокочтимый соотечественник, доблестно служащий своему королю и его высокопреосвященству господину кардиналу, которые в великой мудрости своей и неиссякаемой заботе о подданных, в особенности же знатного рода, к вящему всех счастью, запретили дуэльные поединки во Франции. — Остается в таком случае напомнить вам, что мы не во Франции, — хмуро ответил Декарт. — Однако высокочтимому господину де Карту должно быть известно и совершенно ясно, что, запрещая пагубные поединки, его величество король и его высокопреосвященство господин кардинал имели в виду не столько Францию, сколько французов. — Как я догадываюсь, не понимая благозвучного языка своих гостей, — вмешался на знакомой всем латыни хозяин дома, — почтенный господин Картезиус хотел бы говорить с моим молодым французским гостем о поединке? — Вы правы, уважаемые господа, я намереваюсь говорить с бакалавром Пьером Ферма о нашем несостоявшемся поединке. — Но это невозможно, да подтвердит это аллах! — воздел руки к небу маленький араб. — Но я ничего не имею против этого, — послышался голос Пьера, — я сам хотел отыскать господина Декарта, если бы неожиданное математическое увлечение не помешало мне. — И совершенно напрасно, — отрезал Декарт, — ибо право говорить об этом первому принадлежит мне, и я не намерен его уступать. — Почему же? — искренне удивился Пьер Ферма. Маленький араб понял, что он погиб, ибо сейчас этот свирепый офицер с наружностью льва вызовет на поединок беззащитного юношу, чтобы убить его, после чего не спастись от гнева османского паши и ему, Мохаммеду эль Кашти. — Почему? — переспросил Декарт. — Да потому, милостивый государь, что право первому говорить о несостоявшемся поединке принадлежит мне, офицеру гвардии короля Франции, которому я служу, как и его высокопреосвященству господину кардиналу, и по этому праву я и явился к вам сюда, дабы принести извинение за свое недостойное поведение на кладбище у могилы великого Диофанта, и я, Рене Декарт, почтительно прошу извинить мою непростительную вспыльчивость, вызванную лишь преклонением перед прахом великого ученого древности. Все это Декарт произнес на латинском языке, чтобы хозяин дома мог понять его. И Мохаммед эль Кашти, и метр Доминик Ферма оба не верили ушам, пораженные покаянными словами и одновременно грозным видом офицера. — Нет большего воздаяния аллаху, чем прекращение вражды! — вымолвил наконец маленький араб. — Надо думать, господину Картезиусу удалось найти предложенное молодым Ферма решение уравнения по двум его членам вместо семи, что и привело его к столь благородному поступку? — Вы ошибаетесь, почтенный Мохаммед эль Кашти. Рене Декарт, которого вы видите перед собой, никогда не нарушит данной им клятвы и не станет искать решения уравнения, о котором вы изволили вспомнить. Такой исход оказался бы самым простым, но недостойным той внутренней борьбы, которую мне привелось выдержать, чтобы победить недостойную мыслителя дворянскую спесь и решиться на этот визит с принесением извинений как господину Пьеру Ферма, так и его отцу метру Доминику Ферма и гостеприимному нашему хозяину на александрийской земле Мохаммеду эль Кашти. Я искренне сожалею не только о своей вспыльчивости, но также и о данной мной клятве, которую не могу нарушить, хотя мне очень хотелось бы узнать блестящее решение уравнения по двум членам из семи, но, поверьте, этого я сделать не могу. — То, что сделали вы, уважаемый Рене Декарт, значительно больше нахождения решения, на которое я случайно напал, переводя могильную надпись.[43] Не сомневаюсь, что вам не составило бы труда это сделать, если б не ваш собственный запрет, заслуживающий всяческого уважения, — произнес Пьер Ферма, восхищенно глядя на философа в офицерском мундире. Он вспомнил о прочитанных им трудах Картезиуса, о беседе с ним за шахматной доской во время плавания на фелюге и понял, какой внутренней борьбы стоило Декарту прийти сюда с извинениями. — Я понимаю вас и хотел бы отплатить вам тем же, признав легкомысленным свое предложение найти иное решение уравнения, написанного вашей шпагой на песке. Я сожалею об этом и признаю вас несоизмеримо сильнее себя, ибо нет победы большей, чем победа над самим собой. — Вот вам моя рука, Пьер, мой друг, я всегда буду гордиться не только этой минутой торжества над тем, что надлежит неустанно искоренять, но и знакомством с вами и переходом теперь на обращение ко мне — просто Рене. Мохаммед эль Кашти не воспринял этой прочувствованной французской речи, но прекрасно понял значение того рукопожатия, которым обменялись между собой Рене и Пьер. — Слава аллаху, слава аллаху! — только и мог пробормотать он. — Да возрадуется святой Доминик, чьи молитвы заступника дошли до всевышнего! — вторил ему метр Доминик Ферма. — Если Рене, мой друг, почтит вниманием некоторые мои «математические этюды», как мне хочется их назвать, то я буду счастлив, хотя они касаются всего лишь прямоугольных треугольников, а не проблем души и тела. — С охотой, Пьер, мой друг. Я всегда верил, что математика в конце концов привлечет вас к себе, ибо нет, кроме нее, более организующего начала. — Представьте себе, Рене, — говорил Пьер Ферма, ведя Декарта в свою рабочую комнату, — я больше всего сожалел в последние дни, что не могу из-за нашей размолвки познакомить вас со своими этюдами. По дороге Пьеру и Рене попался извивающийся из желания угодить Огюст, но он исчез, едва Декарт посмотрел на него. Оба француза сели за стол у стрельчатого окна, защищенного от солнца пышной зеленью сада. Здесь жара не ощущалась такой невыносимой, как в другом месте. — Итак, с чем же вы, мой друг, хотите познакомить меня? Из-за чего вы жалели о нашей размолвке? — Прежде всего с тем, что формула Пифагора заключает в себе строго организованные ряды простейших пифагоровых троек, то есть значений сторон прямоугольных треугольников, не имеющих общего делителя. — Любопытно. Как же вы это доказываете, мой друг? — Позвольте и мне, уважаемые гости Аль-Искандарии, ознакомиться с выводами молодого ученого, — попросил вошедший вслед за Пьером и Декартом хозяин дома. — Охотно, уважаемый Мохаммед эль Кашти, тем более что вы послужили толчком для всех находок, которые я могу показать, — живо отозвался Пьер Ферма. — О, слава аллаху, моя помощь в этом высоком деле ничтожно мала, я обратил ваше внимание лишь на то, чего не видел сам. — Я сожалею, что не пришел извиниться сразу, тогда мы смогли бы вместе повидать необычный орнамент, о котором я уже услышал через Огюста, но я надеюсь, что наш друг возместит упущенное, — произнес Декарт, поклонившись в сторону Пьера Ферма. И тот стал увлеченно показывать сделанные им преобразования формулы Пифагора.[44]Виверанг Люк де Клапси, французский писатель XVIII века
 Декарт внимательно выслушал Пьера Ферма, взял в руки составленную им таблицу, лицо его из грозного стало сосредоточенным, потом он горько усмехнулся:
— Друг мой, боюсь разочаровать вас, но стоило ли вам вкладывать столько труда в «изобретение колесницы», известной еще при фараонах?
— Вы правы, Рене, очевидно, при фараонах жрецы бога Тота знали эти ряды, но разве не наш долг вернуть людям утраченные знания?
— Вы не поняли меня, друг мой. Я применил метафору о колеснице, имея в виду, что она известна была и древним римлянам, даже в наше время на ее основе созданы кареты. Просто вам нет надобности применять свой математический дар для вычисления сторон приевшихся всем прямоугольников, поскольку древние оставили нам изящные формулы, дающие значения всех возможных пифагоровых троек. — И он размашисто написал на листе несколько формул. — Их связывают чуть ли не с Платоном, их можно найти в X книге «Начал» Евклида.[45]
— Простите, что я вступаю в ваш высоконаучный разговор, почтенные знатоки чисел, — вмешался звездочет, — но арабской науке действительно известны эти древние формулы, правда, в несколько другом написании. Однако, к сожалению, до нас не дошел их вывод. Впрочем, в том, что они дают верный результат, я имел, по воле аллаха, возможность убедиться всякий раз, когда их применял, подобно тому, как это делал сам Диофант.
Пьер Ферма нахмурился, пристально глядя на свои и написанные Декартом формулы:
— Они выводятся очень просто, почтенные господа, из тех самых выражений, которые позволили мне составить таблицу. — И Пьер Ферма показал, как удивительно простым способом можно получить эти древние формулы.[46]
Декарт внимательно выслушал Пьера Ферма, взял в руки составленную им таблицу, лицо его из грозного стало сосредоточенным, потом он горько усмехнулся:
— Друг мой, боюсь разочаровать вас, но стоило ли вам вкладывать столько труда в «изобретение колесницы», известной еще при фараонах?
— Вы правы, Рене, очевидно, при фараонах жрецы бога Тота знали эти ряды, но разве не наш долг вернуть людям утраченные знания?
— Вы не поняли меня, друг мой. Я применил метафору о колеснице, имея в виду, что она известна была и древним римлянам, даже в наше время на ее основе созданы кареты. Просто вам нет надобности применять свой математический дар для вычисления сторон приевшихся всем прямоугольников, поскольку древние оставили нам изящные формулы, дающие значения всех возможных пифагоровых троек. — И он размашисто написал на листе несколько формул. — Их связывают чуть ли не с Платоном, их можно найти в X книге «Начал» Евклида.[45]
— Простите, что я вступаю в ваш высоконаучный разговор, почтенные знатоки чисел, — вмешался звездочет, — но арабской науке действительно известны эти древние формулы, правда, в несколько другом написании. Однако, к сожалению, до нас не дошел их вывод. Впрочем, в том, что они дают верный результат, я имел, по воле аллаха, возможность убедиться всякий раз, когда их применял, подобно тому, как это делал сам Диофант.
Пьер Ферма нахмурился, пристально глядя на свои и написанные Декартом формулы:
— Они выводятся очень просто, почтенные господа, из тех самых выражений, которые позволили мне составить таблицу. — И Пьер Ферма показал, как удивительно простым способом можно получить эти древние формулы.[46]
ТАБЛИЦА ПРОСТЕЙШИХ ПИФАГОРОВЫХ ТРОЕК
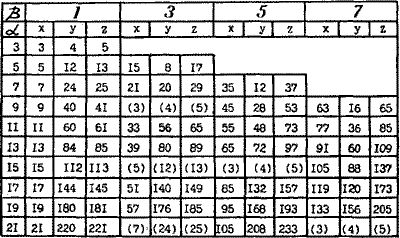 (Цифры в скобках получаются после сокращения на общий множитель и равны цифрам столбца при b = 1.)
— Не могу отказать вам в математическом остроумии, но нахождение вывода старых формул не может подняться до значения самих этих формул. Так что я не вижу, к сожалению, смысла в вашей умственной расточительности ради повторения давно человечеством пройденного.
Пьер Ферма покраснел, потом побледнел, пронизывающе смотря на составленную им таблицу рядов, которую в эту минуту изучал арабский звездочет.
— Простите мне во имя аллаха, мои высокочтимые гости, что я рискую обратить ваше внимание на то, что в составленной молодым гостем таблице я вижу весьма примечательные особенности, которые, надо думать, он подметил и обосновал. Кроме того, можно увидеть, что тройки, вычисленные по древним формулам, не окажутся, как в таблице господина Пьера Ферма, простейшими числами. Произвольно задаваясь величинам m и n, мы получим после вычислений хаотические, беспорядочные, как россыпь разноцветных камней, значения всевозможных прямоугольных треугольников, отнюдь не способствующих выявлению законов их построения.
— Вы правы, уважаемый Мохаммед эль Кашти, таблица троек действительно дает возможность установить некоторые зависимости как в вертикальных рядах, так и в рядах, соседствующих по горизонтали. — И он познакомил слушателей с тем, что открыл.[47] По просьбе арабского ученого особенно остановился Пьер Ферма на выборе коэффициента a и b в своих формулах.
Все значения сторон треугольников с возрастанием ряда изменяются по арифметической прогрессии, показатель которой для y — постоянен и равен 4, а для x и z увеличивается с порядковым номером ряда и порядкового номера тройки в вертикальном ряду и равен 4 (b + i — 1), где i — порядковый номер тройки в ряду.
— Вас интересует, уважаемый Мохаммед эль Кашти, случай, когда коэффициенты a и b содержат общий множитель √2? — И он показал с убедительной простотой, что в этом случае получающиеся тройки будут повторять все первые тройки соседних по горизонтали рядов.[48]
— Вы убедили меня, почтенный знаток и поэт чисел. Видит аллах, с каким благоговением я стараюсь вникнуть в найденные вами числа и мудро расставленные по клеткам таблицы, кажущейся мне поистине волшебной. Но я покажу почтенным господам, какие тайны хранит в себе эта простенькая таблица.
— Что же вы обнаружили в ней, уважаемый Мохаммед эль Кашти? Разве я не все понял в собственной работе?
— Конечно, не все, ибо все понятно лишь одному всемогущему аллаху! Но достаточно прикоснуться к математическому сокровищу, чтобы обнаружить в нем…
— Что же? Что? — нетерпеливо торопил арабского звездочета Пьер Ферма.
— Благословенное аллахом золотое сечение! 8 единиц рассекаются на 5 и 3, 13 — на 8 и 5! А эти цифры стоят в таблице поблизости, как и в орнаменте![49]
Декарт скептически пожал плечами и поморщился. Араб воскликнул:
— Видит аллах справедливый, что вы напрасно так холодны, господин Картезиус! В этой премудрой таблице египетских рядов, как в бездонном колодце, можно черпать сокровища знаний.
— Я не хочу отказывать древним в важных познаниях, но я не вижу причин искать закономерности построения треугольников, будучи не уверен в их практической ценности, поскольку величины сторон ограничены такой условностью, как целочисленность.
— О многочтимый господин Картезиус! Я с почтительным вниманием изучаю ваши латинские труды по философии, стараясь вникнуть в глубину ваших мыслей, но позвольте возразить вам, не оспаривая вашего права на высказанное мнение.
— Пожалуйста, прошу вас, почтенный Мохаммед эль Кашти.
— По вашему определению, господин Картезиус, человек начал существовать как человек, лишь обретя способность мыслить, а это произошло тогда, когда он стал считать по пальцам, определять, сколько плодов он сорвал, сколько дичи принес, сколько членов его семьи или племени должны его добычу разделить между собой. По-латыни, как вы знаете, «вычисление — калькуляция» происходит от слова calculus, что означает «камешек», число камешков могло быть только целым. И в нашей жизни, начиная от числа людей, быков, кораблей, домов и окон в них, кончая числом звезд в созвездиях, — все это только целые числа. Природа по воле аллаха не знает дробей.
— Но при чем тут закон Природы, созданной всевышним, и прямоугольные треугольники? — с вызовом спросил французский философ.
— Величайшая тайна творения, уважаемый мною господин Картезиус, как я верю и убежден, заключена в том, что первородный закон Природы и ее творца до необычайности прост, не менее прост, чем открытый Пифагором закон прямоугольного треугольника. И неспроста древние египтяне после разлива Нила вновь разбивали поля с помощью веревки с узлами через три, четыре и пять мер, натягивая ее на три колышка и получая очень точно необходимый им прямой угол. А как такие прямые углы нужны морякам, определяющим свое местонахождение по звездам, или нам, звездочетам, эти звезды изучающим? И кто возьмется сказать сейчас, как еще послужат людям сведенные в эту таблицу прямоугольные треугольники?
Конечно, маленький арабский звездочет был толькочеловеком своего времени, невежественным астрологом, пытающимся предсказывать будущее по расположению звезд, но в этой реплике, сказанной двум выдающимся ученым XVII века о простоте первородных законов Природы, он, сам того не подозревая, поднялся до поистине гениальных высот предвидения. Мог ли он даже предположить, что другой великий ученый, которому жить триста лет спустя, в XX веке, создаст теорию относительности, из которой последует, что для летящего с субсветовой скоростью тела гипотенуза прямоугольного треугольника представит увеличивающуюся массу тела, его энергию и собственное время, в то время как горизонтальный катет — массу, энергию и время покоя, а вертикальный катет будет отличаться от гипотенузы так же, как и скорость тела от скорости света, длина же тела сократится по тому же закону.[50]
Никто из присутствующих не знал глубин характера Пьера Ферма, в котором сочеталась доброта и скромность с уверенностью в неограниченности своих возможностей. Он считал, что ему доступно все на свете и в языкознании, и в поэзии, и в изучаемом праве, и в полюбившейся ему математике, никто не ожидал и не мог бы объяснить его неожиданный поступок. Пьеру Ферма было совершенно достаточно собственного признания того, что он не напрасно искал и нашел закономерности простейших пифагоровых троек, он был искренне восхищен увлеченностью его работой арабского ученого, чрезвычайно ему симпатичного, он хотел еще показать своему соотечественнику Рене Декарту, что он тоже способен на победу над самим собой. И Пьер Ферма сделал то, что стало обычным в его последующей научной деятельности, ему всегда казалось достаточным найти, открыть самому, а потом, не делая и не записывая даже выводов, предлагать своим современникам пройти его путем. Была ли это гордыня или скромность гения, но, как бы то ни было, Пьер Ферма и в последующие годы не оформлял своих трудов, не издавал собрания сочинений, не разыскал собственных найденных им доказательств (или не записал их!).
А сейчас он поразил и маленького арабского звездочета, и Декарта обращенной к ним речью:
— Я глубоко признателен вам, уважаемый Рене, за заботу о полезном применении моих способностей. За один сегодняшний день вы дали мне два урока: как победить самого себя и как бережно расходовать свои силы. А вам, досточтимый Мохаммед эль Кашти, я благодарен за то, что своей оценкой моей скромной работы вы открыли мне глаза на мою слепоту, показали мне тайны, мимо которых я проходил. Вы усмотрели в восстановленной мной египетской таблице пифагоровых чисел такой сокровенный смысл, что я не могу больше считать ее своей, она — ваша! Только вы, истинный поэт чисел, сможете увидеть в ней то, что откроется будущим поколениям. В моей памяти останется лишь формула, стоившая Пифагору сотню быков, а мне — размышлений о величине в степени, которую можно разложить на два слагаемых в той же степени.
И с этими словами Пьер Ферма торжественно передал арабскому ученому свои вычисления, сведенные в таблицу.
Мохаммед эль Кашти застыл ошеломленный. Декарт же пытался разобраться в поступке молодого соотечественника: кто он? Гордец или скромник? Гений или воплощение беспечности?
— Клянусь аллахом, ни один султан на Земле не делал смертному такого царственного дара! — низко поклонился араб.
Хорошо, что метр Доминик Ферма не присутствовал при этом, он мог бы счесть поступок сына непростительным расточительством и едва ли перенес это.
Декарт же подумал: что бы ни руководило Пьером Ферма, но этим отказом от собственного открытия он, несомненно, поднялся в собственных глазах выше всех, кто его окружал. И тут Декарт подумал о себе: видимо, не полностью он еще одержал победу над самим собой.
Так сделан был «царский дар», поэтому истории науки ничего не известно об этой работе Ферма, с которой, быть может, и началась его дорога гениального математика, чьи работы на протяжении столетий будут волновать ученых всего мира.
Но будем справедливы к довольному и улыбающемуся Пьеру Ферма. Ему хотелось шутить, смеяться, пображничать за столом. И он сказал, обращаясь к арабу:
— Жаль, что коран запрещает вино, почтенный Мохаммед зль Кашти! Именно сейчас мне хотелось бы чокнуться с вами бокалом старого французского вина!
Маленький арабский звездочет смущенно улыбался, не зная, что сказать.
(Цифры в скобках получаются после сокращения на общий множитель и равны цифрам столбца при b = 1.)
— Не могу отказать вам в математическом остроумии, но нахождение вывода старых формул не может подняться до значения самих этих формул. Так что я не вижу, к сожалению, смысла в вашей умственной расточительности ради повторения давно человечеством пройденного.
Пьер Ферма покраснел, потом побледнел, пронизывающе смотря на составленную им таблицу рядов, которую в эту минуту изучал арабский звездочет.
— Простите мне во имя аллаха, мои высокочтимые гости, что я рискую обратить ваше внимание на то, что в составленной молодым гостем таблице я вижу весьма примечательные особенности, которые, надо думать, он подметил и обосновал. Кроме того, можно увидеть, что тройки, вычисленные по древним формулам, не окажутся, как в таблице господина Пьера Ферма, простейшими числами. Произвольно задаваясь величинам m и n, мы получим после вычислений хаотические, беспорядочные, как россыпь разноцветных камней, значения всевозможных прямоугольных треугольников, отнюдь не способствующих выявлению законов их построения.
— Вы правы, уважаемый Мохаммед эль Кашти, таблица троек действительно дает возможность установить некоторые зависимости как в вертикальных рядах, так и в рядах, соседствующих по горизонтали. — И он познакомил слушателей с тем, что открыл.[47] По просьбе арабского ученого особенно остановился Пьер Ферма на выборе коэффициента a и b в своих формулах.
Все значения сторон треугольников с возрастанием ряда изменяются по арифметической прогрессии, показатель которой для y — постоянен и равен 4, а для x и z увеличивается с порядковым номером ряда и порядкового номера тройки в вертикальном ряду и равен 4 (b + i — 1), где i — порядковый номер тройки в ряду.
— Вас интересует, уважаемый Мохаммед эль Кашти, случай, когда коэффициенты a и b содержат общий множитель √2? — И он показал с убедительной простотой, что в этом случае получающиеся тройки будут повторять все первые тройки соседних по горизонтали рядов.[48]
— Вы убедили меня, почтенный знаток и поэт чисел. Видит аллах, с каким благоговением я стараюсь вникнуть в найденные вами числа и мудро расставленные по клеткам таблицы, кажущейся мне поистине волшебной. Но я покажу почтенным господам, какие тайны хранит в себе эта простенькая таблица.
— Что же вы обнаружили в ней, уважаемый Мохаммед эль Кашти? Разве я не все понял в собственной работе?
— Конечно, не все, ибо все понятно лишь одному всемогущему аллаху! Но достаточно прикоснуться к математическому сокровищу, чтобы обнаружить в нем…
— Что же? Что? — нетерпеливо торопил арабского звездочета Пьер Ферма.
— Благословенное аллахом золотое сечение! 8 единиц рассекаются на 5 и 3, 13 — на 8 и 5! А эти цифры стоят в таблице поблизости, как и в орнаменте![49]
Декарт скептически пожал плечами и поморщился. Араб воскликнул:
— Видит аллах справедливый, что вы напрасно так холодны, господин Картезиус! В этой премудрой таблице египетских рядов, как в бездонном колодце, можно черпать сокровища знаний.
— Я не хочу отказывать древним в важных познаниях, но я не вижу причин искать закономерности построения треугольников, будучи не уверен в их практической ценности, поскольку величины сторон ограничены такой условностью, как целочисленность.
— О многочтимый господин Картезиус! Я с почтительным вниманием изучаю ваши латинские труды по философии, стараясь вникнуть в глубину ваших мыслей, но позвольте возразить вам, не оспаривая вашего права на высказанное мнение.
— Пожалуйста, прошу вас, почтенный Мохаммед эль Кашти.
— По вашему определению, господин Картезиус, человек начал существовать как человек, лишь обретя способность мыслить, а это произошло тогда, когда он стал считать по пальцам, определять, сколько плодов он сорвал, сколько дичи принес, сколько членов его семьи или племени должны его добычу разделить между собой. По-латыни, как вы знаете, «вычисление — калькуляция» происходит от слова calculus, что означает «камешек», число камешков могло быть только целым. И в нашей жизни, начиная от числа людей, быков, кораблей, домов и окон в них, кончая числом звезд в созвездиях, — все это только целые числа. Природа по воле аллаха не знает дробей.
— Но при чем тут закон Природы, созданной всевышним, и прямоугольные треугольники? — с вызовом спросил французский философ.
— Величайшая тайна творения, уважаемый мною господин Картезиус, как я верю и убежден, заключена в том, что первородный закон Природы и ее творца до необычайности прост, не менее прост, чем открытый Пифагором закон прямоугольного треугольника. И неспроста древние египтяне после разлива Нила вновь разбивали поля с помощью веревки с узлами через три, четыре и пять мер, натягивая ее на три колышка и получая очень точно необходимый им прямой угол. А как такие прямые углы нужны морякам, определяющим свое местонахождение по звездам, или нам, звездочетам, эти звезды изучающим? И кто возьмется сказать сейчас, как еще послужат людям сведенные в эту таблицу прямоугольные треугольники?
Конечно, маленький арабский звездочет был толькочеловеком своего времени, невежественным астрологом, пытающимся предсказывать будущее по расположению звезд, но в этой реплике, сказанной двум выдающимся ученым XVII века о простоте первородных законов Природы, он, сам того не подозревая, поднялся до поистине гениальных высот предвидения. Мог ли он даже предположить, что другой великий ученый, которому жить триста лет спустя, в XX веке, создаст теорию относительности, из которой последует, что для летящего с субсветовой скоростью тела гипотенуза прямоугольного треугольника представит увеличивающуюся массу тела, его энергию и собственное время, в то время как горизонтальный катет — массу, энергию и время покоя, а вертикальный катет будет отличаться от гипотенузы так же, как и скорость тела от скорости света, длина же тела сократится по тому же закону.[50]
Никто из присутствующих не знал глубин характера Пьера Ферма, в котором сочеталась доброта и скромность с уверенностью в неограниченности своих возможностей. Он считал, что ему доступно все на свете и в языкознании, и в поэзии, и в изучаемом праве, и в полюбившейся ему математике, никто не ожидал и не мог бы объяснить его неожиданный поступок. Пьеру Ферма было совершенно достаточно собственного признания того, что он не напрасно искал и нашел закономерности простейших пифагоровых троек, он был искренне восхищен увлеченностью его работой арабского ученого, чрезвычайно ему симпатичного, он хотел еще показать своему соотечественнику Рене Декарту, что он тоже способен на победу над самим собой. И Пьер Ферма сделал то, что стало обычным в его последующей научной деятельности, ему всегда казалось достаточным найти, открыть самому, а потом, не делая и не записывая даже выводов, предлагать своим современникам пройти его путем. Была ли это гордыня или скромность гения, но, как бы то ни было, Пьер Ферма и в последующие годы не оформлял своих трудов, не издавал собрания сочинений, не разыскал собственных найденных им доказательств (или не записал их!).
А сейчас он поразил и маленького арабского звездочета, и Декарта обращенной к ним речью:
— Я глубоко признателен вам, уважаемый Рене, за заботу о полезном применении моих способностей. За один сегодняшний день вы дали мне два урока: как победить самого себя и как бережно расходовать свои силы. А вам, досточтимый Мохаммед эль Кашти, я благодарен за то, что своей оценкой моей скромной работы вы открыли мне глаза на мою слепоту, показали мне тайны, мимо которых я проходил. Вы усмотрели в восстановленной мной египетской таблице пифагоровых чисел такой сокровенный смысл, что я не могу больше считать ее своей, она — ваша! Только вы, истинный поэт чисел, сможете увидеть в ней то, что откроется будущим поколениям. В моей памяти останется лишь формула, стоившая Пифагору сотню быков, а мне — размышлений о величине в степени, которую можно разложить на два слагаемых в той же степени.
И с этими словами Пьер Ферма торжественно передал арабскому ученому свои вычисления, сведенные в таблицу.
Мохаммед эль Кашти застыл ошеломленный. Декарт же пытался разобраться в поступке молодого соотечественника: кто он? Гордец или скромник? Гений или воплощение беспечности?
— Клянусь аллахом, ни один султан на Земле не делал смертному такого царственного дара! — низко поклонился араб.
Хорошо, что метр Доминик Ферма не присутствовал при этом, он мог бы счесть поступок сына непростительным расточительством и едва ли перенес это.
Декарт же подумал: что бы ни руководило Пьером Ферма, но этим отказом от собственного открытия он, несомненно, поднялся в собственных глазах выше всех, кто его окружал. И тут Декарт подумал о себе: видимо, не полностью он еще одержал победу над самим собой.
Так сделан был «царский дар», поэтому истории науки ничего не известно об этой работе Ферма, с которой, быть может, и началась его дорога гениального математика, чьи работы на протяжении столетий будут волновать ученых всего мира.
Но будем справедливы к довольному и улыбающемуся Пьеру Ферма. Ему хотелось шутить, смеяться, пображничать за столом. И он сказал, обращаясь к арабу:
— Жаль, что коран запрещает вино, почтенный Мохаммед зль Кашти! Именно сейчас мне хотелось бы чокнуться с вами бокалом старого французского вина!
Маленький арабский звездочет смущенно улыбался, не зная, что сказать.
Глава седьмая СНЫ — ТОЛЬКО СНЫ
Если б любовь была недостойна мудрецов, то пришлось бы пожалеть бедных красавиц, обреченных наслаждаться любовью одних глупцов.Любовь настигает человека, даже если он мудрец. Пьер Ферма к двадцати семи годам был уже не только мудрецом, постигшим глубины математики (его увлечения, утехи и страсти), но и знатоком языков, античности, а также права, к тому же еще и поэтом. «Арифметика» Диофанта стала его настольной книгой. В 1628 году, опять же в апреле, он сопровождал отца, который, переживая денежные затруднения, отправился с сыном в Тулузу, к дальнему родственнику жены, главе юридической семьи, господину Франсуа де Лонгу, в расчете на его покровительство юридически образованному Пьеру, поскольку ни его стихи, ни его знания дохода не приносили, а также помышляя с помощью святого Доминика получить денежную поддержку, ибо дела буржуа и второго консула Бомон-де-Ломань после дорого стоившей поездки в Египет пришли в полное расстройство. Сухощавый и важный господин Франсуа де Лонг встретил дальних и запыленных в столь же дальней дороге родственников без особого жара души, и дом его мог показаться южанам холодным, не согретым теплом радушия. Господин Франсуа де Лонг прослыл в юридических кругах наиискуснейшим крючкотвором, о чем знал даже сам его высокопреосвященство господин кардинал Ришелье, в нужных случаях прибегая к услугам юриста-дворянина. Если бы великому Сервантесу в его время понадобился натурщик для портрета Дон Кихота, он не нашел бы лучшей модели, чем Франсуа де Лонг (живи он тогда), правда, при условии, что он выпрямится, чтобы не походить своим тощим согнутым телом на крючок, оправдывая тем данное ему среди юристов прозвище, отражающее и его внешность, и ценные способности судейского. По человеческой сущности он был прямой противоположностью рыцарю Печального Образа, будучи лишенным мечтательности и отнюдь не витая в воображаемом мире, чтобы защищать в нем высокие идеалы, а с редкой прозорливостью постигая мир таким, каков он есть, и если признавал идеалы, то лишь связанные с выгодой. Вот почему, прокалывающе глядя из-под бесцветных бровей и поглаживая полуседую бородку, скорее сгорбленный, чем поклонившийся гостям, он не почувствовал никакой выгоды от их приезда. Когда же он узнал, что Пьер (о чем метр Доминик Ферма с наивной гордостью поспешил сообщить) не только «начинающий юрист без протекции», но еще и поэт и даже математик, то искушенный в секретах преуспеяния господин Франсуа де Лонг совсем разочаровался в приехавшем молодом человеке и даже выразил ему свое мнение о никчемности математических занятий, полезных разве что торговому люду для счета товаров и выручки, но уж никак не благородным людям или юристам. Но дочь господина Франсуа де Лонга Луиза, не в пример отцу, мечтательная, романтическая девушка, воспитанная в монастырской строгости, но обожавшая рыцарские романы не меньше Дон Кихота, не разделяла отцовского отношения к гостям. Потеряв еще год назад мать, она теперь на правах хозяйки дома смогла окружить приехавших родственников такой заботой и даже лаской, что, обладая к тому же в глазах Пьера неземной, поистине небесной внешностью, затмила даже восточное гостеприимство в Александрии. Господа де Лонг жили в загородном доме предков, называя его «замком», хотя он меньше всего походил на «оборонительное сооружение», он был окружен не стеной со рвами, а густым садом, где и встречались порой случайно (а может быть, и не случайно!) молодые люди. Словом, любовь настигла мудреца задолго до его старости, и древнегреческий философ Зенон из Элеи не стал бы жалеть такую красавицу, как Луиза де Лонг, поскольку ее новый обожатель отнюдь не был глупцом. Впрочем, влюбленные глупеют, а уж о поэтах и говорить нечего — ведь настоящие стихи, как говорят, должны быть чуть-чуть глупыми, обращенные не к рассудку, а к чувствам. На беду свою, Пьер Ферма оказался и влюбленным и поэтом. Сад де Лонгов благоухал. На одной из его аллей солидно прогуливались почтенные родители: господин Франсуа де Лонг, как бы внимательно разглядывающий собственный пояс, и метр Доминик Ферма, то и дело вытирающий кружевным платком шею и подбородки. Почтенные отцы вели многозначительный разговор, стараясь за учтивыми оборотами речи скрыть истинный ее смысл, который для метра Доминика Ферма означал столь же мучительную, как и унизительную просьбу о помощи деньгами отцу и протекцией сыну, а для господина Франсуа де Лонга — стремление не связать себя никакими обещаниями, сохранив в неприкосновенности свой «золотой запас», а также не затруднить никого из влиятельных людей в Тулузском парламенте (суде) просьбой о каком-то там безвестном родственнике. — Как могли вы, почтенный метр, — назидательно отчитывал он пожилого гостя, — подвергнуть такой опасности свое бесценное здоровье, предприняв не сулившее вам никакой выгоды путешествие в Египет, которое, надо думать, привело в расстройство ваши денежные дела, на что вы, как мне кажется, намекнули. И я, право, не вижу при всем моем сострадании к родственникам покойной жены, как им удастся преодолеть эти неприятные, надеюсь, временные, затруднения, не прибегая к помощи этих отвратительных ростовщиков, которые ничем не лучше знакомых вам пиратов и, несомненно, окончательно разорят вас. Метр Доминик Ферма ничего не мог возразить безжалостно красноречивому хозяину дома и, мысленно поминая святого Доминика, лишь горестно вздыхал, утираясь кружевным платком, ибо в тысячу раз с большей охотой обратился бы за помощью к хозяину другого дома невдалеке от мечети на базарной площади Александрии, увы, отделенной теперь непреодолимым для его нынешних средств Средиземным морем. Он ничего не знал о судьбе маленького звездочета и мысленно лишь сравнивал его со своим крючкообразным родственником. На другой аллее, более глухой и тенистой, близ куста расцветших роз шел другой разговор между молодыми людьми, по-иному относящимися друг к другу, но также старающимися не выдать ни своих мыслей, ни своих чувств. — И по-вашему, мсье Пьер, поэзия существует для того, чтобы дать слово душе человека? — говорила Луиза. — Но математика всего лишь умение считать и никак не служит возвышенным чувствам души. Почему же она увлекает вас? — Поэзия — это пение души, — горячо подхватил Пьер. — Математика же — песня ума. — Как странно: пение и песня, — тихо повторила она. Так беседовали они о душе и уме. Но то, что не могли произнести уста, сказали руки, когда коснулись друг друга у розового куста. И ощущение от теплого прикосновения существа, вчера еще незнакомого, а сегодня такого близкого и желанного, было так пронзительно, что могло напомнить вопль восторга, крик радости, песню счастья, если бы непреодолимая сила условности не сковывала тех, кто уже мечтал сковать воедино свои жизни. — Мне показалось, мсье Пьер, что вы оцарапались о противные шипы этого куста. Вам больно? — Что вы, милая Луиза! Я не ощущаю никаких шипов, никакой боли! Позвольте мне сорвать для вас эту красную розу, она так украсит ваши чудесные волосы. — Ой, что вы, мсье Пьер! Папенька ведет счет каждому бутончику и будет очень недоволен, обнаружив недостачу. И не дай бог, если он увидит сорванный цветок в моих волосах, как вы того пожелали. — Я готов принять гнев вашего батюшки на себя, милая Луиза, лишь бы насладиться таким украшением ваших волос, как эта роза, цвет которой так оттеняет румянец вашего лица. И с этими словами Пьер сорвал с куста великолепную розу с капельками росы на лепестках. Луиза, прилаживая ее к гладко зачесанным темным волосам с колечками у висков, с улыбкой говорила: — Ой, какая колючая! Я боюсь, что ради меня вы исцарапали себе руку. Дайте, я пожалею ее. — В таком случае позвольте мне сунуть прежде руку в самую гущу куста. И оба счастливо засмеялись, засмеялись, потому что так ловко (или неловко!) скрывали то, что им хотелось сказать. А на другой аллее их отцы тоже рассмеялись, довольные тем, как ловко удалось им уколоть друг друга даже без помощи шипов! Метр Доминик Ферма рассказал господину Франсуа де Лонгу (в пику ему!), каково восточное гостеприимство, оказанное отцу с сыном совсем чужим и даже некрещеным арабом в Египте. В ответ господин Франсуа де Лонг справился, во сколько обошлась родственнику его жены из Бомона-де-Ломань возможность воспользоваться восточным гостеприимством нечестивого мавра. Подсчитав (оказывается, когда требовалось, он владел и математикой!), сколько пистолей заплачено за переезд через Средиземное море и во что обошлось подношение османскому паше в Александрии, и поделив полученную сумму на число проведенных у Мохаммеда эль Кашти дней, он самодовольно отметил, что не чем иным, как расточительством, трату мешка с золотом ради арабского гостеприимства назвать нельзя, и затрясся в желчном смехе, хихикая и задыхаясь от удовольствия. Доминику Ферма тоже пришлось заколыхать тучным телом в натужном смехе, горьком и подобострастном, лишь бы смягчить суровую скупость почтенного родственника, на протекцию которого для Пьера он продолжал еще рассчитывать. Между тем все, что не мог вслух произнести молодой гость, естественно вылилось у поэта Пьера Ферма в сочиненном им для Луизы сонете:Зенон из Элеи, древнегреческий философ
СНЫ — ТОЛЬКО СНЫ
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Жизнь человеческая подобна железу. Если употреблять его в дело, оно истирается, если не употреблять, ржавчина его съедает.Печально наше послесловие, хотя Пьер Ферма потерпел лишь первое поражение, почтенный метр Доминик Ферма не пережил своего разорения, ничего не оставив ни сыну, ни другим детям, которым Пьер уступил во владение отцовский дом в Бомон-де-Ломань, сам рассчитывая лишь на самого себя, на свои замыслы и силы. Печально наше послесловие потому, что Пьер Ферма ничего не узнал о горькой судьбе маленького арабского звездочета, которого одарил таким царским подарком. Лишь много лет спустя в Париже от былого сотоварища Декарта по коллежу аббата Мерсенна, добровольного посредника в переписке ученых, он услышал, что аббат уже давно перестал получать письма от арабского знатока чисел Мохаммеда эль Кашти. Но ни аббат Мерсенн, ни тем более Пьер Ферма так и не узнали, что маленький арабский звездочет, поразительно сочетая в себе глубокие научные познания с суеверием, наивно убежденный в своей способности угадывать будущее по расположению звезд, осмелился предсказать османскому паше в Аль-Искандарии немилость султана, за что с согласия султана, уличенный к тому же в мерзостном посещении языческих капищ, был обезглавлен, и все книги его и рукописи, как колдовские, противоречащие корану, подлежали сожжению, и при стечении толпы правоверных в одну из звездных ночей (которые так ценил звездочет для наблюдений!) пламя костра вспыхнуло перед домом казненного и взметнулось от налетевшего вихря, пронесшегося над базарной площадью. Так и не удалось бедняге спасти свою голову от секиры палача османского паши. Искры и огненные птицы взлетели в черное небо, почти до уровня минарета ближней мечети. Никто не видел, где падали эти птицы. Но не исключено, что в темноте ночи некий чернокожий гигант, посветив себе факелом, притушил тлеющую птицу и унес то, что осталось от нее (быть может, таблицу?), на память о добром хозяине, иначе чем объяснить, что таблица, над которой работал французский математик, попала наконец в руки автора.[51] Безрадостно складывалась и судьба философа в офицерском мундире Декарта. Видный мыслитель, последователи которого и в наше время называют себя картезианцами, утверждал, что все познается только опытом и наблюдением (как? А вера!!!), навлек на себя недовольство не только святой римско-католической церкви во главе с папой римским, специальной буллой осудившим и запретившим одно из главных сочинений Декарта, но также и лютых врагов католицизма — протестантов, боровшихся с католиками за власть и влияние на протяжении всей Тридцатилетней войны во многих странах Европы. Декарту пришлось принять в ней участие, но гонение вынудило его покинуть сначала Францию, а потом и Нидерланды и в конце концов оказаться в Швеции под защитой своенравной королевы Христины, которая не смогла, однако, уберечь строптивого философа от губительного для него скандинавского климата. Справедливости ради надо сказать, что он ни в чем не уступил гонителям, всегда оставался самим собой, хотя и допускал порой ошибки, одна из которых однажды снова столкнула его с Пьером Ферма в бескровной, но бурно разыгравшейся в научных кругах дуэли, о чем пойдет речь в последующих главах правдивого романа. То, что не понял Декарт в работах Ферма, потом развили Ньютон и Лейбниц, кстати говоря, споря между собой о приоритете, создав дифференциальное интегральное исчисление, гениально предвосхищенное скромным французским юристом.Катон-старший
Часть вторая ВЕРШИНЫ МАНЯЩАЯ ПРЕЛЕСТЬ
Жаден разум человеческий. Он не может ни остановиться, ни пребывать в покое, а порывается все дальше.Ф. Бэкон

Глава первая КОСТИ И ШПАГА
Ни одно человеческое исследование не может назваться истинной наукой, если оно не прошло через математическое доказательство.Два года прошло со времени знакомства Пьера Ферма с Луизой де Лонг. Конечно, разгневанный «крючок» не оказал Пьеру никакой протекции в Тулузском парламенте, где играл известную роль. И можно понять его удивление, а потом ярость, когда он узнал, что этот выскочка Пьер Ферма все-таки умудрился получить заветное место советника суда и приезжает в Тулузу. Искушенный крючкотвор, умеющий выискивать юридические зацепки в делах, которыми занимался в парламенте, оказывается, не обладал должной проницательностью, чтобы угадать за покорной кротостью дочери несгибаемое, а вернее, пружинное упорство и изощренную находчивость (поистине женское чувство не знает преград!). Сам господин Франсуа де Лонг был по-ослиному упрям, но если справедливы слова умного острослова, что «упрямство — вывеска дураков», то упорство, каким обладала Луиза, скорее всего напоминало гибкую кость дамского корсета, сгибающуюся от усилия и тотчас разгибающуюся, едва оно ослабнет, и Луизу меньше всего интересовала разница между «вывеской дураков» и «кольчугой мудрецов», как порой философы называли упорство. И вполне может быть, что ее упругая защита была непробиваемей кольчуги. В день получения сонета Луиза, казалось бы, покорно уступила разгневанному отцу, но, едва униженные родственники покинули Тулузу и отец принялся подыскивать Луизе выгодного жениха, скромница дочь с потупленным взором приступила к действиям. Нет у мужчин оружия против женской слабости, в особенности если она присуща любимой племяннице. Это в полной мере ощутил младший брат Франсуа де Лонга, тоже юрист с кое-какими связями в Тулузском парламенте, как и все в семье. Вот через него-то, через Жоржа де Лонга, и решила добиться своего счастья наша одержимая влюбленная. И, заливаясь прожигающими мужское сердце слезами, рыдая на дядиной груди, перемежая горестные вздохи с поцелуями, она одержала полную победу над сердобольным Жоржем де Лонгом, румяным, рыхлым и добродушным, которого не наградил господь собственными детьми. Готовый расплакаться, суетливый по натуре, сейчас он был готов не без тайного (но беззлобного) торжества все сделать для дочери высокомерного Франсуа, который не упускал случая оттеснить младшего брата на задний план. Протекцию Пьеру Ферма Жорж де Лонг оказать мог, но… дело осложнялось тем, что у Пьера не было нужных средств, чтобы отблагодарить благодетелей, которые предоставят ему желанное место. Это препятствие казалось неодолимым, но очаровательная племянница смотрела на дядю такими глазами газели и в их глубине теплились такие поистине тигриные искорки, что предложенная еще невероятная сделка (чего только не придумает влюбленная женщина!), по которой благодетели должны подождать первого дела Пьера, чтобы он лишь после него расплатился б с ними, под гарантию, конечно, такого солидного поручителя, как любимый дядюшка Жорж де Лонг, показалась растроганному судейскому не лишенной смысла. И, кряхтя, сам себе дивясь, толстый дяденька Жорж пошел на все, чего пожелала племянница, и даже на большее: выплатил, как поручитель, часть обусловленной благодетелями суммы впредь до выигрыша Пьером Ферма его первого юридического дела. И ощутимый кошелек с пистолями, так приятно оттягивающий пояс, оказался ключом в Тулузский суд, позволив Пьеру Ферма вновь оказаться в желанном городе, где он рассчитывал увидеть свою возлюбленную, воспетую им за долгие два года (такие дела быстро не делаются, в особенности у судейских!) во множестве сонетов и в стиле Шекспира, и в стиле Петрарки. Надо заметить, что сонеты эти уже не попали в крючковатые пальцы почтенного родителя, ибо дочь его оказалась столь же предусмотрительной, как и покорной, сумев к тому же за эти два года с чисто отцовской придирчивостью найти убедительные доводы для отказа немалому числу выгодных женихов. Франсуа де Лонг узнал о приезде нового советника парламента в Тулузу слишком поздно, чтобы добиться отмены назначения, но, кипя негодованием, постарался, чтобы первое же порученное новому советнику дело было для него непосильным и уронило бы Пьера Ферма в глазах влиятельных людей, которых не восхитить всякими там ухищрениями в области счета или сочиненными сонетами. Таким безнадежным делом оказалось злонамеренное убийство молодым графом де Лейе маркиза де Вуазье, его соперника, домогавшегося, как и он, руки завидной невесты, ветреной красавицы Генриэтты, незаконной дочери самого герцога Анжуйского, торопящегося дать приданого за ней изрядный куш, поскольку ее заметил сам его высокопреосвященство кардинал Ришелье, духовный сан которого не позволит ему возвысить до себя легкомысленную красавицу, но… Тело пронзенного шпагой мертвого маркиза де Вуазье было найдено за монастырской стеной, в обычном месте запретных дуэлей. Ни у кого, в том числе и у судейских, ведших следствие, не вызывало сомнений, что маркиз был убит графом Раулем де Лейе во время поединка, на который маркиз сам вызвал графа в присутствии капитана кавалерийского полка, расквартированного в Тулузе, господина де Мельвиля, пригласив его быть секундантом. Поединок не состоялся в день ссоры молодых людей из-за того, что граф де Лейе, ссылаясь на какие-то неотложные дела, отказался от встречи в предложенное время, не отвергая дуэли на будущее, однако капитан так и не получил сообщения, когда она состоится. Улики множились еще и потому, что в роковую ночь граф Рауль в замке отца, старого графа де Лейе, не ночевал и категорически отказался назвать, где и с кем он провел эту ночь. Словом, по настоянию сурового Прокурора Массандра молодой граф Рауль был брошен в темницу, и ему по требованию того же неумолимого Массандра грозила виселица. Пьер Ферма отлично понимал, что требование позорной казни дуэлянту, практически никогда не применяемой, обусловлено политическими соображениями, поскольку кардинал Ришелье искоренял привилегии, дарованные гугенотам королем Генрихом IV, чьим соратником в бытность короля еще вождем гугенотов был старый граф Эдмон де Лейе. Казнь сына нанесет старому графу непоправимый удар, прекратив существование его старинного рода. Старый граф де Лейе был в отчаянии, готовый на любые траты, лишь бы спасти сына, но перед ним встало поистине неодолимое препятствие — заинтересованность самого его высокопреосвященства, который, помимо политических расчетов, был не прочь разом избавиться от двух молодых соперников, претендующих на готовое раскрыться сердце желанной для кардинала Генриэтты. И это незримое влияние его высокопреосвященства было ловко использовано господином Франсуа де Лонгом, всегда готовым угодить господину кардиналу, а кстати, и подставить ножку Пьеру Ферма. И дело с обвинением графа Рауля де Лейе было передано именно ему, неопытному юристу, которого ждал несомненный провал. Пьер Ферма, ознакомившись с обстоятельствами дела и разгадав тайные силы, действующие вокруг него, прекрасно понимал всю безнадежность положения как графа Рауля де Лейе, так и его собственного. И, как это ни странно, (а может быть, и понятно!), вместо того чтобы искать покровительства влиятельных господ вплоть до обращения к самому его высокопреосвященству господину кардиналу или даже к королю и поднесения (за счет старого графа де Лейе, конечно!) богатых подарков судейским, начиная со свирепого прокурора Массандра, который мог же, в конце концов, в зависимости от предложенной суммы смягчиться, вместо того чтобы делать все это, как поступил бы любой другой юрист тех времен на его месте, Пьер Ферма, видимо, окончательно потеряв голову, не нашел ничего лучшего, как коротать время в трактирах, переходя от столика к столику, подолгу задерживаясь там, где играли в кости, однако не делая ставок сам. Впрочем, может быть, этот новый советник парламента был и не так уж глуп, зная слабости прокурора Массандра, и не случайно оказался у столика, где господин Массандр азартно играл в кости с известным уже нам капитаном де Мельвилем. Прокурор Массандр попеременно то выигрывал, то проигрывал. Играли они в шесть костей, то есть выбрасывали сразу шесть костяшек, из которых каждая могла показать на верхней своей грани от единицы до шести очков. Такая игра считалась особенно крупной, сводила на нет некачественность отдельных костяшек и отличалась обычно крупными ставками. Гороподобный Массандр, потный от волнения, выкрикивал сумму выпавших очков хриплым голосом и страшно сердился, когда его партнер вежливо поправлял его, уличая в неважном знании арифметики. Сложить шесть цифр и не ошибиться, оказывается, дело нелегкое! Прокурор Массандр в азарте, как и при требовании смертной казни осужденным, был страшен. Его спутанные длинные волосы закрывали часть лица, которое отнюдь не отличалось привлекательностью, обладая тяжелыми чертами и огромным мясистым носом. Пожалуй, он напоминал собой некоего хищного зверя, вырвавшегося из клетки и грозящего всем, кто попадется на пути. И своим свирепым видом грозил он теперь и обходительному, учтивому капитану де Мельвилю, которого с его бравой профессией мирили лишь пышные, лихо закрученные усы, никак не вязавшиеся с невинными голубыми глазами и почти отсутствующим подбородком. А угрожал прокурор капитану потому, что ему стало везти. И напрасно понадеялся бы наш молодой советник Пьер Ферма начать игру с прокурором самому, чтобы заставить его проиграться и стать сговорчивее. Напротив, яростно сопя, тот удваивал ставки, размашисто высыпал из кубка костяшки, бросался на них ястребом и выкрикивал подсчитанную сумму. Бедный, изысканный в своих манерах капитан выкладывал содержимое своего кошелька, которое пропадало в бездонном кармане прокурора. Наконец ставка пошла на сам шитый золотом кошелек. Он тоже был проигран. Капитан уже готов был капитулировать и удалиться, но прокурор удержал его, предложив отыграться, если тот поставит свое великолепное седло, которое прокурор оценил в сто пистолей. Седло было выиграно неумолимым Массандром. Несчастный капитан сидел перед ним бледный, закусив губу. Как вернется он в свои кавалерийские казармы? Алчный же прокурор приглашающе перемешивал в кубке шесть костяшек, налил в кубок вина, не вынимая из него кости, залпом выпил и предложил последнюю ставку — лошадь капитана взамен седла и его же кошелька с пистолями, которые в нем были до игры. Капитан колебался, а Массандр искушал его, тряся костяшками в кубке. Пьер Ферма бесстрастно наблюдал за игрой, забыв про записи, которые всегда вел, наблюдая играющих. И тут капитан де Мельвиль махнул рукой, предложив прокурору Массандру бросить кости на названную им ставку. У капитана дергалась щека, а вместе с нею шевелился закрученный ус. С торжествующим кряканьем прокурор склонился над столом, напоминая выползающее на сушу морское чудовище, и протянул кубок капитану: — Делайте вашу игру, господин капитан. Я предложил ставку, — эрго, бросаю последним, — по привычке юриста вставил он латинское слово. Руки капитана тряслись. Видимо, он владел шпагой лучше, чем кубком для игры в кости. Он долго тряс костяшки, воздев свои голубые глаза ввысь и неслышно что-то шепча губами, должно быть, молитвы. Потом зажмурился и бросил кости. Пьер Ферма искренне волновался за него, и у него холод пробежал по спине, когда он увидел на столе пять единиц и одну двойку на рассыпанных костяшках. Прокурор оглушительно захохотал: — Прикажите вашему слуге, милейший, принести мне уздечку от моего коня, — нагло заявил он поникшему капитану, который ощутил весь позор, какой обрушится теперь на него. Тогда капитан робко сказал: — Может быть, господин Массандр кинет и в свою очередь кости? — Что? — презрительно повернулся своим мощным телом от капитана к Пьеру Ферма Массандр. — Вам не хочется, сударь, поупражняться в арифметике? Вы достаточно бегло считаете до тридцати шести? Считайте! Помогите господину капитану! И с этими словами Массандр, не размешивая кости, опрокинул кубок и даже не посмотрел на выпавшие кости. И только по выражению лиц окружающих понял, что дело неладно, обернулся к столу и ахнул. На нем лежало шесть костяшек, с одним очком на каждой. — Такое не может быть! — воскликнул прокурор. — Я молился, я просил чуда, господин прокурор, — тихо проговорил капитан. С яростными проклятиями Массандр отдал капитану его кошелек, наполнил его бывшими в нем прежде деньгами, вернул седло, которое, после того как было выиграно, лежало рядом на полу, встал на слоноподобные ноги и, опрокидывая на пути стулья, вышел из трактира. Пьер Ферма смотрел на счастливого капитана и прикидывал в уме, сколько же раз надо бросить кости, чтобы получить такой невероятный случай, который едва ли помнит кто-либо, играя в шесть костей? Число бросаний, как ему удалось подсчитать, достигло совершенно невероятной цифры — в несколько миллиардов! Если бы игроки играли в орел или решку, бросая монету, то при достаточном количестве (в несколько сот) бросков их шансы были бы равны. При игре в одну кость с шестью гранями число бросаний, уравнивающих шансы играющих, становилось уже непомерно высоким, при двух костяшках практически шансы играющих уже не были равными — кому как повезет. При шести же костяшках все это невероятно осложнялось. Сам того не подозревая, Пьер Ферма закладывал основы новой отрасли математики, которая спустя столетия будет служить многим областям человеческого знания — теории вероятностей, без которой невозможны ни страховое дело, ни лотереи, и в особенности современная ядерная физика, имеющая дело с субсветовыми и сверхсветовыми скоростями, когда нет абсолютных значений величин, а есть только вероятные. Однако, как ни взволновала Пьера Ферма сцена с проигрышем прокурора, как ни удивительно было редчайшее совпадение, спасшее капитана, молившего о чуде, все же это отнюдь не спасало от виселицы обреченного графа Рауля де Лейе. Просто Пьер Ферма познал яростный нрав прокурора в непосредственной от него близости. Но он узнал также из трактирных разговоров и то, что молодой граф не дрался прежде на дуэли, в то время как маркиз де Вуазье зарекомендовал себя забиякой и бретером, уже не раз нарушая королевский запрет на поединки. Это убедило Пьера Ферма в невиновности молодого графа. Не мог он, неопытный в фехтовании, убить заядлого дуэлянта! Но эта уверенность никак не могла повлиять на судей, уже затягивающих веревочную петлю на горле графа Рауля. Нужны неопровержимые доказательства его невиновности. Римское право учит, что виновного надо искать среди тех, кому выгодно преступление. И в смерти маркиза де Вуазье, принимая во внимание его притязание на руку Генриэтты, был заинтересован один только граф Рауль де Лейе. Так что судьям даже выбирать из числа подозреваемых не приходилось. И все-таки… Пьер Ферма преклонялся перед гением Леонардо да Винчи, высоко ставя все его удивительные сверхчеловеческие познания, открытия, изобретения. Такой человек, который, будучи подкидышем, не имел родителей, появись он в Древнем Египте, вполне мог быть провозглашен пришельцем со звезд и тем же богом Тотом. Не перечислить его открытий, изобретений, мудрых мыслей, не говоря уже о непостижимом даровании художника! Вспомнил о нем Пьер Ферма в труднейшую минуту своей жизни совсем не зря. Он хорошо знал его высказывание о науках и математике: «Ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не прошло через математическое доказательство». Такова гениальная мудрость Леонардо! «Ни одно человеческое исследование»? Он как бы говорит о человечестве, глядя на него со стороны. Но вместе с тем какая глубина! Только математическое доказательство, то есть непреложное, неизменное, делает науку наукой! А наука о праве — это наука? С точки зрения Леонардо, в таком случае она должна пользоваться математическими доказательствами! Так можно ли математически доказать, что неумелый противник в состоянии убить шпагой опытного? Это столь же редкое явление, как и выпадение шести очков на шести костяшках вслед за выброшенными семью очками у партнера! И все-таки судей не убедит такая аналогия. Нужно неопровержимое математическое доказательство. Если у Пьера Ферма есть уверенность в невиновности графа Рауля, то кто же и как убил маркиза де Вуазье? И молодой советник парламента, используя свое право, отправился в темницу к графу Раулю. В темной камере с пучком соломы в углу, где содержали обычно уже приговоренных к смерти, бедный граф должен был ждать своего приговора. — Ваше сиятельство, — начал Пьер Ферма. — Я совсем ненамного старше вас, мы могли бы быть друзьями, я уверен в вашей невиновности, ибо вы плохо владеете шпагой. — Да, сударь, я всегда пренебрегал фехтованием, больше интересуясь сонетами. — Сонетами! Тогда нас уже многое связывает. Так помогите мне спасти вас. Мне нужно только одно: установить, где вы провели роковую для несчастного маркиза ночь? — Простите меня, сударь. Вы сказали, что могли бы дружить со мной, но навсегда отказались бы от этого, если бы я признался вам, где провел эту ночь. Никогда, слышите ли вы, никогда я не открою этой тайны, которая не принадлежит мне! — Ваше сиятельство, я не рискую повторить своей просьбы, даже напомнив, что грозит вам. — Пусть я умру, но уста мои не разомкнутся, чтобы ответить на ваш вопрос! Пьер Ферма покинул сырую темницу, унося с собой не только уверенность в невиновности Рауля, но и восхищение его готовностью принести в жертву свою жизнь, но лишь не бросить тень, очевидно, на одну из знатных дам Тулузы. Молодой граф Рауль де Лейе был строен, красив, обладал прекрасными манерами и, конечно, должен был нравиться дамам. А тогдашние нравы располагали Пьера Ферма к тем выводам, которые он сделал. Но если бы он даже узнал, у какой прекрасной дамы провел несчастный юноша туроковую ночь, то ему едва ли удалось бы уговорить ее ценой своей репутации спасти мимолетного любовника. Нет! Не таковы эти знатные дамы! Нужно искать другие пути. Прав великий Леонардо да Винчи — надо искать математическое обоснование возможного вывода! И снова новый советник парламента зачастил в трактиры. Там в духоте винного перегара и запахов кухни говорили о двух событиях: о предстоящей казни молодого графа Рауля де Лейе и удивительном проигрыше прокурора Массандра всего, что было им выиграно у капитана де Мельвиля. — Игра в шесть костей — это самая благородная игра из всех азартных игр. Пусть кто-нибудь возразит мне, и я размозжу ему голову! — уверял беглый монах богатырского вида в грязной рваной сутане и со спутанными, как войлок, волосами. — Что ж тут благородного, отец мой, — заметил Пьер Ферма, подливая монаху вина, — если на все воля господня. Я сам был свидетелем случая, о котором говорит сейчас вся Тулуза, когда после семи выброшенных на шести костях очков следующий бросок дал только шесть. Все говорят — чудо. — Чудо? — наклонился к уху Пьера Ферма монах. — Чудо, сударь, не знаю как вас величать, чудо — в вине! А такой случай, о котором вы говорите, не такая уж диковинка, если хотите знать. — Ну, почтеннейший отец, с вами трудно согласиться. Я немало упражнялся в счете и пришел к выводу, что такое совпадение может повториться через столько бросаний, сколько песчинок на берегу моря, скажем, в Тулоне, где мне привелось бывать. — Тулон, Тулон! При чем тут море? Кабы в нем были винные волны, вот это было бы море! А ваше чудо не такое уж и редкое. — Ну что вы, отец мой! Математика не ошибается. — Плевать мне на вашу математику. Мне достаточно считать до десяти, поскольку у меня десять пальцев на обеих руках, и я все эти десять пальцев готов прозакладывать, что видел именно десять дней назад вот в этом самом трактире совершенно такое же чудо. А вы говорите — камешки на морском берегу. — И он пьяно захохотал. Пьер Ферма насторожился. О каком совпадении может говорить этот пьянчужка? И десять дней назад! Как раз тогда и случился роковой поединок маркиза де Вуазье с его противником. Сам не замечая, Пьер Ферма последнюю фразу произнес не про себя, а вслух. — Вот-вот! И я про то же говорю, почтеннейший! Про маркиза де Вуазье. Кто его здесь не знал? Не раз меня потчевал. Но в тот вечер он был трезв, трезв, как я в монастырском карцере, куда меня частенько запрятывал господии преподобный настоятель, изрядная гадина, скажу вам по секрету, сударь, хоть и в святые норовит пролезть нечестивый аббат. — Вы сказали, что маркиз де Вуазье не был пьян? Может быть, потому, что ему предстояло драться на дуэли с графом Раулем де Лейе? — Вот этого не знаю, сударь, хоть вы и поднесете мне еще стакан или два вина. Не знаю. Но видел, как он играл в кости. В шесть костяшек, понимаете? Серьезная была игра. Говорят, кому не везет в любви, а я, как монах, поверьте, не знаю, что это такое! — И он захихикал. — Когда не везет в любви, везет в азартные игры. А играли они азартно, смею вас уверить. — С кем, отец мой? — Как с кем? С мушкетером. Только мушкетер мог так играть. — Как, отец мой? — Ну играть, играть и проигрывать. Ведь при шести косточках отыграться трудненько, вы уж мне поверьте, сударь, до того, как я постригся, мне это было знакомо. — Так мушкетер проиграл? — Все проиграл: и кошелек с деньгами, и шляпу, и плащ с крестом, мушкетерский, и седло, и даже лошадь… — Если это мушкетер, то ведь ему предстояло ехать на ней? — Конечно, в том-то и дело. Маркиз — человек благородный, он предложил ему отыграться, поставив свою шпагу, мушкетерскую шпагу. — И тот пошел на это? — Конечно, а что ему оставалось делать? Вот тогда и произошел тот невероятный случай, о котором все сейчас болтают, будто он и повториться не может, а я сам видел. — Что же вы видели, отец мой? — Пять костяшек, с одним очком и одну с двумя: семь очков! Меньше, как говорится, и выбросить невозможно. — И кто же бросил шесть костей с семью очками? — Как кто? Мушкетер. И он выиграл с этими семью очками! Вот и все! Выиграл, черт бы его побрал, грешника! — И вы сами видели, отец мой, как на шести костяшках у маркиза выпало всего шесть очков? — Чего не видел, того не видел. Я решил, что тут и бросать нечего, думал, мушкетер теперь штаны снимать станет, ну и отошел от греха, как духовное лицо, к другому столу, где предлагали еще стаканчик вина. Но все видели, как они вместе вышли из трактира. Значит, все было в порядке, мушкетер, прости господи его грехи, отыгрался. — Так ведь вы же, отец мой, не видели этого! — А зачем видеть такую срамоту? И так все ясно. Раз они вместе вышли, значит, выпало маркизу только шесть очков. И перед утром мушкетер, этот сын греха и блудницы, сел на лошадь и уехал в полном своем мушкетерском обмундировании. Грешникам всегда везет! Можете проверить у трактирщика, рассказал, как на исповеди. Пьер Ферма проверил. Трактирщик в переднике с повязанной красным платком головой нашел еще по крайней мере трех своих посетителей, которые подтвердили слова беглого монаха. Как математик, Пьер Ферма не мог допустить, чтобы происшедшее вчера в его присутствии невероятное совпадение могло всего за десять дней до проигрыша прокурора случиться в соседнем кабачке. Если повторное выпадение семи очков на шести костяшках можно представить себе как случай, то сочетание последовательных бросков этих шести костяшек сначала с семью, а потом с шестью очками, требующее по крайней мере десятка миллиардов бросаний, произошло дважды за десять дней, было бы просто опровержением основ математики! Нет, великий Леонардо прав! Наука о праве, чтобы стать истинной наукой, должна пользоваться и математическими доказательствами. А из этого следует, что если мушкетер, ставя шпагу, отыгрался, то, очевидно, уже не в кости, а с ее помощью! Что скажет на это господин прокурор?Леонардо да Винчи
Глава вторая ДОБЛЕСТЬ
Что человек делает, таков он и есть.Пьер Ферма хорошо изучил дорогу от старого в два обхвата корявого дуба с густой кроной, как у десятка сросшихся деревьев, до далекой калитки сада де Лонгов — более тысячи шагов по прямой через сочный луг. Пьер Ферма еще засветло несколько раз вымерил шагами это расстояние и мог бы идти теперь хоть с закрытыми глазами, и не только мог, но и решился на это, точно выйдя прямо к калитке, где в условленный час его будет ждать желанная Луиза. Не раз уже после приезда Пьера в Тулузу молодые люди встречались так, втайне от грозного Франсуа де Лонга, в густом саду, где под покровом ночной темноты произносились самые нежные и сокровенные слова о вечной любви и грядущих радостях. Но в этот раз Пьер Ферма шел знакомой дорогой, привычно не сбиваясь с прямой, глубоко задумавшись о предстоящем судебном процессе, где ему предстояло скрестить риторические шпаги с прокурором Массандром и где он мог рассчитывать лишь на помощь великого Леонардо да Винчи, подтолкнувшего его к математическим аргументам. Однако не было никакой уверенности, что мудрость великого Леонардо и найденные под его влиянием аргументы воспримутся досточтимыми судьями, когда им придется выносить решение о судьбе молодого графа Рауля де Лейе. В темноте калитку и не различить, если бы не белое платье Луизы, которая выбежала из сада навстречу Пьеру и бросилась ему на шею. — Почему мой метр такой грустный сегодня? — шепнула она. — Чтобы выиграть дело, Луиза, моя нежная Луиза, и соединить не только наши сердца, но и жизни, мне необходима лошадь. — Лошадь? — поразилась девушка. — Ты сказал, что наша жизнь зависит от какой-то лошади? — Да, милая Луиза. От верхового коня, на котором мне необходимо совершить путешествие, чтобы выяснить имя проезжего мушкетера, быть может и скорее всего убившего де Вуазье. — Но где взять лошадь? Купить? — Но у меня нет денег, ты же знаешь. Я совершенно не представляю, как в таких случаях поступить. Я в полной растерянности. — Вот еще! Какой же непрактичный мой милый метр! А я зачем? Чтобы вздыхать вместе с тобой? Ну нет! Боже мой! Да разве для нашего счастья я не сумею достать верховой лошади? Я выпрошу ее у дядюшки Жоржа. Для нас! Пьер покрыл поцелуями тонкие руки своей возлюбленной. Поистине он приобрел в ней на всю жизнь все понимающего друга! И снова добродушный дядюшка Жорж де Лонг не смог отказать любимой племяннице в такой пустяковой просьбе, как его верховая лошадь с высокой холкой и упругой рысью. И уже на следующий день Пьер Ферма довольно неумело сидел в жестком седле, страдая от тряски, когда лошадь переходила на свою упругую рысь. Перед выездом Пьер Ферма провел циркулем по карте окрестностей Тулузы дугу с радиусом, равным однодневному переходу. Отправляясь в сторону, противоположную Парижу, он намеревался отыскать трактир или постоялый двор, где мог остановиться перед Тулузой неизвестный мушкетер и где могли знать его имя. Целый день трясся Пьер Ферма в седле по дороге на юг и еще один день — по дуге круга, чтобы добраться до трактира, где увалень-трактирщик припомнил, что действительно недели две назад у него останавливался какой-то мушкетер, который пил вино с гвардейцем кардинала, а потом повздорил с ним. Имена их ему неизвестны, но он покажет крестьянина, семья которого выхаживает гвардейца. — Выхаживает? — удивился Пьер Ферма. — Разве он болен? — Не без этого, сударь. Они ведь повздорили с мушкетером, а тот был доблестный малый. Ферма отыскал указанный ему крестьянский дом и во дворе его встретил миловидную крестьянку, хозяйскую дочь, которую стал расспрашивать о больном гвардейце. — Ах, сударь, — призналась крестьянка. — Это такой милый человек, и я так стараюсь облегчить его страдания, достала лучший бальзам у заречной старухи (помогает от тяжелых ран!), делаю перевязки, изодрав на бинты лучшее наше полотно. Лишь бы он поправился. А какие у него усы!.. — При таких ловких руках и таком добром сердце, как у вас, моя дорогая, невозможно не поправиться. — Бог да воздаст вам за ваши слова, сударь. Вы непременно хотите его видеть? А не расскажете его высокопреосвященству господину кардиналу, где он находится? Пьер рассмеялся: — Я отнюдь не на короткой ноге с его высокопреосвященством, моя дорогая. Но если бы я предстал перед ним, то, клянусь, сохранил бы вашу тайну, ибо догадываюсь, что она освящена любовью, чувством мне знакомым. — Что вы, сударь! Как можно! — зарделась девушка и убежала. А Ферма вошел в дом, где хмурый хозяин, припадая на левую ногу, проводил его к постели раненого гвардейца, ворча: — Ох уж эти мне забияки, драчуны, не могут обойтись без ссор! Не все ли равно, кому служить: королю или кардиналу? На вилы их всех надо! Забыли, что французы. Гвардеец лежал под лоскутным пестрым одеялом, натянутым до самых его торчащих закрученных усов. Пьер Ферма наивно назвал себя и свое отношение к законности, спросив, не может ли он чем-нибудь помочь раненому. — Что? — зашевелил усами гвардеец. — Какому такому раненому? Это не меня ли вы так обозвали, сударь? Я всего лишь подвернул колено, спрыгнув с лошади, вот и залег тут. А если хотите знать, сударь, то задерживаюсь я здесь из-за одной очень миленькой мордашки. Наверняка она повстречалась вам во дворе. Не вздумайте воспользоваться моим увечьем, не советую, — грозно добавил он. Пьер Ферма понял свою оплошность. Конечно, гвардеец теперь ни за что не признается, что ранен в поединке с мушкетером, страшась гнева кардинала и виселицы судейских, наверняка подославших к нему этого советника парламента из самой Тулузы! Так и оставил Пьер Ферма раненного мушкетером гвардейца, уехав ни с чем и пожелав ему выздоровления на руках миловидной крестьяночки, а сам отправился по дороге на юг, откуда, видимо, приехал мушкетер. Еще один дневной переход верхом на лошади с упругой рысью помог Пьеру Ферма полностью познать все тяготы солдатской жизни, из которых самыми тяжкими, как ему казалось, были мучения от сбитых седлом частей тела, чувствительных к непереносимой тряске при езде рысью. В попадавшихся ему трактирах о мушкетере ничего не знали, но в одном из них посоветовали наведаться в расположенный поблизости замок местного дворянина, который мог принять у себя заезжего гостя. К замку Ферма подъехал в самый неподходящий час и столкнулся с похоронной процессией. За гробом шли все домочадцы и слуги умершего владельца замка. Спешившись, Пьер присоединился к процессии, стараясь выяснить, что произошло с дворянином. Провожающие в последний путь усопшего не отличались разговорчивостью и хмуро поглядывали на примкнувшего к ним чужака. Но совсем по-иному отнеслась к нему вдова покойного. Высокая, стройная, еще молодая, жгуче-черная, с горящими глазами, вся в трауре, она, гордо выпрямившись, стояла у края свежей могилы и первая бросила в нее ком земли, кем-то протянутый ей, беззвучно шепча губами или молитву или клятву. И не горе, а скорее гнев воплощала в себе ее черная напряженная фигура на фоне вечернего неба. Она заметила незнакомца, когда все возвращались в замок, и приказала седому слуге подозвать его к ней или привести. Когда Пьер предстал перед нею, то почувствовал острый сверлящий взгляд. — Сударь, я не знаю вас, но благодарна за ваше участие в нашей горестной процессии. Не угодно ли будет почтить память усопшего во время поминальной тризны? Не откажите в таком случае в любезности назвать свое имя. Пьер Ферма после встречи с раненым гвардейцем решил больше не называть себя, но сейчас не мог солгать этой гордой и гневной вдове. Он признался ей, кто он есть. Женщина оживилась, насколько это было возможно в ее состоянии: — Вот кого больше всего в жизни я хотела бы видеть сейчас! — воскликнула она. — Сам господь бог привел вас ко мне в этот горестный час. Я клялась над могилой мужа отомстить за него этому проклятому гасконцу, которого мой муж приютил у себя. — Чем я могу быть вам полезен, мадам? — Вы представитель закона, и к вам я взываю о мести. — За что и кому хотели бы вы мстить с помощью закона? — Убийце моего мужа. — Кто же этот злосчастный преступник? — Мушкетер, гасконец, дворянин. То, что он мушкетер, было видно по его плащу с крестом, гасконца выдавало его произношение и склонность к грубым шуткам, и только дворянин мог быть противником моего благородного мужа в поединке, вызванном спором. Имя же преступника пусть установит закон! — В чем же заключается спор, мадам? — Мы, женщины, никогда не поймем мужчин до конца. То, что нам представляется совсем незначительным, им кажется достаточным для того, чтобы рисковать своими жизнями. — Сколь же важна была тема спора хозяина замка с его гостем? — Ах, не спрашивайте, сударь. Мне горько повторять то, что я слышала своими ушами. — Они спорили, смею спросить, о святой вере и гугенотах? О короле и кардинале? О королеве Анне и герцоге Букингемском? Или о нескончаемой войне за правую веру,[52] или о философе Декарте и папе римском? — Ах нет, нет, сударь! Совсем иное. Они поссорились из-за того, с какого конца надо разбивать вареные яйца, которые я принесла им на завтрак! Муж разбивал их с тупого конца, а гость стал насмехаться над ним с чисто гасконской наглостью, уверяя, что истинно благородные люди разбивают яйца с острого конца и что так можно отличить выдуманное благородство рода от подлинного. — Так из-за яиц и состоялась дуэль? — Из-за чести нашего рода, сударь. Оскорбленный муж был смертельно ранен, я выхаживала его все эти дни, но господу угодно было взять его к себе. Но он требует отмщения! Могу ли я рассчитывать на вас, сударь? — Я обещаю вам лишь одно, мадам: выяснить имя этого гасконского дворянина, состоявшего в мушкетерах его величества короля. Именно ради этого я и приехал в ваш замок, не подозревая, что разыскиваемый мной мушкетер успел проявить здесь свою доблесть. — Доблесть? Доблесть, сударь, проявляют в сражении с врагом, а не в уплату за гостеприимство. Уезжая из замка еще до начала поминальной трапезы, Пьер Ферма, не только юрист, но и поэт, уносил в душе гневный образ жаждущей мщения вдовы, демонически прекрасной в своей ненависти, рожденной любовью. Возвращение в Тулузу было печальным для Ферма. Он почти ничего не узнал, потратил драгоценное время и чувствовал себя совершенно разбитым и больным от непривычной верховой езды. До дня суда остались считанные дни, а он не мог и думать о том, чтобы сесть в седло и начать поиски следов мушкетера по дороге в Париж. И тогда он вспомнил о сотоварище Декарта по коллежу, ныне аббате Мерсенне, живущем в Париже, с которым он вел научную переписку, сообщая через него всем интересующимся математикой ученым о своих изысканиях и открытиях. И Пьер Ферма сел за письмо. Но всякий человек всего лишь человек со всеми присущими ему слабостями. Пьер Ферма не был бы самим собой, если б увлечение математикой не захватывало его всего целиком. И письмо, обращенное через аббата Мерсенна к другим ученым, было прежде всего научным с неизвестными до того выводами, не содержа, кстати говоря, по обычаю Пьера Ферма, найденных им доказательств, которые он предлагал своим современникам найти самим. Неизвестно, чего здесь было больше: гордости, ставящей его выше всех, кто не сумеет пройти его путем, лености, не позволяющей ему затрудниться обоснованием своих гениальных догадок, или «научного озорства», если эти два слова можно поставить рядом. Но в этой манере общения ученого его времени сказывался своеобразный характер Пьера Ферма. Так письмо о математическом определении вероятности событий, которое спустя столетия выльется в современную теорию вероятностей, было закончено, многократно переписано, чтобы достичь стилистической завершенности и такой увлекающей научной загадочности, которая побудила бы мыслящих читателей искать в открытом Ферма направлении. И только в самом конце, в постскриптуме, Пьер Ферма просил своего научного посредника Мерсенна узнать у капитана королевских мушкетеров господина де Тревиля, каково имя мушкетера-гасконца, проезжавшего через Тулузу по пути в Париж две с лишним недели тому назад. Письмо отнес на почтовую станцию трактирщик, поскольку Пьер Ферма после своего непривычного путешествия верхом отлеживался в каморке, снимаемой в трактире «Веселый висельник», где недавно проигрался прокурор Массандр. Пьер Ферма с горя занимался математикой, написал стихи о гневной вдове, но страдал не только от боли, но и тоскуя по Луизе. Что же касается болевых своих ощущений, то он вполне мог считать себя раненным в самые неподобающие места доблестным гасконцем, которому даже не понадобилось для этого вызывать его на поединок. Несмотря на боль, Пьер вскакивал всякий раз, когда ему казалось, что кто-то подходит к его двери, быть может, неся долгожданное письмо. Но письма все не было. И тут Ферма понял, что опять совершил непростительную ошибку, соединив в одном письме и свое новое математическое открытие, и столь важную и так незаметно высказанную просьбу к аббату Мерсенну. Конечно, аббат Мерсенн прежде всего как ученый обратит внимание на математическую часть письма, начнет копировать ее для рассылки другим ученым, в чем неоценима его заслуга добровольного посредника в научной переписке, а что касается просьбы (для Ферма главной в этом письме!), то он вполне мог придать ей такое же второстепенное значение, как и небрежно отведенное ей место в коротенькой приписке. Пьер был в отчаянии, кляня себя за непредусмотрительность. И когда в очередной раз он кинулся к двери, то, открыв ее, увидел за порогом пышно одетого вельможу, появление которого в таком второразрядном трактире, как «Веселый висельник», казалось просто непостижимым. Вельможа раскланялся в старомодном поклоне. У него было сухое, чем-то знакомое Пьеру лицо с благородными чертами, вышедший из моды парик, в руке он держал, как посох, дорогую трость с головкой из слоновой кости с золотой инкрустацией, такой же, как на шитом золотом камзоле. Церемонно закончив приветствие, он произнес, гордо вскинув голову: — Убитый горем граф Эдмон де Лейе перед вами, почтенный метр! Позвольте называть вас так, поскольку ваше положение советника Тулузского парламента дает вам на это право. — Прошу вас, ваше сиятельство, но мне даже неловко принять такого высокого гостя в столь убогом месте. — Пусть оно будет последним таким убежищем в вашей предстоящей жизни, молодой метр, жизни, полной удач и благоденствия. Я могу пока судить о вас лишь по вашей внешности, а она внушает мне надежду на спасение моего несчастного сына, дело с обвинением которого поручено вам парламентом. — У нас общая надежда, ваше сиятельство, ибо, изучив дело, я пришел к заключению о безусловной невиновности вашего сына. — Да благословит вас господь за эти ободряющие меня слова, но сумеете ли вы убедить в этом досточтимых судей? — Я стремлюсь использовать для этого все доступные мне средства, включая даже такую непреложную науку, как математика. — Непреложную, неподкупную, — вздохнул старый граф. — Если бы жив был прежний король, который знал и ценил меня, то, уверяю вас, не пришлось бы говорить или думать о неподкупности. Для меня, поверьте, жизнь моего сына ценнее всех сокровищ мира, и я готов сделать вас своим наследником наравне с ним, если вы спасете его от позорной для всего нашего старинного рода гибели. — Я не посмею считаться вашим наследником, ваше сиятельство, хотя счел бы это для себя высшей честью. Прошу правильно понять меня: я посвящаю себя борьбе за справедливость и не усматриваю в своем простом происхождении препятствий к этому. — Вы благородный молодой человек, пусть и не по рождению! Я хотел бы, чтобы у моего сына были подобные друзья. — Я виделся с вашим сыном, ваше сиятельство, и сам предложил ему свою дружбу. — Значит, вы верите, что он может ею воспользоваться? — Я хочу в это верить. А высшей формой веры я считаю убеждение. А я убежден в оправдании графа Рауля де Лейе! — Я благодарен вам, молодой метр, внушающий мне надежду и почтение! Извините старика, но я постараюсь, чтобы вы, спасши моего сына, ощутили бы мою благодарность не только на словах. И с этим старый вельможа покинул комнатушку Пьера Ферма в трактире «Веселый висельник», около которого на улице, сверкая лаком, ждала карета с графским гербом, запряженная четверкой белоснежных лошадей с дугой согнутыми шеями. Ферма из своего покосившегося окошка с туго открывающейся рамой наблюдал, как, окруженная толпой зевак, карета отъехала от трактира, и, глядя вслед ей, горестно вздохнул. Письма от аббата Мерсенна все не было, день суда приближался, и, внушив малообоснованную надежду старому графу, Пьер Ферма должен был отправиться в парламент, по существу, почти безоружным. Но не таков был Пьер Ферма, чтобы пасть духом, он готов был сражаться и одними лишь математическими аргументами, но если письмо подоспеет, его силы умножатся. Об этом он и написал в записке Луизе, не в состоянии дольше откладывать свидания с ней. Он достал из заветного ящика позади кровати почтового голубя, врученного ему Луизой, и, привязав записку к его лапке, выпустил его в открытое окно. Посланец, как всегда, даст Луизе знать о назначенном на сегодня ночном свидании. Морщась от боли на каждом шагу, добрался Пьер до заветного дуба, а с наступлением темноты и до заветной калитки. Сознание, что письма Мерсенна все нет, терзало его, но, когда Луиза дуновением теплого ветра выпорхнула из калитки и бросилась ему на шею, он словно обрел новые силы. Но Луиза из записки, принесенной голубем, знала, что его волнует и угнетает. — Не сокрушайся, мой милый, — прошептала она, припадая к его груди. — Когда ты рядом, милая Луиза, я чувствую себя рыцарем на ристалище. — Пусть всегда в трудную минуту твоей жизни я стану являться, чтобы стать с тобою рядом, взяв тебя за руку. — Да, но суд завтра, уже завтра… — ответил Пьер. — Ну и что же? Почтовая карета из Парижа тоже прибудет завтра. — Но кто доставит мне письмо, если оно придет, а я буду в суде? — Ты думаешь, мой милый метр, что существует одна только голубиная почта, служившая нам? — не без лукавства спросила Луиза. Пьер привлек ее к себе. Все казалось теперь не таким уж мрачным, как час назад, он обрел новые силы, уверенность, а главное — жажду счастья. И не только себе, но и молодому, и старому графу де Лейе, гневной вдове, всем людям!Гегель
Глава третья КАЗУС ИРРАДИЦИБУЛЮС[53]
Можно сломать шпагу, но нельзя истребить идею.В зале суда в этот летний день было жарко, душно, но торжественно, хотя в отличие от помпезных процессов будущих столетий судейская процедура обходилась и без присяжных заседателей, и без зрителей, и даже без скамей для них. Зато судьи в длинных черных мантиях и судейских шапочках, в седых завитых париках, с тяжелыми золотыми цепями на груди, восседая со строгими лицами в жестких креслах с высокими спинками, являли собой всю полноту королевской власти Людовика XIII, повелевающего именовать себя Справедливым. Все это не могло не внушить обвиняемому молодому графу Раулю де Лейе трепетного чувства, которое еще более усиливалось видом свирепого прокурора Массандра, чья огромная туша, тоже облаченная в мрачную мантию, схожую с покрытием стога сена в дождливую пору на крестьянском дворе, угрожающе возвышалась над кафедрой, потрясая завитым париком, прикрывающим спутанные неистовые прокурорские волосы. Советник парламента Пьер Ферма в новенькой, впервые надетой и стесняющей его движения мантии сидел не напротив (что впоследствии станет принятым), а рядом с прокурором, как недавно за трактирным столом во время игры в кости, когда Массандр оглашал заведение победным рычанием. С подобным же ревом или рыком обрушился сейчас прокурор и на обвиняемого графа Рауля де Лейе, уличая его в том, что он принял вызов маркиза де Вуазье на запрещенный королевским указом поединок, что он неизвестно где провел ночь убийства отважного маркиза, преступно пронзенного шпагой, очевидно, во время состоявшейся между ним и графом Раулем де Лейе незаконной дуэли, и что смерть аристократа — гордости Тулузы — выгодна одному лишь графу Раулю де Лейе, добивающемуся, как и покойный маркиз, руки очаровательной и богатой невесты. И поскольку преступление всем этим безусловно доказывается, дуэлянта, как злонамеренного убийцу, следует повесить. Граф Рауль де Лейе бледный, как после опасной потери крови, выслушал прочтенное прокурором с яростными выкриками обвинительное заключение, стоя с поникшей головой. Его шелковистые длинные волосы ниспадали на точеное лицо с почти девичьими чертами, так высоко оцененными одной из местных знатных дам. Судебная процедура тех времен не отличалась традициями правопорядка. Дискуссия между прокурором и советником парламента могла переходить в шумный спор на богословскую или иную тему, отличаясь не только различием мнений, но и резкостью выражений. Спокойный голос нового советника парламента не обещал подобной ситуации, но заданный им метру Массандру вопрос озадачил и прокурора и судей. Но поскольку он касался интересных подробностей столь занимательного предмета, как азартная игра в кости, а также неясных слухов о невиданном проигрыше метра Массандра, судьи с любопытством отнеслись к вопросу Пьера Ферма: — Не помнит ли почтенный метр Массандр, сколько очков выбросил капитан де Мельвиль, выступающий свидетелем обвинения по рассматриваемому делу, во время последней ставки, играя с вами в кости в трактире «Веселый висельник»? Массандр возмущенно напыжился, ибо одного воспоминания о досадном проигрыше было достаточно, чтобы вызвать у него приступ печени, а тут еще этот начинающий судебный щенок пытается представить его, прокурора, в невыгодном свете перед досточтимыми судьями! Он пыхтел, надувался, как бычий пузырь, и молчал. Между тем на неумолимо строгих лицах досточтимых судей проявился проблеск интереса, вызванного у всех троих разными причинами. Дряхлый председатель суда (главный уголовный судья) в седом парике, скрывающем лысину, с птичьим носом, бесконечно усталый от судебных передряг и прожитых лет, оживился, приподнимая набухшие веки, что делал лишь при мысли о денежных кушах. Если он не принял крупного подарка старого графа де Лейе, то лишь из опасения, что оправдание молодого графа будет неугодно его высокопреосвященству господину кардиналу, но упоминание о неприятной потере, постигшей метра Массандра, доставило судье истинное удовольствие. Второй судья, с костяным лицом, обтянутым кожей, и с впалыми щеками, был страстным любителем игры в кости, и от предвкушения увлекательных подробностей азартного сражения у него под клочками бровей загорелись маленькие глазки. Третий же из досточтимых судей, розовощекий и упитанный, славился как большой охотник до всяческих слухов и сплетен, и возможность позлословить после суда об этом зазнавшемся толстяке, непочтительно шумном да еще и коротающем время в трактире «Веселый висельник», заставило розовощекого судью обрадованно насторожиться. Словом, досточтимые судьи с немалым интересом готовы были выслушать подробности события, казалось бы, не имеющего отношения к скучному и предопределенному судебному разбирательству такой обычной истории, как запрещенная дуэль. — Суд интересует подробность, связанная со свидетелем обвинения, — прошамкал нашедший благовидный повод председатель суда и клюнул носом. Массандру пришлось отвечать: — Капитан де Мельвиль, играя со мной в шесть костяшек, последним своим броском выбросил семь очков. — И вы проиграли, метр? — ужаснулся судья — любитель игры в кости. — С семью очками у партнера? Этого не может быть! — Проиграл, ваша честь, — мрачно признался Массандр. — Видно, недремлющий враг человеческий подтолкнул меня под локоть, когда я опрокидывал кубок с костями, выбросив шесть очков. — Поистине не без того, — покачал головой азартный судья, облизывая пересохшие губы и представляя себя на месте играющих. — Как вы полагаете, почтенный метр, через сколько времени мог бы повториться этот приключившийся с вами прискорбный случай? — невинно спросил Ферма. — Это не товары и не выручку купцам считать, но представить себе такой счет можно: если играть без сна, обеда, завтрака и ужина и во всех городах Франции, во всех ее трактирах, то лет так через сто, а то и через двести, может быть, и повторился бы такой невероятный случай. — Совершенно с вами согласен, уважаемый метр, готов распространить игру хоть на все страны мира и даже удвоить названный вами срок. Но не кажется ли почтенному метру, что его сиятельство граф Рауль де Лейе, плохо владеющий шпагой, ни разу не вызванный на дуэль, не мог убить в поединке опытного дуэлянта маркиза де Вуазье? — по-прежнему ровным голосом спросил Пьер Ферма и добавил: — И что подобный случай мог быть столь же редким, как и причинившее вам неприятность сочетание костяшек. Массандр почувствовал подвох и повысил голос: — Какие у вас к тому доказательства, сударь? — Прежде всего ваши собственные математические выводы, в известной мере интуитивные, но верные, уважаемый метр! Вы с глубоким проникновением в суть вещей блистательно определили период возможного повторения необычайного сочетания выпадающих на костяшках очков. Массандр побагровел и обратился к судьям: — Тогда, досточтимые судьи, пусть советник парламента разъяснит суду, что общего между случайно удачным ударом шпаги и неудачным броском костяшек? — Там и тут действует математическая вероятность, что, несомненно, поняли и без меня досточтимые судьи, — почтительно ответил Пьер Ферма. — А почему бы вам не вспомнить, скажем, случайное падение с лошади с увечьем упавшего? — Но за это не судят посторонних людей, не требуют им смертной казни, как делаете это вы, уважаемый метр, в рассматриваемом деле. — Не хотите ли вы сказать, что ваша арифметика может опровергнуть юридические факты? — Я лишь хочу сказать, что математика способна оказать следствию неоценимую услугу. — Досточтимые судьи! — взмахивая мантией, как черным крылом, воскликнул Массандр. — Взываю к вашей мудрости и верноподданническим чувствам к королю и его высокопреосвященству господину кардиналу! Здесь, в этом священном зале Справедливости, нас хотят убедить в том, будто ловкость счета, полезная лишь в торговом деле, может рассматриваться как юридическое доказательство! Справедливость, которую воплощает собой король, а здесь его слуги, досточтимые судьи, — это высшее проявление разума человеческого, она подобна вере, истинной и нерушимой. — Веровать можно в господа бога, а верить должно фактам и доказательствам, почтенный метр, — парировал ответ прокурора Пьер Ферма. Поскольку спор перешел на теологическую тему, то по традиции судьи не решались его приостановить. Массандр яростно ухватился за последние слова Пьера Ферма. — Да позволено будет мне вспомнить в таком случае об утверждении некоего Картезиуса, который убеждал в своих сочинениях, будто все вокруг познается лишь опытом и исследованием, и, пренебрегая истинной слепой верой, то есть верованием в господа бога, пытался доказывать арифметически его существование. В тщетных попытках начинающего советника парламента я усматриваю такое же пренебрежение устоями святой церкви, как в учении Картезиуса, и призываю досточтимых судей напомнить советнику парламента, что в зале суда нет приверженцев равно отвергнутого и святой католической церковью, и даже заблудшими гугенотами нечестивого Картезиуса. Пьер Ферма внутренне поежился. Картезиус, опять Рене Декарт! Как неожиданно появилась теперь его тень перед ним! Массандр использует все приемы красноречия, чтобы отвратить судей от аргументов в пользу обвиняемого. Но Пьер Ферма недаром владел математикой и тем, что мы называем в наше время математической логикой, он предвидел такой возможный поворот в судебной дискуссии. Судьям трудно провести аналогию между случаем при игре в кости и происшествием на дуэли, хотя и одинаково невероятных, но возможных. И поэтому он заготовил неожиданный для прокурора и досточтимых судей удар: — Я ценю завидную начитанность уважаемого метра Массандра в латинских сочинениях Картезиуса, мне знакомых… — Которые запрещены специальной буллой святого папы римского как богопротивные, — прервал Пьера Ферма Массандр. — Я отнюдь не склоняю досточтимых судей к заблуждениям Картезиуса, но я уверен, что они, истые ревнители святой католической веры, не уподобятся языческой богине правосудия с завязанными глазами, и, хотя почтенный метр Массандр готов уравнять слепую веру со слепым правосудием, я, католик и француз, истово верую в бога, но так же истово верю и в Справедливость как в категорию, опирающуюся на знание, на науку, которой может и должна служить математика. Из сообщения досточтимым судьям уважаемого метра Массандра следует, что прискорбный его проигрыш в трактире «Веселый висельник» — явление чрезвычайно редкое, в чем, как мне представляется, сходимся даже мы с почтенным метром. И я позволю задать господину прокурору очень важный вопрос. Председатель суда кивнул головой, вернее, клюнул носом и приоткрыл глаза. — Можете ли вы допустить, метр Массандр, что несчастный случай с костяшками во время вашей игры с капитаном Мельвилем произошел до этого всего за десять дней, а не за двести лет, как вы предположили, притом в том же городе Тулузе и даже в соседнем трактире, носящем название «Счастливый гуляка»? — Нет! Решительно нет! Игра в кости такого не допускает, что касается чудес, то господь бог творит их вовсе не во время греховных игр. — Значит, метр Массандр причисляет себя к грешникам? — В этом я исповедуюсь настоятелю церкви святого Доминика, а не в зале суда, где произношу обвинительное заключение по бесспорному делу о преднамеренном убийстве, которое должно караться виселицей, — яростно зашипел метр Массандр. — В таком случае я обращаюсь с просьбой к досточтимым судьям выслушать приглашенных мной свидетелей, ожидающих у дверей парламента. — Каких еще свидетелей? Свидетелей убийства маркиза де Вуазье? — ощерился Массандр. — Нет, почтенный метр, свидетелей игры маркиза де Вуазье в кости. — Протестую, — зарычал Массандр. — Дело ясное и без азартных увлечений покойного маркиза. Но поскольку опять всплыли кости и, видимо, еще один любопытный случай в этой игре переменного счастья, судьи снова насторожились и, уйдя тем самым от неясного им богословского спора о каком-то еретическом философе Картезиусе, чьи трактаты никто из них не читал (где еще и о папской булле!), не прочь были выслушать свидетелей, которые, очевидно, не будут затрагивать этих премудрых вопросов. — Суд интересуют все обстоятельства, что предшествовали кончине покойного маркиза де Вуазье, — решил председатель суда. И досточтимые судьи получили полную возможность смаковать подробности игры в шесть костей маркиза де Вуазье с проезжим мушкетером, о чем им под присягой поведали и облачившийся в чужую, готовую лопнуть на нем сутану, воздевающий к небу опухшие глаза грузный монах, и подобострастный трактирщик, и три его ничем не примечательных завсегдатая, горожане. Точными вопросами к ним Пьер Ферма воссоздал картину необыкновенной ситуации, когда, пытаясь отыграться и поставив на свою шпагу, мушкетер выбросил, как и десять дней спустя прокурор Массандр, всего семь очков, после чего партнеры вышли вместе из трактира, а на рассвете мушкетер уехал на проигранной им до того лошади в возвращенном ему седле и в полном вернувшемся к нему мушкетерском обмундировании. — Если уважаемый метр продолжает утверждать, что повторное сочетание семи очков с последующими шестью очками при игре в шесть костей не могло в столь короткий срок, как десять дней, повториться (а что оно недавно произошло, подтвердил здесь сам прокурор), то не допустит ли он, что для выигрыша мушкетеру не требовались кости? — Это как же? Игра в кости без костей? — прервал Пьера Ферма сухощавый судья. — Монах целовал крест, что мушкетер прозакладывал свою шпагу и выбросил всего семь очков. Как же он выиграл? — Вы совершенно правы, ваша честь. Никто не видел, сколько очков выбросил маркиз. Но, очевидно, не шесть, как справедливо считает почтенный метр прокурор, ибо не может повториться столь небывалое сочетание дважды подряд, чему свидетельством сама бесстрастная математика. Следовательно, азартная игра если продолжалась, то уже по-другому. Проигравшийся мушкетер мог оскорбить высокородного маркиза, который при свойственном ему благородстве и готовности защитить свою честь принял вызов или вызвал на поединок мушкетера сам и погиб, пронзенный мушкетерской шпагой, после чего победитель счел себя законным наследником всего им перед тем проигранного и, как уже установлено, уехал восвояси.[54] — Это вольное допущение, господа досточтимые судьи! Его можно рассматривать лишь при возбуждении судебного преследования против неизвестного мушкетера, что возможно после установления его имени! — громогласно заявил прокурор и победно опустился на стул, взмахнув перед тем мантией, как черным крылом. Вот этого поворота в судебном разбирательстве больше всего боялся Пьер Ферма. Он знал, что в парламенте не принято откладывать решение по начатому делу из-за невозможности возбудить другое дело, тем более что в данном случае его нельзя возбудить, так как долгожданное письмо от аббата Мерсенна все еще не пришло. Холодок пробежал по спине Пьера Ферма. Он мысленно увидел, как ведут на эшафот молодого графа Рауля де Лейе, как надевают на тонкую его шею смазанную ворванью вонючую веревочную петлю, как палач в маске готов выбить из-под него скамью, а он, Пьер Ферма, безусловно уверенный в его невиновности и наверняка знающий, кто убил на поединке маркиза де Вуазье, бессилен предотвратить гибель молодого человека, будучи тем самым виновен в его неотвратимой смерти. — Суд может прекратить дело против одного обвиняемого, если будет назван по имени другой, — произнес как приговор молодому графу председатель суда, который подумал о том, что предстоящим решением угодит его высокопреосвященству господину кардиналу. А Пьер Ферма клял себя, виновника собственного провала и горькой участи графа Рауля де Лейе; ведь разработанные Пьером Ферма зачатки теории вероятностей, к которой обратился он ради спасения графа Рауля, из-за вызванного к этим находкам интереса ученых могли теперь оказаться причиной гибели молодого человека, если аббат Мерсенн, увлеченный математикой, промедлит и не найдет следов мушкетера! Пьер Ферма понял, что проиграл, поднял глаза на обвиняемого и встретился с умоляющим взглядом графа Рауля. Снаружи от дверей парламента донесся шум. Председатель суда недовольно приоткрыл веки и увидел вошедшего стражника. — Ваша честь, — начал тот. — Девица де Лонг настоятельно требует, чтобы ее допустили предстать перед вами. Граф Рауль вздрогнул. Пьер Ферма одобрительно кивнул ему. — Протестую! — воскликнул прокурор, размахивая полами мантии. — Женщинам не место в зале Справедливости. Сам господь бог лишил их этого чувства. — Ограничимся обвинением обвиняемого, а не всего прекрасного пола, метр, — внушительно заметил председатель. — Девица де Лонг настаивает на своем показании? Не дочь ли это нашего Франсуа де Лонга? Может быть, ее почтенный отец хочет внести через нее ясность в рассматриваемое нами дело? Лишь ради него, не раз служившего Правосудию, разрешаю допустить девицу де Лонг в зал парламента. Пьер Ферма весь напрягся, чтобы ничего не выразить на лице. Вошла Луиза,и ему показалось, будто открылись сразу все окна, солнечный свет хлынул через них вместе с запахом цветущих деревьев. Трудно было сохранить каменное лицо. Луиза присела в глубоком реверансе и, потупив глаза, сделала несколько шагов по направлению к досточтимым судьям. — Подойдите, дитя мое. — Председатель перестал шамкать. — Вы явились сюда по поручению вашего почтенного отца, чтобы сделать какое-то сообщение по рассматриваемому делу? — Нет, ваша честь, мой отец не знает, что я пошла сюда с письмом, которое может иметь важное значение для суда. — Без разрешения отца? — воскликнул розовощекий судья. — Тогда по чьему же разрешению, дозвольте узнать, так поступает мадемуазель? Не связана ли она чем-нибудь с графом Раулем де Лейе? Не обманута ли она им? — Я не имею чести знать его, ваша честь. — Сомнительно, — покачал головой розовощекий судья. — Если вы не можете назвать, чье поручение выполняете, то мне придется удалить вас из парламента, дитя мое, — заявил сразу охладевшим голосом председатель. — Ваша честь, — обратился к нему сухощавый судья, — может быть, мадемуазель объяснит цель своего прихода? — Он ждал осложнений, которые обожал. — Я принесла вам письмо, ваша честь. — Письмо? Откуда? — допрашивал председатель. — Из Парижа, ваша честь. — Оно адресовано нам, членам парламента? — Нет, ваша честь. — Кому же? — Советнику парламента господину Пьеру Ферма. — Ах Пьеру Ферма! Я так и думал! — воскликнул розовощекий судья, с хитрецой посматривая на молодого советника, который сидел, опустив глаза. — И вы не могли, дитя мое, подождать, пока советник парламента метр Ферма вернется домой, чтобы с глазу на глаз передать ему «секретное» письмо? — ворчливо произнес председатель. — Я никогда не бывала у него дома, ваша честь. А письмо совсем не секретное, и я ждала его на почтовой станции, пока не прибыла карета из Парижа. И поспешила доставить письмо сюда. — Для чего? — спросили разом все трое судей. — Чтобы вы прочли его, ваша честь, и вы, и вы, ваша честь. — Но ведь оно адресовано не нам, пусть советник и читает его, — начал сердиться председатель суда. — Ваша честь, — поднялся со своего места Пьер Ферма, — если мне дозволено будет выразить свою просьбу, то в интересах рассматриваемого дела и Правосудия я прошу вас предложить уважаемому господину прокурору вслух прочитать адресованное мне письмо. Досточтимые судьи были слишком заинтригованы, чтобы отказать советнику парламента.В. Гюго
Глава четвертая СЛЕДЫ
Никогда не знает меры счастье!Прокурор Массандр гневно откашлялся, взломал печать, с хрустом вскрыл письмо и стал читать низким недовольным голосом, часто запинаясь, создавая впечатление, что он или плохо разбирает почерк, хотя каллиграфическим строчкам могли бы позавидовать судейские писцы, или вообще с трудом читает по писаному. — «Многочтимый и дорогой друг! Ваше последнее письмо доставило мне огромное удовольствие, более того, наслаждение от сознания вашей плодотворной деятельности в различных областях математики, где вы продолжаете неустанно делать все новые открытия». Какое это имеет отношение к парламенту? — проворчал Массандр. — Прошу вас, метр, — клюнул носом председатель. — «Вероятность события, которая до сих пор считалась неисповедимым деянием господним, определяемая вами математическим путем, отвергает отныне суеверия, связанные с гаданием и прочими проявлениями невежества». — Массандр оборвал себя и зарычал: — Не я ли говорил, досточтимые судьи, что метр Ферма покушается на основы веры, пытаясь арифметикой измерять веления всемогущего господа нашего. — Аминь, — сказал председатель, — продолжайте, метр. — Подчиняюсь, ваша честь, но кровь католика клокочет во мне. «Я усердно переписал ваше письмо, как и прежде, сожалея, что вы ограничились выводами из своих наблюдений, не приводя столь любопытных доказательств, предлагая найти их самостоятельно вашим читателям, кои интересуются математикой. Не отрицая заманчивости такого предложения, я все же осмеливаюсь еще раз посоветовать не затаивать вами найденного, а по-братски делиться со всеми, кто, как и вы, любит науку и служит ей. И еще прошу вас, друг мой, найти время, чтобы собрать все уже вами написанное в письмах и представить в виде рукописи, включающей доказательства, могущей стать первой книгой вашего собрания сочинений, изданию которой я мог бы содействовать, считая вас продолжателем дела таких великих умов, как Диофант». Пьер слушал, не поднимая глаз. Когда же почтенный аббат дойдет до выполнения его просьбы, или он вообще игнорировал (или не заметил) ее? — «Что же касается вашего постскриптума, дорогой друг, то я должен извиниться перед вами…» «Ну вот! Все кончено! Аббат Мерсенн не побывал у де Тревиля, сочтя неудобным такое посещение для духовного лица!» — «…извиниться за то, что, увлеченный вашей математической находкой, я попросту не сразу заметил приписку». «Так и есть! Этот Мерсенн, говорят, еще в коллеже отличался тем, что читал в книге только начало страниц!» — «И лишь при снятии пятой копии с вашего письма я понял, что оно содержит не только математические мысли. Я думаю, большой беды не произойдет от того, что я отложил посещение Лувра до отправки всех копий вашего письма моим научным корреспондентам, которые, не сомневаюсь, отнесутся к вашим мыслям с заинтересованным вниманием». «Ну же, ну! — мысленно торопил Ферма почтенного ученого посредника в переписке собратьев. — Что ты еще медлишь, монах?!» — «Господин де Тревиль не сразу принял меня, занятый военными и мирскими делами своих головорезов, во что мне, скромному монаху, не надлежит вникать. Приняв же меня в промежутке между разносом провинившегося в чем-то воина и возлиянием вина, он очень удивился моей странной просьбе, лишь повторяющей вашу, изложенную в постскриптуме письма. Сам он, как известно, гасконец и состоял еще при прежнем короле, тоже гасконце, поэтому мое упоминание о вызывающем интерес путешествии гасконского дворянина, его мушкетера, не пробудило в нем готовности тотчас удовлетворить мое праздное, как ему казалось, любопытство, и только мой духовный сан смягчил разгоревшийся было в нем воинский гнев, ибо господин де Тревиль славится тем, что горой стоит за своих мушкетеров, что бы те ни натворили. Я ничего не мог сказать о проступке путешествующего гасконца и не солгал перед господом богом, заверив капитана, что не ведаю ни о каких проступках его подчиненного. Только после этого он вызвал к себе одного из своих лейтенантов и поручил ему узнать о гасконце, побывавшем в Тулузе, а через некоторое время, пригласив меня из соседней комнаты, где состязались в шумных криках необузданные и грубые мушкетеры, сообщил мне, что в указанное в вашем постскриптуме время, дорогой мой Пьер, через Тулузу, очевидно, проезжал господин…» Массандр запнулся и закашлялся. Отложив в сторону письмо, он обратился к судьям: — Приступ горловой болезни, досточтимые судьи, мешает мне дочитать этот странный документ, имеющий отношение более к знатокам арифметики, чем права. Я прошу о снисхождении и ознакомиться с заключительной частью письма самолично, без моего чтения вслух. И с этими словами, отнюдь не свидетельствующими о некой горловой болезни, прокурор передал письмо председателю суда. Тот, напялив на свой птичий нос очки, посмотрел на развернутый лист, клюнул носом, отчего очки слетели, поймал их с неожиданной сноровкой и передал письмо по очереди сначала розовощекому, потом азартному судье. Выражение лиц у прокурора и досточтимых судей было таким, словно прямо перед ними в зале суда дали залп из всех крепостных пушек Ла-Рошели. Пьер восторженно смотрел на смущенную, не знающую, что ей делать, Луизу, потом подбадривающе кивнул графу Раулю, сидящему, опустив руки, между двумя стражниками и вопрошающе смотрящему на Пьера Ферма. Писцы усердно скрипели гусиными перьями. Наконец председатель суда пришел в себя и прошамкал: — Суд удаляется для размышлений. А вы свободны, дитя мое. — Последнее относилось к Луизе, но граф Рауль непроизвольно вздрогнул. Прокурор Массандр не смотрел на сидящего с ним рядом Пьера, был раздражен и растерян. Пьер провожал глазами уходящую Луизу, дав ей тайный знак о том, что придет сегодня к заветной калитке. Этим знаком они обменивались при расставании, когда он уходил, а она смотрела ему вслед. Он складывал указательные пальцы крестом на уровне рта. Луиза понимала, что это означает. Поняла Пьера она и сейчас, хотя никто в зале не мог бы этого уловить, ибо уходила кроткая девушка, низко опустив глаза и прижимая к лицу кружевной платок. Тучный пристав суда подошел к Пьеру Ферма. — Досточтимые судьи приглашают советника парламента в камеру размышлений, — сиплым голосом проговорил он. Пьер знал, что такое приглашение бывает лишь в исключительных случаях, и хотя ожидал его, но с трудом справился с волнением. Камера раздумий с решетками на узких и высоких окнах могла бы служить камерой одиночного заключения, если бы в ней не было стола с почему-то зажженной днем свечой и трех занятых судьями стульев. Пьеру пришлось стоять. — Почтенный метр, нам кажется, что вы не читали письма? — начал председатель. — Ваша честь, я не мог этого сделать, господин прокурор вскрыл его, а потом передал вам. — Конечно, конечно, — клюнул носом председатель. — Так вы не знаете его содержания? — Могу только догадываться, ваша честь. — По некоторым причинам нам не хотелось бы вручать вам его, уважаемый метр, поскольку вы сами передали его судьям. — Конечно, ваша честь. — Ваша арифметика с игрой в кости и маловероятной удачей неопытного новичка против искусного дуэлянта убедила нас. — Я рад слышать это еще здесь до вынесения вашего справедливого приговора, ваша честь. — Приговора не будет, — отрезал председатель. — Графа де Лейе немедля освободят, и судебное разбирательство прекратится без продолжения, если… — Если, ваша честь? — Если выводы о невозможности проезжему мушкетеру отыграться в кости не подтолкнут вас к возбуждению судебного преследования против неизвестного лица. Пьер понял все! Слишком прославлено было, видимо, названное в письме Мерсенна имя мушкетера, скорее всего любимца короля и даже его высокопреосвященства господина кардинала, стремящегося переманить его в гвардейцы, ценя его заслуги (и услуги!), которых было не меньше, чем прощенных ему дуэлей. Казалось бы, все складывалось так, как того добивался Пьер Ферма. Мушкетер оказался именно тем, кого он подозревал, отводя всякие подозрения от графа Рауля де Лейе, но… и Пьер Ферма невольно зажмурился. Перед его мысленным взором встала напряженная черная фигура гневной вдовы на фоне алеющего неба. Месть! Надежда на закон и справедливость! Что должен он ответить судьям? Никогда в жизни не привелось Пьеру Ферма пережить подобную минуту, словно растянутую на часы терзаний! Сообщить суду о раскрытых им преступлениях, «доблестно» совершенных неуемным забиякой-гасконцем? Поставить перед судьями выбор: навлечь им на себя недовольство короля и кардинала преследованием их фаворита или не обратить внимания на слова молодого советника парламента, действующего без всякого ему поручения, и завершить дело с убийством маркиза де Вуазье так, как это уже намечалось до начала судебного заседания и как требовал прокурор? Недаром ни Массандр, ни судьи не назвали вслух, в присутствии все записывающих писцов имени мушкетера, а потом вызвали молодого советника парламента в камеру раздумий. Пьеру нужно было решать, что важнее: жизнь невиновного или месть виновному, осуществление которой по меньшей мере сомнительно при царствовании короля, повелевающего именовать себя Справедливым и передавшего всю власть кардиналу Ришелье? И Пьер Ферма, внутренне кляня себя, решился. В собственных глазах он как бы предал пылающую гневом в ненавистью безутешную вдову, предал ради счастья кроткой и настойчивой Луизы, жизни графа Рауля де Лейе и собственной победы. И Пьер Ферма почтительно произнес: — Возбуждение судебного преследования прерогатива прокурора, ваша честь, а не советника парламента. — Ну вот и хорошо, — прошамкал председатель, поднося письмо аббата Мерсенна к пламени свечи. — А теперь пора обедать. Мы советовали бы вам, молодой метр, отобедать вместе с метром Массандром. А за сыном старый граф уже прислал карету. Надеюсь, он достаточно вознаградит вас за старания и поможет вам расплатиться с долгами? Очевидно, старый судья прекрасно знал о долгах Пьера, а может быть, и ждал их уплаты. Когда Пьер Ферма вышел из парламента, то покрытая лаком карета с графским гербом на дверцах продолжала стоять у подъезда. Из окна ее выглядывал счастливый Рауль, а открыв дверцу и тяжело опустившись на откинутую ступеньку, на землю сошел старый вельможа, издали делая знаки Пьеру. Тот направился навстречу старому графу. — Не откажите в милости, дорогой метр, осмотреть отныне принадлежащий вам дом. Там, в сундуке, ключи от которого я вам вручаю, вы найдете достаточно средств, чтобы начать достойную вашим способностям жизнь видного метра Тулузы. Пьер должен был уступить старому графу. Вслед уезжающим в карете счастливым людям смотрели судейские, в числе которых был розовощекий судья. Поскольку он слышал, выйдя вместе с Ферма из парламента, обращение к нему старого графа, слух о баснословной награде молодому советнику, применившему так удачно математику в судебном деле, мгновенно разнесся по городу. Во всяком случае, Луизу дома ждал уже все знающий отец. В страхе стояла она перед ним, когда он потребовал, чтобы дочь спустилась к нему. Расхаживая по веранде от колонны к колонне, как и в памятный день «первого сонета», он говорил: — Я не знаю, осудила бы покойная мать твое дерзкое появление в зале парламента, но я, отец твой, служащий Справедливости, признаю твой поступок достойным, поскольку он содействовал спасению невиновного человека. Я не знаю, что заключалось в письме, но поведение молодого метра Пьера Ферма, нашего родственника по женской линии, показало, что мы имеем дело с человеком удачливым, может быть, имеющим где-то вверху солидную поддержку. Однако не следует из этого делать вывод, что он на правах родственника может снова появиться на пороге моего дома. — Что вы, папа! — опустив глаза, сказала Луиза. — Разве, так разбогатев, став сразу завидной фигурой, он посмотрит в нашу сторону? Господин Франсуа де Лонг засопел и согнулся еще больше: — Вот видишь, как я был прав, отстранив такого человека от твоей чистоты. Да ты сама не захочешь на него взглянуть, несмотря на свалившееся ему богатство. — Почему же? — робко спросила Луиза. — Ведь вы учили меня, что всегда надо взвешивать, что выгодно, а что нет. — Какую же ты выгоду видишь? — Говорят, старый граф предложил Пьеру Ферма стать его наследником, усыновить его. — Откуда ты это знаешь? Об этом не болтают. — Вы учили меня, папа, узнавать то, что надобно. — Это как же понимать? Не метишь ли ты в графини? — А почему бы и нет? — подняла Луиза невинные глаза на отца. — Разве вы были бы против? — Я? Против такого дела? Конечно, нет! И если он на правах нашего родственника по женской линии появится у нас, я встречу его даже лучше, чем когда он приезжал сюда со своим толстобрюхим отцом. — Ах, папа! Так не говорят об усопших! — Не знаю, найдется ли ему место в раю, но из вежливости и из родственных чувств я готов пожелать ему этого. — Значит, Пьер мог бы прийти к нам? — Ах, лукавая! Неужели ты все рассчитала верно еще прежде меня? — Вы меня учили этому. Пьер Ферма был ослеплен осмотром отныне его собственного дома, который был обставлен дорогой мебелью с редким вкусом. Он переходил, сопровождаемый отцом и сыном де Лейе, из комнаты в комнату, из розовой спальни в голубую гостиную, в отделанный ливанским кедром кабинет, наполненный бодрящим смолистым запахом ценной древесины, в украшенную охотничьими трофеями столовую и даже в детскую с несколькими кроватками, ждущими своих новых обитателей. Пьер Ферма не мог удержаться от счастливого смеха. Старый граф сам открыл ему отделанный медью и привинченный к полу кабинета сундук с аккуратными столбиками золотых монет. — Я не могу принять всего этого, ваше сиятельство, — вдруг заявил Пьер Ферма. — Дорогой метр! — положил ему на плечо руку старый граф. — У вас впереди долгая жизнь. Не всякий раз вам удастся так удачно завершить дело. Вы не выиграли в кости все это, а честно заработали, отстояв жизнь человека, которая мне дороже всего, что я имею. Вы отказались быть моим наследником. Допускаю, что вам не нужны графские титулы, но у вас нет оснований нанести тяжкую рану сердцу, куда вы вошли как самый дорогой для меня человек. Слова эти растрогали поэтическую натуру Пьера. Он не смог оказать стойкого сопротивления. К тому же и молодой Рауль присоединился к просьбам отца, напомнив о предложенной ему в тюрьме дружбе. — Я найду вам, Пьер, такую невесту, такую невесту, что все, что вы видите, померкнет перед нею. Я имею в виду Генриэтту, дочь герцога Анжуйского! — Позвольте, Рауль, но ведь вы сами добивались ее руки! — Я уступлю ее вам в благодарность за спасение. Но этого дара Пьеру уже было не нужно. С трудом дождались наступления ночи и Пьер и Луиза, каждый сгорая от нетерпения сообщить свою собственную радостную весть — Пьер о свалившемся на него если не богатстве, то обеспеченности на первое время и о прекрасном доме, Луиза о готовности отца возобновить отношения с Пьером с довольно явными намерениями, которые Луиза сумеет ему подсказать. Пьеру пришлось задержаться в замке старого графа, где друзья отца и сына де Лейе праздновали возвращение Рауля. Поднимали бокалы и за Пьера, которого все охотно принимали в свой круг. Рауль никак не хотел отпускать Пьера, но с наступлением темноты сам отправился вместе с ним. Пьер уже готов был признаться ему, куда он спешит, но Рауль сам вдруг попрощался с новым другом, уверяя, что вспомнил о своем верховом коне, которого забыл посетить сегодня, и должен тотчас вернуться. Пьер внутренне улыбнулся. Ему-то было ясно, куда спешит «воскресший» для жизни Рауль, так охотно уступая своему спасителю завидную невесту, замеченную самим его высокопреосвященством господином кардиналом. Дороги молодых людей разошлись, но стремления у них были одни и те же. Пьер вышел к знакомому густолистому дубу, когда уже настолько стемнело, что луга перед калиткой сада де Лонгов нельзя было различить. Но Пьер Ферма не раз ходил здесь в полной темноте. Природная способность держать выбранное направление, усиленная частыми упражнениями, несла Пьера в полной темноте как на крыльях. Снизу почему-то стал подниматься туман, так что и собственных ног не различить. Но в безошибочности выбранного направления Пьер не сомневался. Ведь он проходил здесь в сходных условиях много раз. Скоро он услышит волнующий шорох платья, потом любимый голос. Эти мысли делали шаг Пьера более упругим, размашистым. Он не шел как слепой, осторожно передвигая ноги, он двигался уверенно, печатая шаг. Но через какое-то время почувствовал, что движение его замедлилось, а привычная трава луга стала не просто мягкой, а податливой, однако разглядеть ее он не мог. Он продолжал идти, сделав уже положенные полторы тысячи шагов. А сада и калитки все не было. Что такое? Почему и куда его занесло? Руками он ощутил впереди кустарник, который уж никак не мог попасться ему на пути. Он представил себе Луизу, тщетно ждущую его, не зная, что он задержался в замке у старого графа. В какую сторону он отклонился? И почему? Ведь в графском застолье он не выпил и кубка вина! У него абсолютно ясная голова. Сейчас ему казалось самым важным выяснить причину потери им направления. Всякий другой человек на его месте, да еще и влюбленный, несущий любимой такую светлую весть, отправился бы искать калитку в стороне, но Пьер Ферма был, если хотите, человеком особенным. Он боялся сойти с места. Опустившись на колени и пощупав рукой, он убедился, что только что сошел с полосы вспаханной земли. Значит, ее перепахали, пока он тут не был со времени последнего свидания с Луизой. Следовательно, причина преломления (да, да, преломления!) его пути связана с переходом его в темноте с луга на пашню, а чтобы выяснить характер этого явления, он должен остаться на месте, хотя Луиза и ждет его. Нужно проследить свой собственный след на пашне! Если он двинется с места в поисках калитки, он потеряет этот след! Так и стоял он на краю пашни, с которой поднимался туман (дышала земля!), до самого рассвета, болезненно представляя себе, как Луиза, заливаясь слезами, уходит домой, напрасно оборачиваясь к закрытой калитке. Когда рассвело, Пьер прошел по собственному следу, оставленному на свежевспаханной земле, до противоположного края, где начинался луг. Теперь он мог установить, что по лугу он шел правильно, четко держа направление на калитку, а перейдя на пашню, встретив более сильное сопротивление почвы ходьбе, непроизвольно изменил направление, которое как бы переломилось. И тут его осенило, что всякое тело, движущееся по прямой (каким этой ночью был он сам!), при переходе из среды с одним сопротивлением в другую с иным сопротивлением под углом к ее границе, меняет свое направление, линия движения переламывается. И это действительно для всех видов движения, вплоть до луча света, который тоже должен «преломиться» при переходе под углом из одной среды в другую, скажем, из воздуха в жидкость или стекло. Эксперимент блестяще подтвердил догадку Ферма, а его письма с утверждением, что свет преломляется при переходе из одной среды в другую, с обычным для него предложением собратьям-ученым найти тому доказательство, послужили самому великому Гюйгенсу толчком для создания волновой теории света. Ферма же сформулировал общий закон: «Природа всегда действует наиболее короткими путями», объясняя прямолинейность всех природных сил. У Пьера остался еще один почтовый голубь Луизы, и он отправил ей записку, в которой признался в своей оплошности, приведшей к открытию важнейшего закона Природы. Луиза де Лонг была внешне кротка, внутренне вспыльчива, но умна. Она не обрушила на возлюбленного упрека, как сделала бы другая женщина. В назначенный час она снова была у калитки и, когда Пьер появился, взяла его за руку и провела на веранду к ожидающему их отцу. Конечно, Пьер мог ждать чего угодно, но лишь не этого. Поистине не подозревал он, какое богатство обретает вместе с согласием господина Франсуа де Лонга на брак с его дочерью Луизой. Свадьба состоялась в 1631 году, через два года с небольшим после сочинения первого посвященного будущей жене сонета. Молодая чета Ферма переехала в заработанный спасением молодого графа де Лейе дом, и еще через год там родился их первенец Самуэль Ферма, будущий поэт и ученый, как и отец. Словом, как говорил Сенека: «Никогда не знает меры счастье!»Сенека
Глава пятая «ДУЭЛЬ»
Мудрость есть дочь разума.К стене одного из парижских монастырей, близ которой обычно происходили запрещенные поединки, в ранний, излюбленный дуэлянтами час в сопровождении вертлявого слуги на уставшем муле подъехал грузный всадник на боевом коне, в черном плаще и надвинутой на глаза шляпе. Всадник завернул за угол, чтобы постучать в монастырские ворота, но внезапно трое пеших гвардейцев кардинала преградили ему путь. Всадник не внял грозному окрику и стал грудью доброго коня теснить гвардейца. Тот обнажил шпагу: — Не угодно ли спешиться, сударь? — Зачем? — буркнул всадник, не осаживая коня. — Чтобы следовать за нами, — ухватился за стремя гвардеец. — По какому праву? — Именем его высокопреосвященства господина кардинала. — Кто это высоким именем останавливает проезжих путников, как разбойник на большой дороге? Всадник увидел трех спешащих к нему мушкетеров. — Что мы видим, господа гвардейцы? Трое против одного? Едва ли это можно счесть учтивым. Если вы немедленно не сочтете возможным принести извинения остановленному вами господину, мы предложим вам другое соотношение сил, трое против троих. Угодно будет вам? — Вы опять затеваете запрещенные королем и его высокопреосвященством поединки! Мы находимся при исполнении служебных обязанностей, выполняя приказ, и вы не имеете права нам мешать. — Полноте, господин гвардеец, — продолжал задиристый мушкетер с изящными манерами, завитыми усиками и пятном бородки, — разве можно помешать в чем-нибудь безнадежным бездельникам? — Вы ответите за свои слова перед его высокопреосвященством! — Простите, почтенный гвардеец, но не вижу здесь его высокопреосвященства, перед которым должен отвечать. — Мы доставим вас к нему, не беспокойтесь. — Очень интересно, какой способ вы выберете для этого? — Если вам угодно, господин мушкетер, то носилки, на которых переносят раненых или убитых. Всадник не стал ждать конца препирательствам и подъехал к воротам. Привратник, увидев его в щелеобразное окошко, потребовал назвать пароль. Доносились грубые ругательства и звон шпаг. Очевидно, гвардейцы продолжали, но уже менее изысканно, выяснять отношения с мушкетерами, которые помешали им задержать всадника, действуя, как всегда, против гвардейцев кардинала по принципу: «Что хорошо его высокопреосвященству, может не понравиться королю». — Пароль! — потребовал еще раз привратник. — «Мыслю — следовательно, существую», — произнес по-латыни всадник и исчез за монастырскими воротами, крикнув слуге: — Огюст, жди меня здесь ближе к вечеру. Слуга повернул своего измученного мула и поехал искать трактир мимо дерущихся на шпагах солдат, с удовлетворением отмечая, что гвардейцы вынуждены отступить. Мушкетеры не стали их преследовать, и один из них, великан с лихо закрученными усами, подмигнул Огюсту. — Откуда? — низким басом спросил он. — Из Амстердама, сударь, — с подчеркнутой готовностью ответил слуга и подобострастно улыбнулся. — А мы думали, из Бордо, — добродушно заметил мушкетер, вкладывая шпагу в ножны. — Там, говорят, вино отменное. Всадник, отдав поводья выбежавшему послушнику, скинул черный плащ и оказался в офицерском мундире нидерландской армии. Он вошел в мрачное монастырское здание вслед за встречавшим его аббатом со строгим аскетическим лицом. Толстые, как в крепости, стены, низкие арки, темные коридоры и благоговейная тишина, подчеркиваемая отзвуком шагов под сводчатыми потолками, заставляли говорить вполголоса. — Его преподобие благочестивый отец-настоятель отвел для моих гостей монастырскую трапезную, дорогой Декарт, — обернулся к офицеру аббат. — В ожидании тебя они восхищаются твоей отвагой. — Надеюсь, дорогой Мерсенн, эти толстые стены — надежная защита от преследований? — Монастырь — крепость духа и веры, ни один воин его величества или его высокопреосвященства не осмелится войти сюда. — Да благословит бог совместные усилия правителей Франции во всех государственных делах, — с иронией произнес Декарт и другим уже тоном добавил: — С кем же встречаемся мы, дорогой аббат? — С моими корреспондентами, с которыми ты поддерживал через меня почтовую связь. Ты узнаешь и Омара Торричелли, вынужденного преодолеть еще более дальний путь, чем ты. И Пьера Ферма, с которым встречались в Египте. Интересен будет и юный Блез Паскаль, изобретатель и естествоиспытатель, а также его отец Этьен Паскаль — математик, де Бесси и другие, с кем увидишься. — Пьер Ферма? — задумчиво повторил Декарт. — Еще бы не помнить! Могила Диофанта! Но по поводу его последнего, пересланного вами письма у меня серьезные возражения. — Для того мы и собрались здесь, чтобы всех выслушать, — сказал аббат, распахивая двери трапезной. В этот день по указанию отца-настоятеля все монахи вкушали пищу по своим кельям. При виде Декарта и аббата Мерсенна его гости, приветствуя философа, встали с лавок у длинных столов. — Рене! Мы не виделись пятнадцать лет! — идя навстречу Декарту, протянул руку Ферма. — Вы немало преуспели, почтенный метр! Потолстели! Обзавелись семьей? — Да, пока трое детей. Старшего, Самуэля, привез в Париж учиться. — Пусть учится, становится ученым и не допускает ошибок, подобных отцовским. — Что вы имеете в виду, Рене? — Я сообщу свои соображения не только вам, но и всем присутствующим. Немного озадаченный такой встречей, Ферма отошел, но ему пришлось сразу же вернуться, потому что аббат Мерсенн попросил его поделиться с гостями монастыря своими новыми открытиями в области математики. Декарт устроился на краю скамьи, отставив в сторону огромную ногу в ботфорте, и презрительно фыркал, покручивая свой офицерский ус. Рядом с ним сидел бледный юноша лет девятнадцати — Блез Паскаль, странно выглядевший среди почтенных собратьев по науке, каждый из которых занимал заметное место в обществе — кто юрист, как Ферма, кто офицер, как Декарт, или монах, подобно Мерсенну. Пьер Ферма говорил по-латыни изысканно и почтительно, но, касаясь математики, с неуловимым чувством превосходства, чего сам не замечал, будучи человеком скромным и добродушным: — Мне привелось вести в Тулонском парламенте дело крестьян против герцога Анжуйского. Спор касался денежной компенсации за перешедшие к герцогу земли после спрямления им извилистой линии границ земельных угодий. Подсчитать утраченные крестьянами площади, ограниченные прежде неправильными кривыми, никто не умел, приблизительные же подсчеты герцог отвергал как заведомо неверные, в результате крестьяне остались и без земли, и без денег за нее, а судейское дело зашло в тупик. Я предложил любую извилистую линию разбивать на отрезки, которые практически точно являются кривыми второго порядка: либо частями эллипса, либо параболы, либо гиперболы, то есть сечениями двух соприкасающихся вершинами конусов, с раструбами, уходящими в бесконечность. — Бесконечность! — воскликнул юный Блез Паскаль, длинные светлые волосы которого обрамляли узкое бледное лицо с горящими глазами. — Как это страшно! — Не более страшно, чем любая другая величина, выраженная числом, — с улыбкой сказал Ферма. — Но ее нельзя представить! — возразил Блез Паскаль. — Нет, почему же? Эта величина вполне реальна. Она бесконечна, но не беспредельна. Пересеките один из конусов, о которых я говорил, плоскостью, перпендикулярной их оси. — Будет круг! — нашелся Блез Паскаль. — Теперь, если начать поворачивать эту плоскость, мой друг, что вы получите в сечении? — Разумеется, эллипс. — А если повернуть плоскость еще больше, приближаясь к положению, параллельному образующей? Останется ли эллипс эллипсом? — Конечно! — откликнулось сразу несколько голосов. — Только большая ось эллипса так удлинится, что ее конца и видно не будет, — заметил старший из Паскалей — Этьен. — Она может стать сколь угодно длинной, не правда ли? А если плоскость станет параллельной образующей конусов и уже нигде не пересечет конуса, куда денется конец нашего удлиненного эллипса? — с присущей ему манерой задавать загадки спросил Ферма. — Он превратится в параболу! — обрадованно воскликнул Блез Паскаль. — Браво, юноша! — восхитился Ферма. — Эрго — эллипс с бесконечно длинной большой осью не что иное, как парабола. Теперь продолжим дальше поворот нашей секущей плоскости, чтобы она уже не стала параллельной образующей и снова пересекла, но теперь уже не только верхний, но и нижний конус. Что произойдет на чертеже? Конец большой оси вместе с малым овалом эллипса вернется к нам, но уже с другой стороны, как бы обогнув немыслимо огромный шар вселенной, радиус которого равен бесконечности. — Это же будет гипербола, сударь! — снова нашелся Блез Паскаль. — Верно, юноша, гипербола, которая станет равнобокой, если секущая плоскость будет параллельна оси конусов. — И вы считаете, метр, бесконечность реальной? — на великолепной латыни спросил Омар Торричелли. — Безусловно, — не задумываясь, ответил Ферма. — Вот вам еще одно доказательство существования господа бога! — вставил Декарт. — Не к этому ли я призывал и попов и ученых? — Тссс! — замахал руками аббат Мерсенн. — Умоляю тебя, Рене Декарт, не ставить под сомнение слепую веру в господа бога, по крайней мере, в стенах монастыря, где она — основа нашего прибежища. — Не буду, не буду! — буркнул Декарт. — Ведь не я доказываю реальность неисповедимой, как учит церковь, бесконечности, а Ферма! — А во мне холодеет кровь при мысли о ней, — признался Блез Паскаль. — Как беспомощен человек, обретаясь между ничтожеством и бесконечностью! — Полно, юный друг, — ласково обратился к нему Ферма. — Вам ли это говорить, который, несмотря на свою юность, подарил людям «суммирующую машину», способную выполнять некоторые обязанности нашего мозга. Предвижу, что когда-нибудь далекие потомки вашей машины станут состязаться с самим человеком в остроте мышления, не говоря уже о быстроте счета. — Умоляю вас, почтенные искатели истин, — воздев руки к небу, прервал Ферма аббат Мерсенн, — не затрагивайте богословских тем, ибо приписывание мертвому механизму способностей человеческой души может быть превратно истолковано святыми отцами церкви. — Мой учитель Галилео Галилей понял бы господина Ферма, но за тех, кто принудил Галилея отречься от своих верных мыслей, я не рискну поручиться, — заметил Торричелли. — Во всяком случае, имея в виду, — вступил Декарт, — что человеческое тело подобно мертвому механизму и только душа делает его живым и способным к мышлению, надо сразу сказать, что и машина господина Блеза Паскаля, как бы ее ни усовершенствовали потомки, никогда не сможет мыслить самостоятельно, а будет лишь выполнять предписанное человеком, обладающим душой. — Но у нашего юного Паскаля есть и еще изобретения, которые отнюдь не говорят о его прозябании между ничтожеством и бесконечностью, — продолжал Ферма. — Достаточно вспомнить тачку, совмещающую в себе архимедов рычаг с колесом. Трудно ошибиться, представив себе несметное число подобных приспособлений, облегчающих труд людей на строительстве домов и дорог, храмов и крепостей не только во Франции, но и во всем мире! А предложение того же Блеза Паскаля учредить многоместный экипаж, следующий всегда по определенному маршруту и останавливающийся в условленных местах для высадки и приема пассажиров, не имеющий ни лошадей, ни карет![55] Нет, дорогой Блез, даже в наш век «шпаги и знатности», как видим, есть умы, которые без бряцания оружием способствуют торжеству разума и благу людей. — Такая оценка нашего молодого друга, — заметил Торричелли, — делает вам честь, господин Ферма, но ведь и вы, как начали нам рассказывать, хотели с помощью математики защитить интересы простых пейзан. — Ах да! — подхватил Декарт. — Доскажите, что вы там намудрили, чтобы я мог вас опровергнуть. Ферма вспыхнул: — Я остановился на том, что разбил криволинейные участки на более мелкие, ограниченные кривыми второго порядка, а для них предложил метод отыскания точки их перегиба, то есть максимума и минимума. Определение же площади, ограниченной такой кривой, есть действие, обратное отысканию точки перегиба и проведению в ней касательной.[56] Ферма написал на аспидной доске мелом несколько формул. Поднялся Декарт во весь свой внушительный рост и взметнул гривой волос: — Мысли метра Ферма совершенно непонятны. Мне ясно лишь то, что он натолкнулся на метод случайно, не зная его основания. В результате, как ни прискорбно мне это сказать, но метр Ферма приходит к паралогизму, то есть к противоречиво, полностью уничтожающему его метод как некорректный. Как известно, Ферма обычно не приводил обоснования предлагаемых им формул и методов. Однако старания современников получить по его методам ошибочный результат были тщетными, как и попытки доказать эти методы. За Ферма установилась слава математического волшебника, который знает нечто, людям не доступное, делясь с ними только выводами. Однако сейчас, после резкого выпада Декарта, Ферма изменил своему обыкновению и стал методично, спокойно и дружелюбно разъяснять Декарту, как любимому ученику, суть его непонимания. Он старался ничем не унизить его, добиваясь лишь, чтобы тот понял его. А понять Ферма его современникам было нелегко, ибо он, по существу, предвосхитил работы Исаака Ньютона и Г. Лейбница, независимо друг от друга открывших дифференциальное и интегральное исчисление, резко споря между собой, кто сделал это первым, забыв о методе Ферма, высказанном еще до их рождения. Метод, который позволял поистине волшебным путем (алгебраическим!) получать первую производную! (Скажем, скорость движения, имея кривую пройденного в отмечаемое время пути, то есть давая результат современного дифференцирования, а получение им площадей, ограниченных кривыми, представляло собой современное интегрирование, то есть суммирование бесконечно малых величин!) Декарт слушал объяснения Ферма и краснел. Вспомнилась история с уравнением, заключенным в надгробной надписи Диофанта, которое Ферма решил диковинным способом, не используя всех членов уравнения, искать который Декарт клятвенно отказался. Тогда Декарт нашел в себе силы побороть самого себя, но сейчас он возражал, опровергал, почти оскорблял Ферма, ведя с ним в присутствии многих «ученых секундантов» бескровную дуэль. Но даже такой прямой и честной натуре, как философ Декарт, гонимый церковью, нужно было время, чтобы осознать свою неправоту и признать поражение в «дуэли». Но поражение это было признано присутствующими учеными, принявшими сторону Ферма, что выразил от их имени Этьен Паскаль, математик, исследовавший интереснейшую фигуру «спираль Паскаля», витки которой, пересекаемые любым радиусом из ее центра, отстояли один от другого на равном расстоянии. Это исследование сделало его имя известным и спустя столетия. Именно он тогда в монастырской трапезной сказал: — Ваше преподобие, господин аббат, дорогие ученые собратья! Мне кажется, что я выражу общее мнение, что тот метод верен, который дает верные результаты. Но именно этой особенностью и отличаются все методы метра Ферма, включая и не понятый уважаемым господином Декартом, критику которого все же надо рассматривать как побуждающую метра Ферма к обнародованию основания своего метода, за что нельзя не поблагодарить и метра Ферма, и господина Декарта. Как видим, истина, даже и математическая, рождается в споре. Но Декарт, не желая признать себя побежденным, вскочил: — Никогда, слышите ли, никогда научная истина не будет устанавливаться голосованием! Метр Ферма, оперируя здесь с кривыми, предложил расплывчатую систему координат с осями, расположенными под любым углом. Это непродуманно и неудобно. И я предлагаю свою «Универсальную математику», где использованы лишь прямоугольные координаты и общий алгебраический метод для решения любых задач. — В предложенных мною координатах допускались и прямоугольные, — робко заметил Пьер Ферма. — Но господин Декарт, конечно, вправе воспользоваться ими, поскольку они принадлежат всем. Справедливости ради надо заметить, что спустя века в современной математике, немыслимой без прямоугольных координат, имя их первооткрывателя Ферма предано забвению, они именуются лишь «декартовыми». Меж тем научная дискуссия в монастыре продолжалась. Ученые сообщили о своих планах и исканиях; в частности, Торричелли рассказал о своем намерении доказать, что две пары самых сильных лошадей не разорвут два ничем не скрепленных полушария, если из них будет выкачан воздух. И он пригласил научных коллег посетить Италию, чтобы присутствовать при этом опыте.[57] Юный Блез Паскаль признался в своем увлечении гидростатикой и мечте исследовать, как жидкость передает усилия. Спустя годы «закон Паскаля» станет общепринятым, ныне — основой многих гидравлических машин и аппаратов. Рассказывали о своих исканиях и связанных с ними трудностях и другие ученые, сетуя на отсутствие научного журнала, который подменял пока неутомимый аббат Мерсенн, ведя научную переписку, которая стала для него смыслом жизни. Незаметно день склонился к вечеру. Заботами аббата Мерсенна и благодеяниями отца-настоятеля трапезная была использована учеными гостями по своему назначению. Послушники вносили блюда. Рене Декарт ел с солдатским, как он признался, аппетитом, жалуясь на отсутствие у братьев-монахов хорошего вина. С наступлением темноты гости решили расходиться. Первым привратник хотел выпустить Декарта в черном плаще и на коне, но, заглянув в щелевидное оконце, подозвал аббата Мерсенна. Против монастырских ворот гвардейцы кардинала развели костер, не собираясь уходить отсюда без добычи. Аббат Мерсенн предупредил Декарта. Тогда Ферма произнес: — Рене, одолжите мне ваш плащ и шляпу, а также временно и коня. Вас там ждет Огюст? Я окликну его. Декарт колебался: — Они охотятся за мной, а схватят вас, Пьер. Хотите так? — Конечно! — улыбнулся Ферма. — Когда выяснится, что они задержали советника Тулузского парламента, вы будете далеко, воспользовавшись мулом Огюста, за что он простит нас. Я шепну ему. — Соглашайтесь, господин Декарт. Боюсь, у вас нет иного выхода, — убеждал аббат Мерсенн, потирая мокрую от волнения лысину. — Но ведь я же, споря, дрался с вами как на дуэли, — протестовал Декарт. — Как же вы можете так поступать, Пьер? — А разве вы не поступили бы так же, будь я на вашем месте? Декарт помолчал и ответил: — Благодарю, что вы так думаете обо мне. Но надеюсь, что нам непредставится случая проверить меня. И они обнялись — противники в недавнем споре. Из монастырских ворот выехал всадник в черном плаще и в надвинутой на глаза шляпе. — Эй, сударь! — грубо окликнул гвардеец, хватая под уздцы коня. — Мы не рассчитались еще с вами за утреннюю встречу. Проклятые, очевидно, нанятые вами мушкетеры ранили двух моих парней. Но теперь вам придется последовать за нами. — Трое против одного? Я подчиняюсь, — ответил Пьер Ферма. — Но куда вы хотите отвести меня? — К его высокопреосвященству господину кардиналу, а потом в Бастилию. Но до этого он примет вас с подобающей вежливостью. — Огюст! — крикнул Ферма. — Дождешься хозяина здесь! Окруженный гвардейцами всадник в черном плаще скрылся в темноте.Леонардо да Винчи
Глава шестая ГОСТЬ БАСТИЛИИ
Истинные политики лучше знают людей, чем присяжные философы.Пьер Ферма неважно знал Париж, лошадь его вел под уздцы старший из гвардейцев, предварительно взяв с Ферма честное слово, что тот не использует для бегства преимущество верхового, и, получив такое заверение, оставил задержанного на коне. Они долго двигались по темным незнакомым улицам. — Ну вот, сударь, и улица Сен-Оноре, с облегчением заметил гвардеец. Здесь на площади и стоит кардинальский дворец. Ферма не мог рассмотреть фасада огромного здания, но хорошо разглядел промчавшуюся мимо карету, запряженную шестеркой вороных коней. — Кажется, вам не повезло, сударь, сказал гвардеец, должно быть, его высокопреосвященство господин кардинал проехал в Лувр к королю. Перед широкой, ведшей во дворец лестницей гвардейцы остановились, коня под уздцы взял другой гвардеец, а старший стал подниматься по мраморным ступеням, громыхая длинной шпагой. Ему навстречу появилась плохо освещенная серая фигура в сутане. Гвардеец, о чем-то переговорив с вышедшим, начал спускаться. Он молча взял коня под уздцы и повел его назад по улице Сен-Оноре. — Куда мы отправляемся? — поинтересовался Ферма. — Его высокопреосвященство поехал на вечернюю шахматную партию с его величеством королем и почтительно просил подождать его возвращения в Бастилии. Гвардеец простодушно передал сказанные ему слова серым в сутане, но Ферма передернуло. Как юрист он знал, что его не могут бросить в Бастилию без прямого указания кардинала, однако он не стал противиться и препираться со своим конвоем, заинтересованный в том, чтобы дать уйти Декарту возможно дальше, позволить ему беспрепятственно пересечь границу с Нидерландами, прежде чем обнаружится, что схвачен не он. Площадь Бастилии была так же незнакома Ферма, как и улица Сен-Оноре. В прошлые приезды в Париж он проходил близ Лувра, но теперь ему не встречалось знакомых мест. У ворот Бастилии, мрачного замка, окруженного высокими стенами посреди города, гвардейцы остановились и вступили в переговоры со стражей, вызывая коменданта крепости. Наконец из ворот показался тучный человек с оплывшим лицом и маленькими хитрыми глазками, которые поблескивали в свете тусклого фонаря стражника. — Я протестую, господин комендант! — заявил Ферма. — Я отлично знаю французские законы. Никто не может быть брошен в Бастилию без приказа его высокопреосвященства господина кардинала. Покажите его приказ! — Не извольте беспокоиться, сударь, — елейно отозвался комендант, тяжело дыша после каждой фразы. — Вы проведете ночь как гость Бастилии, и я клянусь вам, что не переступите порога ни одной из камер, где содержатся важные государственные преступники, о вашем же коне позаботятся не в меньшей степени, чем о вас, сударь. — И он церемонно раскланялся. Ферма спокойно вздохнул, подумав, что выиграет для Декарта целую ночь и ошибка выяснится лишь завтра. Он сошел с коня, которого принял один из стражников. Двое других повели Ферма в открытые ворота крепости. Бастилия! Одно лишь это название вселяло ужас в людей, но Ферма, успокоенный учтивостью коменданта, не проявил никаких признаков волнения. Стража предложила Ферма спуститься по стертым ступеням каменной лестницы. Пахнуло сыростью, они вошли в полутемный коридор с двумя рядами однообразных дверей в камеры. — Куда вы ведете меня? Вы слышали слова коменданта? — обратился Ферма к стражникам. Но те молчали, громыхая оружием по каменному полу. Вдали открылась одна из дверей, и оттуда вышли двое тюремщиков, ведя под руки потерявшего силы заключенного. С каждым шагом обе группы сближались. Они сошлись под светильником, и Ферма содрогнулся, встретясь взглядом со старым графом де Лейе, глаза которого сверкнули былой радостью при виде Ферма, но, заметив, что советник парламента идет не на свидание с заключенным, а сам находится под стражей, сразу потухли. Старый граф Эдмон де Лейе, соратник и любимец короля Генриха IV, служил ему, еще когда тот, защищая права гугенотов, был всего лишь Генрихом Наваррским, который, чтобы утвердиться на троне, вынужден был принять католичество, оговорив привилегии бывших единоверцев, но погиб от руки фанатика. Кардинал же Ришелье всячески укреплял абсолютную власть его наследника и объявил поход против не в меру самостоятельных вассалов, продолжающих претендовать на старые привилегии. Но как постарел бедный старый граф! Ферма давно не видел его и не знал о немилости к нему кардинала. Теперь ничто не могло спасти старого вельможу. Ферма слишком хорошо знал беспощадность кардинала Ришелье, который с равной жестокостью расправлялся и с неугодными вассалами, и с взбунтовавшимися крестьянами, и с непокорной чернью. В Бастилии, куда не попадали вожаки бушевавших во всей Франции восстаний, двери камер открывались для опальных вельмож, так же обреченных, как и безродные бунтовщики. Знатность рода не помогала. Ферма подвели к оставшейся открытой двери, откуда выволокли графа де Лейе, этого несчастного старика. Ферма запротестовал: — Господин комендант дал слово, что я не переступлю порога ни одной камеры. Я не войду сюда и обжалую ваши действия! Один из стражников усмехнулся: — Господин комендант всегда знает, что говорит. — И с этими словами он прошел вперед, но тотчас вернулся, после чего Пьера грубо втолкнули в открытую тяжелую дверь, она тотчас захлопнулась за ним. Ферма остался в полной темноте, слыша, как щелкает позади него замок. Протянув вперед руки, он уперся ими еще в одну дверь, которая, очевидно, вела в камеру. Но она оказалась запертой, недаром тюремщик вошел сюда на мгновение раньше! Ферма попробовал повернуться, но касался плечом преграды то с той, то с другой стороны и мог протиснуться только вбок, до притолоки и обратно. Он понял, что находится в тесном тамбуре, почему-то устроенном перед камерой. Ферма, как советник парламента, немало бывал в тюрьмах, но не встречал камер с таким входом. Только сейчас понял Ферма зловещий смысл обещаний толстого коменданта — «гость Бастилии» не переступит порога камеры. Он и не переступил его, находясь между двух дверей в нее, с обеих сторон сжимавших так, что он не в силах был ни сесть, ни лечь, ни повернуться. И еще одну их особенность установил он, не обнаружив на ощупь обычного смотрового окошечка, через которое тюремщик наблюдает за узником. Что бы это могло быть? Что за странная камера? От догадки у Ферма зашевелились волосы. Очевидно, двойные двери тамбура нужны, чтоб ни один звук, ни один стон, ни один крик не донесся из камеры! Так вот откуда вынесли бедного старого графа де Лейе, соратника покойного короля. Недаром вспоминал старый граф о своем повелителе, который мог бы спасти его сына, а теперь и его самого от унижений и пыток! Да, пыток! Ибо не оставляло сомнений, что «гостя Бастилии» заперли на ночь в тамбуре камеры пыток. Так вот какой участи мог бы подвергнуться упрямый философ Декарт, восставший против папы, противопоставляя разум человеческий бездумности, активное познание — невежественной покорности. Ферма понял, что бесполезно требовать к себе коменданта и объявлять, что он не Декарт. Скорее всего и гвардейцы не знали, кого должны схватить, руководствуясь лишь внешним описанием Рене. Пришлось прождать всю ночь, упершись спиной в одну дверь и коленями в другую, полусидя в воздухе. Когда заскрежетал замок, Ферма думал, что ему не разогнуться. Лишь усилием воли заставил он себя выпрямиться. Сам комендант, страдая одышкой, изволил прийти за ним. — Господин кардинал узнает о вашей любезности, — мрачно пообещал ему Ферма. — Простите, сударь, но у меня было переданное мне указание Мазарини, первого помощника его высокопреосвященства. Поверьте мне, что я тут ни при чем! Кроме того, вам, право же, не стоило настаивать на открытии внутренней двери в камеру откровенности. Надеюсь, вы понимаете меня? — Вполне, господин достойный комендант. Надеюсь, теперь вы препроводите меня к его высокопреосвященству господину кардиналу? — Ваш конь оседлан, трое гвардейских всадников сопроводят вас в виде почетного эскорта. И комендант Бастилии проводил своего «гостя» до тюремных ворот, обеспокоенный тем, что не получил письменного подтверждения переданных ему устно слов. Трое гвардейцев на конях ждали Ферма, держа огромного оседланного коня Декарта. Из-за затекших мышц Ферма с трудом влез на него, вызвав грубые насмешки гвардейцев, но не счел нужным отвечать. На площади, куда выходила улица Сен-Оноре, при солнечном свете Ферма мог рассмотреть все великолепие кардинальского дворца. Пьер спешился у знакомой мраморной лестницы с широкими ступенями и в сопровождении вооруженных гвардейцев поднялся по ней. Гвардейцы провожали его, гвардейцы толпились в анфиладе комнат и в приемной, куда Ферма привели. Он проходил мимо них с независимым видом, стараясь усилием воли побороть усталость бессонной ночи. Гвардейцы подвели доставленного к служителю в раззолоченном кафтане, который, пронзительно взглянув Пьеру в глаза, вышел в золоченую дверь. Через минуту он вернулся, жестом пригласив Ферма идти за ним. Гвардейцы остались в приемной, шумно переговариваясь с однополчанами. Ферма следом за золоченым служителем миновал огромный зал официальных приемов и оказался в уютной библиотеке, где, кроме шкафов с книгами в роскошных переплетах, стояли рыцарские доспехи. За столом, заваленным книгами и пергаментами, сидел в глубоком кресле тщедушный, очевидно, очень больной седоусый человек с белой остренькой бородкой, склонясь над какой-то рукописью. За спинкой кресла виднелась неприметная фигура в серой сутане. — Господин Декарт? Философ, естествоиспытатель и математик? — не поднимая глаз, спросил человек за столом. — Нет, ваше высокопреосвященство! Может быть, в какой-то мере я естествоиспытатель и математик, но я не философ Декарт. Очевидно, меня схватили по ошибке господа гвардейцы, ваша светлость. — Как так? — только теперь поднял острые, ястребиные глаза, с которых как бы поднялась птичья пленка, кардинал де Ришелье, он же герцог Арман Жан дю Плесси. — Действительно, не господин Декарт, с которым мы когда-то беседовали и о его философских взглядах и рассчитывали теперь продолжить эту беседу, когда он, покинув Францию, вернулся в Париж без нашего разрешения. А кто вы, сударь? — Я — советник парламента в Тулузе Пьер Ферма, ваше высокопреосвященство. — Ах так! Знакомое имя. Пьер Ферма? Юрист и математик и, кажется, даже поэт? Который арифметически определял вероятность преступления, а потом способствовал разжиганию спора между грязными крестьянами и высокородным герцогом Анжуйским с помощью вычисления площадей спорных земельных участков, якобы отнятых у черни? — Ваше высокопреосвященство проявляет восхищающую меня осведомленность о моих скромных попытках сделать юриспруденцию безукоризненной наукой. — Безукоризненная наука, метр Ферма, это только политика! Знаете ли вы, какую рукопись я сейчас читал, ожидая господина Декарта, видимо уклонившегося от нашего свидания? Ваше письмо, метр, переписанное аббатом Мерсенном для рассылки другим ученым. Один обязательный экземпляр, к вашему сведению, всегда предназначается мне. А латынь кардиналу знакома, как понимаете. — Я преклоняюсь перед широтой вашей образованности, ваше высокопреосвященство! — Кстати, почему же господин Декарт уклонился от нашего свидания, несмотря на то, что я послал за ним своих гвардейцев? И отчего вы явились ко мне вместо него только сегодня утром? — Ваши доблестные гвардейцы (трое против меня одного!) силой привезли меня ко дворцу, когда вы, ваша светлость, изволили уехать для шахматной игры с его величеством королем. — Как так? — полуобернулся Ришелье к стоящему за его спиной человеку в сутане. — Где же господин Декарт, дорогой Мазарини? — Если перед вами, ваше высокопреосвященство, советник парламента из Тулузы, то господин Декарт, очевидно, уже пересекает нидерландскую границу, уехав не позднее вчерашнего вечера от известного вам монастыря. Я надеюсь получить от отца-настоятеля подтверждение. — Я сожалею, метр, что вам пришлось со вчерашнего вечера ожидать меня, пока я наслаждался шахматной игрой. — Я разделяю ваше отношение к шахматам, ваша светлость. — Что ж, это можно проверить, метр Ферма. Придется вам заменить господина Декарта в философской беседе, которая, если, вы того пожелаете, будет происходить за шахматной доской. Дело в том, что мне не все ясно в ваших письмах, содержащих, я бы сказал, математические загадки, кроме, разумеется, общей направленности вашей деятельности, метр, которую стоит обсудить. — Буду счастлив, ваше высокопреосвященство, узнать ваше мнение о моих скромных работах и усердной службе и, разумеется, готов сыграть с вами в шахматы. — Берегитесь, метр Ферма. После проверки вашего искусства игра пойдет на ставку, не исключено, что на крупную. — Я готов, ваша светлость. — Вы очень богаты, метр? — Если богат, ваша светлость, то только надеждами, по словам моей супруги. — Мудрость женщины подобна жалу змеи, жалящей нас. По сделанному знаку кардинала Мазарини подкатил его кресло, оказавшееся на колесиках, к шахматному, богато инкрустированному столику и расставил на нем фигуры из слоновой кости. — Попробуйте сразиться со мной, метр. Я не назначаю сразу ставки, ибо мое духовное звание обязывает к милосердию. Первая, молниеносно проведенная партнерами партия закончилась в пользу Ферма прямой атакой на короля. Кардинал нахмурился, взгляд его стал злым и колючим. Ферма наблюдал за этим больным и беспомощным человеком, ум которого цепко держал в повиновении и страну, и ее короля, хотя тело с трудом могло покинуть мягкое, передвигающееся на колесиках кресло. Высохшая рука, когда-то ловко владевшая шпагой, дрожала, передвигая фигурки: — Вы опаснее, чем я думал. Я просто играл с вами как с его величеством, которому всегда надо предоставлять возможность атаковать. Во второй партии Ферма не удалось развить атаку, и, оставшись без двух пешек, он вынужден был признать свое поражение. Кардинал Ришелье воодушевился: — Прекрасно! Теперь — на ставку! Вы достаточно искушены в этой игре, но это лишь удваивает мой интерес. Мне всегда требуются побудительные причины, чтобы проявить себя в полной мере. Ферма расставил фигуры и свои и кардинала, вспоминая, что герцог Арман Жан дю Плесси до принятия духовного сана славился своей азартностью и, видимо, не утратил этой страсти, став кардиналом. Ришелье поднял с полу тершегося о его ноги кота. — Итак, ставка, метр? Что у вас есть в Тулузе? Имение, рента, замок? — Только дом и служба вашему высокопреосвященству. — Прекрасно! Вы ставите свой дом, а я… Что бы вы хотели, сударь? — Свободу узнику Бастилии, старому графу Эдмону де Лейе, давнему соратнику покойного короля. — Откуда вы знаете об узнике Бастилии? — сердито спросил Ришелье, сбрасывая с колен кота. — Я провел там ночь как «гость Бастилии», ваша светлость, зажатый между дверьми тамбура камеры пыток. — Что такое? — обернулся Ришелье к Мазарини. — Должно быть, господин комендант проявил свое обычное остроумие, ваше высокопреосвященство, не желая, чтобы гость переступил хотя бы порог любой камеры. — Прекрасно! — воспрянул Ришелье. — Тогда распорядитесь, чтобы господин комендант провел в этом же месте предстоящую ночь. — И кардинал сделал свой ход на доске. — Но это невозможно, ваша светлость, — запротестовал Ферма. — Почему? — удивился кардинал. — Ведь я же сказал. — Он слишком толст, ваша светлость, и двери просто не закроются, пока он не похудеет. Кардинал Ришелье расхохотался: — Я должен отдать вам должное, метр, и в легкой игре, и в легкой беседе. Но сейчас и игра и беседа примут серьезный характер. — Я готов, ваша светлость. — Готовы лишиться собственного дома? — Если вы ставите против него свободу графу Эдмону де Лейе. — Ставка сделана. Ваш ход, метр! Пеняйте на себя и не ждите от меня пощады, если ваша семья окажется без крыши над головой. Вы явно рискуете, предлагая в жертву легкую фигуру, я не вижу, как разовьется ваша атака. — Шахматы, ваша светлость, единственное средство отгадывать мысли другого. — Недурно сказано! Но я угадываю ваши мысли и без шахматной доски, хотя бы, например, в вашей судебной практике, что заставляет меня предостеречь вас от излишнего усердия в оказании помощи (даже математической!) простолюдинам в ущерб интересам высокородных господ. В вас не чувствуется, метр, дворянского подхода (впрочем, вы, кажется, ведь не дворянин!), и, может быть, потому не понимаете, что взятые вами под защиту люди слишком часто берутся за оружие против своих господ, причиняя нам с Мазарини немало хлопот. — Я руководствуюсь в своей судебной практике только соображениями Справедливости, как учит наш король и вы, ваше высокопреосвященство. — Гм! — задумался, глядя на доску, кардинал. — А не находите ли вы свою активность излишней и неоправданной? Хотя бы вот в этой партии? — В ней очень высокие ставки. Кроме того, шахматы в известной степени отражают жизнь, ваше высокопреосвященство. — Тогда стоит ли ваш офицер трех моих пехотинцев, засевших в крепости покрепче Ла-Рошели? Боюсь, что штурм ее будет вам стоить дома в Тулузе, который я подарю прокурору Массандру, готовящему обвинение против графа Эдмона де Лейе. — Массандр? Вы удивляете меня, ваша светлость! Неужели вам не найти кого-нибудь более достойного, чтобы не причинять мне в случае моего проигрыша ненужных огорчений? — Не взывайте к моему милосердию, не разжалобите. Я не только кардинал, но и воин. Меж тем могло показаться, что опасности на шахматной доске для кардинала позади и атакующий не прорвется через пешечный заслон. Однако Ферма был спокоен и неожиданно пожертвовал одну за другой две фигуры: слона и ладью, притом не для того, чтобы разрушить крепость, а как бы для еще большего ее укрепления. — Что это? — насмешливо спросил кардинал. — Вы перешли в мой лагерь? Или надеетесь одолеть своей вновь появившейся королевой бастионы, которые не могли взять всеми фигурами? — А я не буду брать этих укреплений, ваша светлость, а воспользуюсь тем, что вашему королю в них тесно, и вместо королевы поставлю коня, объявляя вам мат! — Что? Что? — опешил Ришелье и непроизвольно воскликнул: — Боже правый! Мат в середине доски одним-единственным, притом превращенным конем! Короля позабавит эта позиция, а также и то, что я не заметил этого коварного превращения пешки в слабую фигуру, иначе… Да! Вы расчетливо отвлекли меня своей беседой! — И Ришелье решительным взмахом руки смешал фигуры на доске. — Если бы не этот просмотр (не надо было брать предложенную вами туру), и Массандр жил бы в вашем доме.[58] — Но сейчас ему придется отказаться от обвинения графа Эдмона де Лейе. — Разумеется. Я всегда плачу по своим обязательствам и всегда взыскиваю. Советую не допускать в жизни таких ошибок, как я в этой позиции. — Вы не ошиблись, ваше высокопреосвященство, отказ от взятия вел к проигрышу. — Вы умелый юрист и опасный человек, метр. Вот так. Мазарини, — властно обратился он к своему помощнику, — распорядитесь в Бастилии! Не забудьте проверить, уместится ли комендант в тамбуре камеры откровенности. Когда будете провожать метра Ферма, дайте ему отцовский совет. Учтите, метр Ферма, что мой Мазарини в ближайшее время станет кардиналом. Отнеситесь к нему по-сыновьи. — Слова вашего высокопреосвященства звучат для меня как высшее отцовское наставление, — низко поклонился Ферма. Мазарини услужливо откатил кресло Ришелье к столу, поймал кота и водрузил его на колени немощного повелителя Франции, затем сделал знак Ферма в направлении двери. Выходя из библиотеки, Ферма бросил взгляд на кресло с тщедушным стариком и на военные доспехи, в которые тот облачался в дни осады Ла-Рошели. Вместе с Мазарини он вышел в зал приемов, роскошный и холодный. — Вы были очень неосторожны, метр, с его высокопреосвященством, — вкрадчиво начал Мазарини, — зачем вам возвращаться в Бастилию, проходить через известный вам тамбур? Не думайте, что вы выиграли в деревяшки свободу графу де Лейе, просто вы удачно напомнили справедливому кардиналу о заслугах графа перед покойным королем, память которого священна. У Франции слишком много врагов, — продолжал он доверительно, но с укором в голосе. — И нельзя, чтобы о них думали только мы с его высокопреосвященством, в то время как такие, как вы, светлые умы, будут упражняться в искусстве счета и способствовать брожению черни, переписываясь при этом с учеными враждебных нам стран вроде Англии! — Готов принять совет ваш и его высокопреосвященства и найти способ проявить патриотизм и на научном поприще. — Хотелось бы убедиться в этом, — смиренно сказал Мазарини и, на миг сверкнув глазами, добавил: — Пока не поздно. Ферма вместе со спутником в серой сутане прошел через комнаты, наполненные гвардейцами, пораженными гордым видом и проводами только что доставленного сюда под конвоем человека. Мазарини проводил Ферма до мраморной лестницы. Гвардеец услужливо подвел ему коня. Ферма хотел расспросить дорогу к монастырю, отъехав подальше от дворца, но уже на улице Сен-Оноре наткнулся на вихляющего на муле Огюста. Оказывается, к величайшему изумлению Пьера, отважный Декарт не пожелал бежать из Парижа, ожидая возвращения Ферма, а в случае его задержки собирался сам явиться к кардиналу, чтобы выручить друга. Ферма не стал испытывать судьбу, отдал коня Огюсту и отправился пешком во Дворец Правосудия на острове Ситэ, где у него были дела от Тулузского парламента.Люк де Клапсе Веверанг
ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ
В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой…В 1643 году, три года спустя после встречи Пьера Ферма с кардиналом Ришелье, герцог Арман Жан дю Плесси, кардинал де Ришелье, скончался. Через год умер и передавший ему всю власть в стране слабый король Людовик XIII, оставив трон пятилетнему Людовику XIV, который, возмужав, стал воплощением абсолютной, ничем не ограниченной королевской власти, живя по двум принципам: «После нас хоть потоп!» и «Государство — это я!». Но подлинную власть во Франции прибрал к рукам наследник Ришелье, которого тот успел сделать кардиналом, Мазарини, «серым (как он, подобно Жозефу дю Перамбле, духовнику Ришелье, вошел в историю) кардиналом» в отличие от «красного кардинала» Ришелье, властно подчеркивающего свое могущество, «серый же кардинал» всегда оставался в тени, сплетая хитроумные интриги, при осуществлении которых коварством и жестокостью отнюдь не уступая, а порой и превосходя своего предшественника. Тогда же скончался в почетной старости граф Эдмон де Лейе, а его наследник граф Рауль де Лейе, женатый на удочеренной герцогом Анжуйским Генриэтте, стал одним из богатейших вельмож своего времени. Дружеские отношения его с Пьером Ферма не сложились. Согласитесь, не пристало же зятю самого герцога Анжуйского воздавать дворянской дружбой простому судейскому за оказанную им, но оплаченную услугу! О том же, как граф Эдмон де Лейе был вызволен из Бастилии, знали только покойный Ришелье, кардинал Мазарини да молчавший об этом Пьер Ферма. Он продолжал служить в Тулузском парламенте и делать открытия в математике, заложив основы таких ее областей, как аналитическая геометрия, теория алгебраических чисел и теория вероятностей. У его жены Луизы, схоронившей одного за другим отца Франсуа де Лонга и добрейшего дядюшку Жоржа, на руках было уже пятеро детей. Поскольку у Пьера Ферма больше не встречалось таких ослепительных дел и вознаграждений, как дело Рауля де Лейе, и он добивался справедливости для небогатых людей, ей все труднее было сводить концы с концами, а Пьер, человек непрактичный, продолжал отдавать свое бесценное время таким неоплачиваемым занятиям, как математика или та же поэзия. Сонеты, которые когда-то восхищали мать пятерых детей, не могли бы их прокормить! Где-то в душе Луиза жалела, что из-за щепетильности мужа она так и не стала графиней де Лейе! Но что делать! Декарт, выйдя в отставку с военной службы, продолжал жить в Нидерландах, но с каждым годом ощущал все больший гнет гонений всех ополчившихся на него церквей. Тридцатилетняя война окончилась, но мира не было в Европе. Франция теснила границы Нидерландов, Испания угрожала Франции, не говоря уж о такой исконной, многовековой вражде, как англо-французская. Не прекратилась борьба крестьян против владетельных господ. Начали поднимать голову буржуа, грозя властью денег. Но по-прежнему самым благородным (и прибыльным!) делом была война с ее высшей военной доблестью — родоначальником знатности и богатства. И все-таки перо ученого уживалось рядом со шпагой. Наука развивалась! Неоценимый вклад в нее наряду с Пьером Ферма и Рене Декартом внесли и Блез и Этьен Паскали, Торричелли, Гюйгенс, Мерсенн и многие другие, без которых не было бы ее последующего развития во всем мире.Ф. Бэкон
Часть третья ИХ ТЕНЬ ДОСТАНЕТ ОБЛАКА
Статую красит вид, человека — его деяния.Пифагор

Глава первая В АЛЬПАХ
Умный человек может быть влюблен, как безумец, но не как дурак.Ларошфуко
(Из дневника г-жи Луизы Ферма, урожденной де Лонг.)
«Даже в монастыре я не вела дневника, не прятала тетрадь в бархатном переплете под подушку, не читала своих тайных записей закадычным подругам, не вздыхала и не проливала слез над стихами, а вот теперь… теперь мне захотелось записать все, что чувствую, о чем думаю после двадцати пяти лет замужества. Пьер сделал к этому нашему с ним дню самый лучший для меня подарок. Нет! Не драгоценный перстень, где «щурится камень кошачьим глазком», не ожерелье самоцветов, которым я однажды любовалась в лавке у ювелира, испанского еврея, не серьги, светящиеся, как звезды, не цыганские браслеты, гремящие при каждом движении руки, хотя (чего скрывать!) мечтала обо всем этом! Он подарил мне поездку в Швейцарию! И я завела эту тетрадку, отправляясь в путь. Пьеру удалось освободиться на время от дел в парламенте, а мне пришлось оставить вместо себя за хозяйку Сюзанну. В ее двадцать лет ей полезно почувствовать себя хоть на некоторое время старшей в доме, а не обращаться по всякому пустяку к матери, которая должна все делать, обо всем помнить, все знать! Конечно, сердечная Жанна поможет ей, взяв на себя заботу о маленькой Эдит. Именно этой трехлетней крошки будет мне не хватать в далекой и прекрасной Швейцарии! Я помню, ох помню, как проходили каждый по-своему через самый забавный, трехлетний возраст мои дети! Самуэль, наш первенец, тогда удивительно любопытный, теперь в свои двадцать четыре года уже бакалавр, но так же непрактичен, как и отец, избрав своей деятельностью науку и поэзию, которые еще никого не кормили досыта. А каким на редкость покорным ребенком росла Сюзанна, ныне болезненно мечтающая о замужестве, нуждаясь и в приданом. Только продажа нашего городского дома может помочь нам внести за Самуэля его долю в какое-нибудь дело в Париже, чтобы он смог заниматься наукой и поэзией, оставив кое-что и для Сюзанны. Жанна в отличие от такой «распустившейся розы», как Сюзанна, из забавной девчушки с колечками золотистых волос превратилась в неуклюжего, неоперившегося гусенка с длинной тонкой шеей, но который еще станет лебедем! И в ней, судя по ее отношению к маленькой сестренке, зреет будущая заботливая мать не в пример слишком занятой собой, холодной Сюзанне. Жорж же, названный так в память добрейшего дядюшки Жоржа, из смешного толстенького увальня превратился в десятилетнего шалопая и бездельника, рвущего панталоны на всех деревьях сада, доставшегося нам в наследство от его деда Франсуа, которого он никогда не видел. Двадцать пять лет! Четверть века забот и лишений, присмотра за детьми, вороватыми слугами и нерасторопным, рассеянным мужем, равнодушным к домашним делам, витающим в своих никому не нужных формулах или стихах, уместных лишь в давно прошедшей юности. Нет! Я не против его стихов, когда-то они радовали меня, но я сама страшусь признаться себе в том, что все, что прежде привлекало меня в Пьере, теперь начинает раздражать в нем, и он порой кажется мне неудачником. Ведь всего только один раз выпало ему на долю счастье, и обязан он этим прежде всего моему отцу, который настоял в парламенте, где с ним считались, чтобы Пьеру поручили дело по обвинению гугенота графа Рауля де Лейе в преднамеренном убийстве католика маркиза де Вуазье. Только прозорливость отца могла предугадать, какое сказочное вознаграждение получит Пьер, спасши от позорной казни графа Рауля. Пьер как-то цитировал: «Ни одно благодеяние не останется безнаказанным!» Что ж! Аристократы действительно охотно забывают тех, кому обязаны. Со времени женитьбы графа Рауля на Генриэтте, этой прижитой герцогом на стороне дочери, а потом после кончины старого графа Эдмона де Лейе его возвращенный Пьером к жизни сын ни разу не пригласил к себе в замок своего названого друга, который даже мог считаться его братом, как того желал старый граф, ни разу не пригласил его вместе с женой, принесшей в суд спасительное для него письмо аббата Мерсенна! Впрочем, стоит ли горевать из-за этой черной неблагодарности? Все равно мы с Пьером отказались бы от «такой чести», хотя бы потому, что жене советника парламента нечего было надеть для такого светского приема, нет драгоценностей, чтобы украсить свой наряд. Бог с ними, оставшимися в Тулузе, вспоминаю о них только для того, чтобы полнее почувствовать в этой свежей горной стране необыкновенную чистоту воздуха, чтобы острее любоваться поражающими воображение пейзажами, отдохновеннее наслаждаться предоставленным в пансионе, где мы остановились, комфортом. В нашей с Пьером комнате есть даже рукомойник с вделанным в мрамор зеркалом, пуховые перины на широкой кровати под балдахином, покойные кресла на белых, гнутых, отделанных золотом ножках. Услужливые горничные в кружевных наколках стараются угадать каждое желание! И никаких забот по дому!.. Все есть, как в сказке!.. Любопытны обитатели нашего пансиона. Это и состоятельные люди, буржуа из разных стран, и аристократы. Сразу после приезда мы видели вереницу оживленных людей с альпенштоками и переброшенными через плечи мотками веревок, вышедшими следом за сухопарым и равнодушным проводником, чтобы отправиться в горы. Я с ужасом подумала, что все эти люди без видимой причины и, конечно, без всякой выгоды для себя станут карабкаться на скалы, срываться с них, подвергаться опасностям снежного обвала, и все лишь ради того, чтобы почувствовать себя на головокружительной высоте. Поистине для того, чтобы решиться на это безрассудство, нужно ощутить головокружение и потерять голову еще внизу! Не могу понять этих людей, а Пьер одобрительно кивал им, незнакомым, провожая в опасный путь. Мы вышли на вьющуюся змейкой дорогу, некоторое время идя вдали за ними по заросшей травами колее. И за одним из поворотов были вознаграждены чудеснейшим видом на горный склон и снежную вершину. Мне бы хотелось описать, что увидела перед собой, но у меня нет таких слов. В рыцарских романах, которыми я увлекалась в монастыре и после него, больше говорилось о красоте чувств, чем о красотах природы. Но именно они, красоты природы, вызывают во мне самые сильные чувства. Пьер решительно не умеет отдыхать! Вместо того чтобы бездумно созерцать эту красоту, он размышлял о жизни, связывал с нею увиденное и даже написал об этом сонет, который я переписываю в свою тетрадку, чтобы поразмыслить над ним. Я в отчаянии от того, что все труднее понимаю мужа, считая его стихи причудой, которую все меньше и меньше оправдываю. Но сонет его все-таки переписала:Глава вторая МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВОЙНА
Довольно почестей Александрам! Да здравствуют Архимеды!Итак, как нам уже известно, во второй понедельник июля 1656 года магистр Права (и Чисел, поскольку ученые не пожелали отстать от юристов!) Пьер Ферма с женой Луизой, урожденной де Лонг, по случаю двадцатипятилетия их свадьбы впервые отправились на отдых в Швейцарию. Страна легендарного Вильгельма Телля, уже два с половиной столетия независимая, избегая войн, а лишь отдавая за золото внаем отборные отряды своих воинов для охраны королей, представилась французской паре горным островом среди бушующего моря политических страстей, куда не доходят мрачные тучи с бьющими из них молниями то столетних, то тридцатилетних войн (вынудивших даже папу римского разрешить на какое-то время в истощенных странах многоженство, лишь бы рождались новые солдаты!), не говоря уже о войнах более мелких и менее продолжительных, но также пожирающих жизнь и кровь людей, однако воспеваемых придворными поэтами и благословляемых отцами церкви, неся славу и богатство одним, нищету, смерть или тяготы другим; эта страна показалась Пьеру Ферма как бы заслоненной снежными хребтами и от интриг «серого кардинала» Мазарини, навязывающего Европе гегемонию Франции, и от тщеславных амбиций вождя английской революции Кромвеля, который сперва допустил пролитие царственной крови, а потом во имя права народа на справедливость узурпировал власть над ним, грозя тем же и соседним странам Европы (совмещая в себе, как блистательно определил впоследствии Карл Маркс, одновременно две такие фигуры грядущей истории, как Робеспьер и Наполеон, о чем, конечно, Ферма не мог иметь представления). Он лишь, отрешившись от повседневности, любовался оазисом красоты, когда во время прогулки с женой по заросшему проселку увидел будто бы совсем близкий горный склон, волшебно приближенный прозрачным воздухом, хотя лес там выглядел постриженной травкой, примыкая к скалистому обрыву «крепостной стены великанов», воздвигнутой здесь для охраны подступов к снежной вершине, сверкающей на солнце немыслимо огромным алмазом, причудливые грани которого делали небо более синим, более глубоким, даже твердым, где птицы застыли на распростертых крыльях, став его частью, подобно звездам на ночном небосводе. Вот тогда непроизвольно слагался его «Альпийский сонет», дошедший до нас благодаря счастливо найденной страничке дневника Луизы Ферма, стремившейся понять мужа. Только спустя столетие после Ферма напишет великий Гeте о том, что «пока поэт выражает свои личные ощущения, он еще не поэт. Но как скоро он усвоит мир и научится изображать его, он станет поэтом. Не зная этих слов, Ферма все еще не считал себя настоящим поэтом, а потому не стремился публиковать свои стихи, ограничиваясь чтением их близким людям, лишив тем самым последующие поколения знакомства со своей поэзией. Однако сплав поэзии с математикой он считал естественным, преклоняясь и перед античными философами, ставившими стихи и математику рядом, и особенно перед исполинской фигурой Востока Омаром Хайямом, чья мудрость, выраженная в его певучих стихах, основывалась на обширных познаниях и плодотворно углубляемой им самим науке. Под впечатлением величественного спокойствия и тишины гор Пьер Ферма натянуто принял общество двух англичан, с которыми вместе по укладу пансиона они с женой оказались за одним столиком. В особенности пустым выглядел один из них с высокомерной светской болтовней и заготовленными комплиментами даме их стола, Луизе. К счастью, второй англичанин оказался не кем иным, как хорошо известным Ферма по переписке через аббата Мерсенна Джоном Валлисом, профессором геометрии Оксфордского университета, с которым можно было говорить на математические темы. Правда, Ферма не назвался по имени, поскольку англичане не поинтересовались, с кем вместе сидят за одним столиком. Ферма слишком уважал жену, чтобы лишить ее такого развлечения, как общество сэра Бигби, изощрявшегося в знаках внимания и ухаживании за нею. Выяснилось (англичане охотно говорили о себе), что сэр Бигби, в прошлом ученик Джона Валлиса, окончил Оксфордский университет и до сих пор считает себя математиком, хотя поддержка, в свое время оказанная им Кромвелю, возвысила его теперь до положения помощника военного министра. В непогожий день обычные прогулки стали невозможными, и Ферма с Валлисом вернулись из-за грозы, едва не промокнув до нитки. Вечером Пьер Ферма с Луизой, жалующейся на головную боль, сидели с англичанами в голубой гостиной. Сэр Бигби, видимо, перешел к штурму выбранной им жертвы и решил ослепить ее блеском своего генеральского мундира, придя в гостиную даже со шпагой на боку, что Ферма отметил про себя с внутренней усмешкой. Но когда разошедшийся английский лорд и помощник военного министра стал вещать, потряхивая шпагой на дорогой перевязи, всякая усмешка, и внешняя и внутренняя, у Ферма исчезла. Только привычная для юриста выдержка позволила ему не прервать английского лорда, сначала прославлявшего революцию и борьбу за справедливость, воплощаемую, по его словам, в великом Оливере Кромвеле, лорде-генерале, как он его называл, может быть желая подчеркнуть, что он тоже лорд и тоже генерал. После подавления движения ловеллеров и диггеров, этих низших слоев общества, тянувших «грязные руки к власти», и установления единовластного протектората вождя, решающей для судеб мира теперь стала собранная им в один кулак сила. — И он, ваш Кромвель, грозит войной Европе? — спросил Ферма. — Не Европе, а угнетателям европейских народов. Да, если хотите, сударь, то войной. — Как же сочетается война с ее узаконенными убийствами с представлением о справедливости, насаждаемым господином Оливером Кромвелем? — Вопрос наивный, но заслуживающий разъясняющего ответа, сударь. Дело в том, что… (не знаю, насколько это будет близко вам для восприятия) но война — это та чудесная сила, которая двигает вперед человеческое общество. — Вы не оговорились, сэр? Война — благо? — переспросил Ферма. — Война, а не мир, не благоденствие? — Нет, нет! Сэр Бигби не оговорился, — поспешил разъяснить Джон Валлис. — Мы часто с ним спорим, но, я думаю, полезно будет попросить его обосновать свою мысль. — Охотно, профессор! Я привык с давних лет давать вам объяснения еще на экзаменах в Оксфорде. — Да, да, — кивнул Джон Валлис, — но там была математика. — И здесь та же математика, если иметь в виду точность выводов, которые я берусь доказать, как любую из теорем Евклидовой геометрии. Вы говорили, сударь, о благоденствии и мире, но должен вам сказать, что есть вещи поважнее мира.[59] — Важнее мира? Что может быть ценнее сохранения жизни? — Торжество силы! Только сила направляет разум человеческий, только опасность, в которую человек попадает благодаря благостным, пробуждающим его скрытые возможности войнам, заставляющим его собрать и напрячь все силы, думать, искать, изобретать. Даже великий Архимед делал свои изобретения ради военных успехов родных Сиракуз. Человеческий ум, джентльмены, ленив и неподвижен в своей сущности. Нужно загнать его в угол, дать ему встряску, чтобы пробудить его, заставить работать как бы под кнутом надсмотрщика, стегающего бездельников на плантациях в колониях. Только боль ран и потерь, стремление выжить, остаться живым, сохранить свои богатства, владения, самостоятельность, избежать рабства или чужой зависимости — вот рычаги, которые заставляют человека, как мечтал еще Архимед, говоря о точке опоры для своего рычага, поворачивать с его помощью мир. Нет занятия более достойного, сударь, более важного для развития человечества, чем возвеличивание нации и отстаивание ее достоинства, чем война! — Ваша философия насилия как побудителя расцвета цивилизации не делает чести вашей нации, сударь, — возразил наконец Ферма. — Что? Что вы осмелились сказать о достоинстве моей нации? — поднял великолепные брови, готовясь вскочить с кресла, сэр Бигби. — Джентльмены, джентльмены! Прошу вас! Не стоит так обострять вопрос, — пытался смягчить спор профессор Валлис. — Нет, профессор, господин француз заставляет меня отнестись к затронутому вопросу о достоинстве нации со всей серьезностью, поскольку это граничит с вызовом нам, англичанам. — Вы совершенно правильно поняли меня, сэр. Я делаю вам вызов! — раздельно произнес Ферма. — Каков бы он ни был, мы принимаем его! — запальчиво произнес сэр Бигби, вскакивая с места. Но тут произошло замешательство. Луиза, весь день жаловавшаяся на нездоровье, прижав платок к глазам, не в силах, очевидно, дальше сдерживать нестерпимую головную боль, выбежала из голубой гостиной. Ферма проводил жену до лестницы и вернулся: — Я делаю вам вызов, джентльмены, как представителям английской нации и как математикам. — Математикам? — оторопело повторил сэр Бигби, снимая руку с рукояти шпаги, за которую перед тем ухватился. — Да, я предлагаю вам защитить достоинство вашей нации без шпаг, в «математической войне», требующей не крови, а напряжения ума. — Чего же вы хотите, сударь? — поинтересовался Джон Валлис. — Пустое! Предлагаю вам решить коротенькое уравнение, которое исследовал еще Евклид в своих «Началах». — Какое? Какое? — заинтересовался Валлис. — Я, кажется, неплохо знал «Начала» Евклида. — Тогда вы легко вспомните такое простенькое выражение, как y2 = ax2 + 1. — Еще бы! Так что вы хотите от нас, наш французский друг и противник? — Найти наименьшее значение неизвестных «x» и «y», имея в виду, что общее количество решений бесконечно. — Вы смеетесь над нами, сударь. Что может быть проще? — продолжал Джон Валлис, в то время как сэр Бигби, надувшись, сидел молча. — Совершенно ясно, что наименьшее из всех возможных решений при a = 2, x = 2 и y = 3! Не правда ли? Надеюсь, я защитил достоинство британской нации? — Не полностью, дорогой профессор. У Диофанта в его «Арифметике» рассмотрены два случая, когда a = 26 и a = 30. — Да, да, кажется, там есть такое. Вы этого не помните, сэр Бигби? — обратился профессор к своему бывшему ученику. — Не помню. В последнее время я занимался в заморских странах другими древностями. — Диофант дает наименьшие значения «x» и «y» для этих случаев, но если мы уже заинтересовались древней историей, то стоит вспомнить того же Архимеда. Великий сиракузец, желая проверить, имеют ли александрийские математики общий метод решения подобного уравнения, как известно, предложил им задачу «о быках», которая сводилась при решении к этому же уравнению, где коэффициент a = 4729494, понимая, что решить такую задачу подбором, как это вы сделали, уважаемый профессор, для a = 2, невозможно, ибо решение содержало 206545 знаков. — И что же? Вы предлагаете нам заняться архимедовыми быками? — насмешливо спросил сэр Бигби. — И выписывать сотни тысяч знаков? — Я предлагаю вам решить уравнение при a = 109149433,[60] когда подбор так же невозможен, как и в задаче, заданной александрийским математикам, хотя цифры и не столь велики. Чтобы дать ответ, вам и вашим английским коллегам, к которым я через вас обращаюсь, придется найти общий (регулярный) метод решения, а если ни ученые Англии, ни ученые прилегающих к ней стран не смогут этого сделать, то это будет сделано во Франции, чем и будет доказано превосходство одной нации над другой, в частности французской или британской. — Сэр Бигби поспешил ответить вам, что каков бы ни был ваш вызов, мы принимаем его, — произнес после раздумья Джон Валлис. — Мне остается только подтвердить его слова, отнюдь не преуменьшая связанных с этим трудностей. — Но эти трудности, уважаемый профессор, несопоставимы с теми тяготами и лишениями, которые несет нация, участвуя в якобы благостных, по мнению сэра Бигби, войнах. — Вижу, вы недаром назвали свой вызов «математической войной». Однако, принимая ваш вызов от имени нас двоих, сударь, я должен ознакомить с ним математиков Англии. — Можете познакомить с моим вызовом хоть самого лорда-генерала Оливера Кромвеля. — Это будет рискованно сделать, сударь: с лордом-генералом общаются лишь руководители европейских государств. — Передайте тогда, что я сделал вызов британской нации по совету кардинала Мазарини, данному мне еще при жизни его высокопреосвященства кардинала Ришелье, проявлять патриотизм француза и в науке. — Тогда другое дело, сударь. Но позволительно все-таки узнать, о чьем именно вызове надлежит нам сообщить лорду-генералу, каково имя человека, рискнувшего вызвать целую нацию? — Охотно назову себя, профессор. Я сожалею, что мне не представилось случая сделать это прежде, за отсутствием вашего любопытства, джентльмены. — Поверьте, сударь, теперь оно крайне обострено, и мы сожалеем о своей недостаточной учтивости к человеку, очевидно, обремененному научными званиями и доктора наук, и профессора. — Вы ошибаетесь, я всего лишь любитель! Правда, мне присудили степень магистра Чисел, право, не знаю за что, поскольку я не опубликовал ни одной книги, а в своих письмах сообщал лишь выводы, к которым приходил, предлагая другим найти ведущие к ним пути. Во всяком случае, делая свой вызов английским ученым, сообщаю, что метр Пьер Ферма к их услугам. Трудно передать то впечатление, которое произвело на англичан это скромное имя. — Пьер Ферма! — воскликнул после затянувшегося молчания Джон Валлис. — Отчего же вы не назвались нам раньше? — Мне показалось, что уважаемые джентльмены не проявляли интереса к именам своих собеседников. Англичане смущенно переглянулись. — Мы сожалеем, сударь. Теперь все будет по-иному. Мы принимаем ваш вызов… Джон Валлис оборвал свою фразу, заметив, что в голубую гостиную, громыхая оружием, ворвались два рослых альпийских стражника в сопровождении поджарой, дышащей гневом хозяйки пансиона: — Вот он, скорее вяжите его! Он в стенах моего заведения осмелился сделать вызов, вынуждая почтенных постояльцев принять его. Стражники грубо схватили Ферма за руки. — Вы с ума сошли! — запротестовал Ферма, глядя на растерявшихся англичан, которые не решались прийти к нему на помощь. — Это мы с ума сошли? — переспросил капрал. — Не добавляйте к своей вине еще и оскорбление властей! — И старший из стражников угрожающе зашевелил пышными усами. Англичане сделали попытку уговорить капрала, но тот никого не хотел слушать, ссылаясь на приказ офицера. К счастью, Луиза, лежавшая в своей комнате, не видела позорной сцены, когда ее мужа повели под стражей по той самой заросшей колее, по которой они недавно гуляли вместе, любуясь видом на горы. Сейчас Пьер Ферма не видел ничего. Опустив голову, он размышлял о нелепости своего положения, когда нет никакой возможности в чем-нибудь убедить этих тупоумных альпийских стражей, вообразивших, будто он кого-то намеревался убить. Горная вершина, сверкая снежным покровом, как и прежде, высилась, словно вырезанная в синем небе, но Пьер Ферма мыслями был в далеком Париже, где его вот так же вели под конвоем в Бастилию. Но тогда он даже радовался этому, стараясь уберечь Декарта, а сейчас… сейчас он всего лишь бросил вызов всей Англии во главе с самим Кромвелем! Но как доказать этим, что он предлагал соревнование умов, а не кровопролитие, как доказать, что его напрасно тащат к альпийскому офицеру за попытку убийства «мирного» постояльца пансиона «Горная курочка»? Поймет ли что-либо офицер?А. Сен-Симон
Глава третья КОРЕНЬ КУБИЧЕСКИЙ
Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум.Командир роты альпийских стражников (одно время в местном кантоне они представляли собой нечто среднее между жандармами, пограничной охраной и спасательной командой в горах) лейтенант Анри Бернард отнюдь не считал себя баловнем судьбы. Вся его жизнь казалась ему лестницей неудач, начиная с проклятой ступеньки экзаменов в колледже, где он провел последние годы, занимаясь игрой в мяч, скалолазанием и другими физическими упражнениями, ненавидя таблицу умножения, где почему-то 5 x 5 = 25, 6 x 6 = 36, а 7 x 7 = 49 (?), чего никак не удавалось ни понять, ни запомнить из-за «дырявой», как жаловался Анри Бернард, памяти. Словом, диплома об окончании колледжа он не получил, не попав на выгодную службу к отцу, где непременно требовалось искусство счета. Происходя из знатной семьи кантона, имея отца, державшего в Цюрихе заемную контору (прообраз будущих швейцарских банков), Анри Бернард мог бы надеяться на удачу, но крутой нрав родителя не допускал, чтобы человек, не умеющий считать, взялся бы за работу в его конторе или в любом торговом заведении. Он даже готов был лишить нерадивого сына наследства, но все же помог ему получить офицерский чин и пойти на военную службу, что в Швейцарии означало вступление в наемные войска с отправкой в другие страны, к чему Анри Бернард был совершенно не расположен, влюбленный в прелестную Женевьеву, дочь отцовского компаньона. При решении вопроса о месте прохождения военной службы неожиданно сыграли роль его безрассудные, по мнению отца, восхождения на труднодоступные вершины, и вместо отъезда к иноземному королевскому двору лейтенант Бернард попал в высокогорную глушь командиром роты альпийских стражей, с которыми вместе карабкался по отвесным скалам, чтобы выручить незадачливых гостей кантона, так же безрассудно, как и он когда-то, штурмующих вершины. В остальном жизнь в горной солдатской хижине была одуряюще скучна, не говоря уже о тоске по Женевьеве. Обычно тихий, задумчивый, высокий, как отец, но нескладный и на редкость бесцветный, с плоским лицом и пшеничного цвета растительностью, бровями, ресницами, усами, волосами, Анри Бернард к вечеру обычно пребывал в самом скверном расположении духа, когда являл сам себе полную противоположность, становясь подозрительным, злым, несправедливым, готовым выместить на других свои неудачи. Солдаты старались в такие минуты не попадаться ему на глаза. Но у конвоиров, доставлявших в расположение роты задержанного толстеющего француза, уже в возрасте, с длинными, по плечи волосами и чуть одутловатым лицом, выбора не было, в каком бы настроении лейтенант ни оказался. И Пьер Ферма предстал перед развалившимся на скамье у грубо сколоченного дощатого стола лейтенантом, смерившим его недружелюбным взглядом. — По требованию хозяйки пансиона «Горная курочка» этот ее постоялец был взят под стражу, господин лейтенант, за то, что сделал вызов другим двум постояльцам в нарушение конституции кантона, — бойко доложил капрал, бравый и усатый. — Так, так! Правильно скручено, капрал. Вы отрицаете, сударь… э-э… что сделали вызов? — Нет, не отрицаю, господин лейтенант, но… — Какое еще «но»! Признаетесь, значит, виновны. И все тут! — Не совсем так, господин лейтенант. Дело в том, что я Пьер Ферма, математик, сделал вызов англичанам, объявляя им математическую войну. Анри Бернард наморщил лоб, сопоставляя несопоставимое: — Еще того лучше! Он на территории кантона… э-э… объявляет войну! Вина тем усугубляется. Каждый въезжающий в нашу страну чужеземец должен знать ее законы. — Ваши справедливые законы, господин лейтенант, запрещают кровопролитие, что позволяет Швейцарии так процветать, но я ведь вызвал англичан на математическую войну. — Какую еще там… э-э… математическую войну? Это когда математики подсчитывают число убитых и раненых? — Никаких убийств, господин лейтенант! Только состязание в способности к математическому мышлению. — Математика?.. Э-э… То, что вы нарушитель законов кантона, ясно, а вот… э-э… насчет математики… — Я легко докажу, что это моя область. — Интересно, как это вы мне… э-э… докажете? — Я сделаю самое трудное математическое вычисление в вашем присутствии с молниеносной быстротой. — А как я вас проверю? — Очень просто. Я не говорю о таких доступных задачах, как сложение, вычитание, умножение или деление, даже возведение в степень… — Ну-ну! И что еще придумаете? — Скажем, извлечение корня. И не квадратного, а посложнее, кубического корня, хоть из шестизначного числа. Согласитесь, что это выглядит не таким простым делом. — Извлечение кубического корня? Что-то слышал об этом, как о самом заковыристом деле. А шестизначное… э-э… это очень большое число… — Возведите в третью степень любое двузначное число, господин лейтенант, и произнесите вслух полученное пятизначное или шестизначное число. Пока вы его объявляете, я назову вам ответ. — Что-то очень хитро… э-э… и, конечно, невозможно. — Но это самый простой способ убедиться в том, что вы имеете дело с математиком. — Да… но нужно перемножать двузначные числа — это целая чертовщина. — Поручите это господину капралу или еще двум-трем из ваших стражников. — А ну! — скомандовал лейтенант капралу. — Вызовите мне интенданта роты. — И он обернулся к Ферма: — Сейчас, сударь, этот парень выведет вас на чистую воду. Меня еще можно одурачить вашими фокусами, но не его! Он ведет в нашей роте… э-э… весь счет, платит за провиант, амуницию, офицерское жалованье и… э-э… ну да это неважно. Считать он умеет. И за себя, и за других. — Мне только это и надо, господин лейтенант. Вошел еще один капрал, низенький и юркий, с бегающими маленькими глазками и хитроватой усмешкой под солдатскими усами. — Капрал! Этот правонарушитель утверждает, что извлечет кубический корень… э-э… как это… из шестизначного числа раньше, чем вы успеете его произнести. Как? Возможно это? — Никак нет, господин лейтенант, невозможно, клянусь господом богом. — Всегда считал вас добрым христианином, когда вы клялись так при сложных… э-э… расчетах. Тогда… как это называется?.. Ну, возведите в третью степень, что ли, двузначное число. Садитесь вот здесь и пишите. А ты, капрал, — обратился он к старшему конвоиру, — делай то же самое на другом конце стола. Это, чтобы не переврали… э… покажите один другому начальные цифры. Капралы обменялись взглядами, и, что-то шепнув друг другу, сели на разных концах стола, и, сопя и кряхтя, принялись перемножать двузначные числа, чтобы получить их куб. Интендант закончил вычисление раньше и, прижимая к груди аспидную доску, на которой писал мелом, долго с сожалением и превосходством смотрел на своего соратника, трудившегося с гусиным пером и листком бумаги, высунув кончик языка. Наконец и тот закончил, но, видимо, ошибся, потому что интендант заставил его пересчитать. И только после этого, сверив полученные результаты, интендант передал аспидную доску командиру. Ферма чуть искрящимися от внутреннего смеха глазами наблюдал за этой забавной процедурой. Лейтенант же торжественно, с отчетливой раздельностью произнес: — Пятьдесят тысяч… — Тридцать… — тихо вставил Ферма. — …шестьсот пятьдесят три, — закончил лейтенант и услышал конец фразы Ферма: — …семь. Тридцать семь, с вашего позволения… — Чертовщина! — всполошился лейтенант. — Э-э! Мошенничество! Еще одна ваша вина! Вы, сударь, обладая… э-э… завидным слухом, подслушивали, как капралы обменивались начальными цифрами, и назвали их теперь, будто вычислили! Ферма пожал плечами: — Ваши подчиненные могут выйти из помещения и вернуться с готовым результатом, господин лейтенант. — И правда! Капралы! Марш из казармы! И помножьте мне там… э-э… что-нибудь побольше. Капралы послушно ушли и вернулись через несколько минут, многозначительно передав командиру аспидную доску. Лейтенант зловеще провозгласил: — Шестьсот восемьдесят одна тысяча… — Восемьдесят, — без промедления вставил Ферма. — …четыреста семьдесят два! — закончил лейтенант и услышал, сам себе не веря, конец ответа Ферма: — …восемь. Восемьдесят восемь, сударь! — Вы — колдун! Вас надо было бы в прежние времена передать инквизиции и сжечь на костре. — Здесь нет ни колдовства, ни секрета, господин лейтенант! Через полчаса вы будете проделывать то же самое. — Я? Э-э!.. Как это так? — Нет ничего проще, надо только запомнить восемь цифр. Два капрала, шевеля усами, уставились на колдуна. — А ну… э-э… Выйти всем! — скомандовал лейтенант. Стражники покорно исчезли из хижины. — Так вы хотите сделать из меня… э-э… математического волшебника, что ли? — Нет, просто ознакомить вас с некоторыми приемами теории чисел, очень простыми. Вы заметили, что я назвал первую цифру ответа, едва вы произнесли первые две, три цифры многозначного числа, говоря мне, сколько тысяч в нем. Мне этого достаточно, чтобы уже знать, сколько десятков двузначного числа надобно возвести в третью степень, чтобы получить чуть меньшее число тысяч. А когда вы заканчивали произнесение всего числа, то меня интересовала лишь последняя цифра, ибо каждому числу в кубе соответствует лишь определенная цифра извлеченного из него кубического корня. — Э-э… — наморщил лоб лейтенант. — Как же в этом разобраться? — Запишите себе восемь цифр. — Сейчас, сейчас, сударь, — заторопился лейтенант. — Только очиню перо. Этот капрал так… э-э… им царапал, что и писать теперь нельзя. — Запишите, потом запомните. — А вы их наизусть знаете? — Конечно. И вы так же знать будете, если хотите показать людям свое необычайное уменье счета. — Э-э! Вы попали в самую точку, сударь. Вы даже не представляете, как мне это надобно. — Тогда пишите: единица всегда единица. 23 = 8, 33 = 27, 43 = 64, 53 = 125. Эти цифры нет ничего проще запомнить. И еще 63 = 216. — А как их выучить? — горестно спросил лейтенант. — Хотя бы так: двойка в кубе — это сколько клеток в ряду на шахматной доске? — Восемь. — Ну вот видите! Вам этого уже не забыть! Простите, сколько вам лет? — Двадцать семь. — Как удачно! Тройка в кубе! Запомнили? А четверка в кубе — 64. Как раз столько клеток на всей шахматной доске. — Верно, сударь. — Пятерка в кубе — 125. Первые две цифры 1, 2 в сумме дают куб, а третья — вашу пятерку. Ясно? Теперь шестерка в кубе — 216. Опять первые две цифры в сумме дают куб, только расположены они в обратном порядке, а последняя цифра — шестерка, которую мы уже возводили в куб. — А ведь, пожалуй, так можно и запомнить. Что-то нас… э-э… не так учили… — Зазубривать вас учили. Один мой друг, великий философ Рене Декарт, пишет, что «для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать». — Это верно, сударь. Мудрый у вас друг. — Это не мешает нам с ним спорить порой. — Вот и мне теперь хочется поспорить с вашими цифрами в кармане. — С кем поспорить? — С отцом, ох как надо поспорить с ним! — Итак, остались только три числа 73 = 343. Это число начинается (или кончается) тройкой, то есть кубом. А сумма оставшихся цифр дает первоначальное число — семерку. Чувствуете общую закономерность? Не зазубривать, а размышлять! — Конечно, чувствую, размышляю, даже вижу! — обрадовался лейтенант. — До чего интересно! — Я рад, что это вас заинтересовало. — У меня тут… э-э… не просто любопытство, если бы вы знали, сударь. Кажется, от ваших цифр будет зависеть… э-э… мое счастье. — От души вам его желаю. Итак, еще два числа: 83 = 512. Как видите, последние цифры опять единица и двойка — в сумме куб, а все вместе цифры дают в сумме восьмерку! И наконец, последнее: 93 = 729. Вглядитесь в это число. Последняя цифра наша девятка, а две первые, как и 33, читаются как 27 (только в обратном порядке) — ваш возраст. — Ну, в прямом чтении это возраст моего отца. Тоже запоминается. Теперь, будьте уверены… э-э… научусь запоминать! — Вернемся к нашим недавним вычислениям и разоблачим чудо. Помните, когда капралы нашли число 50 тысяч, я уже знал, что это меньше 64 и больше 27, едва вы это произнесли, значит, первая цифра ответа будет 3 (десятка). Когда вы закончили чтение всего числа 50 653, то оно кончалось на тройку, а тройку в третьей степени может дать лишь семерка. Вот и ответ — 37! — До чего просто, — восхитился лейтенант. — А в последнем случае 681 тысяча была меньше 729, но больше 512. Значит, десятков будет 8, а последняя цифра 2 требовала только цифру 8. Вот и ответ — 88! — Вот это то, что мне надо, сударь! Э-э!.. Теперь я им покажу, как надо уметь считать! Ферма с улыбкой наблюдал за происшедшей в лейтенанте переменой. Его бесцветность как бы исчезла, так он оживился, выпрямился, засверкал глазами. Командир вызвал капралов и, глядя в бумажку с девятью числами (единицу он тоже записал), заявил, что это лишь на первое время, пока не запомнит накрепко, заставил подчиненных упражняться в арифметике, возводя в куб различные числа и с восторгом извлекая из шестизначных нагромождений кубические корни за считанные секунды, чем ввергал капралов в полное изумление и даже панический ужас, ибо им вполне могло показаться, что приведенный из пансиона чернокнижник познакомил их лейтенанта с нечистой силой. Лейтенант приказал оседлать двух лошадей и при лунном свете самолично проводил Пьера Ферма до пансиона «Горная курочка». Несмотря на поздний час и бережливость хозяйки, в гостиной все же горели свечи. Англичане обрадовались появлению Ферма, хотя у сэра Бигби был измученный вид. — Я рад, что вы вернулись, сударь, но в ваше отсутствие, да еще и ночью, я не рискнул беспокоить вашу супругу. Вы крайне обяжете меня, если вернете мне флакон нюхательной соли, так как у меня нещадно разболелась голова от всех перенесенных здесь волнений. Ферма, поднявшись по лестнице, через некоторое время принес скисшему генералу его флакон, а Луиза ждала возвращенного ей мужа на лестничной площадке, чтобы повиснуть у него на шее с заглушенными рыданиями. Лейтенант Анри Бернард все последующие дни мучил своих капралов до полного изнеможения, заставляя их умножать и умножать двузначные числа до получения их куба, а потом с наслаждением извлекал из полученных результатов кубические корни. И к тому времени, когда он от частого употребления вызубрил наконец названные ему Пьером Ферма числа, то невольные его помощники уже назубок знали все кубы чисел от единицы до ста, хотя и не имели представления о теории чисел, с которой ознакомил их лейтенанта французский математик. Все достигается упражнениями, вольными или невольными! Ко дню возвращения супругов Ферма из Швейцарии лейтенант Анри Бернард, получив кратковременный отпуск, прибыл в Цюрих. Уединившись с отцом в его узком, как коридор, кабинете, Анри признался, что в нем проснулся необыкновенный математик, способный творить чудеса. Отец не поверил, но, когда сын стал безошибочно извлекать кубические корни из шестизначных чисел, уверился в сошествии на сына необыкновенного дара благодаря услышанным господом богом отцовским молитвам. И по особому приглашению в дом Вильгельма Бернарда собрались: его компаньон Питер Бержье, два профессора математики лучших колледжей страны господа Штейн и Маркштейн, лысый доктор Фролистер, прославленный целитель и несомненный ученый, а также епископ местной епархии его преосвященство господин Мариане со своим секретарем аббатом Виньвьетом, человеком всезнающим и сугубо полезным. Перед этим почтенным собранием и выступил храбрый лейтенант, прежде всего принеся молитву всевышнему, а потом предложив присутствующим возвести в куб любое двузначное число, из которого он якобы может извлечь кубический корень с немыслимой быстротой. Пока профессора математики Штейн и Маркштейн занимались арифметическими вычислениями, его преосвященство епископ Мариане по-отечески вел беседу с Анри о душе, святой вере и спасении, его же секретарь аббат Виньвьет с видом ищейки осмотрел обширную гостиную с грубой альпийской мебелью, чтобы выявить приспособления, пригодные для обмана, сигнальные карты и прочие атрибуты фокусников, однако ничего не обнаружил. Доктор же Флористер, смерив пульс Анри и приложившись ухом к выпуклой его груди, установил, что тот находится в полном здравии. Тогда по знаку Вильгельма Бернарда профессора стали поочередно называть самые трудные, на их взгляд, шестизначные числа, извлечение кубического корня из которых даже у них потребовало бы до получаса времени, а то и больше! И десятки раз ответ Анри звучал раньше, чем Штейн или Маркштейн заканчивали провозглашение исходного числа, притом абсолютно без всякой задержки, без необходимого для вычислений времени, словно читая в мозгу математиков верные ответы. Профессора, Штейн и Маркштейн признали все ответы правильными, а быстроту счета не поддающейся осмыслению. Епископ с аббатом должны были решить, не причастен ли к этому враг человеческий. Но основания не нашли, поскольку Анри начал свой сеанс с молитвы, а произнося ответы, крестился. Доктор же Флористер подтвердил, что Анри называл ответы, не находясь в припадочном состоянии. Словом, признание сошедшего на Анри свыше дара было всеобщим и безусловным. Вильгельм Бернард праздновал полную победу, словно сбил стрелой яблоко с головы любимого сына.[61] Облобызав Анри, он объявил, что тот может выходить в отставку и приступать к работе в семейной заемной конторе. Однако всеобщим разочарованием могла бы стать, безусловно, неуместная шутка Анри, будто никакого дара к быстрому счету у него нет, а что он просто усвоил некоторые правила теории чисел. Шутка молодого Бернарда вызвала лютую бурю возмущения и негодования почтенных зрителей проведенного математического сеанса и совсем не шутивших; Анри понял, что ему никто не желает верить, обвиняя его в неуважении к собравшимся и даже к святой церкви. Пришлось Анри, потупив глаза, «признаться», что он всего-навсего хотел этим неуместным заявлением проверить, как глубоко впечатление от знакомства с его обретенным по воле господа даром. Все закончилось ко всеобщему удовольствию, Анри пожурили за присущее молодости неразумие и даже озорство, прочитали ему нотации, как хранить дарованную ему способность творить чудеса, в чем приняли участие все, начиная с отца и господина Бержье и кончая профессорами, врачом и епископом с аббатом. Анри выслушал всех с опущенной головой и потупленным взором, думая о Женевьеве, ожидавшей своей судьбы в соседней комнате и, быть может, заглядывающей в замочную скважину. Вскоре Анри вышел в отставку и занял место в отцовской конторе, с ужасом убедившись, что там вовсе не требуется извлекать кубические корни и надо делать вид, что совершаешь чудеса, едва справляясь с черновой работой. Через год, списавшись с Пьером Ферма, он приехал с молодой женой в Тулузу, чтобы одолеть при его помощи и другие приемы быстрого счета. Спустя десять лет, уже после кончины отца, он стал видным банкиром Цюриха, с достоинством неся бремя признанного «математического чуда века», а мысленно благодаря военную службу, занесшую его в солдатскую хижину вблизи пансиона «Горная курочка». Между тем математическая война между Англией и Францией разгоралась до необычного накала, привлекая к себе внимание не только ученых, но и государственных деятелей обеих стран. Профессор Оксфордского университета Джон Валлис собрал всю связанную с «вызовом» французского математика переписку, изобилующую и яркими находками, и острыми выпадами, и издал ее отдельной книгой.[62]Ф. Ларошфуко
Глава четвертая БИНОМ ФЕРМА
Делай великое, не обещая великого.Старинный запущенный сад де Лонгов благоухал. Жадный запах полонивших все трав спорил с робким и печальным ароматом все-таки распустившихся в зеленой чаще, когда-то ухоженных, а теперь одичавших цветов. Яркое солнце наполняло сад такой жизненной силой, что, поднимая стебли, множа листья, расцвечивая лепестки, она превращала остаток своей мощи в дурманящий аромат, способный воскресить давно забытое, ушедшее, минувшее тридцать лет назад, когда двое молодых людей, вчера еще незнакомых, разговаривали друг с другом, прикрываясь ничего не значащими словами, но передавая тревожно бьющимся сердцам нечто особенно важное, безмерно тайное и самое для них главное, что определит их грядущую судьбу. И вот те же люди, став на три десятилетия старше, вновь брели по той же самой, теперь грустной аллее, снова передавая друг другу невысказанные мысли, но уже не с помощью загадочных способов, доступных лишь влюбленным, а благодаря тому, что изучили за четверть века друг друга настолько, что знали, кто о чем подумает и что скажет. — Хотелось бы сорвать тебе розу, да ведь обдерешься весь о шипы, — заметил Пьер Ферма, протягивая руку к старому разросшемуся кусту. — Побереги камзол, — остановила его жена и добавила с горечью: — На случай, если граф Рауль де Лейе пригласит нас к себе в замок. Когда проживешь вместе жизнь, поймешь горькую мысль, что по его, Пьера, милости они не настолько богаты, чтобы бросаться пистолями или гинеями, и он не может купить себе новый камзол. Но услышал Пьер только упоминание о Рауле. — Боже мой! Сколько можно о нем говорить! — раздраженно сказал он. — Граф давно забыл о моем существовании. — Вы оба забыли друг друга, — с обидой за мужа сказала Луиза. — И совершенно напрасно забыли! «И нельзя теперь обратиться к нему за помощью, чтобы не переезжать, — подумал про себя Пьер, — в это запустение, доставшееся Луизе в наследство от де Лонгов, и не продавать городского дома!» — Что делать! — вздохнул Пьер Ферма. — Надо привести все в порядок. — Чьими руками? — только и спросила Луиза, но в словах ее слышались слезы. Конечно, они не могут нанять садовника, слуг, плотников, могущих исправить перекосившиеся окна и косяки дверей. Это знал Пьер и, защищаясь от несносных забот, воскликнул: — Боже мой! Но как-нибудь это можно сделать? Ты же все можешь! — Ах эти «могущие все руки»! — с усмешкой произнесла Луиза, поднося руки к глазам. — Если бы сэр Бигби знал, что на них ложится! — Все вспоминаешь английского лорда? — Уж я-то с ним не переписываюсь! — Наша переписка касается только моего «вызова» английским математикам! Уж лучше бы Пьер не упоминал о математиках! Он знал, как действует слово «математика» на жену, которая вполне справедливо считала, что это занятие мужа, как и его поэзия, не принесло ему никакого дохода. И еще знала, что такое растущие долги, знала и как хозяйка, и как мать подрастающих дочерей! И она с горечью сказала: — Математика! Мне кажется, что я хорошо усвоила теперь и что такое нуль, и как возникают так называемые отрицательные числа. Пьер понял ее намек на пустой карман и на долги, которые, конечно же, измотали ее, бедную. Стараясь отвлечь жену от невеселых мыслей, он попробовал пошутить: — Ты делаешь несомненные успехи в математике, хотя и недолюбливаешь ее, однако оперируешь такими понятиями, как нуль и отрицательные величины. — Еще бы! Я устала и от того и от другого! — Так не посидеть ли нам на скамеечке, — с улыбкой предложил Пьер. Она посмотрела на него своими глубокими, когда-то синими, а теперь начинающими выцветать глазами и сказала: — А ты не боишься, что нам придется сидеть в долговой яме? — Ну почему же? Я ведь все-таки работаю. — Ах, если бы работать и зарабатывать было бы одно и то же! — Что ты имеешь в виду? Пьер спросил, хотя хорошо знал, что у него нет больше таких ярких дел, как «спасение графа Рауля де Лейе», поставившее их когда-то на ноги. Казалось, вне всякой связи с предыдущим разговором Луиза сказала: — Сюзанна вне себя из-за нашего переезда за город. — Почему же? — удивился Пьер. — Она говорит, что ей не с кем видеться здесь. И правда, даже до церкви нам добраться — целое событие. — Что? Массандры приглашали? — догадался Пьер. Она кивнула и поднесла платок к глазам, что означало невозможность бедной девушке воспользоваться этим приглашением,потому что нет ни кареты, ни выезда и она не может идти пешком по пыльной дороге в своем перешитом из материнского платье! — Ну, у нее, по крайней мере, есть теперь хоть какое-то приданое, — растерянно напомнил Пьер. — Кто же об этом узнает, когда мы загнаны сюда? — Ну нельзя же так! — поморщился Пьер. — Ты жила с отцом в этом доме, и тебе это не помешало выйти за меня замуж. — Не тронь этого! Не тронь! — простонала Луиза и зарыдала, уткнувшись лицом в платок. — Меня находили здесь женихи, а я… «Отказывала им, чтобы теперь страдать со мной», — добавил про себя Пьер. — Это все из-за того, — сквозь слезы улыбнулась Луиза, — что моя тень никогда не достанет облака, а волочится по земле… за тобой, — добавила она совсем тихо и пошла, не оборачиваясь, по дорожке. Пьеру было бесконечно жаль ее — он не сумел дать ей всего, что она заслужила. Весь поникнув, опустился он на скамейку, слушая шуршание удаляющегося платья. Свесив на грудь голову, он задумался. Длинные седеющие волосы прикрыли ему лицо. Из глубокого раздумья его вывел звук приближающихся шагов. Он подумал, что это возвращается Луиза или послала за ним кого-нибудь из детей, но, подняв глаза, увидел, что по аллее идет статный и элегантный молодой человек с тросточкой, в светлой шляпе с высокой тульей (прообраз будущего цилиндра), в белых перчатках, в панталонах с изящными бантами, в чулках и модных ботинках. — Самуэль! — воскликнул Пьер Ферма, вскакивая навстречу сыну. — Как я рад твоему приезду! — Не более меня, видящего тебя! — с улыбкой произнес щеголь, целуя отцу руку и обнимаясь с ним. — Ну как? Что ты? Каковы твои дела? — обрадованно спрашивал счастливый отец. — Благодаря тебе все великолепно, отец! Перед тобой — компаньон книготорговца! Переданные тобой деньги я поместил в это дело, чтобы быть независимым и вместе с тем содействовать процветанию французской культуры. — Ты сделал правильно, мой мальчик. Я рад, что тебе удастся заниматься наукой без помех. — Конечно, проданные книги будут кормить меня и одевать, и, как видишь, неплохо. — Да, ты выглядишь франтом. — У нас в Париже иначе нельзя! Ведь я вращаюсь среди художников и поэтов, иногда попадаю и в светское общество, где даже знают некоторые мои стихи. — А ученые? — Они тоже знакомы со мной и, представь, уважают, однако не за мои скромные успехи, а за то, что я твой сын. — Ну, это ты напрасно! — Вовсе нет! Я воспринимаю это с удовлетворением, более того, с гордостью! — Перестань, пожалуйста! Я ведь не люблю славословия. — Это я знаю. Ты даже гнушаешься изображением слов на бумаге. Продавая сейчас книги, я мечтаю видеть среди них и твое собрание сочинений. — Говоря это, Самуэль смахнул белоснежным платком пыль со скамейки, опустился рядом с отцом и оперся подбородком о слоновой кости набалдашник трости. — Я приехал, отец, настоять на завершении твоей работы над собранием сочинений. Сколько можно еще тянуть? У меня есть знакомые издатели, которые с радостью издадут твои книги, сочтут это патриотическим долгом! — Ах, Самуэль! Эта черновая работа, переписывание давно сделанного, без поиска нового не по мне, не по мне! — Вот ты всегда так, отец! Не могу же я учить тебя! Я лишь забочусь о том, чтобы великое, сделанное тобой, стало достоянием многих людей. — Я всегда следовал Пифагору, говорившему: «Делай великое, не обещая великого». Что я могу сказать о мною сделанном? Что оно недостаточно! Разве только: «Потомство будет признательно мне за то, что я показал ему, что древние не всe знали, и это может проникнуть в сознание тех, которые придут после меня для передачи факела сыновьям…» — Подожди, отец, я запишу эти слова. — Я уже написал их в письме к Карви,[63] а закончил его словами: «Многие будут приходить и уходить, а наука обогащаться». — Но ты, отец, как никто другой, сумел обогатить ее. — О нет! Крайне мало! Я рад поговорить с тобой об этом. Наша с тобой дружба, я не ошибусь, говоря это, зиждется на понимании тобой того, что я делаю. — Конечно! Ради этого я и избрал для себя стезю ученого. — Только тебе здесь могу я рассказать о самом для меня важном. Еще один мой друг, немногим старше тебя, Блез Паскаль, которого ты знаешь, постоянно побуждает меня и к поискам, и к публикациям. Это он буквально принудил меня опубликовать вместе с ним (я не мог обречь на забвение сделанную им часть работы!) былые мои находки в области теории вероятностей, которым, кстати говоря, ты обязан своим участием в книготорговле. — Я понял и не забыл. Что же Паскаль, отец? — Он знал мое давнишнее увлечение суммой двух величин, возведенной в какую-то степень (x + y)n, где n любое целое число. И он прислал мне замечательную таблицу коэффициентов для членов многочлена, получающегося при возведении в степень бинома при всевозрастающих степенях. Ты только вглядись, какой непостижимой красоты эти расположенные в виде треугольника числа. Я назвал их «треугольник Паскаля»![64] Эта таблица напомнила мне мою давнюю работу в Египте, подаренную замечательному арабскому ученому Мохаммеду эль Кашти, который, оказывается, трагически погиб от руки невежд. В треугольнике Паскаля, как и в моей таблице пифагоровых чисел, можно заметить математические закономерности, прогрессии рядов. Смотри: первый косой ряд, состоящий из одних единиц, имеет показатель арифметической прогрессии, равный нулю, второй — последовательный ряд чисел — единице. Третий — величине степени «n». Четвертый сложнее: каждый последующий член больше предыдущего на сумму степеней от нуля до рассматриваемой степени. Дальше еще сложнее.Пифагор
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ для порядковых членов
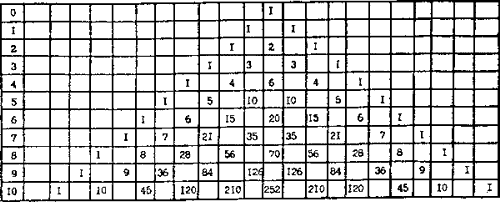 — Это действительно увлекает.
— Что ты! Это пустяк по сравнению с истинной вершиной красоты. Зачем все эти сложные математические зависимости, если все определяет единственная, но всеобъемлющая? Всмотрись внимательнее в таблицу и, пожалуйста, не разочаровывай меня. Ищи!
Самуэль с интересом вглядывался в письмо Паскаля.
— Отец! Это непостижимо, я просто случайно наткнулся на удивительное свойство! Ведь каждое число в таблице равно сумме двух, расположенных над ним в предыдущем горизонтальном ряду!
— Браво, мой мальчик! Ты будешь ученым! Если искать подлинную математическую красоту, то вот она! Удивительное свидетельство существования таких математических тайн, о которых мы и не подозреваем.[65]
— Да, отец, я понимаю тебя. Есть от чего прийти в восторг! Мне это представляется пределом достижимого.
— Как ты сказал? — сощурился Пьер Ферма. — Пределом достижимого? Пусть никогда эта повязка не закрывает твоих глаз ученого. Никогда воображаемый или даже увиденный «предел достижимого» не должен останавливать тебя в будущем как ученого.
— Я понимаю тебя, отец, и не понимаю.
— Я признаюсь тебе, Самуэль. Красота математической зависимости в таблице — это лишь сочетание граней частных случаев. А подлинная, всеобъемлющая красота — в обобщении. Ты понял меня?
— В обобщении? Ты хочешь сказать, что можно представить бином в какой-то степени в общем виде?
— Именно эту задачу я и поставил перед собой.
— Ты восхищаешь и поражаешь меня, отец. Придя в такой восторг от открытия Паскаля, ты пытаешься уйти вперед, возвыситься над таблицей частных значений!
— То, что может быть вычислено, должно и может быть представлено в виде универсальной формулы.
— Неужели ты нашел ее, отец?
— Да. Я еще никому не показывал ее, но подготовил письмо Каркави, заменившему почившего беднягу аббата Мерсенна, чтобы тот разослал копии европейским ученым. Журнала у нас все еще нет.
— Но, отец, не требуй от близких больше того, что они способны дать.
— Ты учишь меня разумному. Я всю жизнь стараюсь руководствоваться этим принципом.
— Так покажи мне формулу и вывод ее.
— Ты хочешь, чтобы я нарушил свой принцип? Нет, друг мой и сын мой! Даже для тебя я не сделаю исключения. Хочешь видеть мой БИНОМ — пожалуйста. Но получить его с помощью математических преобразований попробуй сам. Я хочу убедиться, что ты станешь подлинным ученым.
— Но я не решусь соперничать с тобой.
— Это не соперничество. Труднее всего достигнуть конечной цели, не зная ее, а если она известна, то дорогу к ней найти легче.
— Но ко многим указанным тобой целям ученые так и не могут найти дороги. Потому так и ждут твоего собрания сочинений.
— Ты опять об этом. Лучше я тебе покажу свою формулу: (x + y)n = (Mx + y)n + (x + My)n! — Он написал ее тростью сына на песке.
— Но как же мне найти дорогу к этой вершине?
— Я чуть-чуть помогу тебе, из отцовских чувств, конечно! Видишь ли, когда-то я предложил систему координат, которой воспользовался, в частности, мой друг Рене Декарт.
— Ему нужно было бы при этом больше сослаться на тебя.
— Я предложил систему координат, чтобы ею могли пользоваться все математики, которые найдут ее удобной, и не требую от них специальных поклонов в мою сторону.
— Ты остаешься самим собой, отец! Право, хотелось бы позаимствовать у тебя такие примечательные черты характера, которые поднимают тебя и надо мной, и над всеми. Итак, система координат?
— Теперь я пошел дальше. Ведь никогда не надо останавливаться на достигнутом. Я решил воспользоваться сразу двумя системами координат — прямой и перевернутой. Это позволило мне создать метод совмещенных парабол.
— Очень интересно! Но как это понять?
И Пьер Ферма стал объяснять сыну суть своего метода, снова взяв у него трость, чтобы чертить на песке.[66]
— Это действительно увлекает.
— Что ты! Это пустяк по сравнению с истинной вершиной красоты. Зачем все эти сложные математические зависимости, если все определяет единственная, но всеобъемлющая? Всмотрись внимательнее в таблицу и, пожалуйста, не разочаровывай меня. Ищи!
Самуэль с интересом вглядывался в письмо Паскаля.
— Отец! Это непостижимо, я просто случайно наткнулся на удивительное свойство! Ведь каждое число в таблице равно сумме двух, расположенных над ним в предыдущем горизонтальном ряду!
— Браво, мой мальчик! Ты будешь ученым! Если искать подлинную математическую красоту, то вот она! Удивительное свидетельство существования таких математических тайн, о которых мы и не подозреваем.[65]
— Да, отец, я понимаю тебя. Есть от чего прийти в восторг! Мне это представляется пределом достижимого.
— Как ты сказал? — сощурился Пьер Ферма. — Пределом достижимого? Пусть никогда эта повязка не закрывает твоих глаз ученого. Никогда воображаемый или даже увиденный «предел достижимого» не должен останавливать тебя в будущем как ученого.
— Я понимаю тебя, отец, и не понимаю.
— Я признаюсь тебе, Самуэль. Красота математической зависимости в таблице — это лишь сочетание граней частных случаев. А подлинная, всеобъемлющая красота — в обобщении. Ты понял меня?
— В обобщении? Ты хочешь сказать, что можно представить бином в какой-то степени в общем виде?
— Именно эту задачу я и поставил перед собой.
— Ты восхищаешь и поражаешь меня, отец. Придя в такой восторг от открытия Паскаля, ты пытаешься уйти вперед, возвыситься над таблицей частных значений!
— То, что может быть вычислено, должно и может быть представлено в виде универсальной формулы.
— Неужели ты нашел ее, отец?
— Да. Я еще никому не показывал ее, но подготовил письмо Каркави, заменившему почившего беднягу аббата Мерсенна, чтобы тот разослал копии европейским ученым. Журнала у нас все еще нет.
— Но, отец, не требуй от близких больше того, что они способны дать.
— Ты учишь меня разумному. Я всю жизнь стараюсь руководствоваться этим принципом.
— Так покажи мне формулу и вывод ее.
— Ты хочешь, чтобы я нарушил свой принцип? Нет, друг мой и сын мой! Даже для тебя я не сделаю исключения. Хочешь видеть мой БИНОМ — пожалуйста. Но получить его с помощью математических преобразований попробуй сам. Я хочу убедиться, что ты станешь подлинным ученым.
— Но я не решусь соперничать с тобой.
— Это не соперничество. Труднее всего достигнуть конечной цели, не зная ее, а если она известна, то дорогу к ней найти легче.
— Но ко многим указанным тобой целям ученые так и не могут найти дороги. Потому так и ждут твоего собрания сочинений.
— Ты опять об этом. Лучше я тебе покажу свою формулу: (x + y)n = (Mx + y)n + (x + My)n! — Он написал ее тростью сына на песке.
— Но как же мне найти дорогу к этой вершине?
— Я чуть-чуть помогу тебе, из отцовских чувств, конечно! Видишь ли, когда-то я предложил систему координат, которой воспользовался, в частности, мой друг Рене Декарт.
— Ему нужно было бы при этом больше сослаться на тебя.
— Я предложил систему координат, чтобы ею могли пользоваться все математики, которые найдут ее удобной, и не требую от них специальных поклонов в мою сторону.
— Ты остаешься самим собой, отец! Право, хотелось бы позаимствовать у тебя такие примечательные черты характера, которые поднимают тебя и надо мной, и над всеми. Итак, система координат?
— Теперь я пошел дальше. Ведь никогда не надо останавливаться на достигнутом. Я решил воспользоваться сразу двумя системами координат — прямой и перевернутой. Это позволило мне создать метод совмещенных парабол.
— Очень интересно! Но как это понять?
И Пьер Ферма стал объяснять сыну суть своего метода, снова взяв у него трость, чтобы чертить на песке.[66]
 Ферма закончил формулой xn + yn = zn и вернул сыну трость.
— Но ведь это же Диофантово уравнение! — воскликнул Самуэль.
— Ты прав. Мне еще придется заняться им. Примечательно, что оно получается из геометрического построения. Этим же построением можешь воспользоваться и ты, если не раздумал еще доказать формулу моего «бинома».
— Я попробую, отец, но ты, вероятно, переоцениваешь мои силы.
— Напротив, я надеюсь на тебя! Передаю тебе факел, как написал в своем письме.
— Сестричка! — воскликнул Самуэль.
На аллее показалась Сюзанна, худая и прямая, с холодным красивым лицом, так гордо несущая голову, что взгляд ее серых глаз казался едва ли не надменным.
— Мама просит к столу. Обед подан, — пригласила она.
Отец и сын поднялись и зашагали следом за девушкой, невольно любуясь ее осанкой. Она только раз обернулась, чтобы бросить на брата оценивающий взгляд. Тот, сняв шляпу, шутливо раскланялся.
За столом собралась вся семья, все семеро Ферма.
Жанна, строгая и заботливая, опекала четырехлетнюю Эдит; Жорж не вымыл руки, за что получил от нее выговор; Сюзанна не обращала на младших никакого внимания. Луиза сидела с красными глазами, так и не оправившись от недавнего разговора с мужем.
— А к нам, к садовой калитке, приезжал сегодня верхом молодой Массандр. И совсем даже не ко мне, — заявил Жорж. — К нему бегала Сюзанна. Вот!
— Замолчи за столом! — прикрикнула на него Жанна, заметив, как презрительно улыбнулась Сюзанна.
— Сладу с ним нет! — вздохнула Луиза. — Ты бы хоть старшего брата постыдился!
— А что мне стыдиться? Ведь не я с Массандром целовался, а Сюзанна.
Сюзанна с шумом отодвинула тарелку и с гордым видом вышла из столовой.
— Ну вот! Все вместе посидеть не можем! — плачущим голосом произнесла Луиза.
— Я сейчас приведу ее обратно! — вызвалась Жанна и выскочила из-за стола, погрозив кулаком Жоржу.
А тот сидел, расплывшись в озорной улыбке до ушей.
Сестры вернулись вместе и сели за стол как ни в чем не бывало.
Пьер Ферма понял только одно. Хочет он того или не хочет, но, видно, придется ему породниться с бывшим прокурором, ныне главным уголовным судьей Массандром. Вот уж чего не мог он предвидеть тридцать лет назад! Но годы меняют все!
Самуэль был оживленным, острил, рассказывал про Париж, заставляя сестер замирать от восторга.
Маленькая Эдит заявила, что обед невкусный и что Жорж ее все время толкает.
Словом, обед прошел в дружной семейной обстановке.
После обеда Пьер Ферма направился в свой кабинет отдохнуть, а Самуэль уединился для решения заданной ему отцом задачи.
Вечером они встретились. Самуэль сиял. Он был уже без шляпы и сменил парижский костюм на дорогой халат, какой его отец никогда не позволил бы себе купить, но сын спешил к отцу с такой всепобеждающей улыбкой, что Пьер не сделал ему замечания за расточительность.
— Я нашел, отец, нашел! Это замечательно! Теперь я понимаю, почему ты не даешь вывода к своим формулам! Ты оставляешь ученым высшее наслаждение от самостоятельной находки!
Пьер Ферма отвел сына в кабинет.
— Ну, показывай, — предложил он.
Самуэль вытащил из кармана халата сложенный листок бумаги.
— Вот он, твой «бином»! — протянул он отцу листок.
Пьер Ферма мельком взглянул на вывод своей формулы и обнял сына.[67]
— Вот теперь можно говорить о «биноме Ферма».
— Почему только теперь? — удивился сын. — Разве формула не могла носить твоего имени?
— Сын мой Самуэль! Я совсем другое понимаю под словами «бином Ферма». Это — ДВОЕ ФЕРМА! Понял? — И он весело рассмеялся.
Вошедшая в кабинет Луиза удивилась беспричинной радости мужчин. Она звала их ужинать.
Ферма закончил формулой xn + yn = zn и вернул сыну трость.
— Но ведь это же Диофантово уравнение! — воскликнул Самуэль.
— Ты прав. Мне еще придется заняться им. Примечательно, что оно получается из геометрического построения. Этим же построением можешь воспользоваться и ты, если не раздумал еще доказать формулу моего «бинома».
— Я попробую, отец, но ты, вероятно, переоцениваешь мои силы.
— Напротив, я надеюсь на тебя! Передаю тебе факел, как написал в своем письме.
— Сестричка! — воскликнул Самуэль.
На аллее показалась Сюзанна, худая и прямая, с холодным красивым лицом, так гордо несущая голову, что взгляд ее серых глаз казался едва ли не надменным.
— Мама просит к столу. Обед подан, — пригласила она.
Отец и сын поднялись и зашагали следом за девушкой, невольно любуясь ее осанкой. Она только раз обернулась, чтобы бросить на брата оценивающий взгляд. Тот, сняв шляпу, шутливо раскланялся.
За столом собралась вся семья, все семеро Ферма.
Жанна, строгая и заботливая, опекала четырехлетнюю Эдит; Жорж не вымыл руки, за что получил от нее выговор; Сюзанна не обращала на младших никакого внимания. Луиза сидела с красными глазами, так и не оправившись от недавнего разговора с мужем.
— А к нам, к садовой калитке, приезжал сегодня верхом молодой Массандр. И совсем даже не ко мне, — заявил Жорж. — К нему бегала Сюзанна. Вот!
— Замолчи за столом! — прикрикнула на него Жанна, заметив, как презрительно улыбнулась Сюзанна.
— Сладу с ним нет! — вздохнула Луиза. — Ты бы хоть старшего брата постыдился!
— А что мне стыдиться? Ведь не я с Массандром целовался, а Сюзанна.
Сюзанна с шумом отодвинула тарелку и с гордым видом вышла из столовой.
— Ну вот! Все вместе посидеть не можем! — плачущим голосом произнесла Луиза.
— Я сейчас приведу ее обратно! — вызвалась Жанна и выскочила из-за стола, погрозив кулаком Жоржу.
А тот сидел, расплывшись в озорной улыбке до ушей.
Сестры вернулись вместе и сели за стол как ни в чем не бывало.
Пьер Ферма понял только одно. Хочет он того или не хочет, но, видно, придется ему породниться с бывшим прокурором, ныне главным уголовным судьей Массандром. Вот уж чего не мог он предвидеть тридцать лет назад! Но годы меняют все!
Самуэль был оживленным, острил, рассказывал про Париж, заставляя сестер замирать от восторга.
Маленькая Эдит заявила, что обед невкусный и что Жорж ее все время толкает.
Словом, обед прошел в дружной семейной обстановке.
После обеда Пьер Ферма направился в свой кабинет отдохнуть, а Самуэль уединился для решения заданной ему отцом задачи.
Вечером они встретились. Самуэль сиял. Он был уже без шляпы и сменил парижский костюм на дорогой халат, какой его отец никогда не позволил бы себе купить, но сын спешил к отцу с такой всепобеждающей улыбкой, что Пьер не сделал ему замечания за расточительность.
— Я нашел, отец, нашел! Это замечательно! Теперь я понимаю, почему ты не даешь вывода к своим формулам! Ты оставляешь ученым высшее наслаждение от самостоятельной находки!
Пьер Ферма отвел сына в кабинет.
— Ну, показывай, — предложил он.
Самуэль вытащил из кармана халата сложенный листок бумаги.
— Вот он, твой «бином»! — протянул он отцу листок.
Пьер Ферма мельком взглянул на вывод своей формулы и обнял сына.[67]
— Вот теперь можно говорить о «биноме Ферма».
— Почему только теперь? — удивился сын. — Разве формула не могла носить твоего имени?
— Сын мой Самуэль! Я совсем другое понимаю под словами «бином Ферма». Это — ДВОЕ ФЕРМА! Понял? — И он весело рассмеялся.
Вошедшая в кабинет Луиза удивилась беспричинной радости мужчин. Она звала их ужинать.
Глава пятая «СЕРЫЙ КАРДИНАЛ»
Те, кто не испытывает стыда, уже не люди.Кардинал Мазарини был вне себя от ярости, но это никак не отразилось на его узком, красивом и аскетическом лице с тонкой полоской губ и всегда опущенными, по-итальянски жгучими, но смиренными глазами. Он перечитывал изысканно-оскорбительное письмо лорда-протектора Англии Оливера Кромвеля, надменно подчеркивающего, что он переписывается лишь с кардиналом Мазарини, а не с французским монархом Людовиком XIV, с прошлого года изволящим праздновать свое совершеннолетие в безудержном веселии и беспутстве двора, олицетворяя тем всю полноту своей абсолютной королевской власти (после достигнутой Мазарини победы над Фрондой). В своем письме Кромвель не оставлял никаких надежд на совместные военные действия Англии и Франции (чего так усердно добивался Мазарини), поскольку во Франции находятся люди, ставящие своей целью унижение британской нации и возвеличивание французской. И в качестве примера Кромвель многозначительно сослался на прилагаемую им к письму книгу профессора математики Оксфордского университета Джона Валлиса с полемической перепиской, возникшей в результате дерзкого вызова Пьера Ферма всей Англии, дабы доказать неспособность англичан подняться до его «французского» уровня! Мазарини, закусив узкие губы, тщательно изучил переписку, убедившись, что англичане действительно не смогли найти регулярного метода решения предложенного Пьером Ферма уравнения, — ни сам Джон Валлис, ни сэр Бигби, ни другие математики. Лишь лорду Броункеру удалось прийти к мысли, что «a» следует разложить в непрерывную дробь и рассмотреть подходящие дроби к ней.[68] Но и это оказалось далеким от требуемого Ферма общего решения. Итальянцу Мазарини было безразлично торжество французской нации. Ему требовалось лишь торжество его власти! Поморщившись, он отложил в сторону книгу Валлиса и, перебирая тонкими пальцами четки из драгоценных камней, задумался. Мазарини не умел прощать. И этот юрист из Тулузы, злоупотребляющий арифметикой, заслуживает пристального к себе внимания. Так бесцеремонно и бездумно вторгаться в высокую политику и путать расчетливо разложенные карты может или глупец, каким Ферма не признаешь, или дерзостный и опасный враг королевской власти, олицетворяемой в Мазарини. И этот враг заслуживает возмездия! Еще никому не сходило с рук встать поперек дороги «серому кардиналу», хотя бы тот и оставался, как всегда, в тени. Но из этой тени могли протянуться нити зловещих паутин, способных опутать самых могучих владетельных вассалов, а не то что какого-то судейского из Тулузы! Однако кардинал Мазарини никогда не действовал неосмотрительно и тем более открыто. Чтобы обезвредить и наказать (или уничтожить) врага, требовалось все узнать о нем и его окружении, найти самые уязвимые места противника, не дав ему ничего заподозрить, и только после этого нанести решающий удар. И тайные сыщики кардинала, получив задание, стали разнюхивать старые записи, расспрашивать пожилых людей, шныряя по Тулузе и ее округе. И вот теперь их секретные донесения рядом с злополучным письмом Оливера Кромвеля лежали на столе перед кардиналом в его скромном кабинете, где не красовались, как у его предшественника Ришелье, ни шкафы с бесценными книгами, ни былые боевые доспехи. У «серого кардинала» в отличие от «красного кардинала» Ришелье был иной стиль жизни — не герцога в прошлом, а простого выходца из Италии, сумевшего благодаря своим способностям (и беспринципности!) стать незаменимым помощником Ришелье, а потом наследовать его власть, и у Мазарини выработались иные методы правления, менее блестящие, но не менее действенные. Мазарини внимательно изучил все, что касалось жизни и деятельности метра Ферма на протяжении тридцати лет, с которым (Мазарини никогда не изменяла память!) он встречался еще при жизни кардинала Ришелье и даже по его поручению давал Ферма отеческое наставление. И «серый кардинал» острым твердым почерком составил список предосудительных деяний магистра Прав и Чисел Пьера Ферма. Начинался он со срыва вынесения смертного приговора убийце маркиза де Вуазье графу Раулю де Лейе, сыну одного из вождей гугенотов, конечно, примыкавшего к Фронде. Затем освобождение из Бастилии его отца графа Эдмона де Лейе, старого гугенота, соратника короля Генриха IV. И тогда же содействие лжефилософу Рене Декарту в бегстве того из Парижа, где его ждало справедливое возмездие за богопротивные сочинения, осужденные самим папой римским! Затем шел нанесенный ущерб земельным владениям герцога Анжуйского с выигрышем судебного дела против него в пользу крестьянской черни. И позже Ферма постоянно использовал свои возможности в суде, становясь на сторону низших сословий, противопоставляя их интересы дворянству с его привилегиями. И вот теперь чашу переполнял этот неуместный, вредный «вызов», спутавший все планы первого министра Франции! Срыв не какого-то там смертного приговора молодому графу, а военного союза с англичанами, который был так нужен и так возможен! Срыв из-за арифметических задач, что поистине надо рассматривать как злодеяние и государственное преступление против Франции! Однако, поскольку нельзя решение или нерешение математических задач подвести под наказуемое законом деяние, придется искать кару, не менее действенную, чем вынесение судом смертного приговора. В нахождении таких средств кардинал Мазарини был непревзойденным выдумщиком, и сам Ришелье мог бы склониться перед ним. Мазарини изучал лежащие перед ним документы, как изучает шахматист позицию, прежде чем начать атаку. Что ж, Пьер Ферма когда-то прямой атакой на короля выиграл шахматную партию у кардинала Ришелье, теперь он может сам послужить объектом атаки. Рядом с донесениями сыщиков, описавших всю жизнь Ферма в Тулузе на протяжении трех десятилетий, а также всех, кто с ним так или иначе общался, лежали еще две жалобы, адресованные королю. Одна из них принадлежала графу Раулю де Лейе, который всячески поносил советника парламента в Тулузе Пьера Ферма, «убежденного защитника бунтующих низших сословий, противника верного королю дворянства, который нанес материальный ущерб его жене Генриэтте, дочери герцога Анжуйского, отсудив в пользу грязных крестьян принадлежащие ей по праву земельные угодья». И граф де Лейе просил об отмене этого решения, навязанного суду советником парламента Ферма. Об этом Мазарини знал и раньше, но сейчас жалоба Рауля де Лейе обретала для него особое значение. Вторая жалоба была уже не от графа Рауля де Лейе, а от некой госпожи Орлетты де Гранжери, умоляющей короля отторгнуть от владений графа Рауля де Лейе земли, дарованные королем Генрихом IV отцу Рауля, графу Эдмону де Лейе, за заслуги в борьбе гугенотов с католиками. Эти земли, как утверждала Орлетта де Гранжери, по праву должны принадлежать не потомку безбожных гугенотов, в свое время едва не попавшему на эшафот, а древнему католическому роду де Гранжери, представляемому ныне ее сыном Симоном. Эта жалоба побудила Мазарини поручить своим ищейкам узнать все о семействе де Гранжери, и в особенности в части отношений этого семейства с графами де Лейе. Результат сыска оказался на редкость удачным и дал в руки кардинала незримые козыри, и он пригласил к себе на аудиенцию госпожу Орлетту де Гранжери, которая и ожидала сейчас приема, находясь в соседнем зале. Мазарини возлагал на эту встречу определенные надежды, тщательно продумав, как вести разговор. Важно выяснить: стоит ли привлечь просительницу из Тулузы к выполнению своих планов? Он дал молчаливый сигнал служителю в серой сутане, и через минуту тот ввел в кабинет ослепительную даму. Если бы кардинал не держал всегда глаза опущенными, ему пришлось бы зажмуриться, так сверкала нарядом, драгоценностями и сохранившейся красотой черноволосая и черноокая красавица, присевшая перед поднявшимся ей навстречу кардиналом в глубоком реверансе, подойдя потом под благословение кардинала и благоговейно коснувшись влажными, упругими губами холеной кардинальской руки. На ее склоненной голове под бриллиантовой диадемой кардинал успел заметить похожую на драгоценное украшение седую прядь, подобную Млечному Пути на ночном небе, единственную отметину тридцати лет, прошедших со времени, названного в донесении сыщиков. Кардинал, не садясь и не поднимая век, внимательно изучал посетительницу. Можно ли довериться ей? Впрочем, слепое доверие никогда не признавалось «серым кардиналом». Куда более надежно сочетание страха и выгоды, более глубоко действующих на человеческую натуру. И ничто так не объединяет людей, как ненависть, общая ненависть! Мазарини считал себя (и не без оснований!) знатоком человеческих душ и человеческих лиц, их отражающих. Подметив еще сохранившуюся у Орлетты де Гранжери былую демоническую красоту и затаенную страсть, «серый кардинал» решил, что может приступить к выполнению задуманного плана. Первый министр Франции галантно усадил посетительницу, склонясь над ней и наслаждаясь пьянящим ароматом ее волос, наряда, шелестом ее юбок, близостью ее роскошного тела, но, безжалостно смирив свою плотскую сущность, перешел к делу, весьма и весьма сложному и запутанному, о чем посетительница и представления не имела. Он сел за стол, перебирая четки, и вкрадчиво начал: — Так вы хотите, мадам, чтобы его величество передал вашему славному роду де Гранжери земельные угодья, когда-то отторгнутые у него королем Генрихом IV и переданные гугеноту де Лейе? — Ваше высокопреосвященство, видит бог, что вашими устами глаголет сама истина, требующая справедливости! Мазарини с удовлетворением отметил, как сверкнули черные глаза Орлетты при этих смиренных словах. — Дочь моя, своей просьбой вы заставляете самого господа бога через его недостойного служителя заглянуть в глубь времен. — Наш род гордится этой глубиной, ваше высокопреосвященство! — надменно вскинула голову Орлетта де Гранжери. Кардинал уставился на перебираемые четки. — Во всем ли можно гордиться, сударыня? — И елейным голосом добавил: — Вам придется напрячь память и помочь ради правды господней восстановить некоторые события. — Я готова, отец мой, как если бы была в исповедальне. — Да будет так! — чуть торжественно произнес «серый кардинал». — Пусть мое духовное звание позволит мне стать отныне вашим духовником. — Я так счастлива, ваше высокопреосвященство! — воскликнула Орлетта, пряча в глазах тревожные искорки. — Рад быть тому причиной, сударыня. — Кардинал тяжело поднялся из-за стола и, обойдя его, остановился перед смиренно поникшей женщиной. — Итак, в 1631 году вас постигло несчастье, в чем я соболезную вам всей душой. — Да, ваше высокопреосвященство, мой муж, господин де Гранжери, был подло убит на поединке с проезжим мушкетером, имени которого не удалось установить, несмотря на мою просьбу к посетившему меня в день похорон мужа советнику парламента в Тулузе. — Каково было его имя, сударыня? — Пьер Ферма, отец мой. Я взывала о мести, да простит меня господь, но слова мои остались не услышанными черствым сердцем судейского. — Запомним это. — Кардинал сделал два шага от стола и вернулся с опущенной головой. — В какой день, дочь моя, состоялась дуэль вашего мужа с мушкетером? — Во второй понедельник июля того несчастного для меня года, святой отец мой. — 1631-го, не так ли? А когда произошли похороны? — Ровно через две недели, отец мой, в третий вторник. — И ваш муж, смертельно раненный, так долго страдал? — И кардинал участливо нагнулся к своей гостье. — Я делала все, чтобы облегчить его страдания, ухаживая за ним как жена и сиделка. — Допустим. — Кардинал резко выпрямился. — А в какую ночь был убит в Тулузе маркиз де Вуазье? — Право, не знаю, я не была с ним знакома. — Но с ним был знаком, молодой тогда, граф Рауль де Лейе? Не так ли? — вкрадчиво спросил кардинал. — Возможно, сударь, но я не знаю… — Но не встречались ли вы с кем-либо в ночь гибели маркиза? — Что вы, ваше высокопреосвященство! Мой муж был в таком состоянии. Его нельзя было оставить ни на минуту! Голос кардинала стал жестким: — А почему, как вы думаете, приехал к вам в замок этот советник парламента в Тулузе, Пьер Ферма? Не хотел ли он спасти с вашей помощью графа Рауля де Лейе? — Право, отец мой, я не знала причины его приезда. Кардинал снова нагнулся к Орлетте: — А если я вам, как ваш духовник, подскажу эту причину? — Я вам поверю всей душой, — отозвалась она, поникнув головой. Мазарини заговорил задумчиво и вкрадчиво: — Но надо, чтобы и я поверил вам, как на вашей исповеди, дочь моя. Раулю де Лейе грозила тогда смертная казнь за убийство маркиза де Вуазье, оправдать его перед судом могла лишь одна знатная дама, с которой он провел ночь убийства маркиза. Только эта дама, — внушительно добавил он, — могла ценой своей репутации спасти любовника. — О боже! Отец мой! Но господин Ферма не спрашивал меня об этом. — Не спросил? Это не делает ему чести как проникновенному советнику суда. — И Мазарини снова прошелся по кабинету. — Но разве я… разве я тогда могла бы помочь графу Раулю де Лейе? — пролепетала Орлетта де Гранжери. Кардинал остановился в обличающей позе с протянутой рукой: — Ну, вот видите, как неискренни вы на исповеди перед своим духовником, дочь моя! Именно вы могли бы спасти его, но ваше молчание заставило метра Ферма найти другие пути, чтобы выгородить вашего любовника, к которому вы примчались в Тулузу, оставив ради этого греховного свидания умирающего мужа без так необходимого ему ухода. Не так ли? — Ваше высокопреосвященство! — Орлетта сползла с кресла и упала на колени перед своим «духовником». — Вашими святыми устами говорит сам всевышний господь бог, изобличая грехи мои, об отпущении которых молю вас. — И она спрятала лицо в ладонях. — Иначе и быть не могло, — заверил Мазарини. — Но продолжим исповедь. Сколько лет, дочь моя, вашему сыну Симону? — Он родился в мае следующего за смертью мужа года, отец мой. Мазарини стал перебирать тонкие, украшенные перстнями пальцы. — Какое же это время прошло со дня зачатия? — Это время установлено самим господом богом, — краснея от смущения, произнесла Орлетта, отняв ладони от лица. — А не кажется ли вам, мадам, что ваш ребенок, как мне показалось сейчас, родился на месяц позже, чем предусмотрено всемогущим господом нашим? Орлетта вздрогнула всем телом, приложила кружевной платок к глазам и разрыдалась. Кардинал положил ей руку на голову: — Я только хочу установить необходимые связи, дочь моя, ничего не замышляя против вас, а стремясь лишь помочь вам объяснить мне и господу богу в моем лице, почему вы подаете теперь королю жалобу на графа Рауля де Лейе в пользу своего сына Симона. Не хотите ли вы просить короля, моля о том же всевышнего, чтобы земли подлинного отца вашего сына перешли к нему, Симону? — Это так! Ах, это так! — рыдая говорила Орлетта де Гранжери. — Ничто не укроется от ваших глаз! Но молю вас, как духовника, сохранить эту тайну исповеди. Кардинал ласково поднял ее с пола и усадил в кресло. — Вы все знаете, как сам господь бог. Вам надо было бы быть папой римским, — сквозь слезы лепетала Орлетта. — Но уверены ли вы, что я один, как ваш духовник, владею этой тайной? — Кто же еще? Ах боже мой! Мое сердце не выдержит! — О таких тайнах знают всегда двое: вы и ваш избранник. Но в минуту смертельной опасности он мог раскрыться ради спасения жизни советнику парламента, чтобы тот взялся доказать, что обвиняемый провел ночь с вами, а не дрался на дуэли с маркизом. — Боже мой! Этот Пьер Ферма! — Именно так, дочь моя. Ради этого он и приезжал к вам. — Но за тридцать лет он не открыл тайны! — В этом не было нужды, дочь моя. Но теперь, когда вы поднимаете руку на графа Рауля де Лейе, претендуя на его земли, Пьер Ферма, как его старый друг, который, как следует вот из этого документа, — и кардинал показал издали жалобу Рауля против Ферма, — готов на любые разоблачения ради выигрыша дела! — Это ужасно! Спасите меня и моего сына Симона от этого изверга, ваше высокопреосвященство! — Успокойтесь, сударыня, я лишь хотел открыть вам глаза на вашего истинного и самого опасного врага. — Ах боже мой! Я слабая женщина! Что же мне делать, ваше высокопреосвященство? Кардинал обошел стол и вернулся в свое кресло. — Защищаться, баронесса, защищаться, как волчица, когда нападают на ее волчонка. — Бог мой! Но я не волчица и тем более не баронесса, — насторожилась Орлетта. — Вы не были баронессой, входя в этот кабинет, но… если окажетесь волчицей, то уйдете баронессой. Король по моей просьбе дарует вам этот титул, и ваш сын, барон Симон де Гранжери, будет достойным продолжателем знаменитого рода верных католиков. — Боже мой, у меня кругом идет голова! Что же надо сделать, чтобы быть волчицей? — усаживаясь поудобнее в кресло, спросила Орлетта. — Кусать, сударыня, кусать, обороняясь, помня, что ваш самый опасный враг — это метр Пьер Ферма, которого в свое время вам следует привлечь в тяжбе с графом Раулем де Лейе на свою сторону. — Зачем же привлекать врага? — Чтобы обезвредить, сударыня. Наша святая католическая церковь учит нас обузданию врагов любовью. Я подарю вам сейчас, баронесса, перстень из Ватикана. Это перстень любви и смерти. Его носил на пальце один из святых римских пап. Я вывез его из Италии, и он ждал своего часа. Если этот перстень опустить в бокал вина, то тот, кто выпьет его залпом, познает радость, тот же, кто промедлит пять — десять минут и осушит его не сразу, уже не узнает никаких горестей, уготовленных ему в жизни. В том и другом случае святой перстень несет благо господне. — И «серый кардинал», сняв с пальца богатый перстень, передал его Орлетте де Гранжери. Бледная, едва передвигая ноги, поднялась она с места, снова присела в глубоком реверансе и поцеловала руку благословляющего ее столь высокого духовника. Она прошла через приемную, наполненную раззолоченными мундирами генералов и иностранных послов, сопровождаемая служителем в серой сутане, который, выйдя на мраморное крыльцо, зычно гаркнул, от чего у Орлетты замерло сердце: — Карету баронессе де Гранжери! Она вертела на пальце кольцо кардинала, подумав, что у него такие же длинные и тонкие пальцы, как у нее. Потирая эти свои чуткие пальцы, «серый кардинал» расхаживал по кабинету, старательно запахивая полы серой сутаны, чтобы не виднелась ее красная кардинальская подкладка. Меж его тонких губ блеснула полоска стертых желтоватых зубов. Он улыбался, неплохо начав игру против Пьера Ферма, лучше, чем вел ее на шахматной доске сам Ришелье! Но «серому кардиналу» не привелось увидеть результат завязанной им интриги. Шел 1660 год, а через год Мазарини не стало.Китайское изречение
Глава шестая ВЕЛИКАЯ ТЕОРЕМА
Посев взойдет для жатвы народной.Робкое появление Луизы в кабинете, куда она избегала входить из-за угнетающих ее математических рукописей мужа, удивило Пьера Ферма, и он поднял на нее вопрошающие глаза. — Я принесла тебе поручение председателя парламента метра Массандра заняться тяжбой баронессы де Гранжери с графом Раулем де Лейе. Пьер Ферма слышал об этом тянущемся годы деле, знал, что баронесса Орлетта де Гранжери обещала Массандру не пожалеть средств. Но почему Массандр поручает дело ему? Конечно, здесь не обошлось без Луизы! Виновато опустив глаза, она догадалась о мыслях мужа: — Ну да, я просила метра Массандра помочь нашей семье. Пьер отодвинул от себя свою настольную книгу «Арифметика» Диофанта, где наконец решился записать свое замечание к 8-й задаче II книги,[69] которое принято считать 11-м, привлекшим внимание математиков всего мира, и с иронией сказал: — Так ведь добрейшего дядюшки Жоржа нет. — Зато есть трехлетний Жорж! Это самый интересный детский возраст. Ты бы видел, как млеет Массандр, держа внука на руках, а тот лопочет уморительные вещи! — И просит деда Массандра подбросить выгодное дельце — другому деду — Ферма? — Ну зачем ты так? Ты знаешь, что родственникам не принято отказывать. Сюзанна тоже просила свекра помочь нам. Ферма откинулся на спинку кресла. — И Сюзанна тоже? Как они все угадывают! Род католиков против рода гугенотов — верное дело! Сам кардинал Мазарини обещал помочь баронессе, и, если бы не его кончина, она получила бы все, чего добивалась. А граф Рауль де Лейе лишился высокого покровителя после смерти герцога Анжуйского! А его величество король Людовик XIV не любит споров между вассалами и после долгих раздумий повелел парламенту в Тулузе рассмотреть тяжбу. Почему же мне надо выступать против Рауля? Потому что он не проявлял своей дружбы? — Ну что ты, Пьер! Кто об этом говорит? Это совсем не сведение счетов. Наша семья просто заинтересована в щедрости баронессы. Я умоляю тебя не вспоминать о своей былой дружбе с графом Раулем де Лейе. Своим пренебрежением к нам… Мне просто больно говорить. Ты же понимаешь, все понимаешь! — Еще бы! Требуется приданое нашей второй дочери Жанне, превратившейся из утенка в лебедя! Все понимаю, но могу я дописать теорему, которую так долго обдумывал? — Пьер, милый, ты прости меня. Я рискнула пообещать метру Массандру, что ты немедленно выедешь в Гранжери к баронессе. Метр Массандр уже назначил срочное слушание дела. — Несколько лет волокиты, а теперь спешка? — Разве ты не знаешь, всегда так бывает! Но мы не можем… понимаешь, не можем упустить этой возможности. И я прошу… ради всего прежнего прошу тебя… не отказывайся. — Ну конечно! Все решено без меня… и ты, наверное, даже велела Жоржу оседлать иноходца? — А как же! Я забочусь о тебе, Пьер. В январе темнеет рано. Два дня пути, надо успеть найти ночлег. Но зима нынче мягкая. Ты наденешь дорожный костюм, который я принесла, и теплый плащ. — Ах боже мой! Что они со мной делают! Но ты позволишь мне хотя бы дописать теорему? — Если обещаешь сразу сесть на коня. — Я ограничусь только тем, что уместится на полях, заранее зная, что я «непрактичен и что запись моя, которую никто и не прочтет, ничего не принесет семье»! Под собственную воркотню Пьер Ферма торопливо писал: «Ни куб на два куба, ни квадрато-квадрат, и вообще никакая степень, кроме квадрата, не может быть разложена на сумму двух таких же».[70] — Или я не прав? — поднял глаза от книги Пьер Ферма. — Я докажу это тебе простейшим способом, — отозвалась Луиза, глядя в окно. — Вот Жан ведет оседланную лошадь, которая принесет тебе и всем нам доход. И что может быть убедительнее? — У тебя поистине удивительное доказательство! — произнес Пьер Ферма и дописал свое одиннадцатое замечание к книге Диофанта: «Я нашел удивительное доказательство тому, однако ширина полей не позволяет здесь его осуществить». Надо заметить, что в своих сорока пяти замечаниях, написанных на полях этой книги, Ферма не раз умудрялся уместить куда больше, несмотря на узость полей, но Луиза тогда не стояла над душой. Ферма посыпал сухим мелким песком свежую запись, ссыпал его обратно в песочницу, захлопнул книгу и стал переодеваться. Закутавшись в теплый плащ, сопровождаемый женой, он вышел из дома в сад, дойдя до той самой калитки, где некогда встречался с Луизой тайком по ночам. Долговязый младший сын Жорж с озабоченным выражением на веснушчатом лице, стоя на краю вспаханного осенью под пары поля, держал смирного низенького иноходца, верного спутника всех деловых поездок Пьера Ферма по окрестным крестьянским домам. К удивлению жены и сына, Пьер, тяжело сев в седло, направил коня не вдоль ограды к южной дороге, а через стоявшее под парами поле к старому дубу, от которого он когда-то шел к калитке, но отклонился, попав на свежую пашню, и ушел в темноте далеко в сторону, что позволило ему ценой несостоявшегося свидания открыть закон преломления света. У двухсотлетнего дуба, которому и сорок лет не срок, он обернулся, рассмотрев вдали у калитки две фигурки, и помахал им рукой с горьким, щемящим чувством, будто не увидит их больше никогда… Подавив это нелепое ощущение, он пустил коня спокойной иноходью, плавно покачиваясь из стороны в сторону, а не подпрыгивая в седле, как от уколов, при каждом шаге упругой рыси былого доброго коня дядюшки Жоржа, после чего в свое время Пьеру пришлось долго приходить в себя. А вот и то место, где молодой тогда граф Рауль де Лейе распрощался с ним после освобождения из тюрьмы, спеша на любовное свидание и меньше всего заботясь о сохранении верности своей будущей невесте Генриэтте, готовый уступить ее хоть Пьеру Ферма. Трудно представить себе более спокойную лошадь, чем иноходец Пьера Ферма, и пусть фатоватый мушкетер презрительно окинул его наглым насмешливым взглядом с высокого седла своего боевого приплясывающего коня. Пьеру Ферма, в его шестьдесят три года, требовалось не гарцевать, как на параде, а засветло добраться до знакомого трактира, где еще начинающим советником парламента разыскивал следы проезжего мушкетера. Холодными и однообразно унылыми казались в пути зимние пейзажи с хмурым, затянутым беспросветными тучами небом, с обессилевшими, осевшими на голых сучьях придорожных деревьев птицами, словно уже отлетавшими свое. Опасно скользкой была чмокающая под копытами дорога, покрытая мутными лужами, рябыми от капель начинающегося холодного дождя или снежной крупы, и над всем этим — леденящий, пронизывающий до костей ветер, с диким воем мятущийся по мертвым, безлюдным полям. Было от чего почувствовать гнетущую тяжесть на сердце, ощутить неосознанную тревогу, даже страх неведомого или вообразить себя в хвосте печального шествия с завываниями невидимых плакальщиц. Ферма встряхнулся, призывая на помощь любимую свою математику, только она могла вырвать его из этого угнетающего окружения и перенести в знакомый ему мир строгих чисел и ясных законов, где нет места ни мистике, ни суеверию. Дыхание призрачных похорон, коснувшееся было Ферма, обернулось воспоминанием о далеком и древнем кладбище с надгробной надписью, таившей изящную прелесть лаконизма скрытого в ней «неопределенного диофантова уравнения», заслоненного грубым, лежащим как бы на поверхности многочленом с одним неизвестным, доступным для решения неискушенным умам. Затем возникло в памяти подземелье храма бога Тота с изображением квадратов, расшифрованных им как ряды прямоугольных треугольников. И стоящий над всем этим строгий пифагоров закон, известный за тысячи лет до Пифагора, действительный только для прямоугольных треугольников, относящихся к «плоским местам», как называл их Ферма! А «пространственные места», подчиняются ли фигуры на них подобным закономерностям, начиная с куба, квадрато-квадрата, который представляет собой первую из «субпространственных фигур», требующих более трех измерений.[71] Необходимо рассмотреть эти свойства с пером и бумагой в руках, что можно достать лишь в трактире. Наконец за поворотом показались покосившиеся домишки, которые не стали лучше с того давнего времени, когда он проезжал мимо них, наткнувшись тогда на красующееся над трактиром деревянное колесо с телеги, зазывающее всех, кто едет, остановиться здесь на постоялом дворе. Колесо висело на старом месте с прежним названием под ним: «Ось в колесе». Ферма спешился, и выскочивший парень с туповатым лицом и бегающими глазами принял у него лошадь, чтобы отвести на конюшню. Войдя в трактир. Ферма увидел возвышающегося за стойкой грузного мужчину внушительного роста, совсем седого, но с лихо закрученными еще темными усами, сразу напомнившими ему гвардейца, которого, как сказали тогда в этом кабачке, выхаживала после ранения на поединке с мушкетером миловидная крестьяночка. Пьер заказал себе ужин и вина. Трактирщик услужливо принес бутылку (предварительно намотав на нее паутину, свидетельницу старины) и, поставив ее на стол, подсел к гостю. — Куда изволите путь держать, сударь? — В замок баронессы де Гранжери, дружище. Не укажете ли, как туда проехать? Кажется,я бывал там, но давно, забыл дорогу. Да и не помню таких баронов, де Гранжери. — А как же! Ха-ха! — оживился трактирщик. — Года четыре назад король пожаловал им такое звание, не знаю, за какие такие заслуги? Может быть, за то, что сын у нее родился после смерти мужа. — И он громко расхохотался. — Значит, в былое время не было таких баронов? — Не было, не было! Эх, годы, годы! Время былое, — вздохнул трактирщик, наливая стакан вина. — Память-то сдает, сударь! Что вчера было, как ветром выдувает из головы, а вот давно прошедшее держится, колом не вышибешь. Да и вышибать не хочется. Славное было время, сударь, при его высокопреосвященстве господине кардинале Ришелье, не правда ли? Вам не приходилось его видеть? Какой он молодец был, хоть ростом и не вышел! А как на коне скакал, даром что духовного звания! Ха-ха! Впрочем, генералиссимус! — Мне пришлось раз с ним встретиться. А вам, дружище? — Мне? Ха-ха! Мне-то приводилось — и не раз — видеть, как он мчался мимо нашего строя на боевом коне, в доспехах, словно остался герцогом, а не посвящен папой в кардиналы. Выпьем за его память! — Мне бы хотелось выпить за память! Смотрю я на вас, дружище, и вспоминаю, кого я видел тридцать с лишком лет назад лежащим в постели после ранения в поединке с неким мушкетером. — Придержите язык, сударь! И я что-то припоминаю. Ха-ха! Уж не вы ли были тем шпионом, которого подослал ко мне его высокопреосвященство, запретивший дуэли и среди своих гвардейцев? Я ведь не зря вас про него спросил. — Я рад, что вы меня припоминаете. Но я был не шпионом его высокопреосвященства, а лишь советником парламента в Тулузе, стараясь выяснить имя проезжего мушкетера, который дрался на поединке с вами. — А зачем вам было его имя? — Чтобы спасти невинного человека, обвиненного в убийстве дворянина на поединке. — Кто ж там кого убил? — Убил маркиза тот самый мушкетер, который ранил и вас, дружище. — Черт возьми! Ха-ха! — вскричал трактирщик. — Дело прошлое! Но не в правилах гвардейцев его высокопреосвященства господина кардинала Ришелье прощать своих врагов! — Так вы действительно тот гвардеец? — Конечно, я, сударь! Ха-ха! Ваше счастье, что я тогда шевельнуться не мог, так отделал меня этот проклятый мушкетер, не то я, заподозрив шпиона, проткнул бы его шпагой, как каплуна. Ха-ха! Но с тех пор, сударь, как я женился на своей женушке, выходившей меня после ранения, и купил на ее приданое этот трактир, не поднимаю больше руки ни на кого, разве что на кур и поросят для господ проезжающих. — Рад снова с вами встретиться. — Выпьем, сударь, по такому поводу. Трактирщик приободрился, привычным движением опрокинул в себя стакан вина и наклонился к Ферма: — Вы мой гость, сударь. У нас с вами давнее знакомство, так не назовете ли вы имя того мушкетера? Честное слово, я готов тряхнуть стариной, шпага у меня еще хранится в кладовке. Ха-ха! — Мне бы не хотелось, дружище, называть имени этого мушкетера по некоторым соображениям, могу лишь сказать вам, что он сейчас стал одним из маршалов Франции. Трактирщик-гвардеец многозначительно свистнул и налил снова вина и себе и гостю. — Тогда выпьем за его здоровье! — предложил он. Жена трактирщика в высоком белом чепце со сморщенным, но румяным лицом, принесла поднос с горячим ужином: жареного кролика с картофелем и сыр. — Я вас сразу узнала, сударь, и велела мужу подсесть к вам. Не верила я, что вас тогда к нему подослали, уж больно сердечно вы со мной поговорили. — Тогда присаживайтесь к нам, хозяюшка, — предложил Ферма, — а потом отведете меня в какую-нибудь комнатушку, где я смогу провести время до утра, воспользовавшись пером, бумагой и чернилами, которые вы мне принесете. — Чего нет, того нет, сударь! — отрезал трактирщик. — Хоть мы с вами и хорошо вспомнили старое-былое, но записывать это, как я разумею, не стоит! Да и где нам найти эдакую редкость? Перо, бумагу, чернила? Ха-ха! Да за тридцать лет, что мы здесь стоим за стойкой, у нас впервые такое попросили. И хорошо делали, что не просили. Не люблю я писанины! — Очень жаль, — вздохнул Ферма. — А шпагу своего мужа, сударыня, советую вам перепрятать подальше. — Шпага? Что шпага? Ха-ха! Захочу и буду на ней дичь жарить, как на вертеле! — Не слушайте вы его, сударь! Беда с ним, как напьется! Лучше кушайте, приготовлено по-нашему, по-крестьянски. А я пойду постелю вам постель. Небось устали с дороги. Пьер Ферма закончил ужин и, оставив задремавшего у стола трактирщика, поднялся вслед за хозяйкой наверх в отведенную ему каморку. Оставшись один, он снова вернулся к мыслям о пространственных и субпространственных местах, как он называл теперь невоображаемые фигуры многих измерений. Итак, жрецы бога Тота изображали, по существу, решение бинома в квадрате, получая ряды наименьших прямоугольных треугольников. А если не квадрат, а куб, фигура вполне реальная? Можно ли графически, как делали древние жрецы, решить бином в кубе? Понадобились мучительные раздумья, прежде чем лишенный пера и бумаги Ферма все-таки силой своего пространственного воображения представил себе куб, составив из отдельных частей, с шестью гранями, каждая из которых представляла собой тот самый составной квадрат, который изобразили на стене подземного храма египетские жрецы.[72]Д. И. Менделеев
 Но как ни старался Ферма представить себе субпространственное место с четырьмя и больше измерениями, это не удавалось, пока он не забылся наконец сном. А во сне эти «невоображаемые фигуры» возникали перед ним с удивительной простотой и ясностью, но едва он проснулся поутру — они исчезли, но сознание того, что он их видел, представлял, рассматривал, осталось вместе с представлением, что они принадлежат к другой области, чем «плоские места», а потому закономерность «плоских мест» для «пространственных и надпространственных» не может иметь решений в целых числах!
И доказать это во сне не составляло никакого труда, недаром он в присутствии Луизы, подчиняясь своему математическому чутью, написал, что уже имеет удивительное доказательство, и вот оно пришло к нему! Осталось только дописать это его замечание на полях книги Диофанта! Или в замке Гранжери, где найдется, несомненно, и перо и бумага!
Утром парень с туповатым выражением лица и сонными глазами вывел для Ферма его оседланного иноходца. Трактирщик с женой провожали его как давнего знакомого.
Распрощавшись с ними, Пьер Ферма отправился по обстоятельно указанному трактирщиком пути.
Тучи рассеялись, выглянуло январское солнце, у Пьера повеселело на душе, но главным образом потому, что он знал теперь свое «удивительное доказательство», которое вчера только нащупывал, ночью «увидел во сне»!
Ехать пришлось, как предупреждал гвардеец, довольно долго.
Изредка встречались крестьянские повозки, один раз промчалась карета с гербом на дверцах, запряженная четверкой белых лошадей, но, конечно, не из Гранжери. Баронесса увидела бы одинокого всадника на дороге, который мог оказаться советником парламента, встречи с которым ждала.
И если во время вчерашней непогоды ему лишь чудилась похоронная процессия, то сейчас, при солнечном свете, он сначала услышал далекий погребальный звон, а потом увидел наяву траурное шествие, растянувшееся по дороге к уже видимому кладбищу.
Впереди шествовал аббат в нарядном облачении с церковными служаками, за ними гроб несли четверо крестьян, а следом тянулись одетые в черное простолюдины, мужчины и женщины, вдова и нанятые плакальщицы горько плакали, их стоны разносились в холодном воздухе, сливаясь с далеким и грустным погребальным звоном.
Пьер Ферма придержал коня и, сняв шляпу, пропустил печальную процессию мимо себя.
В прошлый раз, едва ли не на этом месте, он присоединился к провожающим в последний путь дворянина де Гранжери, которому не привелось при жизни стать бароном, каким стал его сын. Какова игра судьбы!
Пьер Ферма хотел было и сейчас пройти вместе со всеми на кладбище, найти могилу де Гранжери, близ которой видел фигуру женщины в черном, безутешную вдову, как олицетворение любви, горя и ненависти, посвятив потом ей стихи, которые ей неизвестны. Но он раздумал, поскольку солнце близилось к закату, дни в январе коротки, и нужно было еще добраться до замка Гранжери.
Пьер Ферма направил лошадь бодрой иноходью к видневшемуся на холме строению, ни разу не ударив коня, а лишь сжимая и разжимая колени, заставляя тем чуткого друга выполнять желание всадника.
Замок оказался типичным загородным домом с мезонином и балконом, на котором на фоне угасающей зимней зари вырисовывался силуэт прекрасной женщины, какой запомнился Пьеру Ферма здесь тридцать с лишним лет назад.
Пьер даже зажмурился, чтобы видение исчезло. Ведь не могла же безутешная вдова остаться неизменной с того далекого времени! Может быть, это ее дочь? Но трактирщик говорил только о сыне, и то родившемся уже после смерти отца.
Кто же она, явившаяся из прошлого демонической тенью дамы, пылавшей любовью, горем и местью?
Но как ни старался Ферма представить себе субпространственное место с четырьмя и больше измерениями, это не удавалось, пока он не забылся наконец сном. А во сне эти «невоображаемые фигуры» возникали перед ним с удивительной простотой и ясностью, но едва он проснулся поутру — они исчезли, но сознание того, что он их видел, представлял, рассматривал, осталось вместе с представлением, что они принадлежат к другой области, чем «плоские места», а потому закономерность «плоских мест» для «пространственных и надпространственных» не может иметь решений в целых числах!
И доказать это во сне не составляло никакого труда, недаром он в присутствии Луизы, подчиняясь своему математическому чутью, написал, что уже имеет удивительное доказательство, и вот оно пришло к нему! Осталось только дописать это его замечание на полях книги Диофанта! Или в замке Гранжери, где найдется, несомненно, и перо и бумага!
Утром парень с туповатым выражением лица и сонными глазами вывел для Ферма его оседланного иноходца. Трактирщик с женой провожали его как давнего знакомого.
Распрощавшись с ними, Пьер Ферма отправился по обстоятельно указанному трактирщиком пути.
Тучи рассеялись, выглянуло январское солнце, у Пьера повеселело на душе, но главным образом потому, что он знал теперь свое «удивительное доказательство», которое вчера только нащупывал, ночью «увидел во сне»!
Ехать пришлось, как предупреждал гвардеец, довольно долго.
Изредка встречались крестьянские повозки, один раз промчалась карета с гербом на дверцах, запряженная четверкой белых лошадей, но, конечно, не из Гранжери. Баронесса увидела бы одинокого всадника на дороге, который мог оказаться советником парламента, встречи с которым ждала.
И если во время вчерашней непогоды ему лишь чудилась похоронная процессия, то сейчас, при солнечном свете, он сначала услышал далекий погребальный звон, а потом увидел наяву траурное шествие, растянувшееся по дороге к уже видимому кладбищу.
Впереди шествовал аббат в нарядном облачении с церковными служаками, за ними гроб несли четверо крестьян, а следом тянулись одетые в черное простолюдины, мужчины и женщины, вдова и нанятые плакальщицы горько плакали, их стоны разносились в холодном воздухе, сливаясь с далеким и грустным погребальным звоном.
Пьер Ферма придержал коня и, сняв шляпу, пропустил печальную процессию мимо себя.
В прошлый раз, едва ли не на этом месте, он присоединился к провожающим в последний путь дворянина де Гранжери, которому не привелось при жизни стать бароном, каким стал его сын. Какова игра судьбы!
Пьер Ферма хотел было и сейчас пройти вместе со всеми на кладбище, найти могилу де Гранжери, близ которой видел фигуру женщины в черном, безутешную вдову, как олицетворение любви, горя и ненависти, посвятив потом ей стихи, которые ей неизвестны. Но он раздумал, поскольку солнце близилось к закату, дни в январе коротки, и нужно было еще добраться до замка Гранжери.
Пьер Ферма направил лошадь бодрой иноходью к видневшемуся на холме строению, ни разу не ударив коня, а лишь сжимая и разжимая колени, заставляя тем чуткого друга выполнять желание всадника.
Замок оказался типичным загородным домом с мезонином и балконом, на котором на фоне угасающей зимней зари вырисовывался силуэт прекрасной женщины, какой запомнился Пьеру Ферма здесь тридцать с лишним лет назад.
Пьер даже зажмурился, чтобы видение исчезло. Ведь не могла же безутешная вдова остаться неизменной с того далекого времени! Может быть, это ее дочь? Но трактирщик говорил только о сыне, и то родившемся уже после смерти отца.
Кто же она, явившаяся из прошлого демонической тенью дамы, пылавшей любовью, горем и местью?
Глава седьмая ПЕРСТЕНЬ КАРДИНАЛА
Человек хуже зверя, когда он зверь.У баронессы Орлетты де Гранжери никогда не было дочери, на балконе своего замка, поджидая приезда советника парламента из Тулузы, стояла она сама, спустившись потом при виде подъезжающего всадника. Ферма был поражен необычайной ее внешностью. Седая прядь в ее волосах цвета вороньего крыла, восхитившая кардинала Мазарини, теперь, подобно речке от осенних дождей, разлилась, сделав серебристой всю левую часть головы, оставив остальное нетронутым. Орлетта искусно пользовалась этой своей особенностью и, оборачиваясь то одной, то другой стороной, как бы меняла свой возраст чуть ли не вдвое. Некую сверхъестественность ее обаяния ощутил и Пьер Ферма: в профиль справа она казалась ему знакомой безутешной вдовой, требующей мести за горячо любимого мужа, а повернувшись лицом в другую сторону, превращалась в любящую заботливую мать взрослого барона. Орлетта провела Ферма в дом, в просторную столовую, украшенную деревянными имитациями охотничьих трофеев, подлинными рогами оленей и клыкастыми кабаньими головами, усадила на стул с высокой резной спинкой и оказывала ему всяческие знаки внимания, без умолку говоря о дошедшей до нее славе Ферма как советника парламента. Она украдкой вглядывалась в его усталое лицо, стараясь разгадать, кем он был для нее: возможным помощником или врагом, как уверял ее Мазарини? Открыл ли ему слабый мужчина Рауль де Лейе в страхе перед казнью ее семейную тайну? — Я знаю, что у вас, блюстителей закона, — вкрадчиво начала она, — все основывается на бумагах, касающихся спорных земельных угодий. Я сейчас прикажу их принести. — Распорядитесь, сударыня, если это вас не затруднит, принести и чистой бумаги, а также перо и чернила. — Зачем вам бумага? Зачем перо и чернила? — насторожилась Орлетта. — Вы думаете, сударыня, мне нечего будет записать? — Нет, что вы! Я просто такая непрактичная, неумелая и… беззащитная. Все будет исполнено, как вы пожелаете! Мне очень жаль, — грустным голосом добавила она, отдав распоряжение вызванному слуге, — что вам ради меня, оставшейся в жизни безутешной, придется выступать в суде против графа Рауля де Лейе, с которым вы, кажется, связаны дружбой или былой услугой? Не так ли? — Я служу закону, сударыня, а не отдельным лицам, интересы которых защищаю в том случае, когда они совпадают с моим представлением о законности и справедливости. — Как это украшает мужчину! Но как трудно понять вашу сокровенную сущность, дорогой метр! Почему, например, вы, несомненно, рыцарь в душе, не сообщили мне имени убийцы моего мужа, о чем я вас просила в горестное мне время? — Это имя, сударыня, спасло тогда графа Рауля де Лейе от позорной смерти, но вас поставило бы лишь в затруднительное положение, поскольку принадлежит сейчас маршалу Франции. — Мой сын — воплощение дворянской чести — мог бы вызвать его на дуэль и отомстить за смерть отца. — Я не знаю более искусного дуэлянта, чем этот маршал Франции, и, право, не хотел бы, чтобы вы испытали горечь еще одной утраты. Орлетта вздрогнула. «Еще одной утраты? На что намекает этот судейский? На роковую семейную тайну, известную ему? На былую потерю Орлеттой Рауля, который вместо того, чтобы жениться на ней, ждущей его ребенка, вероломно предпочел эту кривляку Генриэтту с приданым, несмотря на то, что той было все равно на ком остановиться: на кардинале Ришелье, на маркизе де Вуазье, на графе Рауле де Лейе или на всех вместе, если бы это удалось!» Последний год был ужасным для Орлетты после неизвестно как полученной записки: «Призванный к себе Всемогущим Господом нашим кардинал Святой католической церкви молит бога, чтобы творящий чудо перстень защитил бы его духовную дочь от враждебных происков». Подписи не было, но вкрадчивый голос «серого кардинала» звучал в ушах баронессы зловещим предупреждением, ибо кто-то и после его кончины наблюдал за выполнением его воли. Орлетта, будучи когда-то рабой своей страсти к Раулю, а теперь слепой материнской любви к великовозрастному сыну, беспечному и пустому, чувствовала себя загнанной в угол, готовая превратиться, как требовал «серый кардинал», в «волчицу, защищающую своего детеныша» — Ах, метр Ферма, — доверительно заговорила она. — Мой сын вырос без отца, и мой долг матери, давшей ему жизнь, найти и средства для его достойного существования, а он так расточителен и так красив! Почему я нуждаюсь в вашей неоценимой помощи, талантливый метр? Чтобы добиться отторжения у графа Рауля де Лейе земельных угодий, примыкающих к нашим владениям, как поручил суду это сделать его величество король Людовик XIV, да продлятся его дни! — Его величество передал парламенту вашу тяжбу с графом де Лейе на рассмотрение, — уточнил Ферма. Орлетта нахмурилась, оценивая ответ Ферма как свидетельство его враждебного отношения к ней. Слуга принес пачку бумаг, перевязанных зеленой лентой. — Ну вот и наши доказательства, — сказала баронесса, развязывая ленту. — Найти юридическое обоснование для удовлетворения моих притязаний — долг вашего юридического таланта, о котором все говорят, дорогой метр. — Благодарю вас, баронесса, — поклонился Ферма и углубился в изучение принесенных бумаг. Через некоторое время, заметив, что Ферма ознакомился с последним листком, баронесса с обворожительной улыбкой спросила: — Ну как, дорогой мой метр, которому я доверяю счастье своего сына? Вы, кажется, еще ничего не записали, как хотели? Все ли ясно? — Боюсь вас огорчить, баронесса, но из принесенных мне бумаг явствует, что земли, на которые вы претендуете, никогда не принадлежали роду де Гранжери. Король Генрих IV даровал их графу Эдмону де Лейе, отняв у мелких землевладельцев — крестьян. — Что я слышу, досточтимый метр! — вспыхнула баронесса. — Уж не хотите ли вы сказать, что при отмене старого указа Генриха IV право на эти земли обретут не представители католического рода де Гранжери, владения коих к ним прилегают, а эти грязные крестьяне? — Я не мог бы более точно выразить правовую основу этого дела, если исключить слово «грязные», применительно к землевладельцам, оставленным Генрихом IV без земель. — Ну, знаете ли, метр Ферма! — с горечью воскликнула баронесса. — Я однажды уже разочаровывалась в вас как представителе закона, а вы заставляете меня сделать это еще раз! Я надеюсь на вашу помощь, а вы уже пророчите враждебное мне решение парламента! — Ни в коей мере, баронесса! Высказали возможное решение парламента в Тулузе вы, а не я. Мне лишь пришлось отметить четкость вашего мышления. — Тогда другое дело, дорогой метр, — с облегчением вздохнула Орлетта и продолжала уже ласково: — Мы с вами найдем иные слова, не правда ли? Парламент может и должен удовлетворить мои претензии, коль скоро господь смотрит с небес! Дарованные безбожному гугеноту земли должны быть отняты. И я хотела бы познакомить вас с владетельным бароном, кому эти земли должны принадлежать, с моим сыном Симоном, который, к счастью, вернулся, как я вижу в окно, с охоты. С этими мужчинами так трудно, поверите ли, метр! Несмотря на зимний месяц, он все-таки умчался со своими сворами гончих. Вот он! Знакомьтесь. В столовую с шумом ворвались пять или шесть собак с грязными лапами, оставляя следы на полу, а за ними вбежал возбужденный охотник в короткополой шляпе с пером и воскликнул: — Виват, мадам! Виват, мсье! Полюбуйтесь на мои охотничьи трофеи. Три зайца на отличный ужин! А как они удирали, вы бы знали! Дух захватывало от скачки! И еще лиса. А на волка придется устроить облаву. Ферма смотрел на барона Симона де Гранжери и не верил глазам. Перед ним стоял молодой граф Рауль де Лейе, правда, чуть старше, чем был он, когда его обвиняли в дуэли, но, раскрасневшийся от скачки на холодном воздухе, Симон выглядел моложе своих тридцати трех лет, отчего сходство его с молодым когда-то графом Раулем де Лейе усиливалось. Еще одно видение из прошлого вывело Ферма из равновесия, и он не удержался от возгласа: — Право, мне почудилось, сударыня, что к вам в дом вошел ваш противник, тяжбу с которым вы хотели доверить мне. — Ба! — глупо рассмеялся Симон. — И этот господин попался на мое сходство с враждебным нам графом де Лейе! Как бы мне получше это использовать? Явиться куда-нибудь вместо него? Мать испепелила взглядом сына за его неуместное замечание, видя, какое впечатление произвело оно на Ферма. У нее уже не оставалось сомнений, что Пьеру все известно, что он обладает страшной тайной рождения Симона. Теперь она была права, ибо Ферма, с присущей ему проницательностью, сделал выводы из обнаруженного сходства. Звенья нанизывались в стройную цепь событий тридцатичетырехлетней давности. «Так вот кто она, „знатная дама“, которая не поступилась своей репутацией для спасения любовника! Так вот какова безутешная вдова, жаждущая мести, но покинувшая смертельно раненного мужа, чтобы увидеться с молодым графом! Так вот к кому спешил на свидание Рауль сразу после освобождения из тюрьмы! И вот чей сын только что вышел из комнаты!» — промелькнуло в мыслях у Ферма. Баронесса уже уверилась, что у нее нет иного выхода, как подчиниться воле покойного кардинала. Стараясь не выдать себя, она расспрашивала Ферма: — У вас ведь тоже есть взрослый сын, мой метр? — Да, сударыня, он ученый. — Как это мило! Хочется пожелать, чтобы король пожаловал ему за его заслуги хотя бы титул барона. — Благодарю, сударыня, но ученым пока не принято жаловать титулы аристократов, у них своя иерархия. — Ах вот как? Их звания передаются по наследству? — Не столько звания, сколько знания, сударыня. — Я хочу, чтобы вы поняли меня как отец, дорогой метр. Для меня весь смысл жизни, вся сила моей нерастраченной любви — в Симоне! Конечно, вы, мужчины, осуждаете меня за это? — Вы вынуждаете меня опровергнуть вас, сударыня. — А вы умеете быть учтивым! Или я вынудила вас к этому? — Нисколько, баронесса! Я вполне искренен. «Кто из нас может быть искренним?» — с отчаянием подумала баронесса и с улыбкой предложила: — Не кажется ли вам, дорогой мой метр, милый мой метр, что нам с вами в соблюдение традиций нужно выпить хорошего старого вина за успех нашего дела? Она предложила и ужаснулась, втайне надеясь, что он откажется. А он сказал: — Я не уверен в вашем деле, баронесса. Мне не хотелось бы питать вас призрачными надеждами. У крестьян больше прав на эти земли, чем у вас, если отнять их у графа де Лейе. Эти с присущей Ферма честностью сказанные слова были тем толчком, который помог Орлетте пробудить в себе демона зла: «Он выдал себя с головой! Рассчитывает, что граф де Лейе снова заплатит ему теперь за то, чтобы лишить части своих владений его истинного сына! Значит, Ферма несомненный враг, который не заслуживает ничего другого, кроме „уготовленного ему кардиналом“. О боже, боже! Дай мне силы!» — думала она, вся дрожа, но улыбаясь: — И все-таки, милый мой метр, ставший почти родным для меня человеком, я не могу отказать себе в удовольствии выпить вместе с вами старого французского вина с виноградников благословенного юга Франции! Выпить за исполнение сокровенных желаний каждого из нас. Мое желание вы знаете, ужель у вас нет такого? — У меня есть такое сокровенное желание, оно владело мной, когда я ехал к вам. — Если так, то как же нам обойтись без вина? Я пойду распоряжусь, поскучайте две минуты. — И она вышла, шурша шелками. Старый слуга в новой ливрее раньше чем она вернулась принес бутылку вина и два бокала тонкого хрусталя. Затем появилась и баронесса, странно бледная, покусывающая губу, неся для чего-то песочные часы и при виде Ферма превратясь в светскую даму: — Вот перстень, милый метр. Он достался мне по наследству от матери. В нем — волшебная сила, способная выполнить заветные желания, и мое и ваше, если мы поочередно опустим перстень в свои бокалы и осушим их. Согласны? — С моей стороны было бы верхом неучтивости не согласиться с вами, баронесса. — Я опускаю перстень в свой бокал и, загадав желание, выпиваю вино первой, чтобы вы не подумали, будто оно отравлено. — Баронесса! Как можно! — Полно, полно! Теперь я перекладываю перстень в ваш бокал. Вы должны выпить вино раньше, чем пересыплется песок в песочных часах, загадав за это время свое желание. — Если это игра, сударыня, то она не лишена романтичности, а я — поэт. Пока пересыпается песок в ваших часах, я успею, воспользовавшись вашим пером и бумагой, о чем мечтал по дороге к вам, написать свое сокровенное желание. «Сам господь видит, что я не заставляла его ждать, пока перстень пролежит в его бокале пять минут, — старалась выгородить сама себя Орлетта. — Господь своей всемогущей десницей снимает с меня грех». И она взглянула на первую написанную Ферма строчку, ощутив леденящий ужас, но не оттого, на что решилась, а от сознания последствий, если эта бумага будет кем-то прочитана, ибо на ней значилось: «Тайна разложения степеней». Какая наглость — писать донос в ее присутствии, пользуясь иносказаниями! Тайна есть тайна. Степени — высшее сословие. Разложение — распущенность нравов! Он пишет свою последнюю кляузу, пока пересыпается песок! А Пьер Ферма увлеченно писал: «Для доказательства нерешаемости в целых числах уравнения с разложением степени на два слагаемых в той же степени мы предлагаем метод, противоположный ранее предложенному нами методу спуска, с помощью которого нам удалось обогатить математику целых чисел[73]. Этим методом доказаны частные случаи для степеней = 3 и 4. Предлагаемое же доказательство сформулированной нами теоремы разложения степеней основывается на методе подъема»[74]. Нерешаемость в целых числах уравнения с разложением числа в четвертой степени на два слагаемых в той же степени безупречно доказана Пьером Ферма с помощью его «метода спуска», а для третьей степени спустя столетие Эйлером. В наше время с помощью электронно-вычислительных машин доказана подобная нерешаемость для всех чисел до многих миллионов с показателями от 3 до 100000, что, по мнению Ферма, доказывать уже не требовалось, поскольку для четвертой степени это доказано и для третьей степени тоже удалось доказать, подтвердив тем, что «вероятностные кривые Ферма» расходятся. Закончив описание своего «метода подъема», Пьер Ферма дописал: «Если предложенное доказательство, основанное на противопоставлении свойств „плоских“ и „пространственных“ и „субпространственных“ мест, покажется тем, кто прочтет эти строки, удивительным, то это отразит и мое собственное отношение к найденному доказательству, суть которых в „вероятностных кривых“».[75] Пока Пьер Ферма писал, песок в песочных часах успел пересыпаться. Баронесса куталась в принесенный платок, хотя от горевшего камина несло жаром. Ничего не поняв в появляющихся под гусиным пером строчках, она отвернулась, что избавило ее от того, чтобы видеть глаза гостя. А он, аккуратно сложив написанную бумагу, спрятал ее в карман камзола: — Итак, сударыня, выразив свое заветное желание, как вы того пожелали, я искренне благодарю вас за перо и бумагу. — И за вино, — хрипло напомнила Орлетта, одержимая теперь лишь стремлением овладеть «страшным», как ей казалось, документом. — И за вино! — подхватил Ферма, залпом выпивая бокал. Перстень звякнул, когда Ферма поставил бокал на стол. Ферма вынул его и передал баронессе: — Теперь, если позволите, сударыня, я предпочел бы отдохнуть в комнате, которую вы мне укажете. — О боже, что я сделала! — не удержалась от возгласа Орлетта и, спохватившись, добавила: — Ах, нет, нет, метр! Я до сих пор не позаботилась о вашем отдыхе. Камердинер заменит меня и проводит вас. — И она с таким отчаянием позвонила в колокольчик, словно это должно было спасти и ее и гостя. Все тот же шаркающий ногами слуга в парадной ливрее появился в дверях и, поняв знак госпожи, сделал Ферма жест следовать за собой. Ферма невольно зевнул, упрекнув себя в неучтивости. В голове у него шумело (какое крепкое вино, сразу бьет в голову!), и он, нетвердо ступая, пошел следом за слугой, отвесив готовой разрыдаться, смертельно бледной баронессе прощальный поклон. Это был последний поклон великого математика XVII века Пьера Ферма! Через час его не стало… Орлетта с гулко бьющимся сердцем, со свечой в руках на цыпочках подошла к двери отведенной Ферма комнаты и некоторое время прислушивалась. Потом вошла в нее, готовая объяснить свое появление заботой о госте, а в глубине души надеясь, что перстень за годы «выдохся» и Ферма просто спит. Но он лежал на кровати, не раздевшись. Орлетта потрогала его руку и отдернула свою, ощутив мертвящий холод. Он был мертв, как и предрекал «серый кардинал», в «святости своей и христианской любви» убеждая, что «он не узнает уже горестей, уготовленных ему в жизни…». Дрожащими руками Орлетта стала обшаривать карманы гостя, пока не нашла недавно написанную «Тайну разложения степеней» — доказательство великой теоремы, которое в течение столетий будут тщетно стараться воспроизвести множество ученых. Но для Орлетты этот листок был разоблачением, грозящим низложением ее сына Симона из баронов в незаконнорожденного и бесправного человека. «Скорее, скорее уничтожить проклятую тайнопись, в которой ничего нельзя понять!» И Орлетта, шепча клятву постричься в монахини, чтобы замолить свои великие грехи, поднесла бесценный для науки документ к пламени свечи — и через минуту доказательство Ферма его великой теоремы перестало существовать, от него не осталось даже пепла, растоптанного ногой будущей игуменьи монастыря кармелиток в Бетюне, превратившейся по воле умершего «серого кардинала» в «волчицу», а «человек хуже зверя, когда он зверь», как скажет впоследствии, размышляя о человеческой сущности, Рабиндранат Тагор.Рабиндранат Тагор
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ
От человека остаются только дела его.9 февраля 1665 года в «Журнале ученых» («Journal des Savants»), который начал выходить во Франции взамен подвижнической переписки, которую вел до конца жизни аббат Мерсенн, а вслед за ним Каркави, был помещен некролог Пьеру Ферма. В этом некрологе говорилось: «Это был один из наиболее замечательных умов нашего века, такой универсальный гений и такой разносторонний, что если бы все ученые не воздали должное его необыкновенным заслугам, то трудно было бы поверить всем вещам, которые нужно о нем сказать, чтобы ничего не упустить в нашем „ПОХВАЛЬНОМ СЛОВЕ“». И хотя уже при жизни Пьер Ферма был признан первым математиком своего времени, о его юридической деятельности говорится в том же «Похвальном слове» как о выполняемой им «с большой добросовестностью и таким умением, что он славился как один из лучших юристов своего времени». А о его поэтическом творчестве на латинском, французском и испанском языках говорилось, что «он писал стихи с таким изяществом, как если бы он жил во времена Августа и провел большую часть своей жизни при дворе Франции или Мадрида». После же его смерти, последовавшей «во время одной из служебных поездок» (как сказано, видимо, без каких-либо расследований обстоятельств его кончины), слава его не только умножилась, но поставленные им перед ученым миром, решенные им самим задачи были столь значительны, что на протяжении более чем трех столетий вызывали не только фундаментальные работы таких корифеев науки, как Эйлер, Лейбниц, Гюйгенс, Ньютон, Лагранж и другие, но и создание новых отраслей математики: теория вероятностей, теория алгебраических чисел, с помощью остроумнейших приемов которой ученые пытались доказать великую теорему Ферма, остающуюся и поныне маяком для искателей математических истин.М. Горький
ЭПИЛОГ
Мечты придают миру интерес и смысл.Закрываем последнюю страницу романа, где действует Мним. С кем же мы прощаемся? С автором, превратившимся на время в Мнима, чтобы, мечтая о своем герое XVII века, оказаться рядом с ним? Или прощаемся с самим великим математиком, каким он представлен в романе, рожденный своей славой и открытиями? Но, быть может, «Мним» надо отнести все-таки к моему былому попутчику, неведомо как появившемуся в пустом купе движущегося поезда, «путешественнику во времени из прошлого в будущее»? И наконец, не следует ли признать доказательство великой теоремы, записанное перед кончиной Пьером Ферма, к «мнимым доказательствам», не удовлетворяющим дотошных математиков? Все эти вопросы в первую очередь мучили автора, и чтобы ответить на них, требовалось установить, существует ли на самом деле Аркадий Николаевич Кожевников? Найти его взялся мой сын Олег Александрович, если помните, военный моряк, капитан 1-го ранга. Связанный по службе наряду с другими флотами также и с Тихоокеанским, он во время полета на Камчатку с разрешения командования задержался на сутки в Новосибирске. И представьте, нашел нашего МНИМА! Он побывал и у него на службе в Сибгипротрансе, и даже дома, убедившись в полной реальности его существования. Более того, он познакомил Аркадия Николаевича с уже начатым к тому времени мной романом. Аркадий Николаевич был настолько любезен, что прислал с моим сыном письмо, которое считал возможным включить в эпилог романа о Пьере Ферма, перед которым он преклонялся. Письмо Аркадия Николаевича представляет, на мой взгляд, несомненный интерес для чистых математиков, поскольку гипотетически воспроизводит возможное доказательство великой теоремы, сделанное самим Пьером Ферма. После долгих раздумий я все же не решился затруднить читателя путешествием в математические дебри, оставляя возможность для тех, кто не побоится этого, связаться с самим Аркадием Николаевичем Кожевниковым по адресу, который он вручил мне, как описано в прологе романа. Однако строго математически обоснованный вывод А. Н. Кожевникова о том, что для полного доказательства нерешаемости в целых числах выражения xn + yn = zn при n>2 достаточно убедиться в этом на любом примере с показателем степени больше 2 (что сделано самим Пьером Ферма для биквадратов!), совпадает с результатом того образного доказательства, которое записал мой герой романа Пьер Ферма в замке баронессы де Гранжери перед своей кончиной и которое, уничтоженное баронессой, не дошло до нас! Для автора главное не столько в этом «доказательстве», сколько в образе великого математика, каким он ему представился, дела которого продолжают волновать ученых и в наше время. И примечательно — честное слово! — что Пьер Ферма жил именно в то «мушкетерское время», которое так красочно описал неувядающий Александр Дюма, но которое было не только эпохой острых шпаг и коварных интриг, но и острого ума гениальных ученых, знакомство с которыми может быть интересно читателю.А. Франс
Книга вторая КОЛОКОЛ СОЛНЦА
Человек должен верить, что непонятное можно понять, иначе он не стал бы размышлять об этом.В. Гете

Научно-фантастический роман-гипотеза в трех частях с прологом и эпилогом об уме, шпаге, философии и коварстве
ПРОЛОГ
Мир — добродетель цивилизации, война — ее преступление.Летом 1958 года мне привелось посетить Париж почти двадцать лет спустя, после того как перед войной я проезжал через него по пути в Нью-Йорк на Всемирную выставку «Мир будущего». Я был тогда ошеломлен красавцем городом, утопавшим в цветущих каштанах, где каждый камень мостовой казался мне страницей истории. Теперь советские туристы совершали круиз вокруг Европы на теплоходе «Победа», и я возглавлял одну из групп своих спутников. В их числе был известный поэт и мой друг Владимир Лифшиц и переводчица французских романов Евгения Калашникова, которой мы обязаны «свободным плаванием» по улицам Парижа. Впрочем, мне повезло еще и в том, что нашим добровольным гидом оказался парижанин Виталий Гальберштадт, которому я позвонил по телефону, известный шахматный композитор. Мы с ним ежегодно встречались на шахматных конгрессах (незадолго до того я был избран вице-президентом Постоянной комиссии по шахматной композиции ФИДЕ). Виталий всегда выручал меня там, на заседаниях, значительно лучше владея русским языком, чем я немецким, бывшим в ходу между композиторами. Гальберштадт и знакомил нас с достопримечательностями Парижа, начав с кладбища Пер-Лашез, со Стеной коммунаров, перед которой мы молча стояли с обнаженными головами, смотря на немые, но столь многоречивые выщербленные камни старинной кладки. И конечно, Лувр! Еще в первое посещение его меня потрясла Венера Милосская, с тысячелетними отметинами на мраморе, в гордом одиночестве она красовалась в отделанном черным бархатом зале. Казалось, что рядом с этим шедевром ничему нет места! Но, увы, после войны Венеру Милосскую почему-то потеснили, и очарование исключительности потускнело. А вот потускневшие краски «Джоконды» Леонардо да Винчи, на которую тогда еще не было совершено покушение похитителей и которую старательно срисовывал бородатый художник с гривой волнистых волос, — эти потускневшие краски выглядели значительнее и благороднее свежих на копии. Эйфелева башня, этот дерзостный всплеск в небо ажурного металла, несмотря на протесты в прошлом веке парижской элиты, включая даже Ги де Мопассана, ныне служит символом Парижа. Ее высь всегда тянет к себе туристов, и мы, чтобы увидеть Париж с высоты птичьего полета, поднимались туда в открытом лифте. Потом я поднимался в лифте и выше, на 102-й этаж Эмпайр-Стейтс-Билдинг, но там, окруженный тесными стенками кабины, я ничего не ощущал, кроме уходящего из-под ног пола при спуске, а здесь, когда стоишь у невысоких перил и видишь уходящую вниз землю с домами, превращающимися в домики, захватывает дух, и невольно вспоминаются детские сны с волшебным полетом. Не прошли мы мимо и Нотр-Дам де Пари (собора Парижской богоматери), где монашка проворно взяла с нас плату за право ощутить над собой мрачные, словно уходящие в темное небо своды собора, опиравшиеся на исполинские четырехгранные колонны. Знаменитым местом Парижа был тогда еще существовавший Центральный рынок, «чрево Парижа», куда мы пришли на рассвете, чтобы застать заполнение его всей привозимой туда в несметном количестве снедью. Казалось, ничто не может сравниться с тем шумом, гамом темпераментных французов, грохотом грузовиков, толкотней и ароматом свежих овощей, фруктов, расхваливаемых с завидным убеждением продавцами и продавщицами, да и прочей крестьянской продукцией, которую уже спозаранок раскупали заботливые парижанки с цветастыми сумками, быть может утратившие было тонкий стан, но никак не парижский стиль. Вместе с Лифшицем и Калашниковой я побывал в редакции газеты «Юманите», которая незадолго до того печатала мой роман «Пылающий остров»: изо дня в день, фельетонами, как говорят об «отрывках с продолжением» во Франции, по традиции, заложенной еще Дюма-отцом. Издатель газеты товарищ Фажон сказал, что с автором «Пылающего острова» и его друзьями хотели бы встретиться некоторые французы, участники Сопротивления, в их числе писатели и издатели. Свидание было назначено по французскому обычаю в ресторане. Я надеялся на Женю Калашникову как на переводчицу. Но когда мы появились в назначенном месте, обходя выставленные на тротуар столики и направляясь в глубь помещения, нам навстречу (русских туристов узнают неведомым образом на расстоянии!) поднялся невысокого роста француз с улыбающимся лицом и на превосходном русском языке пригласил нас сесть за занятый им столик, отрекомендовавшись Жаком Бержье, родом из Одессы. Я знал этого писателя и редактора по его смелым статьям о самых острых вопросах науки, где он не боялся защищать порой экстравагантные гипотезы. Позже он был издателем и редактором одного из популярных журналов. Он познакомил меня с молодым человеком, который переводил на французский язык мой «Пылающий остров» для «Юманите». Словом, недостатка в французах, владеющих русским языком, не было. Вскоре подошел, слегка прихрамывая, еще один участник нашей встречи, которому я обязан всем тем, что предложу дальше читателям. Это был диктор Парижского радио Эме Мишель. По-французски через переводчиков он стал рассказывать о книге, над которой работал. Впоследствии он прислал ее мне в Москву. Это был скрупулезный труд, опирающийся на статистические данные и строго проверенные наблюдения свидетелей полета неопознанных летающих объектов — НЛО, или УФО (по зарубежной терминологии). Эме Мишель ни словом не обмолвился об инопланетных кораблях или зондах, какими могли оказаться «летающие тарелки», основное внимание сосредоточивая на фактах их появления, траекториях полета с изменением движения под острыми углами при скоростях до 70 тысяч километров в час, словно они не подчинялись законам инерции! Показанные чертежи, вошедшие в книгу, поражали. Разговор вскоре перешел на другую тему, на воспоминания о временах Сопротивления. Эме Мишель, знаком потребовав особого внимания, достал из внутреннего кармана пиджака завернутый в старую газету сверток и положил его на стол. — Мы хотели бы, — торжественно начал Жак Бержье, — чтобы русские товарищи передали этот пакет в Москву, в Кремль. Здесь документы русского участника французского Сопротивления, бойца Красной Армии, бежавшего из гитлеровского концлагеря и героически отдавшего свою жизнь в борьбе с фашизмом здесь, во Франции. Жак Бержье осторожно развернул пакет. В нем были красноармейская книжка и партийный билет погибшего в бою с нацистами во Франции Иванова Сергея Петровича. Сережей, Сержем звали его французы. Мы засыпали наших французских друзей вопросами о советском герое, сражавшемся во Франции, но, к нашему сожалению, Жак Бержье сказал: — Я должен огорчить наших советских товарищей, но нам почти ничего не известно об этом замечательном Серже, нам передали его документы с кратким добавлением, что они принадлежат подлинному герою. Нам не привелось воевать в маки, хотя каждый из нас посильно помогал Сопротивлению. Что касается меня, то мне удавалось чисто математически, зная количество отправляющихся в разные стороны поездов, устанавливать направление гитлеровских военных перевозок, сообщая об этом через подпольную радиостанцию в Россию. Я сожалею, что не привелось воевать рядом с Сержем. Благоговейно из рук в руки передавали мы бесценные документы с застывшей на них кровью бойца. И тут мой взгляд упал на газетный заголовок. Я поразился:В. Гюго
«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»!Я поднял недоуменный взгляд на Жака Бержье. — Да, да! — улыбнулся он. — Сирано де Бержерак! Не удивляйтесь. Символ отваги и чести для многих участников Сопротивления. Подпольная газета называлась его именем. — Сирано де Бержерак, — повторил я, вспоминая блистательную комедию Ростана, поставленную у нас в театре имени Вахтангова с Рубеном Симоновым в главной роли. Романтический герой, поэт с уродливым лицом, передававший слова любви той, которую любил, но не от себя, а от избранника, ставшего его другом. Она полюбила автора этих пламенных строк, но слишком поздно узнала, кто он!.. Словно угадав мои мысли, Эме Мишель сказал: — Если вы думаете о пьесе нашего Ростана, то не его персонаж вдохновлял бойцов Сопротивления, а совсем иной Сирано де Бержерак, легендарный человек, полный загадок, философ, ученый и поэт, виртуозно владевший шпагой. Я хотел бы собрать о нем безупречные сведения, как собираю о неопознанных летающих объектах. Ведь у меня уже есть документы о том, что он действительно одержал победу сразу над ста противниками. Но главное, пожалуй, в тех тайных знаниях, которыми он обладал и которые подтверждаются лишь в наше время.[76] И это современник кардинала Ришелье и д'Артаньяна, прославленного романами Дюма. — Следовательно, и Пьера Ферма, — вставил я. — Конечно. И Рене Декарта тоже. — Как бы хотелось узнать все, что вам удастся выяснить об этом человеке, имя которого как воплощение французского патриотизма взяла ваша подпольная газета. — Я пришлю вам все, что мне удастся узнать о нем, — пообещал Эме Мишель (и пусть четверть века спустя, но выполнил свое обещание!). Особенно примечательной оказалась меняющаяся внешность Сирано. Дошедшие до нас портреты сделаны лишь после его военной службы, во время которой он получил при осаде Арраса сабельный удар в лицо, изменивший очертания егознаменитого носа, бывшего до ранения еще крупнее, о чем можно лишь догадываться, но что, однако, имело большое значение в его жизни. Но тогда в ресторане вмешался в наш разговор Жак Бержье: — Да, конечно, Сирано де Бержерак — фигура столь же примечательная, как и загадочная. Но XVII век богат и другими занимательными загадками. Взять хотя бы того же всесильного правителя Франции, коварного и жестокого кардинала Ришелье. Казалось бы, трудно себе представить более мрачную фигуру. Все силы и недюжинный талант он отдал укреплению абсолютизма, самодержавия, как говорят у вас в России, правда воплощая всю власть в своем лице. Король Людовик XIII был слаб и циничен. Я сейчас прочту вам его подлинное письмо к губернатору Арраса. — И Бержье достал из кармана блокнот с записанной там цитатой. — «Извольте изворачиваться, — пишет король. — Грабьте, умея хоронить концы, поступайте так же, как другие в своих губерниях, вы можете все в нашей империи, вам все дозволено».[77] — Не этот ли французский король именовал себя Справедливым? — спросил я. — Вот именно! — рассмеялся Жак Бержье. — Можете поверить, что кардинал Ришелье не во имя «справедливости» забрал у короля всю власть. Так вот, представьте себе, дорогие товарищи, что меня, французского коммуниста, заинтересовал и мучает один необъяснимый поступок кардинала Ришелье, заклятого врага всех противников угнетения, и, живи он в наше время, не было бы злейшего врага коммунизма, и вместе с тем… — Вместе с тем? — Мрачный кардинал Ришелье, правитель Франции времен Людовика XIII и угнетатель французского народа, добился освобождения приговоренного к пожизненному заключению итальянского монаха Томазо Кампанеллы, автора утопии «Город Солнца», первого коммуниста-утописта Европы, предоставив ему во Франции убежище и назначив правительственную пенсию. — Непостижимо! — ахнули мы. — Очень странно, — согласился и Эме Мишель. — В этом стоило бы разобраться, как и в загадках Сирано де Бержерака. Мы распрощались с новыми французскими друзьями, чувствуя себя и обогащенными и заинтригованными. Как величайшее сокровище взяли мы документы погибшего советского героя, передав их в Москве по назначению. Но газету, старую газету времен французского Сопротивления я заменил новым конвертом, оставив себе потрепанный газетный листок с именем Сирано де Бержерака. Я тогда еще не знал, что этот легендарный герой, считавшийся непревзойденным по храбрости гасконцем, (но он не был гасконцем), станет мне близок и я посвящу ему роман спустя много лет после парижской встречи, роман, названный научно-фантастическим только потому, что слишком фантастичны знания Сирано трехсотлетней давности, невероятными кажутся события из жизни, столь же бурной, как и короткой, поэта, философа, бойца, страстно протестовавшего против клокочущей вокруг него пустоты. И вместе с тем человека, обойденного Природой, но страстно жаждущего простого человеческого счастья.
Автор должен предупредить читателя, что, поскольку его герои, и Сирано де Бержерак, и Томазо Кампанелла, были поэтами, то стихотворные произведения их даны в романе в переводе автора (сонеты Кампанеллы) с латинских оригиналов, а Сирано де Бержерака — как сонеты, так и стихотворения, также и стихи его противников — даны в условном «переводе» автора с несуществующих, не дошедших до нас оригиналов, как это делал, в частности, и Э. Ростан. Я предваряю роман сонетом Сирано де Бержерака, наиболее характерным для раннего периода его жизни, когда он прославился как первый дуэлянт Парижа.
ЖЕЛАННЫЙ ЯД[78]
Часть первая ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ
Самое трудное для человека — узнать себя.Грузинская пословица

Глава первая «ВЛАДЕТЕЛЬНЫЙ СЕНЬОР»
В ревности больше себялюбия, чем любви.Шато Мовьер, небольшой деревянный домик с мезонином, стоял невдалеке от Парижа, на взгорье, откуда открывался прелестный вид на как бы затянутую утренним туманом, чуть всхолмленную равнину, где между купами деревьев простирались отнюдь не бесконечные, а ограниченные извилистой Сеной поля «имения» господина Абеля де Сирано-де-Мовьера. До приобретения этих земель он именовался просто господином Сирано, происходя, кстати сказать, из рода старинного и даже прославленного несколько необычным образом. По легенде королевский егерь Карла VI случайно спас на охоте жизнь королю, вошедшему в историю как Безумный. Перепуганный больной король, не зная, чем отблагодарить спасителя, якобы даровал ему на английский манер привилегию для всего их рода не снимать шляпу в присутствии короля. Незадолго перед тем Карл VI подписал с англичанами договор в Труа, признав французским престолонаследником английского короля Генриха V. Бурные события последующих лет, подвиг Жанны д'Арк, изгнание англичан из Орлеана и с большей части Франции, воцарение при содействии Орлеанской девы нового (предавшего ее потом!) короля Карла VII стерли память об этой проанглийской прихоти безумного монарха, однако привилегия эта, по некоторым непроверенным слухам, формально не была отменена, имели ее в королевстве не более трех человек, в том числе и потомок удачливого егеря Жан-Жака господина Абеля де Сирано, который поставил себе целью жизни воспользоваться этой неотмененной привилегией, возвысясь над всеми, кто свысока относился к нему, провинциальному нотариусу, какому-то королевскому писцу, ибо некогда славный род Сирано за два столетия захудал. Ради выполнения задуманного плана господин Абель де Сирано решил во что бы то ни стало пробиться к королевскому двору, куда господ Сирано уже сто лет не приглашали и где ныне воцарился король Генрих IV, еще недавно Генрих Наваррский, опиравшийся в борьбе за власть на гугенотов и гасконцев, даруя им особые права. Чтобы получить такие права, одновременно обратив на себя всеобщее внимание, Абель де Сирано решил «слыть гасконцем», с каковой целью выгодно женился на приглянувшейся ему девушке из буржуазной семьи, родственной самим Беранже, приобретя на ее приданое поместье Мовьер вблизи столицы, поближе к Лувру, которое, впрочем, больше походило на хутор, но тем не менее новый его владелец мог считаться «владетельным сеньором», именуясь господином поместий Мовьер, то есть господином де Мовьер. Однако для честолюбивых замыслов господина Абеля главное было в том, что прежде имение это принадлежало гасконцам де Бержеракам, а потому он вправе был присовокупить к своему удлинившемуся имени гасконскую фамилию, став господином Абелем де Сирано-де-Мовьер-де-Бержераком, в расчете, что это впечатляющее сочетание слов наряду с полузабытой английской «шляпной привилегией», дарованной их роду по прихоти хоть и безумца, но короля, откроет ему доступ ко двору и поможет, как «гасконцу», добиться милости властвующего короля-гасконца Генриха IV. Но на честолюбивом пути владетельного сеньора непреодолимым препятствием встала нужда. Сеньор постоянно пребывал в дурном расположении духа. Две глубочайшие складки на лбу как бы продолжали линию носа, сидящего на словно вырубленном из песчаника квадратном лице с тяжелым подбородком, с седеющей бородкой и вислыми серыми усами. Доски пола дряхлеющего дома стонали под его тяжестью, когда он расхаживал из угла в угол тесной комнаты, именуемой залом замка, в ожидании, когда его жена Мадлен разрешится от бремени вторым своим ребенком. Чем больше ожидал Абель Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак свершения предначертанного богом акта, тем нетерпеливее становился. И когда из спальни жены раздался наконец какой-то странный звук, похожий на скрип половицы, который не сразу был воспринят Абелем как детский крик, он облегченно вздохнул. В залу вбежала миниатюрная черноволосая кузина его жены, баронесса де Невильет, получившая свой титул не столько за миловидное личико, сколько за весомое приданое (тоже родственница семейства Беранже), и воскликнула, охватив свою хорошенькую головку руками: — Ах, Абель! Поздравляю, мальчик, мальчик! Ну что за прелесть! Идите смотреть. Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак направился к двери спальни без особого энтузиазма, ибо вид новорожденных не вызывал в нем восторгов. Повитуха, старая, прижившаяся здесь испанка, вместе с толстой, подвыпившей по такому важному поводу кухаркой хлопотавшая около роженицы, ахнула при виде хозяина дома. Она закудахтала, и ее сморщенное, как залежалое яблоко, лицо расплылось в улыбке, став похожим на карнавальную маску. — О, сеньор! Позвольте поздравить вас с сыном! Замечательный мальчик, вы только посмотрите! Весь в отца! Гидальго! — Покажите, — неохотно приказал Абель. Откинув кружева платочка, прикрывавшего личико ребенка, она с торжеством поднесла его к отцу. Тот, брезгливо морщась, пристально посмотрел на крохотного малютку и в ярости отпрянул. По его искаженному лицу повитуха поняла, что господин разгневан. — Я тоже думала, что девочка, а оказался мальчик, — словно оправдываясь, пролепетала она. — Это не мальчик! Это урод! — вне себя от гнева произнес, вернее, прокричал господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак. В полуоткрытой двери показалась испуганная баронесса. — Савиньон, непременно назовите его Савиньон, — невпопад заговорила она. — Я буду на его крещении второй матерью. Господин Абель отмахнулся от родственницы и тяжелым шагом подошел к кровати, на которой лежала в полном изнеможении, стараясь улыбнуться, Мадлен. — Признайтесь, сударыня, — громовым голосом начал Абель, — где вы нашли такого носатого любовника, чтобы неведомо чьим отродьем осквернить мой славный род? Баронесса вскрикнула. Мадлен залилась слезами, бормоча: — Абель, что с тобой! Клянусь… — Не богохульствуй, несчастная! Не усугубляй своей вины! У меня не было в роду предков с носом, разделяющим лоб пополам. — Что вы, владетельный сеньор! — бросилась между супругами повитуха, в то время как окаменевшая от испуга баронесса застыла в дверях. — Это же родовая опухоль, опухоль на личике. Она проходит, вот увидите, да просветит вас Мадонна! И все пройдет, и он будет, как две капли росы на лепестке розы, походить на вас, владетельный сеньор! Вы уж поверьте! — Я верю только в господа бога и собственным глазам, а не старым цыганским или испанским ведьмам или французским распутным бабам, которые за деньги отцов втираются в старинные дворянские роды. При этих словах баронесса Женевьева де Невильет, приняв это на свой счет, грохнулась на пол в глубоком обмороке. Сразу протрезвев, кухарка Сюзанна суетливо склонилась над ней, а грозный ревнивец равнодушно перешагнул через груду надушенного шелка и вышел из комнаты, не слыша, как ему вслед кричала перепуганная испанка: — Опухоль это! Провалиться мне на этом месте, опухоль! Вообще-то говоря, ей, даже при ее добрых намерениях, следовало бы провалиться сквозь старый пол замка, потому что нос младенца оказался не опухолью, а странной игрой природы, отнюдь не уменьшаясь до самых крестин. Баронесса, несмотря на нанесенное ей оскорбление, все же не уехала, и самоотверженно ухаживала за кузиной, и присутствовала на крестинах, куда господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, как примерный католик, все же явился в последнюю минуту. Крестил Савиньона новый деревенский кюре, который был прислан старому в помощники и преемники. Абель смотрел на него мрачно и неодобрительно. И священнику, у которого были нежные голубые, но проницательные глаза, он показался предвещающей град грозовой тучей, повисшей над равниной Сены. После крещения, когда ревнивый и гневный отец все еще ждал спадания безобразной опухоли с лица новорожденного, мать по совету кузины тайком выбралась на улицу, чтобы добежать в темноте до кюре. Деревенский священник жил в доме своего предшественника, по которому он недавно справил заупокойную мессу. Домишко этот почти ничем не отличался от остальных крестьянских хижин, разве что очагом, который имел вытяжную трубу, и дым не выходил, как у других жителей деревни, через отверстие в крыше. Мадлен, смертельно боясь, что муж настигнет ее, добралась до домика кюре и постучала в дверь. Молодой кюре в деревянных сабо, стуча ими по крыльцу, вышел, недоуменно вглядываясь в позднюю гостью проницательными глазами. Из открывшейся двери пахнуло хлевом, ибо старый кюре держал там вместе с собой козу, оставив ее в наследство своему преемнику, как и кур, почему-то не смастерив для них курятник. А новый жилец, по-видимому, еще не успел ничего сделать. — Отец мой, — испуганным шепотом начала Мадлен, — я должна исповедаться. Кюре вздрогнул. Меньше всего он хотел бы стать обладателем какой-нибудь тайны, да еще и связанной с хозяевами поместья. — Но это можно сделать только в храме, — попытался возразить он. — Нельзя ли подождать до утра? — Отец мой, я не могу при свете. У всех на глазах. Я боюсь страшных последствий и умоляю вас пройти сейчас со мною в церковь. В словах несчастной женщины слышались такие нотки, что молодому священнику не осталось ничего другого, как пойти за ключами от церкви. И пока он отыскивал их, ворча на козу и барахтающихся кур, Мадлен стояла на крыльце и дрожала не столько от вечерней сырости, сколько от волнения. Она боялась, что яростный Абель появится сейчас здесь и даже приревнует к молодому кюре, несмотря на обет того остаться в безбрачии до конца дней. — Пойдемте, мадам, — пригласил наконец кюре. С церковной дверью, когда они дошли до нее, ему пришлось повозиться в темноте. Потом — зажигать внутри храма свечи. На вид ему не больше тридцати лет, длинные волосы локонами спадали на плечи, и, не будь на нем сутаны, его можно было бы принять за завсегдатая Латинского квартала, населенного студентами, поэтами и художниками. Молодой служитель бога вошел в исповедальню, предложив Мадлен встать на колени подле нее так, чтобы их разделяла лишь невысокая перегородка, имитирующая полное одиночество исповедуемой. — Итак, дочь моя, что привело вас в столь поздний час в храм господний? — ласково начал невидимый исповедник, и Мадлен в ее отчаянном положении показалось, что это сам бог на небесах спрашивает ее. — Отец мой, — трепетно начала она, — я пришла за спасением. Клянусь господом единым, я не имею за собой вины. — Священник вздохнул облегченно, но она не услышала это, продолжая: — А у меня родился ребенок, нос которого начинается выше бровей, и мой муж, владетельный сеньор Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, грозит убить и его и меня, якобы нарушившую супружескую верность. Но здесь, на исповеди, перед лицом самого господа бога, я клянусь жизнью своего несчастного ребенка, что господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак его отец. — Верю вам, бедная женщина. Слова ваши звучат так искренне, словно подсказаны вам свыше. Чем же можно помочь вам? — Я не знаю, отец мой, я взываю об этом к всевышнему. Я не страшусь за свою жизнь, но жизнь малютки, который ни в чем не повинен, впрочем, как и я… — И она залилась слезами. — Успокойтесь, дочь моя, — произнес участливо кюре. — Господь сейчас вразумил меня, и я знаю, что делать. Идите в замок и ощутите в себе то очищение, которое дает исповедь. Они вышли из церкви, кюре повозился с ключами и пошел проводить Мадлен до шато, пообещав, что завтра поутру он повидается с владетельным сеньором. Кюре же, возвратясь в свой полудом-полухлев, засветил свечу, чем на время обеспокоил сидящих на насесте кур, достал приготовленную для церкви гладкую доску и стал набрасывать углем чей-то портрет. Надо сказать, что Арни Патри не сразу посвятил себя служению богу, а не так уж давно действительно жил в Латинском квартале, носил берет, блузу, бороду и занимался живописью, полный радужных надежд, как и другие завсегдатаи таверн, где он встречался с ними. Но произошла драма, потрясшая молодого художника до глубины души. Его подруга, «ослепительная Лаура», начисто обобрав его, исчезла, даже не простившись и ничего не объяснив ему. Страдания Анри Патри были так невыносимы, что он решил оставить греховную светскую жизнь, навеки отказаться от общения с прекрасным полом и посвятить себя служению единому господу. Настоятель монастыря, к которому он обратился, взялся устроить его в духовную семинарию при условии, что он бесплатно распишет стены только что выстроенной монастырской часовни. Годы, проведенные в семинарии, были тяжелым испытанием, в котором молитвы, нравоучения и наказания сменяли друг друга. По окончании семинарии Арни Патри дал обет безбрачия и стал священником. Его сразу же направили помощником кюре в одну из ближайших к Парижу деревень, где он и получил теперь приход. Всю ночь при свете свечи писал красками деревенский священник отнюдь не икону, а утром, сняв с насеста старую пеструшку и молоденького петуха, засунул их в корзину и отправился к владетельному сеньору в его замок Мовьер-Бержерак. Владетельный сеньор принял его хмуро, с недоумением косясь на корзину, из которой торчала какая-то доска. Но господин Сирано помнил, что для того, чтобы приблизиться к королевскому двору, нужно слыть истовым католиком, и он провел бедного сельского священника, предвидя его просьбы в пользу церкви, в отдельную комнату, украшенную охотничьими трофеями, унаследованными им еще от предков, занимавшихся в отличие от него охотой, имея на то привилегии. — Владетельный сеньор, я обеспокоил вас, поскольку имел честь крестить вашего сына Савиньона и заметил на его лице некоторые особенности, о которых и хотел побеседовать с вами. Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак покраснел от сдерживаемой ярости, ибо даже служителю церкви не следовало бы лезть в его семейные дела. К счастью, кюре упомянул лишь о крестинах, а не о ночном посещении церкви женой Абеля Сирано и пробудил в нем лишь недовольство при упоминании об уродстве сына, а не ярость против «неверной жены». Меж тем странный кюре вынул из корзины сначала облезлую курицу-пеструшку, а вслед за ней бойкого петушка, который сразу замахал крыльями и вспорхнул на спинку дедовского кресла, красовавшегося в этой убогой комнате, будучи единственным ее украшением. — Что это вы, отец мой, решили превратить мой замок в курятник? — осведомился пораженный хозяин. — Я хочу обратить ваше внимание, сиятельный сеньор… Это обращение польстило Абелю, хотя и не разгладило на его лбу двух резких и глубоких морщин над бровями. — Вглядитесь в этих птиц, находящихся между собой в некотором родстве, но разделенных тридцатью пятью поколениями. Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак тупо уставился на священника, по-бычьи нагнув голову. — Я позволю себе уверить вас, сиятельный сеньор, что этой пеструшке, сохраненной покойным священником нашего прихода, помнящим еще давних владельцев этих земель господ де Бержерак, этой пеструшке, с вашего позволения, исполнилось нынче тридцать шесть лет. — Что? — обалдело переспросил господин Абель Сирано. — Никогда не слышал о такой долгой куриной жизни. — Конечно, это так, сиятельный сеньор, поскольку кур никто не держит так долго, они много раньше такого возраста попадают в суп, но, если бы их щадили, они жили бы не меньше этой пеструшки, с которой начал наш старый кюре свой опыт. — Какой же опыт и какое мне до него дело, отец мой? — Старый священник обратил внимание на пеструшку, когда она была еще цыпленком. Посмотрите, у нее на правой ноге не три, а четыре пальца. — И вправду так, — подтвердил Абель де Сирано. — С чего бы это? — Старый наш кюре тоже задумался над этим и решил выяснить, в каком поколении повторится этот уродливый признак у кур, которые произойдут от странной пеструшки, а ее он сохранил как живое доказательство в его научном исследовании, какие так поощряются у нас в монастырях, давших приют замечательным ученым вроде аббата Мерсенна. — Слышал, слышал. Так наш кюре же умер. — Скончался, сиятельный сеньор, так и не дождавшись результата начатого им опыта. И уже после его смерти из яйца вылупился вот этот петушок. Помня заветы старого кюре, я, дав ему слово продлить его опыт, храню теперь и пеструшку и петушка, для которого она тридцать четыре раза бабушка. — Что-то не пойму, то тридцать шесть лет, то тридцать четыре раза бабушка. — Так ведь цыплята выводятся и вырастают в течение года, годовалые куры кладут яйца и дают новый выводок. В первый год пеструшка была матерью первых своих цыплят, а в следующие годы — бабушкой, прабабушкой, прапрабабушкой и так тридцать четыре раза бабушкой. — Мудрено, — покачал своей квадратной головой владетельный сеньор и погладил вислые усы. — Вот и я хотел задать вопрос вашей светлости: можете ли вы представить себе облик своего предка в тридцать пятом поколении, что-то вроде тысячи лет назад, как бы в шестисотом году после рождения Христова? — Не могу, — признался названный «вашей светлостью» Абель Сирано. — А я, вдохновенный господом богом, принес вам портрет этого вашего предка, — сказал священник, доставая из корзины доску, над которой работал всю ночь. Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак в немом удивлении уставился на портрет неизвестного человека, очень похожего на него самого, но у которого вместо глубоких вертикальных морщин, продолжающих линии носа, красовался сам нос, разделяющий лоб почти доверху пополам. — Теперь извольте посмотреть на петушка, владетельный сеньор. У него на правой лапке тоже четыре, а не три пальца, совсем как и у старой пеструшки. Я намерен продемонстрировать это чудо природы в монастыре в Париже, а может быть, и в Сорбонне. — Уж не хотите ли вы продемонстрировать и моего сына Савиньона этим мудрецам? Кюре скрыл улыбку. Владетельный сеньор назвал Савиньона своим сыном, одним этим выдав то впечатление, которое вызвало в нем появление странного кюре со своими курами и разрисованной доской. — Я хочу, ваша светлость, чтобы ваш сын Савиньон отныне почитался вами как подлинное свидетельство древности и знатности вашего благородного рода, берущего, быть может, начало от изображенного мною по наитию свыше вот этого лица, портрет которого я с глубокой преданностью подношу вашей светлости. И молодой кюре с поклоном передал доску хозяину замка. «Возьмет или не возьмет?» — звучало у него в мозгу, ибо этим решалась судьба бедной женщины и ее сыночка. Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак после некоторого колебания принял подношение, но не потому, что его убедил опыт старого священника, завершенный уже при молодом кюре, ибо он ничего в нем не понял, а потому, что этот молодой кюре сказал о наитии свыше, повелевшем ему изобразить предка Абеля. Может быть, и в самом деле это был первый Сирано? Ведь наитие-то от бога! Кюре, забрав своих кур, но оставив портрет, щелкая деревянными башмаками по половицам замка, ушел в надежде, что исповедовавшейся у него женщине будет легче. И когда ему привелось в последующие годы крестить сначала ее дочь и потом еще одного сына, он понял, что совершил в свое время доброе, угодное господу богу дело. А тогда, глядя ему вслед из окна замка, Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак размышлял, насколько это было доступно ему, принадлежавшему к той части дворянства, о которой говорилось, что «грубость ее равняется невежеству. Нетерпимая и несносная, она тормозит общественную жизнь своими узкими претензиями, ссорами за первенство, ненавистным для всех злоупотреблением своим правом охоты и вымогательством у крестьян, к чему дворян понуждает все увеличивающаяся нищета, не дающая им покоя».[79] Не знал от нее покоя и Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, хотя и держал в руках портрет своего возможного предка, который отнюдь не сделал его богаче. И он не стал вешать его на стену, как подумал было при кюре, а запрятал в чулан. Он решил не подавать виду, что изменил отношение к Савиньону, нос которого по-прежнему злил его, хотя, быть может, и отражал внешность далекого предка. Однако неизвестно, был ли тот галл близок к Цезарю, который властвовал над Галлией.Ф. Ларошфуко
Глава вторая ОБИЖЕННЫЙ ПРИРОДОЙ
Поразителен факт, что у большинства гениальных людей были замечательные матери, что они гораздо больше приобретали у матерей, чем у отцов.В первую пятницу апреля 1625 года одинокий всадник, прославленный впоследствии как баловень «отваги и шпаги», ехал вдоль берега Сены, направляясь в Париж, увы, без монет в кармане, но с отцовским благословением и твердым намерением покорить город своих честолюбивых надежд. Перед последним перегоном до столицы он решил дать передохнуть своему ленивому коню до смешного редкой желтой масти, да и самому разлечься на траве у воды, течение которой доведет его теперь до самого Лувра, где он найдет старинного друга отца, ныне капитана мушкетеров короля. Лежа в приятно пахнувшей траве, навевающей сладкие грезы, и наблюдая за полетом легких стрекоз, которым не нужны ни важные встречи, ни поединки, ни рекомендательные письма, наш честолюбивый юноша, ибо не было ему и двадцати лет, заметил на противоположном берегу в тени плакучей ивы, опустившей ветки к воде, толстенького мальчонку лет шести с удочкой. Тот неотрывно смотрел на обтекаемый струйками поплавок. С присущей отдыхающему всаднику наблюдательностью он заметил и подошедшего к юному рыбаку другого мальчика тех же лет, внешность которого не могла не привлечь внимания, ибо обладал он носом непомерной величины, который походил одновременно и на складку лобной кости черепа, и на птичий клюв. — А, дятел! — донесся с того берега приветливый голос рыболова, не содержащий, впрочем, и тени насмешки. — Садись, рыбачить будем. И тут будущий маршал Франции, прославленный не только сверкающим талантом Александра Дюма, но мемуарами, изданными Куртилем де Сандра у Пьера Руже в Амстердаме в 1701 году, когда минула эпоха Ришелье, Мазарини, Людовика XIII с борьбой всех против всех, крестьян против феодалов, феодалов против короля, короля против кардинала Ришелье, Ришелье против Испании и всех непокорных, и шпага наряду с интригой, казалось, решала все, юноша, которого мы повстречали на берегу Сены, приподнялся на локте, увидев, как рыболов судорожно дернул удочку и над водой серебристой звездочкой в лучах солнца сверкнула взлетевшая в воздух рыбка. — Кола! Кола! Что ты делаешь! Ведь ей больно! — закричал подошедший. Но рыболов, очевидно, был менее чувствителен и, ухватив добычу, стал освобождать ее от крючка. — Кола! Кола! — со слезами на глазах и в голосе умолял носатый мальчик. — Давай отпустим ее в воду. У нее, может, тоже есть детки! При этих словах отдыхающий всадник даже сел на траву, изумленно глядя на тот берег. — У нее, у нее! — передразнил рыболов. — А может, это не она, а он — отец. А какие отцы бывают, сам знаешь. При упоминании об отце, которого наш всадник глубоко чтил, он встал, направляясь к пасущемуся коню. — Ну, Кола, все равно отпусти ее, я подарю тебе нож. — Нож? — живо отозвался толстенький. — С костяной ручкой? — Конечно, подарю. — Нет, не так! Я продам тебе рыбку за твой нож. А лучше сварить бы из нее суп. Давай поймаем еще и разведем костер. Всадник, занеся ногу в стремя, ждал конца разговора ребят. — Нет, ты обещал выпустить ее за нож. Смотри, как она дышит! Будто ей сдавили горло. Сам знаешь, каково это! — Да уж знаю, — проворчал Кола, невольно потерев пальцами шею. — Ну ладно, бери, твоя взяла. Отъезжая, всадник уже не видел, как мальчик с длинным носом, встав на колени, дотянулся до водной поверхности и опустил в прохладу руку. И там, почувствовав, как сильнее забилось скользкое тельце, он разжал пальцы. С радостной улыбкой наблюдал мальчуган, как вильнула рыбка хвостиком и исчезла в уже непрозрачной глубине. А до отъехавшего всадника донеслась последняя фраза: — Ну с тобой, Сави, рыбьего супа не сваришь, пойдем сходим за моим ножиком. «Однако, — презрительно подумал всадник, погоняя отнюдь не ретивого коня, — из такого мальчугана толку не выйдет ни для короля, ни для его высокопреосвященства. Не шпагу надобно дать в эти руки, а веретено!» С таким глубокомысленным заключением он уехал навстречу небывалым приключениям, и пути двух героев столь разных книг, но одной эпохи, разошлись. Мальчуганы же шагали по улице деревни, если так можно назвать извилистую пыльную тропу вдоль неровного ряда бедных крестьянских хижин. — Это все мать тебя учит так «добру», — досадливо ворчал толстенький Кола. — И кем только ты, Сави, вырастешь? — по-взрослому вздохнул он. — Мою мать не тронь, — угрожающе предупредил Савиньон. — Она меня любит. — Любит, любит, — заверил Кола и добавил: — Я-то знаю за что! — И ты о том же, Кола! А еще друг!.. — Я всегда за тебя, — заверил Кола. В следующий миг ему представилась возможность доказать это на деле, ибо ребят догнала ватага босоногих сорванцов, которые, приплясывая, стали петь дразнилку, сочиненную старшим братом Кола по матери, в прошлом госпожи Бриссайль, ныне жены лавочника Лебре.Бокль, английский историк XIX века
Глава третья ПЛАМЯ ГНЕВА
…поскольку есть у каждого чуткости к страданию за общественное бедствие, настолько он человек.Запах гари пробудил господина Сирано глубокой ночью. Он подумал было, что коптит свеча, но в комнате было темно. Ему не хотелось вставать, рядом, мирно дыша, спала его Мадлен, дети находились в другой комнате, Савиньон вот уже шесть лет как жил у кюре, набираясь ума, кухарка Сюзанна не справлялась со своей пагубной страстью и с вечера, злоупотребив вином, заваливалась спать на кухне. Окончательно проснулся Абель де Сирано, когда сквозь прикрытые веки ощутил свет, хотя он недавно проверил, что свеча потушена. Он сел на кровати, увидев в окне, что деревья будто озарены чем-то мерцающим. Абель Сирано вскочил, чтобы открыть окно и убедиться в причине столь странного освещения. Гарь или копоть, которые недавно почудились ему, превратились теперь в удушливый запах дыма. Абель де Сирано распахнул окно, и вместо струи свежего ночного воздуха к нему в комнату ворвалось пламя. Замок горел. Прежде всего Абель подумал о Мадлен, которая, как бы то ни было, занимала в его жизни первое место. Мадлен проснулась, почуяв недоброе. Когда же она поняла, что в доме пожар, то крикнула: — Дети! — вскочила с постели и рванулась было к двери, но, открыв ее, невольно отпрянула. Пламя бушевало и за окном и за дверью. Тогда Абель де Сирано схватил свою жену на руки и бросился в огонь, как прыгают в воду, его длинные седеющие волосы вспыхнули, но он, прижимая к груди Мадлен, проскочил сквозь пылающую преграду и выбежал на крыльцо. Сильно запахло паленым волосом. Абель де Сирано замотал своей грузной головой и сбил пламя. — Дети! — отчаянно кричала Мадлен, заламывая руки и стараясь броситься обратно в горящий дом. Тут господин Абель де Сирано увидел подбегающего кюре в сопровождении его воспитанников Савиньона и Кола. — Преподобный! — бросил Абель. — Вверяю вам госпожу Сирано! С этими словами он снова кинулся в огонь, чтобы спасти детей. В наполненном дымом зале он увидел старшего сына Жозефа, который стоял на коленях, не решаясь пробежать сквозь пылающие двери, кашлял и молился. Отец схватил юношу за руку, поставил на ноги и вытолкнул сквозь горящий вход наружу, сам же бросился в детскую комнату, где должны были быть семилетняя дочка и самый маленький сынок. И тут он, к своему удивлению, увидел, что Савиньон ведет за руку кашляющую сестренку, которая, оказывается, с перепугу забилась в охотничий чулан. «Когда только мальчуган успел проникнуть в горящий дом и найти ее?» Из детской комнаты доносился плач годовалого малыша. Отец вбежал туда, выхватил ребенка из кроватки и, прижимая к себе и сам задыхаясь от кашля, ринулся из дома. И снова встретился с Савиньоном, который успел вывести девочку и снова вернулся к отцу, находчиво воспользовавшись еще не захваченным огнем окном. Обрушился потолок, горящая балка пролетела перед самым лицом Савиньона и, казалось, не могла не задеть хотя бы его выступающий нос. Сердце остановилось у отца, но, видно, господь миловал Савиньона, каким-то чудом он остался невредим. Отец передал ему ребенка, чтобы тот выбрался в окно, из которого вслед за тем повалил дым с языками пламени, сам же Абель де Сирано, задыхаясь, ринулся в кабинет, чтобы захватить хранившийся там мешочек с золотом, без чего нельзя было представить дальнейшее существование семейства Сирано. Савиньон в дымящейся одежде вынес через окно младшего брата и передал ребенка рыдающей матери, которую безуспешно пытался утешить кюре. Наконец, спалив половину своих волос на голове и бороде, из горящего замка прежним путем выскочил полубезумный его владелец. Он упал на землю и корчился в судорожном кашле. Кюре поливал его водой. Встав на колени, Абель де Сирано осмотрелся. Кюре снова утешал жену. Дети, включая Савиньона, были с нею, заветный мешочек Абель вынес, замок пылал, войти в него теперь было уже невозможно, чердак обрушился, когда потолочной балкой едва не задело Савиньона. А где же Сюзанна, толстуха кухарка? Ее нигде не видно! Все знали, что к вечеру, когда семья накормлена, она обычно напивалась до такой степени, что для нее уже ничего не существовало, и заваливалась спать, храпя и стеная до утра. Должно быть, даже пожар не смог поднять несчастную, и привычно непробудный сон ее стал поистине непробудным… Мадлен первая вспомнила о ней и умоляла спасти бедняжку. Кюре хотел броситься на кухню, тоже объятую пламенем, чтобы вывести свою прихожанку, но господин Абель де Сирано силой удержал его. Все равно поздно, стены рухнули вслед за потолком, слишком стар был деревянный, построенный еще когда вокруг росли леса дом, да может быть, Сюзанна и выбежала из него и трясется от страха где-нибудь в кустах. Но ни под одним кустом ее не оказалось, впоследствии на пожарище нашли ее обугленные кости. Мадлен рыдала, дети плакали. Даже Савиньон вытирал свой огромный нос, старший сын Сирано Жозеф, стоя на коленях, молился, чего нельзя было сказать о кюре, который метался, не зная, чем помочь несчастью. Всю эту сцену наблюдал вытаращенными глазами не только перепуганный Кола Лебре, но и стоящие поодаль сбежавшиеся на пожар крестьяне жалостливо смотрели на происходящее и, кстати сказать, даже не пытаясь бороться с огнем, а лишь качая головами. Это происходило в последний понедельник августа, после уборки урожая, а в предыдущую пятницу, которую крестьяне называли «черной пятницей», в деревушку Мовьер вступил отряд солдат во главе с лейтенантом на хромающем коне, следом за пыльной каретой, влекомой парой невзрачных лошадей, запряженных цугом. Такое событие, отмеченное лаем немногих деревенских псов, так как в большинстве бедствующих домов из бережливости собак не держали, стало праздником для босоногих мальчишек. Увязавшись за солдатами, они шагали как они, держа палки, как копья и шпаги. Савиньон с Кола выбежали из дома кюре, присоединившись к ребятам. Офицер, приказав разбить палатки для ночлега, сам направился к деревенскому лавочнику, заботясь о раскованном коне. Господин Лебре выскочил ему навстречу, стараясь натянуть улыбку на круглое, подпертое тройным подбородком лицо, но на вопрос офицера о кузнице лишь развел руками. Мрачный офицер помрачнел еще более и, сойдя с коня и бросив лавочнику поводья, по-хозяйски топая ботфортами, вошел в дом (который не был свободным от постоя), распорядясь, чтобы ему отвели одну комнату. Был он суров и имел шрам на бородатом лице — знак мужества и отваги. Карета же подъехала к замку Мовьер-Бержерак. Из нее вышел встреченный владельцем замка господином Абелем де Сирано-де-Мовьером-де-Бержераком маленький человечек в огромной шляпе, одетый во все черное, с гусиным пером за ухом и с чернильницей на золотой цепочке вместо украшения камзола. Вид у него, несмотря на малый рост, был строгий и важный, хотя движения порывисты, почтение же, которое ему оказывал местный землевладелец, говорило о высоком положении приехавшего. Однако обладатель лисьей мордочки и писчих принадлежностей не был ни знатным гостем, ни графом, ни бароном, а просто сборщиком податей в пользу королевской казны. Оставив карету и церемонно раскланявшись с «владетельным сеньором», освобожденным от всех поборов, сборщик податей немедленно направился дергающимся шагом в деревню, где его уже ждал мрачный офицер во главе своих угрожающе вооруженных солдат. Мальчишки тоже построились в ряд, как это сделали солдаты, офицера перед ними изображал, гордо вскинув свой нос, Савиньон. Глядя на него, солдаты косились на лейтенанта со шрамом, не решаясь вслух поиздеваться над «стенобитным» снарядом для взятия крепостей на лице мальчугана. Что же касается той «крепости», для «взятия» которой они прибыли сюда, то им никаких осадных орудий не потребовалось. Вскоре деревня огласилась воплями, мольбами и плачем. Сборщик податей порывисто заходил по очереди в крестьянские хижины, писал что-то неведомое крестьянам и приказывал солдатам грузить на подоспевшую телегу мешки обмолоченного зерна снятого урожая, круги козьего сыра, живых кур, уток, гусей, визжащих поросят. Свиней и блеющих овец сбили в кучу и погнали по улице вдоль очищаемых хижин. Подати в пользу короля! А перед тем были церковные, один перечень их чего стоит: в особенности лепта св. Петра (главный церковный побор), индульгенция (за отпущение грехов), аннат (единовременный годовой сбор в пользу папского двора), симония (плата за предоставленную церковную должность, которую за нищенствующего кюре вынуждены были вносить прихожане). Словом, крестьянская жатва делилась между королем, придворными, церковью, судебными чиновниками и деревенским дворянством. Крестьянам же оставалось только то, что позволяло им при полуголодном существовании сеять и собирать вновь, дабы отдать жатву снова. Домик кюре, на правах духовного лица, освобожденного от сборов, стоял последним на улице, а в ближней к нему хижине разыгралась особенно мрачная драма. Больной крестьянин не смог собрать урожай, жене и старшим детям не удалось полностью заменить его, а сборщик податей ничего слышать не хотел. Имеющегося в доме зерна оказалось мало, и сборщик податей распорядился забрать у крестьянина единственную его козу, а она была главной кормилицей многодетной семьи. Мать семейства рыдала и голосила, хватаясь за козу, которую уводили солдаты. Кюре вышел из своего дома, Савиньон и Кола вертелись около него, наблюдая душераздирающую сцену. Кюре сказал своим воспитанникам: — Если хотите быть настоящими людьми, то исповедуйте главный принцип доброты: «Мне — ничего, а все, что есть, — другим». Приведите мою козу. — Как, зачем? — запротестовал Кола. — Вы же, отец наш, освобождены от всех поборов! — От всех, дитя мое, кроме веления сердца. Приведи козу, соседским детям надо чем-то питаться, она у нас дает достаточно молока. Ребята бросились во двор кюре, где соорудили когда-то сарайчик для козы, и отвели ее к соседке. Удивленная крестьянка не верила глазам. У нее снова будет коза! Она опустилась на колени перед кюре, уверяя, что это сам господь бог сжалился над ее горем. А кюре, отведя мальчиков в сторону, чтобы избежать дальнейших изъявлений благодарности, сказал им: — Я научил вас латыни, сколько знал сам, научил писать и считать, но все это пустяк, ибо храм знания надо строить на фундаменте слова, воспринимаемого сердцем. Вы думаете, что я вам дал пример доброго поступка? Я лишь выполнил завет, данный нам господом, и признаюсь вам, что вразумил меня на это один мудрый монах, вот уж скоро тридцать лет томящийся в темнице. Его светлый ум, не затемненный перенесенными страданиями, позволил ему написать в заключении трактат о стране Солнца, где нет у людей собственности, где все общее, где каждый трудится наравне с другими и где нет знати и священнослужители вроде меня занимаются науками для общей пользы. Дети слушали, удивленные странной притчей их кюре. Солдаты закончили свое жестокое дело, угнали отнятый скот, увезли отобранное зерно и другую крестьянскую снедь, чтобы отослать это сильным мира сего, не приложившим ни малейших усилий для получения этих даров земли. Сборщик податей и офицер спешили в замок Мовьер, где их ждал обед, устроенный «владетельным сеньором», на землях которого трудились практически без вознаграждения нищие крестьяне. По этому случаю даже Савиньону позволили сопровождать кюре в шато отца, и он стал свидетелем ведшейся за столом беседы. — Не могу не восхищаться, — поднимал бокал вина его отец, — доблестью королевского отряда, проявленной при сборе податей с этих грязных лентяев. Прикидываясь бедняками, они стараются подальше запрятать и прикарманить выращенное на моих землях добро. Офицер залпом выпил кубок вина и разгладил мокрые усы: — Попробовали бы они у меня уклониться от своего долга! — И он грозно ударил кулаком по столу. — Мы вынуждены, господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, — отрывисто начал сборщик податей, — взымать подати с помощью солдат. Это святое дело вызывает бунты, восстания невежественных людей. Не понимают, что такое священное право собственности на землю! Что такое право короля, властвующего не только над ними, но и над их господами. Савиньон взглянул на кюре при слове «священное право собственности» и невольно подумал о сказочном крае Солнца, где почему-то нет такого права собственности и где люди счастливы. Вскоре Мадлен увела детей, включая Савиньона, мужчины остались одни и продолжали бражничать, кроме кюре, конечно, который стойко воздерживался от назойливых угощений хозяина. Когда винные пары дали себя достаточно знать и у сборщика податей, и у офицера, господин Абель де Сирано приступил к тому щекотливому вопросу, ради которого при своих денежных затруднениях он не пожалел устроить для гостей обед с вином. — Почтенные служители короны, — начал господин Сирано, — я восхищаюсь слаженностью вашей работы, которую ведете с благословения его высокопреосвященства господина кардинала, и крайне опечален, что вы уже завтра перед воскресным днем покидаете наши места. Однако я все же надеюсь, что просьба верного слуги короля будет услышана такими же верными слугами его величества и его высокопреосвященства господина кардинала. — Что бы вы хотели, господин Абель де Мовьер-де-Бержерак? — как бы пролаял сборщик податей. — Задержаться вам назавтра и взыскать с помощью ваших доблестных солдат арендную плату с бессовестных крестьян, которые обогащаются на моих землях, не выплачивая мне уже который год установленной за пользование землей платы. Сборщик податей и офицер переглянулись. Господин Абель понял их взгляды. — Разумеется, что, получив с крестьян долг, я не останусь в долгу перед теми, кто столь плодотворно поможет правому делу. — В какой доле? — отрывисто спросил сборщик податей. — В десятой! — с трудом выговорил землевладелец. — В пятой! — выпалил сборщик податей и с присущей ему порывистостью вскочил из-за стола. — Помилуйте, сударь… — начал было Абель де Сирано. — Собираем с пятой доли, — тонко пролаял служитель короля и снова переглянулся с офицером, который молча кивнул. Пришлось кивнуть и владетельному сеньору. На следующий день солдаты снова прошли деревню от хижины к хижине, забирая то, что осталось от вчерашнего обхода. У последней хижины, соседней с домом кюре, они задержались. Во дворе и в доме не было ничего, кроме козы, которую вчера отдал беднякам кюре. Солдатам и сборщику податей, представлявшим сейчас интересы землевладельца, до этого не было никакого дела. Так коза кюре была забрана в счет арендной платы крестьянина за землю, на которой он выращивал урожай, не принадлежащий ему. Крестьяне мрачными взглядами провожали солдат с награбленными дарами земли. Многие думали, как будут они теперь жить и кормить детей. Солдаты ушли вслед за вымытой каретой с парой запряженных в нее цугом лошадей и всадником на хромающем, потерявшем подкову коне. А ночью в замке Мовьер-Бержерак случился пожар. На рассвете, глядя на дымящееся пожарище, господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, проклиная крамольных крестьян, которые, несомненно, подожгли его замок в отместку за взимание с них арендной платы, поклялся, что продаст все эти зараженные бунтом земли и переедет с семьей жить в Париж. — А как же Савиньон? — поинтересовался кюре. — Позволите ли вы ему продолжать учение у меня? — Нет! — отрезал господин Абель. — Кроме ваших разумных наставлений, отец мой, он наслышится здесь бунтарских мыслей у сверстников и их отцов-поджигателей. — Хочу заметить вам, господин Абель, что, сочувствуя всем сердцем вашему горю, я бы горевал еще больше, если б такой способный ученик, как ваш Савиньон, не продолжил бы образование, скажем, в коллеже де Бове при университете в Париже. — Пусть готовится или в монастырь, или в армию какого-нибудь герцога или короля. Жозеф решил стать духовным лицом, это пример и Савиньону. А на коллеж, преподобный кюре, у меня, увы, потерпевшего такие убытки, — он показал на пепелище, — денег нет. — Тогда дозвольте мне, владетельный сеньор, использовать благодетельное отношение ко мне его преосвященства господина епископа, который изволил похвалить мою роспись церкви, чтобы обратиться к нему с нижайшей просьбой выхлопотать стипендию для вашего Савиньона в коллеже де Бове. — Это ваше дело, преподобный отец. Я с епископом дел не имел, хотя с радостью приму от него любое благодеяние, а вы, надеюсь, доведете до него сведения о моем несчастье. Кюре обещал.И. Н. Крамской
Глава четвертая РАНА ПЕДАНТА
Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя.Аббат Гранже, заведующий коллежем де Бове при университете в Париже, мог быть образцом человека железной воли в слабом теле. Всю свою жизнь он боролся с собой, усердием и воздержанием приобретая те качества, которые стремился передать ученикам, будучи к ним так же требователен, как и к себе. Худой, с провалившимися щеками и желтым цветом горбоносого аскетического лица, с тонкими губами и горящими глазами фанатика, всегда прямо держащий облаченный в сутану стан, аббат Гранже ястребиным взором следил за образцовым порядком в доверенном ему коллеже, где основой учения ввел зубрежки, перемежающиеся с молитвами и неизбежными наказаниями за малейшие нарушения монастырского устава. Аббат Гранже считался признанным ученым, уважаемым как среди богословов, так и светских людей. Покровительство его высокопреосвящества господина кардинала Ришелье создало его коллежу де Бове солидную репутацию, и знатные люди наперебой стремились устроить именно в это заведение своих отпрысков, которым сразу же приходилось забыть мальчишеские повадки, баловство и прочие шалости, зная отныне только молитвы и учение. Наказания здесь были просты и строги — карцер и порка. Надо заметить, что к порке аббат Гранже прибегал лишь в исключительных случаях, не потому, что считал такой способ воспитания несоответственным богобоязненному духу заведения, а из-за своей слабости, терзающей его, как незаживающая рана, ибо он не выносил любых страданий, а при виде крови даже лишался чувств, что считал для себя позорным и недостойным пастыря, долженствующего воспитать образованных дворян, исполненных как религиозного рвения, так и учености и благородства. Скрывать эту свою рану и оставаться строгим было аббату нелегко. Аббат Гранже продолжал отечески следить за своими воспитанниками даже после окончания ими коллежа, попадали ли они в университет, посвящали ли себя духовной карьере или военной славе. С ними он держался так же приветливо и строго при встречах, как если бы они по-прежнему подчинялись уставу коллежа. Ученики коллежа, однако, пользовались и некоторыми привилегиями, необходимыми, по мнению аббата Гранже, для усвоения норм дворянского поведения в жизни, а потому они могли общаться со студентами университета и с избранными из них даже посещать Латинский квартал для ознакомления с нравами парижской молодежи и в особенности с законами дворянской чести. Желающие же могли еще и брать книги из университетской библиотеки. Если первые поблажки привлекали немало учеников, то библиотека представляла для них значительно меньший интерес, поскольку излишнее прилежание и любовь к знаниям в коллеже отнюдь не были распространены. Учителя, да и сам аббат Гранже пристально следили за тем, с кем общаются и что читают воспитанники, помимо обязательных текстов, какие надлежало зазубривать, произнося их в случае надобности слово в слово. Цитаты аббат Гранже считал основой образованности, но, конечно, цитаты из книг, одобренных им самим, отцами церкви или папой римским. Савиньон Сирано де Бержерак, отличаясь феноменальными способностями, за годы, проведенные в коллеже де Бове, сумел овладеть не только латынью, но и греческим языком, свободно читая античных авторов. И он был в числе немногих, кто получал книги древних философов в библиотеке университета, чтобы изучать их, вместо изнурительных молитвенных бдений, которыми многие его сотоварищи старались снискать к себе благосклонность учителей и самого аббата Гранже. В час, когда большинство учеников находилось на одном из таких бдений, аббат Гранже лично обходил коридоры и дортуары коллежа, чтобы убедиться, кто из учеников не проявляет долженствующего религиозного рвения. И в своей пастырской заботе он, слабый на ноги, с трудом все же забирался на чердак, где среди старой, покрытой пылью школьной рухляди, поломанных столов, кроватей и стульев обнаружил молодого Сирано. Юноша так углубился у слухового окна в чтение старинного фолианта, что не заметил, как из-за полуразрушенного шкафа карающей тенью появился аббат Гранже. Некоторое время слышался лишь шелест перелистываемых страниц. Наконец аббат Гранже, которому из-за слабеющего зрения трудно было рассмотреть, что за книгу с таким увлечением читает его ученик, нарушил тишину: — Что постигает в таком неподобающем месте воспитанник коллежа де Бове, когда другие возносят в храме молитвы господу богу? Савиньон вздрогнул, обернулся и увидел высокую фигуру в сутане, узнав самого аббата, Сушеного Педанта, как с его острого языка называли того ученики в коллеже. Савиньон почтительно вскочил и с готовностью ответил: — Изучаю философию древних, отец мой. — Каково имя автора этой книги? — Демокрит, ваше преподобие, — отвечал Сирано, отнюдь не поникнув головой, а словно бы вскинув свой тяжелый нос. — Демокрит? Разве кто-либо из воспитателей коллежа принуждал свою паству к подобному чтению? — Нет, ваше преподобие. Я заинтересовался этим философом сам. Надо сказать, что при всей учености аббата Гранже он Демокрита не читал, ибо заведомо знал, что взгляды этого грека из Абдеры не совпадали с жившим после него Аристотелем, учение которого для католической церкви использовалось схоластами как каноническое. Аббат Гранже спросил елейным голосом: — Что же усвоил ты, сын мой, из этого лжеучения язычника? — Аристотель тоже был язычником, отец мой, но учение его благословляют отцы нашей святой церкви. — Так почему же ты, сын мой, читаешь не Аристотеля, а какого-то Демокрита? — Потому что он очень убедительно показывает, как устроен мир, из чего состоят все сущие в нем тела. — Из чего же, сын мой, создал их господь бог? — Из атомов, неделимых частиц, находящихся в движении в пространстве, которые при соединении создают тела, а при распаде вызывают их уничтожение. — Не хочешь ли ты сказать, сын мой, что господь бог создал в шестой день творения не землю, звезды, тварей живых и человека, а лишь неделимые частицы — атомы, а тела и все сущее получалось потом само собой? — Именно так, ваше преподобие, утверждал греческий философ еще две тысячи лет тому назад. — Зачем знакомиться с подобной ересью? Разве воспитатели твои не учили тебя находить ответ на любой вопрос в энциклопедическом своде таких ответов, не две тысячи, а двести лет назад составленном Альбертом Великим и учеником и продолжателем его Фомой Аквинским? — Ответы упомянутого вами, ваше преподобие, энциклопедического свода вызывают сомнения в отношении строения тел. — Дерзостны твои слова, юноша! Сомнение — первая язва еретической проказы, которой не должен заразиться ни один из воспитанников коллежа де Бове. — Коллеж учит познанию, и я по мере своих сил, ваше преподобие господин аббат, стараюсь это познание умножить. — Движение неделимых частиц в пространстве! — возмущенно воскликнул аббат. — Что же разумеет читающий Демокрита воспитанник моего коллежа под пространством? — ехидно спросил он. — Я понимаю это пространство как пустоту, окружающую все сущее, которая сама по себе тоже суща. Аббат Гранже схватился за голову: — О какой пустоте! О какой пустоте глаголешь ты, младенец от ереси? Всем известно, что мир состоит из земли, воды, воздуха и огня! — Я разумею так, отец мой, что ежели каждое тело состоит из Демокритовых атомов, а не из упомянутых вами элементов, названных, кстати сказать, тоже греками в древности, то и пространство или пустота тоже должны состоять из своих атомов, однако для вещественных тел, проникающих сквозь них, ПРОЗРАЧНЫХ, каковыми они становятся, когда обычные неделимые частицы сочетаются брачными узами, образуя пары, которые и суть атомы пустоты. — Безумец! О каких браках между неодушевленными телами мелешь ты вслед за язычником своим беспутным языком! — Но ведь обет безбрачия дается лишь святыми отцами вроде вас, ваше преподобие, и монахами, если они не беглые. Материальных частиц это не касается, они могут свободно соединяться друг с другом, не только образуя тела, но и пустоту, которая тоже есть тело.[80] — Где ты мог прочитать у Фомы Аквинского столь богохульное представление о мире, созданном всемогущим творцом? — Нигде, мой отец, только у Демокрита, толкнувшего меня к размышлениям, у Демокрита, который во многом не согласуется с Аристотелем, даже в упомянутом вами язычестве. — Что же, твой Демокрит не был язычником? — Какой же он язычник, отец мой, если он смотрел на греческие божества как на порождение фантазии и возникновение религии объяснял суеверными впечатлениями, которые должны были производить на человека некоторые явления природы. — Умолкни, вольнодумец! Ты и о нашей святой религии осмелишься вымолвить подобное? — Это не мои слова, ваше преподобие, а только ЦИТАТА. Вы всегда учили нас верно цитировать. — Дело не в цитировании, а в смысле безбожной, зазубренной тобой фразе, которую осмелились произнести твои уста. — Я лишь показал, отец мой, что Демокрит не язычник. Что же касается учения Аристотеля, вошедшего в догмы святой нашей церкви, то тот, кто ограничится этим учением, обречен оставаться в мрачном неведении о сути мира и вещей. — Терпение мое иссякло, блудный сын мрака, забредший, к нашему несчастью, в стены коллежа де Бове! — воскликнул в гневе аббат Гранже. — Следуй за мной, отрок Сирано, дабы принять заслуженное твоей дерзостью наказание. Аббат Гранже и Савиньон Сирано де Бержерак, который держал под мышкой старинный фолиант в кожаном переплете, спустились по скрипучей лестнице с чердака под сводчатый потолок коридора с выходившими в него дверями дортуаров и классов. Савиньон в ожидании предстоящего грома с молниями, которые низринутся сейчас на него, по-особенному воспринял это знакомое место, где протекали его последние годы с тех пор, как он вошел сюда двенадцатилетним мальчуганом, который мог спорить с огнем во время пожара, но трепетал при одном лишь имени аббата Гранже. Как же изменился он с тех пор! Не сразу сошелся он с товарищами по коллежу, виной прежде всего был его несчастный нос, предмет насмешек и издевательств мальчишек-сверстников, которые, как известно, не обладают бережным отношением к ближнему, а тем более — милосердием. Однако Савиньон сумел постоять за себя, и не столько с помощью кулаков, сколько острым своим языком и веселым нравом. Он так зло вышучивал своих обидчиков, что они не решались повторить насмешек, а шутки Савиньона, передаваемые по всему коллежу, постепенно сделали его любимцем многих, хотя не было недостатка и в тех, кто не прощал ему его язвительности, правда, ими же вызванной. Савиньон не раз попадал в карцер, главным образом из-за метких его слов, когда доставалось не только ученикам, но и учителям. Он выдумывал им прозвища, с восторгом подхватываемые его товарищами. Так, вслед за Сушеным Педантом вошли в обиход: Козел в рясе, Святой бочонок, Змея в сутане и другие столь же колкие клички. Как и обычно, в среде его товарищей находились ябеды-доносчики, которые, дабы выслужиться в глазах коллежского начальства, сообщали воспитателям, как зовут их за глаза воспитанники и кто эти прозвища выдумал. Аббат Гранже с удовольствием избавился бы от этого юного острослова, если бы тот не был стипендиатом благодаря хлопотам его преосвященства влиятельного епископа одной из прилегающих к Парижу епархий. Так что Савиньона в коллеже только терпели. Сам он, особенно вначале, скучал не столько по дому с неприязненно относящимся к нему отцом, сколько по матери и, конечно, о первом своем учителе, деревенском кюре, и о друге детства Кола Лебре. Не принадлежа к дворянскому сословию, тот не мог попасть в желанный коллеж де Бове. Товарищи привыкли к Савиньону, перестали замечать его нос, который был куда менее опасен, чем его язык. И в конце концов они сблизились с юным Сирано, даже признав его верховодство, запоминая сочиненные им едкие стишки и эпиграммы. Их совместные вылазки в Латинский квартал в сопровождении выбранных самим аббатом Гранже надежных студентов познакомили Савиньона с бытом студенческой, поэтической и художественной молодежи, с беседами на вольные темы, с тавернами, песнями, с первыми чтениями юношеских стихов и первыми услышанными восторгами в свой адрес. И женщины! Один вид их смущал и приводил в трепет, прекрасные, созданные для сонетов и серенад, гордые, и недоступные на первый взгляд, и таинственные, загадочные при приближении, — о, их так легко оскорбить своим безобразием! Но он видел и «веселых девиц», правда, издали, боясь, однако, подойти к ним. Его более смелые в этом деле товарищи потом отмаливали свою отвагу в церкви коллежа. Привелось Савиньону присутствовать и при двух вызовах на дуэль, и он был околдован благородной, романтической процедурой, изысканной, пропитанной ядом вежливости, неистовой решимостью только что обнимавшихся людей, возымевших вдруг желание убить друг друга, один раз из-за острого словца, употребленного молодым дворянином, в другой — из-за пристального взгляда, направленного на подругу взбешенного этим ревнивца. Савиньон мысленно представлял себя на месте этих ссорившихся молодых дворян, ставивших выше всего вопросы чести, и у него холодело сердце. Он хотел бы увидеть своими глазами развязку и ради этого хоть всю ночь просидеть на монастырской стене, о которой говорили дуэлянты, но не знал, где ее найти. Словом, Латинский квартал обогащал Савиньона не меньше, чем античная философия. Надо заметить, что произошло это в самый неблагоприятный для Савиньона день, ибо по всему коллежу пронесся зловещий слух о появлении у них крещеного индейца племени «майя», вывезенного из Америки испанцами и переданного молодым испанским королем (Габсбургом) своей Кузине французской королеве Анне Австрийской, она же, напуганная раскрашенным лицом индейца и не зная, что с ним делать, направила его в коллеж де Бове в услужение, поскольку считалось, что она это заведение опекает. Служба индейца, как шепталось, будет связана с присущей ему природной жестокостью, ибо до завоевания Америки испанскими конкистадорами и распространения на полуострове Юкатан христианства там свирепствовала мрачная языческая религия с человеческими жертвоприношениями, когда у обреченного человека жрец вырывал из груди еще бьющееся сердце, а теплый труп сбрасывался с высокой пирамиды для пожирания внизу на священном пиру. И вот обитатель тех мест, конечно, несмотря на обращение в христинство, несущий в себе дикарское изуверство отцов и дедов, должен был наказывать провинившихся учеников коллежа де Бове, став его экзекутором. Когда аббат Гранже вошел с провинившимся Савиньоном в коридор. Индеец в испанской одежде, огромный, краснокожий, с безобразным скуластым лицом без всякой растительности на нем, стоял, скрестив руки на груди, в проеме двери «камеры порок» (экзекуторной), сообщавшейся с темным карцером. При виде юноши, ведомого за руку аббатом, индеец напрягся, вперив колющий взгляд в первую, быть может, свою жертву. Толпа воспитанников, отстоявших в отличие от Савиньона молитвенное бдение, наполнила коридор и замерла при виде преобразившегося индейца, побледневшего аббата, даже утратившего желтизну лица, и упрямо нагнувшего голову Савиньона, не ждавшего для себя ничего хорошего. Затаив дыхание, не сводя глаз с заокеанского истязателя, все воспитанники коллежа услышали прерывающийся голос аббата, со злостью выкрикнувшего по-испански индейцу: — Этот юный идальго приговаривается мной за богопротивные речи к двадцати пяти ударам плетью со свинчаткой и двум суткам карцера. Услышав это, товарищи Савиньона, как и он, изучавшие здесь испанский язык, ахнули от ужаса. Двадцать пять ударов плетью со свинчаткой! Да после такого истязания, проведенного заморским палачом, Савиньон не встанет! Надо сказать, что воспитывались все они во времена, когда не забылись еще дела святой инквизиции. Кто-то попробовал заикнуться о пощаде виновного Сирано, но аббат Гранже смерил смельчака таким взглядом, что тот быстро спрятался за спины других юношей. Даже те, кто неприязненно относился к Сирано, были потрясены таким бесчеловечным приказом аббата. Индеец, не спуская пристального взгляда с наказанного, молча поклонился аббату. Савиньон крепко сжал губы, припомнив, как в детстве порол его отец, не услышав от него стона. И сейчас, к удивлению всех столпившихся учеников и ярости аббата Гранже, Савиньон вызывающе произнес: — Ха-ха! И тут аббат Гранже, забыв о своей незаживающей ране сострадания, повелительно махнул индейцу рукой. Тот неторопливо подошел к Савиньону, грубо схватил за руку и повлек за собой в «камеру порок». Аббат сам захлопнул за ним дверь. Но что творилось в сердце аббата! И когда за дверью раздался отчаянный крик истязуемого, аббат опустил глаза, молитвенно сложил руки на груди и медленно пошел прочь, он старался не слышать звонких ударов утяжеленной плети. Крики Сирано хлестали тощее тело аббата некой изуверской плетью. Аббату хотелось зажать уши и бежать, глуша в себе не только ужас перед истязанием живого существа, но и присущую ему в тайниках души нормальную человеческую жалость, которую он готов был воспринять как искушение дьявола, и он, не выдержав криков жертвы и собственных мучений, подобрал сутану и побежал, провожаемый враждебными взглядами учеников. Но если бы знал аббат, что творится за дверью камеры… он лишился бы чувств при виде открывшейся ему картины. Зловещий дикарь с ярким перышком в черных волосах, испанская одежда которого из-за размалеванного краской лица не делала его более привлекательным, упал ниц перед провинившимся воспитанником коллежа де Бове и, распростершись на каменном полу, произнес шипящим голосом: — О потомок богов! Мой просить — твой кричать, твой — когти ягуар кричать. Мой бить скамейка. Савиньон с трудом понял исковерканную испанскую речь краснокожего. Впрочем, он сам не был силен в испанском языке, но, только что выкрикнув перед аббатом дерзостное «ха-ха!» и заподозрив теперь коварство нового экзекутора, он, сжав зубы и с трудом подбирая слова, процедил: — Когда на скамейке окажусь я, не услышит твое ухо стона. — Гордый слова! Говорить такой твой иметь знак богов на лицо. — И, поднявшись на колени, экзекутор снова земно поклонился, потом вскочил на ноги, взмахнул оказавшейся у него в руках плетью, хлестанул ею по пустой скамье и визгливо вскрикнул, как от нестерпимой боли. — Кричать! Кричать визгом! Помогать мой! Такой нужно не твой. Такой нужно мой, — шипел он. Савиньон Сирано обладал редкой остротой ума и столь же редкой быстротой реакции. После следующего удара плетью по скамье он завопил благим матом, и теперь за дверью его товарищи, да и аббат Гранже, еще не отошедший далеко, узнали голос первого насмешника коллежа, только что дерзившего его настоятелю. И этот истошный крик не только преследовал аббата, обратив его в бегство, но и разогнал от «камеры порок» перепуганных воспитанников, которые отныне будут всячески стремиться избежать этой ужасной комнаты и истязаний заморского изувера. А после двадцати пяти ударов плетью по скамейке индеец, тяжело дыша, сказал Савиньону тем же свистящим шепотом: — Теперь стонать! Горько стонать! Мой переносит твой в карцер. Снимать камзол, снимать рубаха. Спина голый. Надо показывать кровь и мясо. Савиньон послушно оголил спину и ощутил кожей прикосновение влажных пальцев индейца, очевидно вымазанных краской. Тот раскрашивал спину «своей жертвы», как размалевывал перед тем для красоты собственное лицо. — Мой уметь делать знак кровь щека. Теперь делать такой знак твой спина. Сеньор аббат, да хранит его господь, хорошо увидеть прийти проверяй.Гете
Глава пятая ЭКЗЕКУТОР
Истинный друг познается в несчастье.Дон Диего Лопес, приговоренный в Андалузии за убийство во время пьяной драки к смертной казни, а до этого в Генуе за грабеж — к каторге, сумел избежать и того и другого, уплыв в третью пятницу марта месяца 1618 года в Новую Испанию на каравелле сеньора Базильо Родригеса, который не интересовался прошлым людей, стремящихся к подвигам. Эти подвиги дона Диего Лопеса обратили на себя внимание самого губернатора Новой Испании, очередного преемника прославленного своей жестокостью и коварством генерал-капитана Кортеса. Сто лет назад он с горсткой отчаянных конкистадоров, наивно принятых индейцами за вернувшихся к ним с неба белолицых богов, сумел вероломно, без всякого сопротивления захватить и императора Монтесуму, его столицу Теночтитлан и всю его страну. И Кортес успешно добывал там столь необходимое христианнейшим монархам золото (конечно, не из земли, а из дворцов и храмов, а также с запястий, с пальцев, с шей язычников, обращаемых в христианскую веру). Книги их сжигались епископом новой епархии перед построенным христианским собором как богопротивные, написанные варварской письменностью. Дон Диего приложил к этому свое усердие, показав готовность точно так же служить короне. И через несколько лет, обретя смуглость кожи и седину в эспаньолке, произведенный в капитаны Диего Лопес был послан губернатором в недоступные дотоле места на розыски укрывающихся в тайных поселениях в сельве дикарей, чтобы изъять у них унесенное ими золото и обратить оставшихся в живых в истинную католическую веру. Надо сказать, что дона Диего Лопеса нисколько не интересовало, что эти «дикари» до появления бледнолицых создали на полуострове Юкатан и прилегающих землях древнейшую цивилизацию, кое в чем превосходящую цивилизации Испании и других христианских стран и даже Древней Греции, и Рима, и что, например, языческий календарь, вычисленный индейскими звездочетами на основе глубоких знаний движения небесных светил, был яснее и точнее христианского. Впрочем, ничего этого капитан Диего Лопес по невежеству своему попросту не знал и, ведомый только истовой верой и неукротимой алчностью, стремился вперед за золотом, невзирая ни на какие препятствия. Идти приходилось сквозь одуряюще пахнущую чащобу, где непреодолимой преградой стояли перевитые лианами разросшиеся деревья с яркими цветами и такими же яркими птицами, начиная с крикливых попугаев, крохотных сереньких колибри, превращающихся при взлете в сверкающие на солнце радужные пятнышки, кончая священной для индейцев птицей кетсаль, царственно восседающей в густой листве над зеленым буйством сельвы. Пройти здесь можно было лишь пробив в ней туннель острыми изогнутыми на конце индийскими ножами мачете. Шедший впереди капрал Педро Корраско, на год раньше своего капитана приговоренный в Испании к смертной казни, не менее ловко, чем местные индейцы, орудовал мачете, расчетливыми ударами срезая лианы, которые мертвыми змеями падали к его ногам, прокладывал тем путь храбрым солдатам, таким же головорезам, как и он сам. Никто из них не заметил в чуждой им сельве затаившейся опасности, и с ветки, нависшей над пробиваемым туннелем, метнулась пятнистая молния, свалив Педро Корраско с ног. Но недаром тот в свое время был тореадором, пока рога злосчастного быка не изменили круто его многогрешный жизненный путь, на котором навыки корриды верно служили ему, как и сейчас, когда, падая вместе с ягуаром, он успел вспороть ему кривым ножом живот, а три шедших следом солдата пронзили шпагами тело хищника. Подошел сам Диего Лопес, посмотрел на убитого зверя, подкрутил лихие свои усы, погладил седеющую бородку и покачал головой, отчего его широкополая шляпа как бы помахала пером. И отряд снова двинулся в глубь зарослей, однако путь к заветной цели оказался невыносимо долгим, и только клятва Лопеса «поделить желанную добычу между всеми» заставила солдат идти дальше. Тяжело протекали знойные дни и непроглядно-черные ночи с таинственными, устрашающими звуками и влажной, удушливой жарой. И так длилось до тех пор, пока заросли внезапно не оборвались и перед взором людей предстало видение залитого ослепительным солнцем белокаменного города дворцов, храмов и ступенчатых пирамид, о котором не знал никто в Новой Испании. Целый день до заката солнца рыскали испанцы по всем каменным помещениям, роясь в вековой пыли, но не нашли ни единого слитка золота, ни одного драгоценного украшения и даже ни одного человеческого черепа, словно никто не умирал (или не был убит) в этом брошенном городе и все его жители будто разом покинули его, унося слабых и мертвыхс собой. Капитан Диего Лопес, размышляя о столь странном своем открытии, решил, что, видимо, какая-то болезнь вроде чумы ниспослана была всевышним на греховных язычников, заставив их спасаться бегством, сжигая трупы и покидая жилища, и страх заразы преградил им путь обратно на века. Из осторожности капитан приказал солдатам не оставаться на ночлег в помещениях и на другой же день, подняв всех на рассвете, отправился на поиски беглецов или потомков беглецов, которые, несомненно, унесли из города столь желанные испанцами сокровища. Через неделю отряд наткнулся на ручей. Капитан Диего Лопес приказал переводчику, которого они вели с собой, испить воды, чтобы убедиться в ее пригодности для питья. А когда переводчик, невыразимо худой, в болтающейся на нем европейской одежде, но с ярким перышком в черных волосах, утолил жажду и остался жив, Диего Лопес решил идти вдоль ручья, ибо тайное селение индейцев могло оказаться на берегу этого ручья или речки, в которую тот впадает. Расчет капитана Диего Лопеса оказался верным. Сколь это ни странно, но сотни лет отсидев в запрятанном в сельве селении, индейцы были все-таки обнаружены испанцами. Хижины, даже отдаленно не напоминая великолепные каменные строения покинутого города, ютились вдоль берега речки, от которой несколько отступили заросли зеленого ада, как назвали уже свой пройденный путь испанцы. Очевидно, лес вдоль берега был выжжен, чтобы очистить поле для возделывания кукурузы. Навстречу вступившим в поселок солдатам вышел старый вождь в сопровождении носатого жреца. Оба раскрашенные красной краской, делавшей их краснокожими, и в замысловатых головных уборах из птичьих перьев. Испанцы грубо вытолкнули вперед переводчика, и дон Диего Лопес объявил индейцам, что великий верховный вождь белых — испанский король протянул свою длань через безбрежные воды, чтобы защитить народ отдаленной части своего королевства, обитающий здесь без веры христовой в глуши зарослей среди диких зверей. Вождь внимательно выслушал заикающегося переводчика и спросил его, что это за люди, утратившие нормальный цвет кожи, побелев, как скалы на одном из обрывов речного берега, и о каком заморском великом вожде с очень длинной рукой говорит их предводитель? Услышав тревожные слова переводчика, умолявшего вождя не оказывать никакого сопротивления, ибо жестокости белолицых нет предела, старик задумался. — Что ты там еще болтаешь, кроме того, что я приказал тебе перевести? — гневно закричал на переводчика дон Диего Лопес. — Вождь воздает тебе хвалу, о славный капитан! И спрашивает о твоих желаниях, — трясясь от страха, ответил переводчик. — Прикажи им, чтобы принесли сюда все золото, которое они или их предки вынесли из покинутого города в сельве, — велел капитан. Вождь и жрец, услышав переданный приказ, переглянулись. — Люди этого поселения, о чужестранец, — сказал вождь, — никогда в жизни не жили в каменном городе, они ловят рыбу, сеют кукурузу и охотятся в сельве, и у них никогда не имелось желтого металла, который ты зовешь золотом, потому что такой металл здесь бесполезен. — Я не спрашиваю, что есть у этих нищих рыбаков, кроме их грязи, — презрительно сказал капитан Лопес, указывая на собравшуюся толпу боязливо любопытных жителей деревни. — Я говорю о том золоте, которое прячешь ты, вождь, и ты, жрец, — обратился он к спутнику вождя, узнав от переводчика, кто он. — У меня нет храма, — ответил спокойно жрец. — Ты бледнолицый. И я приветствую тебя. Все мои предки ждали возвращения бледнолицых богов. — Ну ври, ври дальше! — скривил лицо дон Диего Лопес, картинно опираясь на шпагу. — Я прожил, бледнолицый чужестранец, много тунов лет, но еще более тунов лет раньше белолицые боги правили нами… — И мы правим, — перебил дон Диего Лопес. — И будем править. — При их появлении были отменены насильственные смерти, — невозмутимо продолжал жрец, — даже во имя богов или при ведении войн между племенами. — Не заговаривай мне клыки, старик! Где золото? — Белые боги высказали презрение к золоту, требуя, чтобы даже те, у кого его много, трудились бы наравне со всеми, даже с воинами. — Ну и дурак же ты, жрец! Чтобы воинам трудиться? Смешно! — Я только говорю то, что слышал от своих дедов, почтенный бледнолицый. Боги ведь тоже были белолицыми и тоже носили бороды, которые не растут на наших лицах. — Да будь у тебя борода, старикашка, я бы оттаскал тебя за нее, но я доберусь сейчас и до твоей прически. А это что еще за малый осмелился приблизиться к нам? — Это сын вождя, славнейший капитан. Его зовут Кетсаль. По имени священной птицы сельвы, — объяснил переводчик. — Вижу, какая это птица! Рядом с вождем появился могучий краснокожий юноша, и солнечные блики играли на его темном мускулистом теле. На нем было только подобие домотканых штанов и перышко в черных волосах. Он чутко прислушивался к испанской речи, стараясь не только понять переводимые слова, но и почувствовать тон, каким они произнесены. — Скажи этой дряхлой развалине, считающейся здесь вождем, — приказал капитан переводчику, — что если они со жрецом не отдадут нам золота, принадлежащего испанской короне, то мы казним их обоих, а этого малого заберем с собой как заложника, пока остальные индейцы не выкупят его золотом. Кетсаль внимательно всматривался в лица испанцев, не находя в них божественного знака, который носили те, в чьих жилах текла кровь улетевших богов. Пришедшие из сельвы бледнолицые, требующие желтый металл, походили на Сынов Солнца только цветом кожи, но у богов нос начинался выше бровей, разделяя лоб на две части. За время своего правления, когда их благие начинания не были поняты глупыми людьми, в те давние времена Сыны Солнца брали себе в жены красивых женщин и оставили после себя сыновей с божественным знаком на лице. И когда боги, поняв неразумие людей, не ценивших собственного блага, улетели с огнем и громом без дождя в небе к другой звезде, пообещав вернуться через шесть тысяч лет, их сыновья стали отцами, потом дедами, и в народе Юкатана появились особо одаренные люди, которых легко было отличить от всех других. Их знака у теперешних пришельцев нет, как и у всех остальных людей Земли, значит, они не боги и не несут людям благо, как их носолобые предшественники. Все это Кетсаль не произнес вслух, молча размышляя со скрещенными мускулистыми руками на широкой груди. Жрец был далеким потомком белолицых богов, у него на лице был знак носолобых, он хранил их тайные знания, передаваемые из поколения в поколение, и, готовя Кетсаля себе в замену, успел кое-чему научить его, а главное, передать ему те внутренние качества человека, с какими он мог бы жить при устройстве жизни, которое пытались насадить на Земле Сыны Солнца и какое существует у них на небе у далекой звезды.[81] Жрец гордо произнес: — Я стар, ты можешь убить меня, но ни в моей груди, которую ты рассечешь, ни в моей хижине ты не найдешь желанного для тебя золота, которое не ценится у нас. Будь оно здесь, мы с охотой, ничего не теряя, отдали бы его тебе, сильный начальник бледнолицых. Расправа испанцев с индейцами была самой обычной для того времени и тех мест. Капрал по приказу капитана сам пронзил шпагой сердца обоих стариков, а сына вождя Кетсаля связал, конец веревки держа в руках. Солдаты же согнали пинками и ударами шпаг все население деревни в речку, что означало акт крещения. Сопровождавший отряд испанцев капуцин в подоткнутой сутане, со шпагой на перевязи поверх опоясывающего сутану вервия, держал сейчас крест в высоко поднятой руке. Он, как и большинство головорезов Лопеса, тоже удрал из Испании в Америку, чем-то провинившись перед грозными духовными пастырями, пригрозившими ему инквизицией, для которой языческие жрецы, вырывавшие из груди жертв трепещущие сердца, едва ли годились в подручные истязателям в рясах, не допускавших мгновенной, избавляющей от мучений смерти пытаемых еретиков. И теперь избежавший подобной участи капуцин истово обращал в христианство краснокожих дикарей. Стоя на берегу и произнося какие-то латинские слова, он называл по новому имени каждого выходящего из воды вновь обращенного христианина. Последним прошел эту процедуру Кетсаль со связанными руками, но гордо поднятой головой. Капуцин дал ему имя Августин. Золота в нищенских хижинах новообращенных христиан не оказалось, а потому капитан дон Диего Лопес, верный своему слову, сына вождя Кетсаля-Августина забрал с собой, почти уверенный, что он сбежит по дороге. Но тот, смотря на испанцев мрачно, не сделал попытки освободиться от державшего его на привязи капрала Педро Корраско и скрыться в сельве. Напротив, он старался быть полезным испанцам в пути, обнаруживал затаившихся в листве ягуаров и чутко прислушивался к испанской речи, проявляя свою сметливость и находчивость. Скорее всего Кетсаль-Августин понимал, что его бегство может стать причиной гибели многих близких ему людей, если испанцы вернутся в селение в поисках беглеца. Вообще-то дон Диего Лопес толком не знал, что с ним делать. В пути он заставил его нести тяжести из награбленного имущества индейцев, у которых хоть и не было золота, но оказались дивные ковры из птичьих перьев и другие изделия искусных рук: шкуры ягуаров, ожерелья из их зубов, статуэтки носолобых, вырезанные из камня, который показался невежественному Диего Лопесу драгоценным, но был всего лишь вулканической породой, похожей на цветное стекло. С такой не слишком богатой добычей вернулся капитан Диего Лопес к губернатору Новой Испании и, чтобы задобрить его, преподнес ему вместо золота Кетсаля-Августина, который уже немного понимал по-испански и даже сам произносил несколько фраз. Губернатор рассвирепел на своего неудачливого капитана и приказал выпороть привезенного им индейца, дав тем выход своему благородному гневу. После чего Августин поступил в распоряжение капеллана церкви, а тот решил сделать из него проповедника и, помимо исполнявшейся им черной работы, заставлял его познавать Библию. Смышленый по природе, Кетсаль-Августин не упускал ничего из того, чему могли научить его бледнолицые. Вскоре он проявил такую сообразительность, что капеллан решил избавиться от него, рекомендовав губернатору отправить строптивого Августина подальше — «в подарок» испанскому королю. Молодой испанский король, однако, не оценил этого и великодушно подарил заморского индейца французской королеве; Анна Австрийская, в свою очередь, поспешила передать его в качестве экзекутора в коллеж де Бове. Новый экзекутор, «расправившись» со своей первой жертвой, грозно стоял в проеме двери «камеры порок», скрестив руки на груди. Свисающая плеть была вымазана «кровью». Одинокие воспитанники, проходя мимо этой зловещей фигуры по коридору, боязливо втягивали головы в плечи, стараясь прошмыгнуть в свои дортуары. Аббат Гранже, ни о чем не подозревая, достиг все-таки своего — нагнал на воспитанников коллежа де Бове такого страху, что в заведении воцарилась благостная тишина, покорность и усердие как в науках, так и в религиозном рвении. Если два человека плохо говорят на чужом языке, они скорее и лучше понимают друг друга, чем чужестранец, с которым неумело общались бы на его наречии. Потому, когда индеец пришел к Савиньону, трепетно ждавшему его на брошенной в углу карцера соломе, он догадался почти обо всем, что силился ему передать по-испански Кетсаль-Августин. А главное, он понял заблуждение индейца по поводу его родства с легендарными Сынами Солнца, спускавшимися с неба на Американский материк. Другой человек оставил бы индейца в неведении, использовав столь выгодное его отношение к нему, но только не Савиньон Сирано де Бержерак! С наивной искренностью он сказал своему спасителю: — Августин или Кетсаль! Ты ошибся, никто из моих предков не бывал за океаном, на мне не может быть «божественного знака». — Знай, знай! — улыбнулся краснокожий. — Капеллан учил мой Библия. Читать нет. Сказать, где что написано, могу. Твой читай. Карцер есть книга. И экзекутор принес из «камеры порок» в карцер латинскую Библию в кожаном переплете, открыл ее в начале Ветхого завета и показал пальцем. Савиньон без труда прочитал: «Когда сыны неба сходили на землю, то увидели, что женщины там красивы, и входили к ним. С того пошло племя гигантов». — Гигантов? Это носолобых? — спросил Сирано. Индеец кивнул: — ОНИ спускаться на землю не только там за Большой вода. Много-много время назад ОНИ спускаться здесь берег. Твой иметь их знак лицо. Такой люди особый, умный, добрый, гигант духа, давать благо всем. Такой люди Августин-Кетсаль друг. Мой учить твой наука носолобый. — Конечно, друг, — подтвердил Савиньон, вспомнив слова Эзопа: «Истинный друг познается в несчастье».Эзоп
Глава шестая БОРЬБА БЕЗ ОРУЖИЯ
В эту ночь, в коллеже де Бове творилось нечто странное — вместо того чтобы спать в положенное время, воспитанники крались по коридору, исчезая не в своих спальнях, а в дортуаре самых старших, где ожидалось событие необыкновенное. Набилось туда народу столько, что все кровати были заняты сидящими вплотную воспитанниками, опоздавшие же, не успев занять места, толпились в дверях, не позволяя им закрыться. О сне никто не помышлял, а вечерний обход воспитателя, заставшего всех на своих местах под одеялами, закончился три часа назад. Центром события был Савиньон Сирано де Бержерак, который собирался прочитать своим однокашникам сочиненную им комедию под названием «Проученный педант», чем сразу заинтересовал своих товарищей, поскольку данное Савиньоном аббату Гранже прозвище Сушеного Педанта позволяло догадываться, что речь в комедии пойдет именно о нем. В этом очень скоро убедились не только ученики, но и монах, бывший экзекутор. Взрыв хохота, донесшийся до его кельи, насторожил монаха. Отставной экзекутор, заподозрив неладное, натянул на себя рясу и побежал к дортуарам. Он подкрался к столпившимся у открытой двери мальчикам и услышал хорошо знакомый ему голос Савиньона Сирано де Бержерака, которого не раз порол розгами и сажал в карцер еще до появления краснокожего. Сирано читал какую-то комедию, необычайно веселившую слушателей. При имени аббата Гранже, над которым издевался автор (монах еще не знал, что автором был сам Сирано!), его охватил трепет. А тут еще послышались крики: — Браво, Сирано, браво! Здорово написал Бержерак! Читай следующий акт. Так ему и надо, твоему проученному Сушеному Педанту! Монах понял, чью пьесу читает Сирано, и опрометью бросился к настоятелю. Без стука ворвался он в опочивальню аббата. — Вставайте, ваше преподобие! Он дерзнул поносить ваше святое имя, мстя вам за справедливые наказания! — Кто он? За что мстит? Не чудится ли то мне во сне? — бормотал аббат Гранже. — Скорее, ваше преподобие! Надо застать злодея на месте преступления! Сирано читает всем воспитанникам пасквиль на вас, ваше преподобие! И презлой притом! Воспитанники помирают со смеху! Я и сам едва удержался и спасся лишь крестным знамением, потому что от злого духа идет это глумление над вашим преподобием. Аббат Гранже уже не слушал отставного экзекутора, который кричал ему вслед не в состоянии при своей тучности догнать сухопарого аббата: — Плеть со свинчаткой пропишите ему, ваше преподобие! Сорок ударов, не меньше! И мне поручите его проучить! Мне! Появление аббата Гранже в коридоре совпало с новым взрывом хохота под каменными сводами, так что даже окрик настоятеля не сразу был услышан. — Индейца сюда! Немедля! — скомандовал аббат. Но толстяк в рясе успел сделать лишь несколько шагов, столкнувшись с индейцем, который сам спешил на шум. Перепуганные малыши тотчас исчезли, как маленькие приведения, а старшие воспитанники нырнули под одеяла, словно не они только что сидели рядом на кроватях. Один Савиньон Сирано остался на своем месте у стола с разложенными на нем листками. Изжелта-бледный аббат Гранже гневно приказал индейцу: — Отними у него рукопись! Индеец не шевелился, вперив в Сирано взгляд. Савиньон очень хорошо понял состояние своего «тайного друга» и сам протянул ему собранные листки рукописной комедии «Проученный педант». Поклонившись при этом аббату, он произнес: — Я сожалею, ваше преподобие, что, зная все стихи своей комедии наизусть, не могу приложить к этой рукописи свой язык. Аббат позеленел от злости. В душе его было полное смятение. Гнев боролся в нем с тем чувством, которое охватило его, когда он с содроганием лишь издали увидел «изуродованную» после «экзекуции» спину Савиньона Сирано. О своем тайном и греховном осуждении жестокостей святой инквизиции он не рискнул бы говорить и на исповеди. Но человеческая жалость к страданиям людей не позволила ему вынести автору злостной комедии приговор, о котором кричал ему вслед бывший экзекутор. И все же он был взбешен, оскорблен, уничижен выходкой своего воспитанника, так безбожно насмеявшегося над ним. — Я уничтожу это грязное творение,[82] а тебя, сын греха, я заточу в карцер до самого выпускного акта. Но не думай, что я унижусь до наказания тебя плетью! — Тут аббат несколько кривил душой, не желая выдать своих истинных чувств. — Ты недостоин моей мести, хотя и подверг поруганию мое имя. За это ты сам ощутишь унижение и поругание, даже на выпускных экзаменах оставаясь в карцере! — Как же я буду отвечать господам экзаменаторам? — не без сарказма спросил Сирано. Аббата затрясло. — Через зарешеченное окно, да просветит меня в том господь! — выпалил он. Так Савиньон надолго попал в карцер «под крылышко» своего краснокожего друга, которому только это и нужно было, чтобы приступить к передаче ему тайных знаний богов, известных Кетсалю от убитого испанцами старого носолобого жреца. Этими тайнами, к удивлению Савиньона, оказались не какие-нибудь заклятия или удивительные сведения о мире, а искусство борьбы без оружия, равняющее слабых с сильными. Носолобые были великими знатоками человеческого организма и передавали своим избранникам умение пользоваться такими физическими приемами, которые были эффективнее любого холодного оружия, что было так важно для всех угнетенных. Природная реакция Сирано порадовала индейца, но была совершенно недостаточна. Наступили изнурительные тренировки. Только ему известными способами индеец добивался того, чтобы быстрота движений его ученика была молниеносной, даже невидимой обычному глазу. В наше время, сотни лет спустя, с немалым удивлением мы встречаемся, например, в цирке с незаметными движениями, отработанными фокусниками, обнаружить которые удается лишь при рапидной киносъемке, с показом на экране снятого в замедленном темпе. Во времена Сирано таких средств не существовало, но он должен был выработать быстроту своих движений не ради их невидимости, а чтобы, увеличив скорость движения руки или ноги при выпаде в три-четыре раза, удесятерить тем силу удара, поскольку, как мы ныне знаем, энергия его пропорциональна квадрату скорости. Помимо этого, индеец знал от носолобых наиболее уязвимые места человеческого организма и способы выводить противника из строя, не нанося ему серьезных увечий и тем более не лишая жизни.[83] Однажды Кетсаль-Августин принес в карцер обожженный кирпич, взяв его из актового зала, где каменщики по приказу аббата Гранже складывали в углу клетушку с зарешеченным окошком: по-видимому, в ней должен был находиться во время выпускных экзаменов провинившийся и непрощенный Савиньон Сирано. Индеец предложил своему ученику проверить обретенную силу удара, показать, чему он у него научился. Так, первым экзаменатором выпускника коллежа де Бове Савиньона Сирано де Бержерака стал краснокожий экзекутор, стоя перед экзаменуемым в привычной позе со скрещенными руками на груди. Кирпич лежал на скамье для порки. Савиньон размахнулся правой рукой, она мелькнула в воздухе, на миг словно исчезнув, и окостеневшее от тренировок ребро ладони обрушилось на кирпич, разломив его как от удара кувалды. Сирано даже не потер кисти руки, приученный к таким ударам, от которых, это было очевидно, не устоять на ногах никакому богатырю. Индеец был доволен. — Мой говорить, твой — помни. Ударять только защита. Убить нет. Савиньон подошел к своему краснокожему другу, обнял и поцеловал его, потом сел за чтение книг, необходимых для сдачи выпускных экзаменов коллежа. На торжественный акт в коллеж де Бове съехались не только титулованные родители заканчивающих коллеж воспитанников, но и знатные гости, придворные и сам епископ, недавно возглавивший местную епархию, кстати сказать, тот самый, который когда-то выхлопотал стипендию сыну дворянина, пострадавшего от поджога. Гости расселись на жестких лавках. Для епископа и для ожидаемого особо почетного гостя перед лавками стояли два кресла. Епископ и аббат Гранже встретили почтившего коллеж своим присутствием его высокопреосвященство господина кардинала де Ришелье. Он вошел, сопровождаемый смиренным епископом и тощим аббатом Гранже, идя быстрой походкой, с развевающимися полами кардинальской мантии, когда пурпуром светилось одеяние прелата. Был он на щегольских, особо высоких каблуках, скрадывающих его невысокий рост. Лихо закрученные усы и острая бородка скорее воина, чем духовного лица, оставленные герцогом Арманом Жаном дю Плесси даже после посвящения его папой в кардиналы, придавали ему действительно воинственный вид, и казалось, что под мантией должна скрываться шпага, обнажавшаяся не так уж давно, при осаде Ла-Рошели. Маленькая круглая шапочка скрывала тонзуру, и властитель Франции в любую минуту мог прикрыть ее боевым шлемом. Ястребиным взглядом оглядев вскочивших при его появлении знатных гостей, кардинал остановил его на нелепой кирпичной клетушке, сложенной в углу перед скамьями. Не лишенный юмора кардинал Ришелье изволил сострить, обращаясь к аббату Гранже: — Я вижу, достойный аббат, крепость Бастилии, что так неуклюже выглядит среди парижских домов, не дала вам покоя и вы решили в коллеже соорудить подобное. Аббат склонил в полупоклоне свое тощее тело, не зная, как принять слова всесильного правителя Франции: как насмешку или как одобрение. Кардинал пришел к нему на помощь: — Что ж, его величеству королю приходится терпеть Бастилию у себя под носом, давая тем пример таким верноподданным, как аббат Гранже. Очевидно, настоятель опекаемого королевой Анной коллежа нуждается в своем актовом зале равно и в украшении и в укрощении. Довольный найденной игрой слов, кардинал опустился в кресло, после чего с ним рядом занял место епископ, а настоятель коллежа сел за стол напротив, у которого экзаменаторы-воспитатели не решались сесть на стулья до того, как его высокопреосвященство епископ и его преподобие господин аббат займут свои места. Теперь по одному стали входить воспитанники, сыновья герцогов, маркизов, графов, баронов и других дворян, удостоенных принятия их отпрысков в столь знаменитый коллеж. Воспитанники отвечали экзаменаторам, которые очень ловко ставили свои вопросы, чтобы получить нужный, достойно звучащий для гостей ответ. Аббат Гранже задал вопрос юному герцогу Анжуйскому, надменно поглядывающему на окружающих, топорща свой пушок на верхней губе: — Не в Вифлееме ли родился господь наш Иисус Христос? — В Вифлееме, ваше преподобие, — решительно ответил юноша. — Не у святого ли Петра хранятся ключи от рая? — снова спросил аббат Гранже. — У святого Петра, отец мой, наместником которого на святом престоле остался папа римский! — Глубоки твои знания, сын мой! Коллеж де Бове будет гордиться таким выпускником. Затем последовало несколько подобных же вопросов на латинском и греческом языках, на которые выпускник ответил с таким ужасным произношением, что кардинал Ришелье поморщился. Аббат Гранже поторопился пригласить следующего выпускника. Так, сменяя один другого, юноши демонстрировали перед гостями познания, обретенные в коллеже. Наконец дошла очередь до последнего экзаменующегося. Наступила заминка. Все насторожились, кардинал Ришелье посмотрел на дверь, которая слишком долго не открывалась. И вот в ней показался безобразно разрисованный дикарь в испанской одежде, ведущий за руку юношу с уродливым лицом, которого и втолкнул в дверь кирпичной клетушки. Закрыв ее снаружи на засов, он встал рядом, скрестив руки на груди. Знатные гости зашептались, смотря на кардинала, который ничем не проявил своего отношения к происходящему. Аббат Гранже возвестил, что сейчас будет экзаменоваться провинившийся ученик — Савиньон Сирано де Бержерак, еще не освобожденный из карцера, а потому подвергаемый экзамену через зарешеченное окно. Кардинал чуть оживился, епископ нахмурился, не скрывая своего недовольства, поскольку Савиньон был стипендиатом по его ходатайству. — Что ты знаешь, Сирано де Бержерак, о древе добра и зла? — задал свой вопрос аббат Гранже. — Оно было, ваше преподобие, и древом познания, росшим в раю, а потому, вкушая плоды познания во вверенном вам коллеже, я ощущаю здесь райские кущи, находясь даже в карцере. Знатные гости зашушукались, аббат Гранже закусил тонкие губы, кардинал заинтересовался. — Кто же из патриархов наших и как именно был взят живым на небо? — снова спросил аббат Гранже. — Енох ловил рыбу на берегу Иордана, отец мой, поддерживая тем свое праведное существование, и увидел плывущее по течению яблоко. Предположив, что оно упало с райского дерева познания, он съел плод и сразу узнал, где находится рай и как попасть в него, что он и сделал немедля, поскольку, как я сказал, всегда вел праведную жизнь и, кроме рыб, никого не обижал. — Довольно, — раздраженно остановил Сирано аббат Гранже. — Кого ты знаешь еще? — Еще пророк Илия, отец мой, который, обретая знания, понимал, что чем больше он узнает, тем меньше знает, ибо любые знания ничтожны по сравнению с истинной мудростью. И тогда во сне к нему явился ангел и научил, как подняться на небо в железной колеснице с помощью подбрасываемого магнита, который подтянет его железный экипаж. Пророк должен был снова и снова подбросить магнит, заставив тем притянутый экипаж подпрыгивать выше и выше.[84] Так он достиг неба, и, надо думать, потому, что ангелы являются во сне лишь праведникам и меня, грешного, пока не посещали, — смиренно закончил Сирано. Знатные гости переглянулись, ничего не поняв, ибо понимание основ физики они считали ниже своего достоинства, а чудесный подъем колесницы Илии-пророка отнесли к тем знаниям, которые приобретались в коллеже. Аббат Гранже растерялся, не находя, как реагировать на столь вольные толкования вознесения Илии-пророка на небо, высказанные в присутствии его высокопреосвященства, который может иметь по этому поводу свое мнение. В другой раз аббат за такие вольности засадил бы воспитанника в карцер, но Сирано уже сидел в нем. Пришлось аббату Гранже для сохранения достоинства важно произнести: — Боюсь, сын мой Бержерак, что твои не вполне ясные толкования не восприняты нашими почтенными гостями, хотя в вознесении Илии-пророка в колеснице на небо никто не сомневается. Однако рассуждения о магните… — О, это очень просто показать, ваше преподобие господин аббат, если бы вы только разрешили мне воспроизвести гром колесницы и он не обеспокоил бы его высокопреосвященство и остальных сиятельных гостей. Кардинал Ришелье кивнул в знак того, что он разрешает Сирано дать объяснение, пусть и в сопровождении шума. И тут случилось невероятное: на глазах у изумленных гостей, к ужасу почтенного аббата Гранже и воспитателей, кирпичная стена наскоро построенной клетушки с грохотом рухнула. Никто не мог заметить, как Сирано, подпрыгнув, ударил изнутри в нее ногами с удесятеренной по методу носолобых Сынов Солнца силой. Через образовавшийся проем он спокойно шагнул в зал, поднял один из кирпичей развалившейся стенки и как ни в чем не бывало продолжал: — Если почтенные гости представят себе, что в руке я держу не кирпич, вывалившийся из плохой кладки, а магнит, как известно, притягивающий по воле господней всякое железо, то станет понятно, что будь подо мной железная колесница вместо каменного пола, она подпрыгнула бы, приподняв меня на себе, а находившийся в ней пророк Илия успел бы ловко подбросить магнит еще выше, вызвав тем новый прыжок своей железной колесницы. Вполне вероятно, что колесница при этом громыхала, как все мы это знаем, а пророк Илия поднимался на небо по невидимым ступенькам, как научил его тому привидевшийся ему ангел. Аббат Гранже не прочь был бы объявить случившееся колдовством, но не решался, не зная, может ли колдовство происходить в присутствии кардинала и епископа святой католической церкви и не впадет ли он при этом в наказуемую ересь, тем более что его высокопреосвященство кардинал Ришелье кивком головы дал разрешение на сопровождаемое шумом объяснение, то есть на то, что произошло. Кардинал Ришелье думал о том же, заботясь, чтобы случившееся не отразилось на его высшем авторитете? Выручил епископ, который вскочил с кресла, простерев к небу руки, и воскликнул: — Чудо! Чудо господне! Только по воле господа человек мог пройти сквозь каменную стену! Ришелье же, овладев собой и сделав вид, что ничего особенного не произошло и он все предвидел, посоветовал аббату выбирать впредь лучших каменщиков и обратился к Сирано с вопросами сначала по-латыни, а потом на греческом языке, как бы взяв на себя завершение выпускного экзамена в коллеже. Сирано бойко отвечал кардиналу: — После Сократа, прозванного оводом, не дающим покоя совести людей, самыми здравомыслящими философами, ваше высокопреосвященство, мне представляются Демокрит и Пиррон, однако здравый их смысл беспомощен против наших богословов, вооруженных энциклопедическим сводом ответов на все вопросы, составленным Альбертом Великим и Фомой Аквинским. — Не могу отказать вашему ученику, аббат Гранже, в начитанности и хорошем произношении, — заключил кардинал Ришелье. Он поднялся с кресла, давая тем понять, что выпускной акт завершен. Индеец Кетсаль-Августин ничего не понял из звучавшей латыни, но он твердо знал, что Савиньон — потомок Сынов Солнца. Знатные гости тоже, как и «невежественный дикарь», ничего не поняли, кроме того, что произошел скандал и что Сирано де Бержерак скандально выпущен из коллежа де Бове, пройдя сквозь каменную стену. Аббат Гранже жестоко наказал каменщиков за плохую работу, заставив бесплатно разобрать разрушенную клетушку.Храни достоинствоСвое повсюду, человек!Бухорои, таджикский поэт XIV века
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Так жизнь скучна, когда боренья нет!Власть кардинала Ришелье неуклонно возрастала. Лишь на ушко друг другу и оглянувшись вокруг шептали французы о том, как добился он, захудалый герцог Арман Жан дю Плесси, такого положения во Франции, вспоминая, что после короля Генриха IV, убитого фанатиком на улице Медников, малолетний Людовик XIII оказался на престоле, а страной правила регентша королева Мария Медичи, любовная связь которой с герцогом Арманом Жаном дю Плесси не могла остаться тайной. И с 1624 года, став уже кардиналом, дерзкий и хитрый герцог занял (не без помощи, надо думать, королевы Марии Медичи) все высшие посты Франции: первого министра, председателя королевского совета, главнокомандующего армией с высоким военным званием генералиссимуса. Его друг и наставник монах отец Жозеф (де Трамбле) отнюдь не был кардиналом, но получил в народе прозвище «серого кардинала», имя которого не произносилось вслух, а замыслы его, редкие по коварству, выполнялись как бы без его участия. Недаром прозвище «серого кардинала» перешло затем к Мазарини, помощнику и преемнику Ришелье, перенявшему методы духовника Ришелье, который и в самом деле сделал его кардиналом. Их время было смутным, крестьянские бунты полыхали по всей Франции, как и пожары, спалившие дом господина Абеля де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерака. Ришелье подавлял беспорядки с небывалой жестокостью. Усмирял он и беспокойных вассалов, особенно гугенотов, получивших от своего былого вождя, впоследствии ставшего католиком, короля Генриха IV всяческие привилегии. Тогда-то и стал известен Ришелье молодой юрист Тулузского парламента Пьер Ферма, склонный к математике. Он применил в судебном процессе математический метод, доказав, что его подзащитный граф Рауль де Лейе, сын одного из соратников Генриха IV, был непричастен к убийству на дуэли маркиза де Вуазье. Такой исход процесса рассердил кардинала, поскольку граф Рауль претендовал на руку незаконной дочери герцога Анжуйского красавицы Генриэтты, которой интересовался Ришелье, отнюдь не утративший из-за духовного звания тяги к прекрасному полу. Кардинал Ришелье, не чуждый всему человеческому, сочетал в себе редкий ум, образованность, властолюбие с умением пользоваться липкой, парализующей лестью, обволакивая ею короля Людовика XIII. Нелюбимый сын неудачливого «владетельного синьора» Савиньон де Бержерак, учась на предоставленную ему стипендию в коллеже де Бове, доставлял мало хлопот, а главное, расходов, нести которые Сирано де Мовер де Бержерак, его отец, очень не любил. Но по окончании сыном коллежа отцу пришлось раскошелиться, содержа пока еще не нашедшего пути отпрыска, слоняющегося по тавернам Латинского квартала и не помышляющего о духовной карьере. Мадлен не соглашалась с мужем, Савиньон вовсе не должен был идти вслед за старшим братом Жозефом. Она мечтала о его славе поэта, восхищаясь его стихами, и попросила свою кузину, крестную мать Савиньона, баронессу Женевьеву де Невельет ввести крестника через свою гостиную в высший свет Парижа.М. Ю. Лермонтов
Часть вторая ДВЕ ЖИЗНИ
Параллели сходятся.Лобачевский

Глава первая КОШМАРЫ УЗНИКА
Тибр капризной извилистой чертой разделял Вечный город на две части. По одну сторону на холме Монте-Ватикано высились крепостные стены средоточия высшей церковной власти католицизма. От тяжелых ворот каменные дороги вели к переброшенным на другой берег мостам. Из зарешеченного окошка в тюремной стене, обрывающейся к реке, нельзя было рассмотреть наемников (стоявших на страже у ватиканских ворот, как и во многих королевских дворах Европы), в пестрых костюмах разного цвета спереди и со спины, швейцарцев и граубинденцев[85], к кому в свое время обращался узник со словами сонета:Пусть безоружен, слаб и даже гол,Но против Мрака восстаю теперь я.Кампанелла
Глава вторая ОТЕЦ ГОРОДА СОЛНЦА
Только в общем счастье можно найти собственное счастье.Из тяжелых ватиканских ворот, открытых граубинденцами в двухцветной форме, сначала вырвался всадник в той же одежде, конь его простучал копытами по каменной дороге, а вслед выехала карета на огромных колесах с загнутыми выше ее крыши рессорами, к которым она была подвешена. Кардинальский знак украшал лакированные дверцы. При виде кардинальского экипажа прохожие тотчас бросались к нему, и по дороге до моста по обочинам толпились люди, что объяснялось не только религиозным рвением жителей Вечного города, но и тем немаловажным обстоятельством, что монсиньор кардинал Антонио Спадавелли, состоящий при папском дворе, имел обыкновение выбрасывать в толпу из окошка кареты пригоршни звонких монет, которые благоговейно, хотя и не без свалок, подбирались верующими. Проехав мост, карета резко свернула в сторону, направляясь вдоль берега Тибра. Горожан, приветствующих кардинала, здесь уже не оказалось, но особо ретивые католики, быть может рассчитывающие на поживу, некоторое время бежали от моста вслед за каретой, крича хвалу кардиналу, но, к их огорчению, из-за отсутствия толпы кардинал больше не выбрасывал монет. Карета минула развалины дворца Нерона, где тиран приказал философу-стоику Сенеке, воспитавшему его и презиравшему человеческие страсти и даже смерть, в доказательство этого вскрыть себе вены. Глядя на руины, кардинал вздохнул при мысли о мудреце, всю жизнь боровшемся со страстями человеческими. Мысли Сенеки продолжают жить, несмотря на его бессмысленную смерть. И остался от тех языческих времен, кроме руин, лишь «мертвый язык», латынь, на котором говорят не народы, а ученые и священнослужители другой, истинной религии. Карета приблизилась к тюремным стенам. Ворота тюрьмы были предусмотрительно открыты, а взмыленный конь граубинденца стоял подле них. Карета, гремя железными ободьями колес, въехала в тюремный двор, слегка покачиваясь на рессорах. Сам начальник тюрьмы подобострастно бросился к ней открыть дверцу и спустить подножку. Поддерживаемый юрким начальником тюрьмы и жирным тюремным священником, кардинал с трудом сошел на землю. Он с посохом направился к входу, согбенный годами, с высушенным аскетическим лицом, на котором все же былым огнем горели черные глаза старого доминиканца отца Антонио. С огромным усилием, несколько раз останавливаясь, чтобы отдышаться, поднялся кардинал Спадавелли по каменной лестнице. Перед ним низкорослый начальник тюрьмы с остреньким лисьим лицом суетился так угодливо, что казалось, он сейчас бросит под ноги кардиналу свой щегольской камзол, поскольку не успел постелить для монсиньора ковра. Около нужной камеры процессия остановилась. Монах-тюремщик, гремя ключами, отпер замок. Знаком руки кардинал отпустил всех. Шум открываемой двери разбудил узника, прервав его сон, который на этот раз не повторял его мучения. Ему чудилось, что в призывном грохоте открылись ворота «Города Солнца», его воплощенной Мечты. В этом Городе не должно быть собственности, все в нем общее. Никто не угнетает другого, не заставляет работать на себя. Каждый обязан трудиться по четыре часа в день, отдавая остальное время отдыху и самоусовершенствованию, наукам и искусствам. Все жители Города живут в регулярно сменяемых ими помещениях, едят общую пищу в общих трапезных. Они сами выбирают себе руководителей из числа ученых и священнослужителей. В Городе устранены причины, вызывающие зло, там нет денег, их нельзя накоплять, нет смысла иметь больше одежды, чем каждый может сносить, роскошь презирается так же, как почитается мудрость. В Городе нет прелюбодеяний и разврата потому, что люди там не связывают себя семьями на вечные времена. Детей же воспитывает государство, в которое входит не только Город Солнца, но и все города страны Солнца. Она общается с другими странами, никому не навязывая своего устройства, но и не допуская чужеземцев приносить с собой иные порядки, для соляриев непригодные, и солярии овладели военным искусством настолько, чтобы отразить любые набеги. У себя они допускают разные религии, не подвергая никого гонениям за то, что кто-то молится по-другому, чем его соседи. Солярии больше жизни любят свой Город Солнца и его порядки, черпая в том счастье, тех же, кто нарушает устои Города, они, не прибегая к казням, навечно изгоняют из страны. Во сне открылись ворота чудесного Города, и Томмазо Кампанелла вскочил, чтобы войти в них. Но, открыв глаза, увидел перед собой кардинала в сутане с алой подкладкой, а шум «ворот», разбудивший его, был звуком захлопнувшейся двери в его камеру. Что-то непостижимо знакомое почудилось узнику в сгорбленной фигуре, опирающейся на посох. — Джованни, мальчик мой! — сквозь слезы произнес Антонио Спадавелли. Томмазо упал на колени, стараясь поцеловать иссохшую старческую руку. — Отец мой! Учитель! Монсиньор кардинал! — Встань, сын мой. Годы почти сравняли нас с тобой, и каждый из нас стал другому и сыном и отцом. Лишь одному богу известно, как переживал я твои мученья, стараясь хоть молитвою помочь тебе. Томмазо встал с колен. — Быть может, потому я и могу говорить: «Мыслю, следовательно, существую»,[87] — с горькой иронией произнес узник, потом пододвинул кардиналу табурет, сам присев на край тюремной койки, вместилища вечных кошмаров. — Да, ты мыслишь и, к счастью, существуешь. Воздаю должное твоей силе, которой ты отразил желание господа спасти тебя. О мыслях же твоих я и хотел поговорить с тобой. — Боюсь быть плохим собеседником. Эти стены за десятилетия отучили меня от общения с людьми. — Но ты и мыслил и писал для них. Чего же ты добивался, пытаясь доказать, что не напрасно получил имя «КОЛОКОЛ»? — Учитель, вы услышали его звон, мой голос? Но мне вспоминать ваш голос — это воскрешать былое, переноситься в блаженные для меня дни детства, любви и свободы, в тепло семьи! — Семья! Твой отец жестоко обвинил меня, — печально произнес кардинал. — Из-за твоего решения покинуть светский мир я, поверь мне, безвозвратно потерял тогда семью, ставшую мне поистине родной. С тех пор уже около полувека я одинок среди людей. — И Спадавелли вздохнул. — Я тоже одинок, учитель, но только в каземате, — ответил узник. — Семья! Как странно слышать! Хотя нет ничего для меня дороже образа моей матери, отец мой! — Не только для тебя, — многозначительно произнес Спадавелли. Томмазо поднял настороженный взгляд, представив себе, каков был его учитель-доминиканец пятьдесят лет назад. Тот предостерегающе поднял руку. — Да, да! Я относился к тебе как к сыну, боготворя твою мать, воплощавшую на земле ангела небесного. Но не смей подумать греховного! Память ее и для меня и для тебя священна! И не нарушен мой обет безбрачия, данный богу. Однако, угадав в тебе вулкан, готовый к извержению, невольно сам же пробудив в тебе готовность встать на бой с всеобщим злом, я, каюсь, испугался и хотел спасти тебя любой ценой, об этом же молила меня и твоя мать. — Спасти? — Конечно, так! В своей наивности неискушенного доминиканца я слишком полагался на высоту монастырских стен, стремясь укрыть за ними твой мятущийся неистовый дух, ибо любил тебя, быть может, даже больше, чем твой собственный отец. — Укрыть меня в монастыре? Но разве это получилось? — Конечно, нет! Нельзя в темнице спрятать Солнце! — Вы верите, учитель, в мой факел, зажженный светилом? — В твой «Город Солнца»? Тогда скажи мне прежде, что ты хотел в нем сказать? — Учитель, позвольте мне прочесть сонет о сущности всех зол. Он вам ответит лучше, чем я мог бы сам сейчас придумать. — Твои стихи я ценил еще в твоем детстве. Я выслушаю их и сейчас со вниманием. Томмазо встал, оперся рукой о стол, глядя на пробивающийся через зарешеченное окно солнечный луч, и прочел:Гоббс, философ-материалист, Англия, XVII век
Сонет VIII — «О сущности всех зол».
Глава третья СКАНДАЛИСТ
Если у человека безобразное лицо, он может закрыть его маской, но может ли он то же сделать с характером?Савиньон Сирано де Бержерак после окончания коллежа де Бове, обретя полную свободу и даже некоторую известность в связи с необычайными обстоятельствами выпускного акта, был приглашен в салон своей крестной матери баронессы Женевьевы де Невильет, которая намеревалась представить его светскому обществу. Савиньон очень волновался, не зная, как удастся ему показать себя среди избранных? О чем придется говорить: о Демокрите или Аристотеле, о Платоне и описанной им удивительно исчезнувшей стране Атлантиде или о Сократе, ищущем блага людей? Или речь пойдет о крестовых походах, о рыцарской чести и о гробе господнем, о втором Риме — Византии или, может быть, о римских цезарях или римском сенаторе Катоне-старшем, который не уставал требовать разрушения Карфагена, в конце концов разрушенного, или о поэзии Вергилия, Данте или Петрарки? Он готовился к предстоящему выходу в свет усерднее, чем к выпускным экзаменам в коллеже. Большое внимание он уделил туалету, истратив на это последние полученные от матери деньги, приобретя даже шпагу, знак дворянского достоинства, без которого, как ему казалось, не войти в круг аристократов, тонких и умных, изысканно говорящих или возвышенными стихами, или афоризмами. Но больше всего его волновали предстоящие встречи с красавицами. Он готов был влюбиться в любую из них, лишь бы она улыбнулась ему в ответ. Он ждал, он жаждал таящихся и рвущихся наружу страстных чувств, однако и страшился их. Он был в отчаянии, что у него не пробились усы и бородка, и, несмотря на свой мужественный наряд со шпагой, которую недоуменно вертел в руках, не зная, как с ней обращаться, он выглядел отнюдь не внушительно. И еще этот ужасный нос! Вся надежда на то, что в обществе воспитанных людей никто не позволит себе заметить этот природный недостаток. Баронесса Женевьева де Невильет, казалось, ничуть не постарела со времени рождения своего крестника. Все такая же черноволосая, с миловидным личиком, миниатюрная и изящная. Она встретила Савиньона сердечно и, когда он церемонно приложился к крохотной, излучающий запах роз ручке, поцеловала его в лоб выше поднятой переносицы. Она ввела его в гостиную, отделанную белым шелком и обставленную белой мебелью на гнутых ножках. Там уже находилось несколько знатных гостей, среди которых вполне мог оказаться и какой-нибудь герцог или герцогиня. Савиньон отвесил почтительный поклон всем, но баронесса подводила его к каждому из гостей, представляя многообещающего юношу. — Как я рад (или как я рада), — безразлично говорили они, замечая, что сегодня на дворе теплее, чем вчера, и отворачивались, чтобы продолжать светскую беседу, а кое-кто, чтобы скрыть гримасу отвращения, вызванную безобразием нового гостя. Сирано, раскланиваясь, неуклюже задел концом шпаги столик на тонких ножках, опрокинул его, и стоявшая на нем белая фарфоровая ваза с пастушками с шумом разбилась. — Ах, это к счастью, к твоему счастью, дорогой Савиньон! — щебетала хозяйка дома, приказав слугам собрать обломки и шепнув, чтобы нашли мастера, который сумел бы все ловко склеить. Смущенный Сирано опустился на стул. Шпага ужасно мешала ему, а дама, к которой он подсел, была так прелестна! Молодой аристократ, с которым он так неудачно раскланялся, с усмешкой посмотрел на него и тихо-тихо произнес: — Ах, эта шпага! Входишь в дом — Она становится врагом! Сирано все же услышал и закусил безусую губу. Сидевшая рядом черноокая дама, которая так взволновала его, завела общий разговор: — Не правда ли, мсье де Бержерак, у мужчин стали модными высокие каблуки. Это делает их выше и мужественнее, не так ли? — Может быть, не выше, а длиннее? — не сдержал своей язвительности задетый стишком аристократа Сирано.[88] Молодой аристократ, оказавшийся графом де Вальвером, вспыхнул, ибо, отличаясь малым ростом, явно злоупотреблял высотой каблуков. Он уже с нескрываемой злобой посмотрел на Сирано, которого, подняв с места, к счастью, баронесса отвела к другой группе гостей, где тоже были дамы, одна прекраснее другой. — Нет, нет, сударыня! — вещал какой-то расфуфыренный старик в парике. — Королева обожает своих собачек. Нести за ней хоть одну из них — величайшая честь, которой удостаивается не каждый. Сам церемониймейстер двора разберется сначала во всех геральдических тонкостях, прежде чем назвать имя счастливца. — Собачки — это прелестно! — сказала затянутая корсетом дама с кокетливой родинкой на щеке. — В особенности, когда у некоторых дам собачки служат почтальонами, — вставил молодой хлыщ с крысиным лицом и вкрадчивыми манерами. — Ах, вы опять хотите острить, невозможный маркиз! — кокетливо отозвалась дама с родинкой. — Представьте, мадам, это очень удобно, конечно, речь идет лишь о приближенных королевы, ее фрейлинах, а никак не о ней самой, не о ее величестве! Но когда церемониймейстер двора к собачкам не имеет отношения, им в бантик легко засунуть записку, которую вместе с собачкой передать избраннику, жаждущему свидания, разумеется, чисто делового — для обсуждения религиозных тем. — Вы ужасный сплетник, маркиз, даже когда не называете имен, — жеманно сказала дама, притворно ударяя маркиза по руке веером. — Если вы хотите, графиня, поговорить об именах, я к вашим услугам. Есть уйма пикантных новинок! Если, конечно, наш новый молодой собеседник не будет иметь ничего против. Чем больше слушал Сирано де Бержерак салонную болтовню, тем глубже ощущал вокруг себя пустоту. «Неужели у них нет ничего больше за душой?» — думал он. На любом своем вечере баронесса де Невильет всегда припасала для гостей сюрприз, кого-то из новых гостей, очередную модную знаменитость или забавника, могущего посмешить общество. Сегодня она намеревалась показать Савиньона, чтобы о нем заговорили в салонах Парижа. Еще перед ужином она вышла на середину гостиной и, хлопнув в свои маленькие ладошки, возвестила: — Господа! Я уверена, что среди нас нет никого, кто не отдавал бы дань изяществу, и мне хотелось бы, чтобы наш юный гость, уже ставший поэтом, сочинив даже забавную комедию в стихах, порадовал бы нас каким-нибудь своим экспромтом. Сирано был крайне раздражен проявленным к нему равнодушием присутствующих, надменным, оскорбительным отношением к себе и бессодержательной, выводящей его из себя болтовней, особенно горько ему было полное равнодушие к нему (если не брезгливость!) прекрасных дам, о которых он так пылко мечтал, ощутив теперь вместо красоты, ума и изящества пустоту. И вместо жарких строк, посвященных «Прекрасной», совсем другие стихи сами собой сложились в его язвительном и уязвленном мозгу, и он, не отдавая себе отчета в последствиях, не подумав даже о баронессе, вышел на середину гостиной и запальчиво произнес, бросая вызов тем, кто выказал ему свое презрительное равнодушие:Вольтер
ОДА ПУСТОТЕ
Глава четвертая КОНФУЗ
Пояс нужен, чтобы не потерять панталоны, шпага — чтобы не потерять честь.Маркиз де Шампань приехал с утренним визитом к своей любовнице, графине с родинкой, мадам де Ла Морлиер. Она вышла к маркизу, благоухая цветущим садом, одетая в легкий невесомый пеньюар, позволяющий пылкому воображению обрисовать ее обольстительные формы. — Ах, маркиз, — сказала она, протягивая руку для поцелуя, — я с утра скучаю. Смотрите, если вы не позаботитесь обо мне, то лишитесь моего расположения. — Что вы, графиня! — ужаснулся маркиз. — Я лучше объявлю себя еретиком, чтобы меня сожгли на костре. — Ну зачем же так! Я не люблю запах горелого мяса. И вы все-таки нужны мне. — Нужен?! Вы заставляете меня задохнуться от счастья! — Задыхаются от петли на виселице, маркиз, а вы ведь не нарушаете запретов короля и никого не вызываете на дуэль. — Браво, мадам! Вы сами подсказали мне, чем развлечь вас! Помните того носатого птенца, который читал стишки у баронессы де Невильет? — Ну конечно! Они поссорились с графом де Вальвером. — И даже дрались на дуэли, а я был секундантом графа. Этот носатый Сирано ловко отделал графа, сразив его презрительным великодушием, заставив перед тем прочесть непристойные стишки про самого себя. Оскробление неслыханное и безнаказанное! — И вы решились наказать этого птенца? Ах, маркиз!.. — Устроить ему ловушку, и не где-нибудь, а у вас, мадам. — У меня? В будуаре? — кокетливо подзадорила маркиза графиня, с улыбкой поднимая свои искусно подведенные брови. — И вы тайком приведете его туда? — Что вы говорите, сударыня! Лучше убейте меня! Вот моя грудь и бьющееся ради вас сердце. — И маркиз сделал вид, что распахивает камзол, выставляя при этом вперед свою крысиную физиономию. — Ну полно, полно! Сознавайтесь сразу, что вы придумали. Надеюсь, забавное? — Граф де Вальвер должен быть отомщен. Для этого надо выбрать достойного противника Сирано де Бержераку. У меня есть такой на примете, капитан армии герцога Анжуйского, барон де Ловелет, первый дуэлянт и забияка. Правда, чуть постарел. Придется вам пригласить на очередной свой вечер этого солдафона. Ботфорты среди башмаков с бантиками! Это будет прелестно! Мы столкнем его с Сирано, и он сделает из этого мальчишки любое блюдо по вашему вкусу. — Вы просто невозможный человек, маркиз! Я вовсе не людоедка, чтобы заказывать себе блюда из своих гостей. Кроме того, старый солдат и птенец! Фи!.. — Вовсе нет! Это будет пикантнейший бой петухов, или если хотите, коррида! Уверяю вас, мадам, это развлечет вас. — Ах, я готова на любое развлечение. Пусть будет по-вашему, я приглашу этих двух человек не нашего круга. Пусть позабавят других. — Я мчусь в казармы, сударыня! И маркиз, мелкими шажками прошмыгнув в дверь, почти выбежал из дома графини, приказав кучеру своей кареты везти его в казармы войска герцога Анжуйского. Когда карета остановилась и маркиз, высунувшись из ее окна, обратился с просьбой к солдату найти капитана де Ловелет, тот, рассчитывая на весьма крупную награду важного господина, бегом помчался выполнять его поручение. Вскоре бравый седоусый воин, идя вразвалку в огромных ботфортах и придерживая на весу за рукоятку длиннейшую шпагу, подошел к карете. — Чем могу служить? — хрипловатым голосом осведомился он. — Не откажите в любезности, господин барон, посетить вместе со мной отменный трактир в Латинском квартале, за мой счет, разумеется. — О таких вещах солдата не спрашивают, — ответил капитан и, распахнув снаружи дверцу кареты, взгромоздился туда, ибо был весьма внушительного телосложения по сравнению с щуплым маркизом. — Чем обязан? — имея в виду приглашение в трактир, коротко осведомился капитан. — Одна прелестная особа знатного происхождения, господин капитан, просила меня похитить вас. Капитан хмыкнул, погладил усы и расхохотался похожим на лай хохотом. — Однако вы шутник, господин маркиз! Хотел бы посмотреть на интересующуюся мною знатную даму! Я, знаете ли, больше не по знатной части промышлял. — Вы просто скромны, капитан. В трактире мы все выясним. Выяснение обстоятельств приглашения капитана в салон графини де Ла Морлиер «вылилось», в буквальном смысле этого слова, потоком доброго вина, наполнившего до краев увесистые кружки, которые поднимали, разумеется, за счет маркиза не только капитан, но и чуткая к таким возможностям студенческая молодежь и неудачливые художники, рисующие на салфетках и скатертях, за неимением других заказов. Изрядно подвыпив, капитан забыл, для какой цели его сюда привезли, и стал рассказывать о своих несчетных победах в поединках до их запрещения, а также и после. — Я не проиграл ни одного боя, — хвастливо заявлял он, отхлебывая глоток вина. — У меня их было семьдесят семь! Семьдесят семь и один особый… — О, расскажите нам о нем, расскажите, — попросили несколько голосов. — Рассказывайте, — шепнул маркиз, — все это будет известно знатной даме, о которой я вам говорил. — Какая знатная дама? — удивился капитан. — Ах да! — И он икнул. — Так вот. Дрались мы с полковником лихо, не буду называть его очень известной фамилии. Мне не понравилось, как он взглянул на мою очередную подружку, а у подружек я выиграл больше боев, чем у мужчин. Так вот. Генерал, о котором я сказал, схватился со мной и хотел резким ударом выбить у меня шпагу из рук и с размаху ударил мою шпагу своей сбоку, да так, что разрубил мою пополам, как деревянную. Он хотел уже проткнуть меня, но сабельный удар занес его шпагу в сторону, и я успел особым, только мне известным выпадом проткнуть остатком моей шпаги его маршальский мундир на груди, притом так, что не задел его тела. Маршал прекратил бой, восхитившись моим ударом, и принес мне извинения. — Не маршал, капитан, а генералиссимус, — на полном серьезе заметил один из молодых художников. — Молокосос! — огрызнулся капитан. — Генералиссимус во Франции один, это его высокопреосвященство господин кардинал Ришелье. С ним ссориться никому не советую, даже вооруженным кистью. — Ваше вооружение, капитан, больше подходит для ссоры с менее заметным человеком, — зашептал маркиз де Шампань. — И моя знатная дама рассчитывает на это. — С кем, с кем я должен поссориться? — удивился опять капитан. — Может быть, вы боитесь скрестить с ним шпаги? — А вы, маркиз, не хотите ли скрестить свою шпагу с моей? — Упаси бог, капитан! У вас слава первого бойца войска герцога Анжуйского. А вызовет вас на дуэль молокосос, вроде того, которого вы сейчас отбрили. — А с чего это он меня вызовет на поединок? — Потому что вы прокатитесь по поводу его длинного носа, который, право же, годился бы для ножен хорошего кинжала, а скорей всего похож на птичий клюв. Капитан лающе расхохотался. — И вы думаете, что этот «клювоносец» полезет со мной драться? Со мной? — Он не выносит насмешек над своим носом. — Не выносит? Какие нежности! Так ему придется вынести, придется, черт меня возьми! Или я не капитан и не провел семьдесят семь поединков и еще один! И пусть еще один будет! — пьяно бормотал барон, силясь подняться из-за стола. Маркиз отвез его обратно в казарму, обещая завтра прислать за ним карету, чтобы он приехал в салон графини де Ла Морлиер. Сирано де Бержерак, живя в тесной комнатушке над трактиром «Давид и Голиаф», получил надушенное письмо с графским вензелем, содержащее приглашение графини де Ла Морлиер посетить ее салон в ближайший четверг в вечерние часы, «чтобы провести время в непринужденной обстановке и простоте». Сирано задумался. Не имеется ли здесь в виду одежда знатных мужчин и драгоценности, украшающие вместе с туалетами их дам? Одна мысль о светских красавицах заставляла его жаждущее сердце трепетать, он еще надеялся, что сила поэтического слова может затмить его внешнее безобразие, которое он так хотел бы забыть. И он помчался к своему другу Шапеллю рассказать о необыкновенной удаче, об открывшейся ему двери в высший свет Парижа, ибо салон графини славился как один из самых блестящих, где собирались вельможи и люди особо знатные, а дамы дивно прелестные, утонченные и изысканные. И теперь появлялась надежда быть представленным ко двору. Что делает всего одна удачная дуэль! Даже дамы, ах, эти жестокосердные дамы, может быть, хоть теперь они заметят его! Шапелль, завсегдатай дома графов де Ла Морлиер, приглашением графини Савиньону был несколько озадачен. — Не думаю, Сави, что за этой дверью тебе приоткроются ворота Лувра. Не нравится мне приближенный к очаровательной графине маркиз де Шампань, чье злоязычье соперничает только с его трусостью, мы с ним знакомы по твоей первой дуэли. Помнишь, как он по-крысиному удирал с чужой шпагой под мышкой? Неспроста все это. — Ну почему же? — запротестовал Сирано, который не хотел упускать случай войти в высший свет, где ему грезились и удачи, а может быть, и счастье. — Я не вижу в этом приглашении никакого подвоха. — Разумеется, я пойду с тобой, но, бывая там часто, я плохо выношу этого сплетника, для которого шелковые юбки служат синим небом. Сирано, принимая во внимание «непринужденную простоту», занял у Шапелля на один вечер самую нарядную его одежду, поскольку они одного роста и сложения, а он был безнадежно беден. Отец отказывал ему в деньгах, живя лишь на ренту от проданного имения и требуя, чтобы он зарабатывал сам, шел бы в священники, как его старший брат Жозеф, или на военную службу. Сирано внутренне усмехался: уподобиться ханже Жозефу, дать обет безбрачия? Как бы ему не пришлось дать этот обет самому себе даже без духовной карьеры, если и дальше его внешность будет отталкивать от него всех представительниц прекрасного пола! К счастью, хлопоты и сборы отвлекали Сирано от этих мыслей. — Брать ли с собой шпагу? Не зацепиться бы ею опять за какую-нибудь вазу, — беспокоился Сирано. — Пояс нужен, чтобы не потерять панталоны, шпага — чтобы не потерять честь, — заметил Шапелль, разрушив сразу все сомнения друга. Собравшееся в салоне графини де Ла Морлиер общество было самым блестящим, предупреждение о «непринужденной простоте» сделало свое дело: как мужчины, так и особенно дамы старались превзойти и самих себя, и своих соперниц по блеску и роскоши. Драгоценные колье и кольца, ожерелья, серьги, диадемы горели в волосах и ушах, на лебединых шеях прекрасных дам, тяжелые золотые цепи, старинные перстни, красочные банты во всех возможных местах украшали кавалеров, старики же назидательно отдавали дань прежним модам, внося в салон дух славных традиций прошлого, заложенных во времена Екатерины Медичи, когда блеск, красота и коварство стали символами знатности. Появление двух нарядных молодых людей, один из которых бывал здесь частым гостем, было встречено общим вниманием, тем более что только они двое не знали об очередном, обязательном для вечеров графини сюрпризе, связанном с одним из них, вернее, с забавным носом одного из них. Среди всего выставленного здесь богатства, изящества и парящей скуки грубым пнем в пышном благоухающем саду выделялся армейский капитан в столь неуместных в шелках гостиной тяжелых ботфортах, неуклюжий со своими солдатскими манерами и мешающей ему же самому слишком длинной шпагой. Капитан де Ловелет мучительно ждал сигнала от маркиза де Шампань, увивавшегося среди дам, рассказывая каждой какую-нибудь пикантную историю. Старый солдат чувствовал себя здесь неуютно и мечтал поскорее поссориться с каким-то носатым молокососом, чтобы «отработать» угощение в трактире и приглашение на этот уж слишком утонченный вечер, где не с кем перекинуться словом о славных походах, боях, лошадях и поединках. Наконец де Шампань, сделав капитану условный знак, направился к Сирано де Бержераку и с изысканно вежливым поклоном произнес: — Почтенный господин поэт! Наши прелестные дамы поручили мне передать вам их просьбу прочитать какие-нибудь ваши стихи о красоте и любви. Сирано, немного смущаясь, встал и, застенчиво оглянувшись, направился на середину гостиной, обдумывая, что бы прочесть столь избранному обществу. Но дорогу ему внезапно преградил армейский капитан в ботфортах: — Вы, сударь, намеревались толкнуть меня, торопясь, как юный петушок, прокукарекать свои стишки с помощью вашего носа, который заменил бы в полку призывную трубу, а еще лучше им пахать в поле, что делали, надо думать, не так уж давно, ваши близкие предки из числа грязных крестьян. Сирано вспыхнул. Присутствующие с интересом следили за тем, что произойдет. Однако «поэтической дуэли», как у баронессы де Невильет, здесь не состоялось. Савиньон с непостижимой ни для капитана, ни для гостей графини ловкостью выбросил вперед руку и схватил барона за нос, притом так сжал его своими железными пальцами, что старый солдат не удержался от возгласа, получившегося, надо сказать, довольно гнусавым. И Сирано стал водить капитана за нос по великосветской гостиной, уверяя блистательных гостей, что не отпустит почтенного барона до тех пор, пока нос того не сравняется с его собственным. Дамы хихикали, многих мужчин разбирал хохот. Ведь смешным не сочувствуют! Лишь один маркиз всполошился и вместе с хозяйкой дома бросился на выручку злосчастному капитану. — Господин де Бержерак, умоляю, лишь ради меня и нашей будущей дружбы, отпустите моего гостя, — призывала очаровательная графиня с родинкой. Маркиз же патетически восклицал: — Господин де Бержерак! Взываю к вашей дворянской чести! — Де Шампань суетился вокруг, приседая и кланяясь и всем своим существом призывая выслушать его. — Если вы считаете себя оскорбленным, то я к вашим услугам как секундант. — Не думаете ли вы, маркиз, что я унижусь до того, чтобы вызвать на поединок эту неуклюжую дубину? С него хватит и того урока, который я ему задаю на глазах у всех уважаемых мной гостей графини, искренне сожалея, что доставляю ей заботы. — Боже! Де Бержерак! — завопил маркиз. — Вы унижаете не только его, но и себя этим ярмарочным зрелищем. — Для ярмарки не хватает карусели, — огрызнулся Сирано. — Милый юноша! Я понимаю ваши чувства и даже разделяю их, но я не могу себе представить, чтобы рыцарь, каким вы мне представляетесь, не внял просьбе дамы. Отпустите его. Он виноват. Это мы все видели, и все на вашей стороне, — умоляла графиня с родинкой. Шапелль, подойдя к Савиньону, шепнул: — Довольно, друг, с него хватит! Просьбы дамы и друга сделали свое дело. Сирано отпустил барона. Тот стоял растерянный, с покрасневшим, отекшим и мокрым носом и беспомощно чихал, не в силах остановиться. Да он и не знал, что делать. Молокосос не вызвал его на поединок, как рассчитывал маркиз, а нанес ему сам неслыханное оскорбление. Маркиз нырнул между смеющимся Сирано и чихающим капитаном, стремясь скорее прийти на помощь барону. — Надеюсь, господин Сирано де Бержерак, — высокопарно начал он, — вы понимаете, что нанесенное вами барону оскорбление смывается только кровью? — Вы собираетесь для этого предоставить собственную кровь? — насмешливо осведомился Сирано. — Боже упаси! Я говорю от имени оскорбленного барона де Ловелета, капитана армии герцога Анжуйского. — Но, кроме чихания, я от него ничего не слышу, господин маркиз. К тому же, как всем заметно, нос его припух и почти сравнялся по размерам с моим, что меня удовлетворяет. Маркиз умоляюще посмотрел на еще недавно столь бравого солдата. И только после этого, умерив чихание, капитан смог промямлить, что удовлетворения потребует он, а не кто-нибудь другой. — Что ж, — сказал Сирано, — вызов на поединок сделан не мною, пеняйте на себя, господин капитан. Если вы действительно выберете себе в секунданты господина маркиза, то он может договориться с моим другом графом Шапеллем де Луилье о месте и времени встречи. Поединок состоялся у той же монастырской стены, как и первая дуэль, и с тем же составом секундантов. Но бой был значительно короче, чем сражение с графом де Вальвером. Результат же его был несколько неожиданным. Старый солдат к началу боя уже пришел в себя и преисполнен был благородной ярости, решив хорошенько проучить юного нахала. Со свирепым криком бросился он на тоненького по сравнению с ним юношу и сделал выпад, чтобы пронзить грудь противника, но… шпага его, словно по ней стукнули у рукоятки тяжелым молотом, вылетела из его руки и брякнулась о монастырскую стену. Взбешенный капитан бросился за нею, чтобы продолжить бой, однако Сирано не стал ждать, пока он снова вооружится, как делал это с графом де Вальвером, а, едва капитан со шпагою в руке обернулся, приставил острие своей шпаги к его сердцу, потребовав, чтобы тот немедленно покаялся или перед ним, или перед господом богом. Старый солдат выронил подобранную шпагу и решил, что лучше найти смерть на поле боя во славу герцога или короля, чем от этого наверняка прошедшего выучку у самого дьявола юнца. — Приношу такие же извинения, какие выслушал однажды от самого маршала Франции, не стану называть его фамилии, — пролаял бедный капитан. — Вам чертовски везет, господин де Бержерак, и вы наверняка славный парень! Я взял бы вас в свою роту. — Благодарю, капитан. Но пока я воздерживаюсь от военной службы, интересуясь науками и поэзией. — Прискорбно, — вздохнул капитан. — А я, признаться, ударяю больше по другой части. — Господа! — вмешался прыткий маркиз, смакуя свои будущие рассказы о происшедшем. — Поскольку дело разрешилось миром, то и указ короля можно считать ненарушенным, что я и предлагаю отметить, за мой счет, разумеется, в лучшем трактире Латинского квартала. Согласны ли бывшие противники? — У солдата таких вещей не спрашивают, — отозвался капитан и разразился заразительным хохотом, похожим на лай престарелого пса. Из-за раннего часа маркиз поднял трактирщика с постели, и тот обслуживал нежданных гостей в ночном колпаке, не желая упустить изрядной выручки. Подвыпивший капитан стал умолять Сирано научить его своему волшебному приему, вполголоса добавив: — Если вы не получили это ценой, о которой не говорят даже шепотом. — Охотно научу вас, барон, если вы мне дадите слово дворянина, что будете с его помощью лишь разоружать противников, не нанося им ранений. — За такой прием готов пообещать постричься хоть в монахи или пойти евнухом в гарем турецкого султана, предварительно повышибав шпаги у десятка-другого чистоплюев в кружевах! — пьяным голосом пообещал капитан и полез обниматься с былым своим противником. — Я в своей жизни проиграл только два боя! Тебе, молодой мой друг, и… как бы ты думал? Девчонке! — И он захихикал. — Но какой! В кастраты к папе можно пойти! Не девчонка — факел! Об нее можно было обжечься! Вот я и обжегся. Испугался за свое здоровье, как сегодня, когда ты пощекотал меня у сердца острием шпаги. Словом, каюсь, струсил первый раз в жизни! С тобой второй! — И он снова захохотал своим необычным хохотом. Так закончился второй поединок Сирано де Бержерака, на миг появившегося в высшем парижском свете. Однако испытания его для вступления в это высшее общество не кончились. Заботой маркиза де Шампань, графа де Вальвера, преследоваших свои собственные цели, Сирано не раз приглашали в высший парижский свет, но всякий раз ради нового скандала. Оскорбления, притом взаимные, следовали одно за другим. Они всякий раз заканчивались вызовом на поединок «оскорбителя», каковым неизменно оказывался более острый на язык, чем любой аристократ, Сирано де Бержерак. Надо сказать, что дуэли эти так же неизменно выигрывались «оскорбителем» или традиционно заканчивались вышибанием шпаги из рук противника, или его несмертельным ранением. Слава скандалиста за Сирано закрепилась, а ко двору его не приглашали. И ни одна из прекрасных дам не ответила ему нежным взглядом на его зовущий пламенный взор. Жажда любви была у него подобна жажде путника в пустыне, а сознание собственного безобразия граничило с тем отчаянием, которое овладевает таким путником, сознающим свою обреченность. И эти чувства Сирано пытался скрыть за внешней веселостью, непомерной гордостью и язвительностью ко всем, кто скрывал свою безобразную внутреннюю сущность.Шапелль, французский поэт XVII века
Глава пятая ЗНАНИЕ СИЛОЙ
Знание беспредельно. Оно совершенно противоположно вере.Трудно представить себе более прелестное местечко, чем небольшое, утопающее в зелени имение почтенного графа Жермона де Луилье, ибо только в сердце Франции встречаются такие затянутые полупрозрачной дымкой уголки (какие мне приводилось видеть только там!) с извилистым ручейком, протекающим через парк, с изящными дугами мостиков, где так хочется задержаться, любуясь плавающими в тихой заводи кувшинками со сверкающими на солнце стрекозами над ними и раскинутыми вокруг по уснувшей воде влажными листьями, даже с приютившейся на каком-нибудь из них забавной лягушкой. Все дышало в парке графа де Луилье тишиной, отдохновением и близостью к природе, аллея, берущая начало от аккуратного шато на пригорке, спускалась к пруду, заботливо обсаженная выросшими за столетья деревьями и оттеняющими их величественность кустами роз, которые цвели здесь все лето, как бы олицетворяя собой жизнь человеческую, распускаясь из бутона королевами белого, красного, даже черного (гордость Жермона де Луилье!) цвета, насыщая воздух душистым ароматом, чтобы, увядая затем, уступить место в живом букете красоты новым бутонам, нетерпеливо набухающим, жаждущим своей нежной пышности, столь чудесной и недолгой. По этой аллее, вдыхая запахи благословенной земли, шли отец с сыном. — Шапелль, — говорил граф Жермон де Луилье, вельможа старого закала, который сохранил с былых времен не только гордую осанку и аристократическую властность горбоносого, гладко выбритого лица с двумя энергичными складками по углам губ, но и не утратил своего влияния при дворе сменяющихся королей, с чем приходилось считаться даже всесильному кардиналу Ришелье, — мне не хотелось встретить тебя словами упрека, — продолжал отец, — но сейчас, когда ты отдохнул от тряски в почтовой карете, я намерен объяснить тебе, почему вызвал тебя из Парижа. — Я боялся вашего недомогания! — Славу богу, я здоров, и если у меня есть боль, то вызвана она тревогой за тебя, родовитого дворянина и обещающего поэта. Я гордился и твоими стихами и твоим пребыванием в Сорбонне, так как образование — это храм знания, построенный на фундаменте воспитания, какое я тебе дал. Так почему же я слышу вдруг о попойках, кутежах, интрижках с женщинами, наконец, о дуэлях, в которых ты принимаешь участие? — Клянусь, я не дрался ни разу! — Вот как! — воскликнул вельможа, ударяя своей палкой о землю с такой силой, что едва не вонзил ее в дорожку. — Был только секундантом? — Совершенно верно, отец! Только секундантом и у весьма порядочного человека. — Вот как! — почти в гневе повторил отец. — И ты считаешь первого скандалиста Парижа столь порядочным человеком? — Если вы имеете в виду моего друга Савиньона Сирано де Бержерака, то это именно так. — Именно так! Я имею в виду господина Сирано де Бержерака, в котором мне не нравится все, начиная с его гасконского имени, присвоенного его отцом, отталкивающей внешности и кончая непристойным поведением в светском обществе! Эти непрекращающиеся дуэли, пренебрежение указом его величества, наконец, дерзкие стишки, порочащие дворянство, и даже комедия — пасквиль с осмеянием не только своего коллежа, но и священнослужителей, даже самой Церкви, все это мне претит! — Но, отец, вы же не читали его сочинений! — Мне достаточно слышать о них, чтобы позаботиться о пресечении твоего общения с ним. Шапелль поник головой, покорно слушая отца. А тот продолжал: — Вот так! Для того я и вызвал тебя сюда. — А как же Сорбонна, лекции, профессора, экзамены? — робко спросил сын, добавив: — Но я счастлив быть подле вас. — Экзамены, степень бакалавра! Я подумал об этом! Вас там слишком сушат догмами господ профессоров, которые еще не очнулись от былого спора, сколько чертей можно уместить на острие иголки. Я не против вольнодумства, даже твоего Сирано, порицая лишь его поведение. Но торжество догм едва ли не хуже! Я убежден, что в наше время нужно мыслить шире, как умели еще в Древней Греции, а не засыхать на корню без поливки свежими идеями, без чего я не вырастил бы ни старых, ни новых сортов роз, которыми мы любуемся с тобой. — Они прекрасны, как и ваши мысли, отец! — Твой умасливающий тон убеждает меня в моей правоте. Но чтобы ты не потерял драгоценное для обогащения ума время, ты, гость в нашем имении, вместе с наиболее близкими тебе товарищами, которых я позаботился пригласить сюда, прослушаешь приватный курс лекций по философии, не той мертвечины, которой пичкают ваши головы в Сорбонне в угоду всяким мантиям, а живой, обогащающей философией, растущей из античного веселия ума. — Кто же прочтет здесь такой курс лекций? — О! Ты и твои друзья не пожалеете! Пьер Гассенди! — Гассенди? — Да, тот самый Гассенди, который после заведования коллежем в Дине, где защитил докторскую диссертацию, преподавал философию в Эксе, обогащая ее жизнелюбивыми идеями Эпикура и развивая их в части понимания сущности вещей, за что подвергся гонению со стороны отцов-иезуитов, что для меня служит высшей рекомендацией ему, и я рад, что он принял мое приглашение на прочтение лекций для тебя и твоих друзей. — А вот, кажется, идет один из них! — воскликнул Шапелль. — Да это Жан Поклен! Как я рад, отец, твоему выбору! — Да, это обещающий юноша! Когда-нибудь он обязательно станет видным артистом и сочинителем пьес, имея в виду его теперешнюю склонность к сценическому искусству, с чем я имел возможность познакомиться лично, прежде чем пригласил его учиться в нашем доме у самого Гассенди.[89] К отцу с сыном впереди группы молодых людей быстрым шагом подошел стройный юноша с волосами до плеч, с выразительным, быстро меняющим выражение лицом. Он раскланялся с графом Жермоном де Луилье, выказав ему все знаки высшего уважения в стиле и традициях испанских грандов, великолепно скопированных им, а потом обнялся с Шапеллем. — Я так благодарен графу Жермону де Луилье за приглашение слушать Гассенди рядом с тобой, Шапелль, что не знаю, как это выразить. — Стихами, друг мой, стихами в одной из задуманных тобой пьес, — посоветовал господин Жермон. — О если бы мои стихи зазвучали когда-нибудь со сцены! — вздохнул юноша. — Наблюдай жизнь и пиши о ней! — напутствовал мудрый вельможа и пошел принять выражение почтения и от остальных прибывших «студентов его приватного университета». — Не подъезжает ли сам профессор? — забеспокоился хозяин. — Мы обогнали карету, у которой чинили в дороге колесо. С нашей стороны это в высшей степени неучтиво, если в ней ехал сам Гассенди, — сказал Жан Поклен. — В таком случае я выеду встречать его, — решил господин Жермон. Однако этого не понадобилось. Пока закладывали его карету, во двор усадьбы въехал запыленный экипаж, доставивший опального профессора из Экса. Господин Жермон и молодые люди спешили к карете, но Жан Поклен успел раньше других и, открыв ее дверцу и опустив подножку, почтительно протянул руку приехавшему. Пьер Гассенди, опираясь на нее, сошел с подножки. Низенького роста, лет уже за сорок, склонный к полноте, в наглухо застегнутом камзоле с вертикальным рядом маленьких пуговок, доходящих до подбородка, с вдумчивым и удивительно спокойным бритым лицом, он снял шляпу перед встречающими, обнажив свой огромный лоб, увеличенный из-за отступивших на полголовы коротко стриженных волос, и приветливо и чуть застенчиво улыбнулся. Граф Жермон де Луилье вышел вперед и произнес: — Рады приветствовать вас, ваше преподобие господин профессор, в этом скромном замке, где нет ни башен, ни рвов, ни подъемных мостов, но где вас ожидают устремленные вверх, подобно башням, порывы ваших учеников, жаждущих глубоких, как крепостные рвы, знаний, к которым вы перебросите для них желанные мосты высокой мысли. — Если вы, уважаемый граф Жермон де Луилье, удостаиваете меня чести читать здесь приватный курс философии, то курс риторики вам надлежало бы с вашим красноречием прочитать молодым людям самому, — почтительно поклонился радушному хозяину гонимый братьями-иезуитами вольнодумный философ. Занятия начались на следующий день утром после общего завтрака, на котором присутствовал и сам господин Жермон со своей тоненькой, как тростиночка, болезненной супругой, графиней Розой де Луилье, которой муж с любовью посвящал выводимые им сорта удивительных роз. Для учеников профессора в зале замка на высоких козлах был сооружен из длинных досок стол, у которого они могли писать и читать стоя. Профессор должен был занять место у козел с краю стола. Но прежде чем он прошел на свое место, его задержал в дверях Шапелль. — Ваше преподобие господин профессор, могу ли я просить вас об одном одолжении? — Пожалуйста, сын мой, я рад быть вам полезным. — Речь идет о непреклонности моего отца в отношении одного из моих друзей, который был бы счастлив слушать ваши лекции. — Знаю ли я этого стремящегося к знанию юношу? — Это Савиньон Сирано де Бержерак, окончивший коллеж де Бове в Париже. — Бог мой! Даже в Эксе слышал о буйствах этого молодого человека, и я должен признаться, что разделяю мнение вашего почтенного родителя, ибо такой слушатель моего приватного курса лекций по философии едва ли поможет их усвоению остальными моими учениками. Шапелль поник головой, потеряв всякую надежду переубедить своего отца с помощью Гассенди, на что он, как на последнюю надежду, рассчитывал. Пыль на дороге взметнулась облачком и, превращаясь в длинный шлейф, долго оседала на землю. Одинокий всадник мчался галопом, не переходя на рысь. Лошадь покрылась разводами пены на взмокшей шерсти. Казалось, долго ей не выдержать. Но цель была близка. На всем скаку конь влетел во двор замка де Луилье, распугивая кур, разлетевшихся в разные стороны, как водяные брызги от брошенного в лужу камня. Всадник соскочил с коня, почуявшего родную конюшню: конь принадлежал Шапеллю. Небрежно кинув подбежавшему слуге поводья, приехавший, не оглядываясь, бегом направился ккрыльцу. Дорогу ему загородил другой слуга, но был отброшен в сторону столь неожиданным движением руки, что, оказавшись на земле, ничего не мог понять, тупо озираясь вокруг. Порывисто открыв дверь, прибывший столкнулся лицом к лицу с хозяином замка. — С кем имею честь? — спросил граф Жермон де Луилье. Молодой человек в запыленной одежде вежливо поклонился. — Друг вашего сына, ваше сиятельство, почтительно просит вызвать его, если почему-нибудь неудобно незваному гостю войти в дом. — Именно так. Вызвать сына крайне неудобно, — заметил граф Жермон де Луилье, — хотя б у вас и были на то веские причины. — Причина более чем веская, ваше сиятельство, поскольку вам, как никому другому, дорога дворянская честь. — Вот как? У кого же она затронута, молодой человек? — У меня, ваше сиятельство. Ваш сын должен немедленно мчаться со мной в Париж. — Но это невозможно, заверяю вас. — Это вопрос чести и моей и его. У меня нет другого секунданта. — Опять дуэль, запрещенная королем и его высокопреосвященством господином кардиналом? Если не ошибаюсь, то я вижу перед собой неукротимого дуэлянта Сирано де Бержерака? — Ваш слуга и друг вашего сына Шапелля Савиньон перед вами, ваше сиятельство, он вызван на дуэль юным герцогом Анжуйским, братом обольстительной Генриэтты, удочеренной его отцом. Он отозвался о ней неучтиво в моем присутствии, как о прижитой отцом на стороне, чем пробудил мой гнев, в ответ на что он вызвал меня на поединок. Мог ли я, судите сами, ваше сиятельство, не принять такого вызова и слыть трусом? А кроме Шапелля, секунданта мне не найти. — Вот как! А не слишком ли часто вам приходится их искать, дорогой мой Сирано де Бержерак? — Не чаще, чем меня вызывают на дуэль, ваше сиятельство. — Я понимаю вашу готовность защищать свою честь и не слыть трусом, но Шапелля с вами не отпущу! Вот так! — Ваше сиятельство, почтительно склоняя голову перед вами, я не рискнул бы вызвать вас на дуэль, но тот вызов придется принять вашему сыну, если он тотчас не поедет со мной, сохранив тем и нашу дружбу, и свою честь. — Вы дерзки, молодой человек. В былое время я ответил бы вам согласием драться с вами, но сейчас я не позволю сделать это даже сыну, который слишком занят. — Хотел бы я знать, что это за занятие? — Охотно объясню, рассчитывая на ваше уважение к знаниям. Слыхали ль вы о философе Гассенди? — Гассенди! Ну еще бы! Я преклоняюсь перед ним. — Так вот, ради этого уважения к нему вам придется отложить все мысли о дуэлях. Гассенди читает лекции по философии Шапеллю и его друзьям. — О боже, что я слышу! Вы говорите не просто о занятиях, ваша светлость, а о предательстве, которого я не мог ожидать от друга! Чтоб Шапелль смог втайне от меня учиться… у Гассенди! — Скажу по правде, Бержерак, я вызвал сына с друзьями сюда, чтобы прервать ваше с ним знакомство. Вот так! — О нет! Прервать знакомство, даже нашу дружбу могу лишь только я! Прошу простить меня, я невменяем и даже неучтив, но вынужден пройти в ваш дом. Я просто не могу, поверьте, остаться в стороне и не слушать мудрых лекций сторонника воззрений Демокрита! Не слушать вместе с Шапеллем! — Я уступаю не столько силе, сколько благородной жажде знаний, — неожиданно сказал граф Жермон, что-то уловив в лице и голосе гостя. — С условием, что дуэли не будет, — добавил он. — Конечно! Я извинюсь перед герцогом, ведь он тоже мой друг! — И с этими словами Сирано ворвался в зал. Там несколько молодых людей стояли чинно за столом на козлах. Прилежные ученики Гассенди уже услышали шум и насторожились. Удивленный философ прервал начатую речь. Ворвавшийся в зал молодой человек с огромным носом и обнаженной шпагой с размаху ударил ею по столу, разметав листки с записями учеников и воскликнул: — Граф Шапелль де Луилье! Ты был мне друг, а теперь я должен считать тебя предателем! Как мог ты позабыть обо мне и не позвать сюда, чтобы вместе слушать Гассенди, которому я спешу воздать хвалу и уважение. — А как прикажете мне, неизвестный молодой человек, отнестись к столь грубому вашему вторжению и учиненной помехе в чтении моей лекции? К размахиванию вами шпагой? — Шпага Бержерака направлена лишь против зла, предательства и лжи! — Тогда позвольте, господин де Бержерак, выступить в защиту господина Шапелля. Перед началом лекции он просил меня включить и вас в число моих учеников. — Тогда другое дело! Мы будем с ним по-прежнему дружить! Клянусь, еще не ошибалась моя шпага, готовая служить и вам! — Вы не дослушали меня, молодой человек. Вашему другу Шапеллю, так просившему за вас, я ответил решительным отказом, ибо считаю, что знание и насилие, к которому вы постоянно прибегаете, несовместимы. — Ах вот как, господин аббат! Вы оскорбили мою шпагу! И Сирано взмахнул своим оружием, отчего листки на столе вновь разлетелись. — Послушай, Савиньон! Неужели ты поднимешь сталь против каноника кафедрального собора в Эксе? — вскричал Жан Поклен, становясь между Сирано и Гассенди. — Ах, это ты, Поклен! Ты тоже здесь? Нет, нет! Кюре я уважаю с детства, но сан, однако, для педанта не защита. И ты ведь одобрял мою комедию и сам такую хотел написать. — Комедия тогда остра, как шпага, когда представит жизнь. Но шпага, молодой человек, не заменит в жизни морали, — заметил Гассенди. — Я прочту вам, если позволите, свою комедию, — предложил Сирано. — Вы могли бы это сделать, мой поэт, если бы вам разрешили здесь остаться, — усмехнулся философ. — Тогда, умоляю, примите меня в число своих учеников, профессор! — пылко и почти по-детски попросил Сирано. — Пусть и я буду среди счастливцев! — Счастливцев? — повторил Гассенди, тронутый тоном Сирано, и задумался: «Что это за человек, дерзость которого равна искренности? Владелец замка стоит в дверях и ждет от философа мудрости. Как поступил бы здесь Сократ? Конечно, стал бы выявлять вопросами сокровенную суть человека. Вопросами?» — Ну что ж, — вслух сказал Гассенди. — Уж если в этом вы видите счастье и готовы позабыть обо всем… — Готов! Готов! — горячо прервал Сирано. — То я могу вам предложить, как в древности, три испытания. Ответами вы сами все решите. — Я решу! — Извольте. Объясните, как вяжется со знанием угроза силы, с которой вы сюда пришли? — Профессор, я поэт, позвольте отвечать в стихах. Гассенди улыбнулся, взглянул на старого графа Жермона и заметил у того тоже легкую улыбку на губах: «Ну, если он забыл о поединке, то…» И граф кивнул. — Я прошу простить, господин профессор, что отвечу вам заготовленным каламбуром. Ведь всякий экспромт тогда хорош, когда старательно подготовлен. Гассенди пожал плечами. — Отвечайте, как сможете. Сирано начал чуть печально, а кончил с усмешкой и даже с вызовом:Гете
УМ И СЕРДЦЕ
Глава шестая ЧЕСТЬ И КОВАРСТВО
Мужество — это презрение страха. Оно пренебрегает опасностями, грозящими нам. Вызывает их на бой и сокрушает.Король считал, что путь в высшее общество прокладывается шпагой, и прекрасно знал, что кардинал уважает тех, кого несет на своих крыльях Удача. К тому же искусники фехтования, к которым без достаточных оснований причислял себя и король, настоятельно требовались Франции, поскольку скорого окончания войны не предвиделось. Ришелье отлично понимал, что преданность — дитя личной выгоды, потому был так же щедр к тем, кто верно служил ему, как беспощаден к врагам, впрочем, всегда готовый привлечь их на свою сторону. Кардинальский дворец на площади, куда вливалась улица Сан-Оноре, стал пристанищем тех, кто добился милости всесильного кардинала, карабкаясь по лестнице благополучия. В богатых залах толпились и пропахшие потом суровые воины с торчащими усами, в пыльных камзолах и грязных ботфортах, и искушенные в дворцовых интригах, надушенные аристократы в богатых одеждах с кружевными панталонами. Грубая сила сочеталась здесь с искусством лести, солдатские шутки с кичливостью и изяществом манер вельмож. Среди этой пестрой толпы бесшумными тенями сновали скромные монахи с опущенными глазами, в сутанах, опоясанных вервием, при их отрешенности от всего суетного, мирского, излишне внимательные ко всему, что говорилось вокруг. По настоятельному совету своего неизменного помощника и итальянского проныры Мазарини кардинал Ришелье решил пополнить ряды своих сторонников из числа отменных дуэлянтов. Ему надоели насмешки короля за вечерней шахматной игрой по поводу очередных побед мушкетеров над гвардейцами в поединках, которые не наказывались королем. Потому и потребовались теперь его высокопреосвященству сорвиголовы, не менее отважные, чем служили в роте мушкетеров. Мазарини всегда угадывал желания кардинала и позаботился представить ему столь же бездумных, как и отчаянных, дворян, у которых владение шпагой заменяло все остальные забытые достоинства. Немало бравых забияк, сознающих свои грешки, со страхом, какого не испытывали при скрещении шпаг, побывали в библиотеке среди книг и рыцарских доспехов, «представ пред орлиные очи рыцаря креста и шпаги» герцога Армана Жана дю Плесси, кардинала де Ришелье, который предлагал им выбор между безоглядным служением ему и Бастилией с маячившим за нею эшафотом. Надо ли говорить, что эти его посетители без колебаний предпочитали шпагу в руках во славу кардинала и Франции, чем петлю на шее за нарушение указа короля. И вот одним из таких посетителей, которому предстояло сделать подобный выбор, в кабинете Ришелье оказался однажды и самонадеянный юноша, снискавший славу необыкновенного дуэлянта, Савиньон Сирано де Бержерак, «бешеный гасконец», гордо прошедший сквозь толпу гвардейцев в приемной кардинала, уже знавших, что прокатываться насчет носа гасконца небезопасно, ибо он обладал не только этим «украшением» лица, но еще и ядовитым языком, так жалящим дворянское самолюбие, что вызов «оскорбителя» на дуэль становился необходимостью, а результат поединка при его неподражаемом владении шпагой предрешенным. Мазарини считал, что приглашенный им на этот раз бретер может оказаться весьма полезным, скажем, в роте гасконцев господина де Карбон-де-Костел-Жалу, могущих достойно противостоять не столько враждебным Франции армиям испанцев или англичан, сколько мушкетерам капитана де Тревиля. Знал это и кардинал Ришелье. Кардиналу Ришелье перевалило за пятьдесят, но он выглядел крепким, бодрым, полным энергии и властолюбия. Сирано де Бержерак предстал перед всесильным кардиналом, оглядывая убранство кабинета, принадлежащего скорее ученому, чем государственному деятелю, он явственно ощущал на себе испытующий взгляд его высокопреосвященства, облаченного в кардинальскую мантию пурпурного цвета. Лицо первого министра Франции было еще красиво, с подкрученными усами и острой бородкой воина, на груди его красовалась золотая цепь с крестом. — Сударь, — начал кардинал, опуская веки, — мне горестно напомнить вам, что нарушителям указа короля, запретившего дуэли, уготовано место в Бастилии. — Воля короля и вашего высокопреосвященства для тех, кто готов отдать жизнь за Францию, священна. — Не лучше ли отдать ее на поле брани, чем на эшафоте, сын мой? Будем откровенны. Сколько дуэлей на вашем счету? — Сто, монсиньор, — вставил находившийся тут же, незаметный в серой сутане, но подражающий в своей внешности Ришелье, Мазарини. — Сто? — переспросил кардинал, сверкнув глазами, что приводило в ужас многих, но не стоявшего перед ним бойца. — На моем счету нет ни одного вызова на поединок, ваше высокопреосвященство, — сказал, гордо вскинув голову, Савиньон Сирано де Бержерак. — Как так? Перед отцом церкви и первым министром короля вы утверждаете, что ни разу никого не вызвали на дуэль? — Ни разу, ваша светлость! — Но вы участвовали в поединках, нарушив тем волю короля! — Разве его величеству более угодны трусы, бегающие от противника и пятнающие дворянскую честь? — вместо ответа с задором спросил Сирано. — Не скрою, господин де Бержерак, дворянская честь дорога королю, как и мне, его слуге. А у вас, как мне кажется, репутация в отношении защиты чести завидная. По части же острословия я и сам убедился в том, задав вам, как припоминаю, несколько вопросов на выпускных экзаменах коллежа де Бове. — Я готов служить Франции всем, на что способен, если вы только того пожелаете, ваше высокопреосвященство. — Кому, кому служить? — нахмурился кардинал. Он привык слышать готовность служить ему или хотя бы королю. — Франции, ваше высокопреосвященство. — Франции? Это похвально, — недовольно заметил кардинал. — Но служить надобно и Церкви, во имя которой десятилетиями льется кровь истинно верующих. — Я готов стоять с ними рядом, пока мыслю и существую. — Если не ошибаюсь, это формула философа Декарта? — Совершенно так, ваше высокопреосвященство. Декарт считает, что мир познается через наши чувства и душа человека в соединении с его телом позволяет ему обрести способность мыслить, а следовательно, и существовать. — Не кажется ли вам, молодой человек, что наша святая вера учит нас иному? — По мнению Декарта, слепая вера слепа, а он своим учением помогает людям прозреть. — И вы придерживаетесь этого лжеучения? — Не вполне, ваше высокопреосвященство, ибо Декарт не объясняет всего многообразия мира, но тем не менее я преисполнен уважения к этому титану мысли. — А известно ли вам, что святейший престол осудил его творения? — Я не святейший пастырь, чтобы осуждать Декарта, ваше высокопреосвященство, но уважать его считаю за честь. — Считаете за честь? — Как и его предшественника Томмазо Кампанеллу, который, будучи предан богу, учит людей жить справедливо и честно. — Уж не «Город Солнца» ранил вашу буйную голову, которую вы готовы сложить за Францию? — За Францию и за свои убеждения, ваша светлость. — Не хотите ли вы также сказать, что убеждены в своей готовности защищать неугодного папе Декарта или Фому Кампанеллу, приговоренного за ересь к пожизненному заключению? — Готов в равной степени защищать убеждения обоих этих мыслителей, как свои собственные. — Тогда вам полезно узнать, сын мой, что на основании буллы святого папы римского, запретившего еретические книги Декарта, эти сочинения будут преданы огню сегодня ночью в присутствии истинных католиков вблизи Нельской башни. — Это недопустимо, ваша светлость! — Что вы хотите этим сказать? Уж не решитесь ли вы помешать этому благому делу? — Сочту это своим святым долгом, ваше высокопреосвященство! — Интересно, как вы это сделаете? — спросил кардинал с усмешкой, откидываясь на спинку кресла. — Готов биться об заклад, что это вам не удастся! Один против целой толпы? — Вот видите, ваше высокопреосвященство, вы сами ставите меня в такое положение, когда я не смогу не принять ваш вызов, чтобы не слыть трусом! — Мой вызов? — сделал удивленный вид кардинал. — Конечно, ваша светлость! Вы только что предложили мне побиться с вами об заклад, что мне не защитить книг уважаемого мной мыслителя Декарта от какой-то там толпы. — И вооруженных стражников, — добавил кардинал. — И вооруженных стражников, — согласился Сирано. — И против всех вы будете в одиночестве? — Нет, почему же, ваша светлость! Со мной будет моя шпага! — За меньшие проступки и дерзость я мог бы отправить вас в Бастилию, но я имел неосторожность обмолвиться, что готов побиться с вами об заклад, — сказал кардинал. — А мое слово — слово Председателя Королевского Совета, не уступает королевскому. — Это известно всей Франции! И буду рад служить тому доказательством! — Итак, бьемся об заклад? — со скрытым коварством спросил Ришелье. — Что же вы ставите, сударь? — Свою голову, ваше высокопреосвященство, и завещание, передающее вам мою долю отцовского наследства. — Благородно, но не густо! — с нескрываемой насмешкой произнес кардинал. — Или вы слишком высоко цените свою голову? — Даром я ее не отдам, во всяком случае. Кардинал, будучи в душе игроком, увлекся игрой и, предвидя ее исход, забавлялся с молодым человеком, как кошка с мышкой, подобно его любимому коту, который нацеливался прыгнуть ему на колени. — В случае моего выигрыша, надо думать, ваша голова не достанется мне (за ненадобностью!), но ваша доля из отцовского наследства, переданная мной одному из монастырей, послужит богу. Так пишите, господин Сирано де Бержерак! Мазарини по знаку кардинала подвинул Сирано письменные принадлежности. Сирано взял гусиное перо с пышным оперением и попробовал его остроту на язык. — Пишите, — стал диктовать Ришелье. — «Если я, Сирано де Бержерак, гасконский дворянин, не смогу защитить от толпы сторонников святой католической церкви предназначенных для сожжения книг лжефилософа…» — Простите, ваше высокопреосвященство, — почтительно перебил Сирано, — но закладную записку пишу я, и в ней недопустим паралогизм. — Как? Как? — изумился кардинал. — Противоречия и несоответствия, ваша светлость. Потому, с вашего позволения, поскольку я не могу отстаивать книг лжефилософа, я напишу «философа». — Пишите хоть дьявола! — гневно воскликнул Ришелье. — У кого вы учились после коллежа де Бове? — У замечательного философа Пьера Гассенди, ваше высокопреосвященство. — У того, кто опровергает Аристотеля, опору теологов святой католической церкви? — Именно у него. — И все его ученики так же задиристы, как вы? — Каждый по-своему, ваше высокопреосвященство, например, мой товарищ Жан Поклен под именем Мольера ставит свои едкие комедии. — Скажи мне, кто твои учителя и товарищи, и я скажу, кто ты, — мудро заметил Ришелье, поморщась при упоминании Мольера. Мазарини тем временем неслышно покинул кабинет и, войдя в приемную, поманил к себе одного из монахов в сутане с капюшоном на спине. Он что-то пошептал ему, тот кивнул и, смиренно наклонив голову, стал пробираться к выходу через блестящую толпу посетителей, ждавших окончания важного разговора кардинала. Мазарини вернулся в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. — Каюсь, ваше высокопреосвященство, — говорил меж тем Сирано, — некоторых из своих учителей мне пришлось высмеять в комедии «Проученный педант». — Я знаком с этой вашей комедией, — с неожиданной улыбкой произнес Ришелье, — и мне хотелось бы, сын мой, направить ваш поэтический талант на более благородную стезю, если бы вы согласились остаться поэтом при мне. — Никогда, ваша светлость! В ответ я прочту вам единственные строчки, которые в состоянии посвятить вам:Л. Сенека
Глава седьмая КОСТЕР У НЕЛЬСКОЙ БАШНИ
Безумству храбрых поем мы славу!..Не надо думать, что двадцатилетний Сирано де Бержерак покидал кардинальский дворец победителем. Напротив, мгновенный подъем духа, овладевший им перед лицом могущественного кардинала, сменился упадком, и он горько размышлял о своем дерзком отказе от благ приближенного к Ришелье поэта и о рискованном мальчишеском споре с ним об заклад, объясняемых непомерной гордостью, которая скорее прикрывала его слабость, нежели отражала силу. Гордыня заставила его отказаться от обеспеченности придворного поэта, оставшись вместе со своей свободой творчества в прежней бедности, не оставляющей ему надежд ни на удачу, ни на любовь. Франция XVII века виделась Савиньону совсем не такой, какой выглядит из нашего времени, триста с лишним лет спустя. Быть может, великий романист, блистательный Дюма-отец, остривший, что для него «история — гвоздь, на который он вешает свою картину», живописуя на ней дворцовые интриги, любовные похождения и скрещенные шпаги, все-таки ближе был к пониманию молодым Сирано де Бержераком его времени, хотя тот и ощущал чутьем духовную пустоту вокруг себя, клокотавшую несправедливостью, ханжеством, непрерывной борьбой французов против французов, или сводящих между собой мелкие счеты, или защищающих чуждые им интересы враждующих вельмож, а то и направляемых друг на друга пастырями церкви, принуждающими молиться лишь по-своему. В ту пору Сирано де Бержерак никак не предвидел, что проложит когда-нибудь путь великим французским гуманистам, таким, как Жан Жак Руссо, Вольтер или даже живший до него Рабле, подготовившим умы людей к вулкану французской революции. У Савиньона же даже его детское воспоминание о поджоге отцовского шато никак не связывалось с полыхавшими по всей Франции крестьянскими бунтами, жестоко подавляемыми тем же Ришелье. Зная лишь философов древности и преклоняясь перед современными ему мыслителями — Кампанеллой, Декартом, Гассенди, в отличие от них он становился вольнодумцем, идя дальше проповедуемой Кампанеллой терпимости к любой религии или попытки Декарта при отрицании слепой веры доказать существование бога математически. Сирано, опираясь на материализм Демокрита, развитый Гассенди, готов был вообще отказаться от веры в бога, допускающего на Земле торжество зла, жестокости, изуверства и преступлений, допускаемых сидящими на святом престоле папами. Некоторые из них причастны были и к отравлению неугодных, к ложным обвинениям в ереси, а один раз даже к скандальному обману, когда после смерти очередного папы выяснилось, что он был… женщиной, которой доступ даже в священники был закрыт. Причастны многие папы и к тягчайшим злодеяниям, творимым от их имени святой инквизицией. И бог их, представителем которого, как наместники святого Петра, они себя провозглашали, никогда не приходил на помощь страждущим и несчастным, обещая им избавление от всех бед лишь в загробной жизни. И велись без конца под сенью креста истребительные войны, даже «столетние», несущие смерть, опустошение, горе и бесправие людям. Сознание всего этого пока лишь зрело в уме отважного дуэлянта, воспринимавшего жизнь с одной лишь стороны, считая, что шпага, которой он виртуозно владел, решает все. Однако он с горечью подумал, что его успехи могут быть названы «удачами неудачника», да, по существу своему, они и были таковыми. Трезво размышляя, он уже понимал, что вечером, когда враги в неистовой толпе накинутся на него со всех сторон, сталь едва ли окажется лучше перышка. Шагая по Парижу мимо карет с гербами на дверцах, цокающих подковами запряженных цугом лошадей, надменных всадников в шляпах с перьями и подобострастно кланяющихся простолюдинов с унылыми, сытыми или веселыми лицами, толстых, переваливающихся с ноги на ногу матрон и куда-то спешащих хорошеньких парижанок, Савиньон, погруженный в себя, ничего этого не замечал, направляясь прямо в былой свой коллеж, где нашел экзекутора и впервые по собственной воле провел вместе с ним три часа в свободном, к счастью, карцере, после чего уснул мертвым сном. Кетсаль-Августин еле растормошил его, когда начало смеркаться, заставив проделать упражнения на быстроту движений. Карета кардинала, запряженная бешеными лошадьми, обогнала Савиньона. Кардинал спешил в Лувр сообщить королю важную весть. Но она не касалась, конечно, ведущихся военных действий, отраженных на разложенных в кабинете Ришелье картах, бесед с послами союзных по Тридцатилетней (как впоследствии ее назвали) войне с обескровленными ею странами, в первую очередь с Испанией и Габсбургской династией. Дело на этот раз для короля было куда более важное, способное привести его величество в хорошее расположение духа, которого он со вчерашнего проигрыша в карты пятисот пистолей был лишен, встретив приехавшего в неурочный час кардинала с самым хмурым видом. Несмотря на стремление короля Людовика XIII выглядеть всегда величественно, все же ему не удавалось скрыть природной пронырливости и своих порывистых движений, чем-то роднивших его с известным нам уже крысоподобным маркизом де Шампань. Выставленная вперед голова с топорщащимися подкрученными усами, тяжелая бурбонская нижняя часть лица, скрашенная остренькой бородкой, создавали впечатление, что королю все время надо что-то выискивать для себя особо приятное, могущее доставить удовольствие. — Ваше величество, хочу напомнить вам, что сегодня день святого Эльма, — обратился к нему со смиренным, но многозначительным выражением в голосе кардинал Ришелье. — Да заступится он за нас перед всевышним, — пробормотал король, добавив: — В нашей стране мы чтим его наравне со справедливостью, о которой печемся. — Это известно всей Франции, и потому я и решился сегодня, ваше величество, предоставить вам удовольствие. — Удовольствие? — насторожился король, поведя выступающим вперед носом. — Охота, бал или что-нибудь менее людное? — со скрытым значением произнес он, улыбаясь и пряча лукавый взор. — Зрелище, ваше величество! Еще вчера я приказал привезти к Нельской башне и сложить напротив вашего дворца изрядный запас топлива, и сегодня, когда стемнеет, там будет разложен великолепный костер, который волшебно отразится в Сене и даст возможность и вам, ваше величество, и ее величеству, прекраснейшей из королев, и всем вашим приближенным получить наслаждение от редкой, невиданной дотоле иллюминации. — Как это вам пришло в голову, Ришелье? Вы радуете меня! Я уже думал, что умру от скуки, вы ведь знаете, как она мучает меня! — Огни, ваше величество, вспыхивающие в грозовые дни божьего гнева на устремленных в небо остриях церкви святого Эльма, навели меня на мысль, что день этого святого, даже вдали от его церкви, надо отмечать огнем. И это будет красиво! Король оживился: — Вы истинно государственный человек, кардинал! Ваши предлагаемые мне решения всегда проникнуты высшей мудростью. Мы с вами будем вместе наблюдать за вашей выдумкой, сидя у окна за шахматным столиком. Вчера я так досадно проигрался в карты! — Вам, несомненно, удастся взять реванш за шахматной доской, ибо я не знаю другого такого мастера этой игры, как ваше величество. — Можно подумать, что я никогда вам не проигрываю. — Только из снисхождения, ваше величество. — В таком случае мы разыграем испанскую партию, хотя вы и терпеть не можете испанского короля. — Моя задача освободить вас от этих докучливых политических забот, ваше величество. — Хорошо, кардинал! Я сам объявлю придворным о предстоящем зрелище, уготовленном нам вашей заботой. Пришлите ко мне церемониймейстера двора. Кардинал величественно поклонился, но не двинулся с места. Лишь когда какой-то вельможа стал раскланиваться с ним, он послал его, как лакея, за церемониймейстером. Король усмехнулся. Ему было приятно хоть чем-нибудь досадить кардиналу. К вечеру по случаю иллюминации, посвященной святому Эльму, о чем прошел слух по всему Парижу, обитатели Лувра во главе с королем и королевой Анной увидели, что к берегу Сены стали съезжаться богатые экипажи. В их числе карета с графским гербом на дверцах, в окошке которой виднелось прелестное, уже знакомое нам личико очаровательной графини с кокетливой родинкой на щеке. Ее уже ждал сразу при ее появлении спешившийся всадник, по-крысиному ловко юркнувший к открытому окну остановившейся кареты. — Что нового у вас, маркиз? — жеманно спросила графиня де Ла Морлиер, ответив на церемонное приветствие своего приближенного. — Вы перестали баловать меня пикантными подробностями, а это грозит вам потерей моего расположения. — Упаси бог, графиня! Лучше мне попасть в клетку смертника. Но я сумею увильнуть от этого, поскольку у меня припасено нечто особенное! — Что? Что? — почти высунулась из окна прелестная графиня. — Неужели она и он?.. Ах, это просто ужас! — О нет, мадам! Еще пикантнее! — Не мучьте меня, я сгораю от нетерпенья! — Сгорать будете не вы, а нечто совсем другое, графиня! — Это связано как-нибудь со святым Эльмом! Говорите же! — Огни святого Эльма возгораются в дни божьего гнева, громыхающего в небесах. Сегодня можно ждать грома. — Боже мой! Гром в ясном небе? Мне страшно. — На этот раз гроза будет особенной. Не в небе, а на земле. — Может быть, здесь небезопасно и нам лучше уехать? — Вас отделит от нее река! На том берегу, мадам, произойдет это пикантное, я бы сказал, событие. — Как? У Нельских ворот, у всех на виду? Срам какой! Вы просто невозможны, маркиз. — Костер, разложенный для всеобщего удовольствия, будет не простым. — Ну, ясно не простым. В честь святого Эльма. Я уже поминала его в своей утренней молитве. — На костре будут сожжены книги осужденного святейшим папой Декарта. — А кто это такой? Еретик? Так почему же его самого не сожгут на этом костре? — Он успел укрыться в Нидерландах, мадам. — Какая жалость! Я никогда не видела сожжения людей! Говорят, они кричат. От одной только мысли об этом у меня мурашки бегут по спине. — Я хотел бы быть одним из этих «мурашек». — Оставьте вы! У меня замирает сердце! — Вашему столь дорогому мне сердцу еще придется замереть сегодня, мадам. — Неужели? Значит, его все-таки поймают и сожгут? — Если не его, то кого-то другого вам придется помянуть сегодня в вечерней молитве. Вы видите эту карету? — Конечно! Кто в ней? — Баронесса де Невильет. Она явилась сюда ради него… — Боже мой! Она же стара, у нее столько морщин. И все-таки ради кого-то примчалась сюда? Поистине маленькая собачка до старости щенок! — Графиня! Вы так же прекрасны, как злы! Она приехала ради своего крестника. — Вот как? Кто это? — Если вы помните, на вечере у нее нас забавлял стишками молодой скандалист, который потом отделал шпагой бедного графа де Вальвера. — Этот, с безобразным носом? Вероятно, он не пользуется успехом у дам. И вряд ли может иметь отношение к чему-нибудь пикантному. — Если не считатьпикантным поединок одного человека со многими. — Сразу несколько поединков! И на глазах у короля, их запретившего! Это действительно пикантно! — И дама залилась звонким хохотом. — Какой же вы шутник, однако! Проказник! — И она ударила своим веером маркиза де Шампаня по руке, которой он облокотился на окно кареты. — Король запретил поединки между двумя дворянами, а мы с вами вместе с королем из Лувра посмотрим, как Сирано де Бержерак будет отбиваться от целой толпы простолюдинов, истинных католиков, возмущенных его намерением вопреки воле святейшего папы помешать сожжению книг. Именно так рассуждал и король Людовик XIII, когда после дебюта начатой с кардиналом шахматной партии тот сообщил ему о дерзком желании Сирано вмешаться в святое дело, порученное монахам, весь день собиравшим по монастырям книги Декарта. — Конечно, кардинал, мы с вами запрещали только поединки чести между двумя противниками, — говорил король, — но отнюдь не все виды сражений, иначе нам пришлось бы капитулировать даже перед Испанией. — Это так же не может случиться, ваше величество, как победа одного безумца над ста противниками. — Но в шахматах, ваше преосвященство, я люблю пожертвовать вам все фигуры, чтобы последней поставить мат. — Но перед костром у господина Сирано де Бержерака не будет ни одной фигуры для жертв, кроме собственной. — Посмотрим, посмотрим, — нетерпеливо завертел выставленной вперед головой король. — Не пора ли закрывать Нельские ворота и зажигать костер? — Все придет в свое время, если господин Сирано де Бержерак не опомнится и не опоздает. — Вы допускаете, что он может струсить? — Это его единственный путь к спасению, но ведущий, увы, в Бастилию за стократное нарушение вашего запрета на дуэли, ваше величество. — Неужели стократного? Ну и молодец! — не удержался король от возгласа. — Кстати, не ваши ли это монахи выстроились чуть ли не солдатским строем перед сваленными дровами и хворостом? — У каждого из них к груди прижато по два-три тома сочинений Декарта. — Полили ли костер маслом? — осведомился король. — Уже зажгли факелы, ваше величество. — Кажется, я прозевал вам фигуру, — рассердился король. — Вы заговорили меня. Впрочем, не Сирано ли это появился между костром и толпой монахов? Вооруженный против безоружных? Где ж тут равенство сил, скажите-ка мне. — Но за монахами вы можете увидеть толпу истинных католиков. У них найдется чем сломать даже лучшую шпагу. — Надеюсь, и шею еретика? — Да, — задумчиво заметил кардинал, — его действия можно расценить и как еретические, направленные против буллы папы. Монахи меж тем подошли к просмоленным поленьям и предусмотрительно политому маслом хворосту и подожгли костер. Пламя взвилось к небу, вызвав вопль восторга у всех, кто находился по обе стороны Сены. Огонь отразился в воде и заплясал бегущими отсветами и бликами, словно на водную твердь рассыпали воз бриллиантов. Осветились мрачные контуры Нельской башни с запертыми на ночь воротами. — Какая прелесть! — воскликнула графиня де Ла Морлиер. — Маркиз, вы заслуживаете награды! — Зрелище еще впереди, — пообещал маркиз. И тогда между столпившимися монахами и костром возникла одинокая фигура стройного, совсем еще юного человека. Не обнажая шпаги, он громко крикнул, так, что его было слышно не только на обоих берегах Сены, но и во дворце с открытыми окнами: — Всякий, кто приблизится к костру, чтобы бросить в него книги Декарта, сам окажется в костре, познав гнев огня. Это говорю я, Сирано де Бержерак. Берегитесь! Замешательство среди монахов было недолгим. Первый из них, творя крестное знамение и шепча молитвы, приблизился к костру, неся книгу в вытянутой руке. Никто не мог дать себе отчета, каким образом он вдруг взмахнул своей сутаной, указывая ногами на звезды, и полетел в трескучее пламя костра. Раздался поросячий визг, и через мгновение живой факел ринулся от костра к группе монахов. — Какая прелесть! — снова воскликнула графиня с родинкой. — Ведь он, наверное, обжегся, бедненький! — Кто следующий? — крикнул Сирано. — Вы заметили, ваше преосвященство, он не обнажает шпаги. — Пока, пока, ваше величество. Я послал туда стражников. — Тогда другое дело! — И король шмыгнул носом. Меж тем группа монахов как по команде пришла в движение. Однако нельзя даже передать быстроту происходившего. Руки Сирано от неповторимых по молниеносности движений, да и сам он, мечущийся исчезающим призраком, может быть из-за капризов освещения, становились порой невидимыми, но сутаны, задранные ноги дерзнувших приблизиться к костру монахов мелькали в воздухе, а горящие факелы, вырываясь из костра, отчетливо видные, разбегались от «огня святого Эльма». В отсветах его пламени виднелись разбросанные по земле книги в кожаных переплетах. — Несчастные монахи, — заметил король. — Они страдают за веру, — ответил кардинал. Тогда на Сирано двинулась толпа, кстати сказать, наспех набранная монахами по трактирам. Сирано так и не обнажил шпаги, но, если бы индеец Августин мог видеть, как он расправлялся с полупьяными погромщиками, привыкшими к тому, чтобы их боялись, и понятия не имевшими о тех невероятных приемах Сынов Солнца, которые освоил Сирано, угощая каждого, кто приближался к нему, ударами «живой кувалды» в самые болевые места. Через некоторое время земля была усеяна корчащимися людьми, и берег Сены огласился криками и стонами. Но пьянчужки продолжали лезть на Сирано, отбрасываемые его ударами, падали на уже лежащих. А над поверженными в позе ягуара, готового к прыжку, стоял ученик индейца из племени майя, готовый отразить любое нападение. Но теперь в дело вступили стражники со шпагами в руках. Пришлось и Сирано выхватить шпагу. — Кажется, дело дошло до настоящего сражения, — заметил король. — Они убьют его! Столько на одного! — воскликнула графиня де Ла Морлиер. Баронесса де Невильет, затаив дыхание следившая за всем происходящим, упала в обморок. В обморок упали и еще две дамы из окружения королевы, но, убедившись, что никто не спешит к ним на помощь, пришли в себя и бросились снова к окну, где их места были уже заняты другими дамами. Стражники никак не могли сблизиться с Сирано, им мешали преграждавшие путь стонущие и корчащиеся от боли тела пьянчуг.М. Горький
 Но Сирано сам бросился на противников, и тут пошел в дело его излюбленный прием. В воздух, сверкая в отблесках костра, полетели одна за другой шпаги стражников, которые сразу же обращались в бегство. Пытавшихся оказать ему сопротивление офицеров Сирано неуловимым движением своей разящей шпаги ранил (хотя были и убитые!), отражая с непостижимой сноровкой все направленные на него удары. Впрочем, неверно думать, что он не получил ни одной раны. Камзол его покрылся кровавыми пятнами, но он продолжал биться с противниками, превосходя их в сноровке боя в несколько раз. Если говорить, что бой был неравным, то неравным он был обоюдно. Стражников было больше, но Сирано де Бержерак владел шпагой как никто из них.
Как и в большинстве сражений, исход боя решила паника.
Кто-то крикнул, что сам господь вложил в руку безумца его шпагу, ибо в булле папы не сказано о сожжении книг Декарта.
Монахи стали подбирать и уносить книги, не стараясь больше их сжечь, стражники подбирали убитых и раненых, число которых точно так и не было установлено, доходя в общей сложности до нескольких десятков, если считать и поверженных пьянчуг.
Полупьяная толпа разбежалась, стражники удалились.
Сирано остался один, готовый отразить новую попытку штурмовать костер святого Эльма.
— Это необыкновенно, маркиз! Я думала, что умру от волнения! — вздохнула графиня с родинкой. — Но я смертельно устала, будто сама билась с этими ничтожествами. Садитесь в карету и отвезите меня домой. Граф уехал с поручением его высокопреосвященства в армию. Садитесь, пока я не передумала и не пригласила этого неистового демона, который, быть может, кое в чем и вам не уступит.
— Как можно, графиня! Уж позвольте мне не допустить до вашей обворожительной родинки его безобразный клюв.
— Но все-таки вам придется привезти его ко мне на следующий же раут. Он совсем недурной поэт. Пока, пожалуйста, не ревнуйте. Я просто хочу посмотреть на него вблизи.
— Предпочел бы, чтобы вблизи вы смотрели лишь на меня.
С этими словами маркиз юркнул в карету, поручив свою лошадь слуге графини.
Карета графини поехала следом за каретой баронессы де Невильет, которая после обморока наконец пришла в себя.
Ришелье смешал шахматные фигуры и сказал королю:
— На этот раз, ваше величество, я проиграл не только вам.
— Но каков молодец! — усмехнулся король. — Впрочем, и мат вы получили изящный.
Невыспавшийся кардинал, войдя в свой кабинет, увидел на столе свою закладную записку, как он того пожелал накануне.
Ее положил туда стоявший перед ним Сирано в изорванном и покрытом пятнами камзоле.
Но Сирано сам бросился на противников, и тут пошел в дело его излюбленный прием. В воздух, сверкая в отблесках костра, полетели одна за другой шпаги стражников, которые сразу же обращались в бегство. Пытавшихся оказать ему сопротивление офицеров Сирано неуловимым движением своей разящей шпаги ранил (хотя были и убитые!), отражая с непостижимой сноровкой все направленные на него удары. Впрочем, неверно думать, что он не получил ни одной раны. Камзол его покрылся кровавыми пятнами, но он продолжал биться с противниками, превосходя их в сноровке боя в несколько раз. Если говорить, что бой был неравным, то неравным он был обоюдно. Стражников было больше, но Сирано де Бержерак владел шпагой как никто из них.
Как и в большинстве сражений, исход боя решила паника.
Кто-то крикнул, что сам господь вложил в руку безумца его шпагу, ибо в булле папы не сказано о сожжении книг Декарта.
Монахи стали подбирать и уносить книги, не стараясь больше их сжечь, стражники подбирали убитых и раненых, число которых точно так и не было установлено, доходя в общей сложности до нескольких десятков, если считать и поверженных пьянчуг.
Полупьяная толпа разбежалась, стражники удалились.
Сирано остался один, готовый отразить новую попытку штурмовать костер святого Эльма.
— Это необыкновенно, маркиз! Я думала, что умру от волнения! — вздохнула графиня с родинкой. — Но я смертельно устала, будто сама билась с этими ничтожествами. Садитесь в карету и отвезите меня домой. Граф уехал с поручением его высокопреосвященства в армию. Садитесь, пока я не передумала и не пригласила этого неистового демона, который, быть может, кое в чем и вам не уступит.
— Как можно, графиня! Уж позвольте мне не допустить до вашей обворожительной родинки его безобразный клюв.
— Но все-таки вам придется привезти его ко мне на следующий же раут. Он совсем недурной поэт. Пока, пожалуйста, не ревнуйте. Я просто хочу посмотреть на него вблизи.
— Предпочел бы, чтобы вблизи вы смотрели лишь на меня.
С этими словами маркиз юркнул в карету, поручив свою лошадь слуге графини.
Карета графини поехала следом за каретой баронессы де Невильет, которая после обморока наконец пришла в себя.
Ришелье смешал шахматные фигуры и сказал королю:
— На этот раз, ваше величество, я проиграл не только вам.
— Но каков молодец! — усмехнулся король. — Впрочем, и мат вы получили изящный.
Невыспавшийся кардинал, войдя в свой кабинет, увидел на столе свою закладную записку, как он того пожелал накануне.
Ее положил туда стоявший перед ним Сирано в изорванном и покрытом пятнами камзоле.
ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ
Воображение! Без этого качества нельзя быть ни поэтом, ни философом, ни умным человеком, ни мыслящим существом, ни просто человеком…Сражение Сирано де Бержерака со ста противниками кажется невероятным и выглядит легендой. Но ознакомление с подлинными документами и утверждениями как современников Сирано, так и более поздних исследователей, казалось бы, снимало сомнения. Такая невероятная битва действительно имела место у Нельской башни в Париже, и к ней следует отнестись не как к вымыслу, а как к подлинному событию. Расхождения между свидетельствами Э. Ростана в XIX веке и Николая Лебре, современника и друга Сирано, лишь в названном числе убитых и раненых в этой небывалой битве. Ростан допускал, что убитых было восемь, а раненых семнадцать. Николай же Лебре говорил лишь об одном убитом, не называя числа раненых. Однако во всех свидетельствах приводится смехотворный повод вооруженного столкновения с отрядом в сто человек — видите ли, Сирано хотел заступиться за своего пьянчужку-приятеля. Надо ли говорить, что такой пьянчужка вряд ли собрал бы против себя целых сто человек. Нет, дело было в ином, что тщательно скрывалось и что интересно было бы понять. Кстати, трудно представить себе и механизм подобного сражения — один против ста! И здесь на помощь приходит воображение, которое, основываясь на сопоставлении различных совпадений и неясностей, позволяет предложить нарисованную в романе картину, дающую ответ на все недоуменные вопросы. Очевидно, действительность была близка к самому фантастическому вымыслу.Д. Дидро
Часть третья КОЛОКОЛ СОЛНЦА
Власть Зла сразить Мечтой я в мир пришел!Кампанелла

Глава первая УДАЧИ НЕУДАЧНИКА
В этот день парижане были удивлены странным прохожим, нетвердой походкой пересекавшим весь город, его видели и близ кардинальского дворца, откуда он, видимо, вышел, и на улице Сан-Оноре, и на набережной Железного Лома, и на улице Могильщиков, бледного от потери крови, в изодранном камзоле, покрытом темными пятнами, слегка покачивающимся от усталости (или от непомерного с утра возлияния, что было неверно!). Сопровождаемый любопытными взглядами, он привлек к себе внимание и городских стражников, заподозривших в нем одного из тех неудачников, которые, потеряв веру во все на свете, начали промышлять разбоем, однако какая-то бумага, показанная стражам порядка, вызвала у них к прохожему столько же уважения, сколько и удивления. Надо ли говорить, что этим прохожим был наш Савиньон Сирано де Бержерак, получивший от кардинала Ришелье подтвержденное им поручение, суть которого была изложена в закладной записке, в дополнение к которой он получил для доставки в Рим и личное послание кардинала Ришелье к папе Урбану VIII. Ради этого Сирано и пошел на свой невероятный, неправдоподобный, но вошедший в историю как действительно совершенный (правда, якобы по другому, нелепому и незначительному, поводу!) подвиг, ставший легендой, вызывая спустя столетия улыбку. Однако Савиньону тогда было не до улыбок. Имея в кармане записку кардинала и его письмо в Ватикан, Сирано сознавал, что обязан вступить в роту гасконских гвардейцев капитана де Карбон-де-Кастель-Жалу, а для этого ему надлежало явиться в полк на лошади, в полном обмундировании и надлежащим образом вооруженным (по традиции тех времен!), а стоило все это по меньшей мере восемьсот, а то и тысячу ливров. В то же время в кармане у Сирано была та самая пустота, которой он посвятил свою «Оду о пустоте». Вся надежда оставалась на отца, отношения с которым, говоря уклончиво, у него не сложились, будучи взаимно неприязненными. Скупой отец уже давно отказал ему в деньгах, ссылаясь на то, что в коллеже Савиньон имеет стипендию, а после коллежа должен сам зарабатывать себе на жизнь, поскольку не избрал, по совету отца, подобно старшему брату, духовной карьеры. Савиньон не подчинился и не посвятил себя церкви, как не пошел и в услужение к кому бы то ни было, надеясь, что первая его комедия «Проученный педант», принятая к постановке в одном из парижских театров, принесет ему и славу, и деньги. На деле получилось совсем иначе. И он был не менее беден, чем крестьянин, которого вышвырнул с земли землевладелец, отказав в аренде. Д. Дидро скажет впоследствии: «Чем больше человек говорит, тем меньше он знает». О Сирано можно было бы заметить, что чем меньше у него было оснований для хорошего настроения, тем больше владела им веселость, непомерная гордыня и готовность к поединкам. Все это скорее всего скрывало внутренний мир неудачника, ибо даже легендарная шпага не провела его к обильному милостями двору, и если он и был принят в некоторых парижских гостиных, то, пожалуй, как забавный персонаж «с накладным носом», способный острым словом или скандалом развлечь скучающее общество. И все-таки Савиньон продолжал надевать на себя одолженную у друга Шапелля одежду и снова окунаться в осмеянную им пустоту парижского общества. Эти противоречия терзали Савиньона, который, однако, отверг даже предложение Ришелье остаться при нем дворцовым поэтом. Пожалуй, во всех этих несоответствиях и была необычная сущность Савиньона. И теперь ему не оставалось ничего другого, как явиться к отцу с повинной, ни перед кем не склонявшейся головой. И сделать это он должен был уже не для себя (что он с презрением отверг бы!), а ради освобождения томящегося в темнице любимого философа. Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак скупо жил на ренту с капитала, вырученного от продажи имения Мовьер, поскольку его деятельность нотариуса, имеющего звание королевского писца, на новом месте не принесла ему желанного дохода. Обыватели не приняли пришлого чужака, предпочитая своих старых нотариусов. Так что ни землевладение, ни нотариальное дело королевского писца, ни переезд в Париж не принесли господину Абелю успеха и не приблизили его к королевскому двору, что осталось его болезненной мечтой. Потому семья господина Абеля ютилась в убогой квартире, в которую вели показавшиеся Савиньону особенно грязными и обветшалыми ступени (ведь он только что сошел с мраморной лестницы кардинальского дворца!). В первой же тесной, полутемной комнате Савиньон увидел старшего брата Жозефа. Тот молился. При виде Савиньона в таком непотребном виде будущий служитель церкви поднялся с колен и воскликнул: — Умоляю тебя, вольнодумец, уйди, не береди сердце родителя нашего, не убеждай его в том, что окончательно опустился и погиб, дабы гореть в геенне огненной, отрицая божественную благость нашей святой католической церкви! — Умолкни, ханжа пустопослушная! — огрызнулся Савиньон. — Я не к тебе пришел за благословением, да ты еще и не стал аббатом, хотя по низости и лживости своей уже готов к этому званию. — Ты остался прежним с кощунством змеиного языка на устах! — смиренно вздохнул Жозеф. — Чего тебе надобно? Уйди, не показывайся хоть святой нашей матери на глаза. Попадешься отцу — он сам тебя выгонит! — Это мы еще посмотрим! — запальчиво произнес Савиньон, закидывая назад голову, словно намереваясь клюнуть кого-то своим непомерным носом. В комнату вбежала шестнадцатилетняя Жаннетта, тоненькая, легкая, порывистая, как ласточка, и бросилась Савиньону на шею. — Ах, Сави! — прошептала она ему на ухо. — У меня такое горе, такое горе! Как хорошо, что ты пришел! — Что случилось, сестренка? — весело спросил Савиньон. — Я ухожу, — с угрозой в голосе произнес Жозеф. — Не желаю слышать наветы на нашего благочестивого отца из уст этой девчонки. — Иди, иди, молись, замаливай грехи! Если не хватит своих, возьми мои! — насмешливо напутствовал его Савиньон. Возмущенный Жозеф, шепча молитвы, удалился. — Так что? — спросил Савиньон сестру. — Отец сказал, что не даст денег мне на приданое и чтобы я не помышляла о замужестве, а готовилась уйти в монастырь. — Он хочет упечь тебя туда? Жаннетта кивнула и заплакала, уткнувшись лицом в грудь брата. На звук голосов в комнату вошла мать. Время и заботы наложили отпечаток на ее когда-то красивое лицо, побелели черные волосы, наложили веера морщинок у глаз. Но при виде любимого, обиженного судьбой сына она сразу воспрянула и словно помолодела, любовно глядя на Савиньона. Как и дочь, она бросилась на шею сына, потом отступила на шаг, говоря: — Сави! Что за вид? Тебе надо переодеться. Ты не ранен? Пойдем ко мне. Голоден? Дать тебе хлеба, сыра? Как я счастлива тебя видеть, хотя, боюсь, не радость привела тебя сюда. О тебе ходят по Парижу такие слухи! Будто ты чуть ли не каждый день дерешься с кем-нибудь на шпагах! Как ты можешь? Ты ли это? — с упреком закончила она, уводя его к себе. — Мама! Я только защищаюсь от тех, кому моя внешность не дает покоя. Но, поверьте, я никого не убил на дуэли, даже не ранил серьезно. Я остался прежним, каким вы хотели меня видеть. — Жалеешь пойманных рыбок, вымениваешь их на перочинный ножик? Савиньон кивнул. — Вот это приходится тщательно скрывать, впрочем, как и многое другое. — И он усмехнулся. — Я знаю, я все знаю, что у тебя на сердце, догадываюсь, чего ты жаждешь, — говорила мать, подавая сыну отцовскую одежду. — От вас я ничего не хотел бы скрыть, и потому позвольте прочесть вам новый сонет. — Читай, Сави, я так люблю твои стихи и всегда гордилась ими. — Не знаю, можно ли гордиться мечтой о ЖЕЛАННОМ ЯДЕ, которым я, поверьте, словно весь пропитан. — Читай, я все пойму. Савиньон поцеловал матери руку и прочел стих:Служить бы рад,Прислуживаться тошно.А. С. Грибоедов
ЖЕЛАННЫЙ ЯД
Глава вторая ЗАКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Не помогает счастье нерадивым.Всадник на усталом, еле передвигающем ноги коне, оставив позади не одну сотню миль, остановился у ватиканских ворот. Конь поник головой, готовый упасть. Всадник соскочил на землю и любовно похлопал его по взмыленной шее. Граубинденец с длинной шпагой на боку направился к приехавшему с наглым, угрожающим видом. — Пакет! Его святейшеству папе! — по-французски произнес путник. — Чего бормочешь, будто сопли нос забили, — грубо по-немецки крикнул граубинденец. Приехавший не знаком был с этим языком, а страж, видимо, хоть и знал французский, как все швейцарцы, не желал на нем говорить. — Немедленно пропусти меня к его святейшеству, я — гонец самого его высокопреосвященства кардинала Ришелье. — А что мне твой Ришелье? — заявил страж, протягивая руку для приема обычного подношения, пусть и не слишком тяжелого кошелька, но приезжий или не понимал этого, или не желал понять. Запыленный, усталый с дороги, он не хотел терять времени и, считая, что упоминание кардинала Ришелье служит достаточным аргументом, отодвинул стража в сторону, чтобы пройти в ворота в ватиканской стене, но страж вздыбил усы, оскалил желтые зубы, прокричал немецкое ругательство и обнажил шпагу. Происшедшее затем надолго запомнилось граубинденцу. Шпага его неведомо как вылетела из его руки и взвилась к небу, потом со звоном ударилась о камень дороги. Испуганный страж, уверенный, что сейчас его проткнет шпагой проклятый француз, бросился бежать, взывая о помощи. К нему уже спешили два граубинденца, на ходу выхватывая шпаги. Приехавший тем же непостижимым приемом выбил одну за другой шпаги поочередно вступивших с ним в бой стражников, но не ранил ни одного из них. Теперь к нему с алебардами наперевес бежало еще несколько наемников. Но властный голос остановил их. К приехавшему направился офицер-швейцарец, командовавший охраной ватиканского дворца. Он видел необычайное искусство гонца и, имея на это свои виды, почтительно приветствовал его: — Прошу извинения, синьор, за доставленное вам беспокойство моими солдатами, но надо учесть, что именно за это им выплачивают жалованье из ватиканской казны. Так о чем вы не смогли договориться с моими молодцами, заставив теперь меня наложить на них серьезные взыскания? Денежные, конечно, ибо все мы работаем за деньги, и они служат нам и средством существования, и дисциплинарного воздействия. Какой смысл сажать их на гауптвахту и бесплатно кормить? Не лучше ли за неуменье фехтовать оштрафовать? Не так ли, синьор? Офицер говорил на французском языке с швейцарским акцентом, вставляя некоторые итальянские слова, когда дело касалось обращения к собеседнику. Приехавший сообщил, что привез срочное послание святейшему папе от кардинала Ришелье. — Из Франции? И вы проделали такой путь на этом бедняге коне? — Увы, я не мог менять лошадей, как это делают обычные гонцы. У меня поручение личное. — Мы договоримся с вами об этом, синьор. Я проведу вас в папские хоромы, при одном условии, однако, — если вы обучите меня своему превосходному приему обезоруживания противника. — Охотно, приятель! — согласился приехавший. — Где мы можем заняться уроком фехтования? — Во дворе за крепостной стеной, синьор, если это вас не слишком затруднит. — Лишь бы не затратить на это излишне много времени, господин офицер. — Я постараюсь быть прилежным учеником. Стражи-граубинденцы изумленно смотрели, как их офицер провел приехавшего, который, безусловно, не передал ему кошелька с монетами, они за этим следили, чтобы не прозевать своей доли. Оба прошли через приоткрытые для них ворота и сразу же обнажили шпаги. Граубинденцы, свободные от караула, сбежались посмотреть, что это будет за дуэль. Но дуэли, оказывается, не предполагалось. Офицер был обезоружен при первом же скрещении шпаг. Затем началось скрупулезное обучение приему. Офицер прикрикнул на своих подчиненных, чтобы они, несмотря на святое место, убирались ко всем чертям. Он не собирался приобщать их к секрету, которым хотел овладеть. Офицер оказался смышленым. Впрочем, выбить шпагу из железной руки своего учителя он все же не смог, но, подозвав к себе одного из своих солдат, разоружил его, едва тот выхватил по его приказу шпагу. Учитель похвалил своего ученика и дал ему еще несколько советов, после чего они вдвоем поднялись в ватиканский дворец. — Меня зовут Вильгельм Бернард, я пока служу его святейшеству, чтобы войти в наследство. Буду владеть заемной конторой. Если вам понадобится взаймы некоторая сумма, буду к вашим услугам. — Я благодарю вас, господин лейтенант. Я слишком беден, чтобы отдавать долги, и слишком горд, чтобы брать взаймы без отдачи. — Как? Неужели кардинал Ришелье так мало платит вам? — Он ничего не платит мне, дорогой Бернард, хотя я и выполняю его поручение как гвардеец роты гасконцев господина де Карбон-де-Кастель-Жалу, куда обязан явиться после выполнения поручения кардинала. И солдатского жалованья пока не получал. — Обратите внимание, дорогой гвардеец, на эту мозаику, я сказал бы, замечательного мастера, которому не зря доверили дело украшения дворца. Его имя Микеланджело, говорят, веселый был человек и вместе с тем неуживчивый. Разные у людей характеры, не правда ли? Вот я сразу увидел в вас человека достойного, едва вы вышибли шпаги у троих моих солдат. Я решил, что иметь дело с вами выгодно. Не правда ли? — Где же я смогу вручить святейшему папе Урбану VIII послание его высокопреосвященства кардинала Ришелье? — Кардинал Ришелье высок у вас во Франции. Святой престол по высоте своей недосягаем, дорогой мой гвардеец. Я проведу вас тоже к его высокопреосвященству, такому же, как и ваш Ришелье, монсиньору кардиналу Антонио Спадавелли, состоящему при особе святейшего папы. — Но я должен передать послание в руки самого папы. — Надеюсь, вас не снабдили посланием к самому господу богу? Верьте, я знаю, что делаю, ведя вас к монсиньору Спадавелли. Комната, в которую ввел офицер приезжего, казалась тесной по сравнению с пройденными ими богатыми залами и отличалась скромным убранством. — Монсиньор, — обратился к сгорбленному старику швейцарец. — К вам прибыл с письмом к его святейшеству гонец от кардинала Ришелье. — Ришелье? Вот как? — удивился кардинал. — Давайте. Как вас зовут, гонец? — Сирано де Бержерак, ваше высокопреосвященство. Но послание я обязан передать из рук в руки его святейшеству. — Вы внушаете мне уважение и доверие, господин Сирано де Бержерак. Хотел бы, чтобы вы ответили мне тем же. Послание кардинала Ришелье будет доведено до сведения его святейшества немедленно. — Я верю вам, ваше высокопреосвященство, — на прекрасной латыни произнес Сирано, передавая запечатанный личной печатью Ришелье пакет. Кардинал Спадавелли вскрыл его, пробежал глазами и не мог подавить своего волнения. — Прошу простить меня, сын мой, — обратился тоже по-латыни кардинал к Сирано, — но содержание этого письма настолько касается и меня лично, что я не могу не выразить вам особой благодарности. Однако я опасаюсь за вашу безопасность. Увы, но в Папской области слишком много испанских войск, а ваша Франция вступила в войну на стороне государств, противостоящих Испании и Габсбургам. — Любому, кто заинтересуется мной из числа испанских солдат или офицеров, придется посчитаться с моей шпагой! — запальчиво воскликнул Сирано. — Нет, сын мой, — перешел на французский язык кардинал. — Для вашей же безопасности я попрошу вас передать свою шпагу вот этому славному офицеру, которому я поручу препроводить вас, как задержанного папской охраной, до дома французского посланника господина Ноаля. Ждите меня там. Вам понятна ваша задача, господин лейтенант Бернард? — Совершенно ясна, монсиньор! — отозвался швейцарец. — Я бережно доставлю в сопровождении моих солдат гонца кардинала Ришелье до резиденции французского посланника. Ни один испанец не заинтересуется, что мы делаем. — Поверьте, ваше высокопреосвященство, — снова перешел на латынь Сирано, — это совершенно не похоже на меня, но я вверяюсь вам. — Это не останется безответным, — произнес кардинал, жестом руки отпуская обоих. — Давайте вашу шпагу, дорогой де Бержерак. Пусть она будет залогом нашей дружбы, — предложил лейтенант Бернард. Сирано без всякой охоты отдал шпагу вместе с перевязью своему новому знакомому и ученику, который лет на десять был старше его. Уже через несколько минут оба они ехали рядом на лошадях, сопровождаемые эскортом ватиканских стражников в двухцветной форме. — Знаете, де Бержерак, я решил не служить больше в наемниках по двум причинам. — Буду рад узнать, — отозвался Сирано. — Я получил наследство, а к тому же прочитал сонет, написанный каким-то узником и доставленный мне тюремным стражем из нашего кантона, который многое изменил в моих взглядах. Я вам прочту сонет.Софокл
ШВЕЙЦАРЦАМ И ГРАУБИНДЕНЦАМ
«Уполномочиваю гвардейца гасконской роты королевской гвардии господина Сирано де Бержерака оказать отцу Фоме Кампанелле по прибытии его во Францию содействие, гостеприимство от имени французского правительства, заверив отца Фому, что он получит достойное его убежище, уважение и пенсию».Кампанелла, отлично владея и французским языком, дважды перечитал эту «закладную записку». Потом передал ее кардиналу Спадавелли, который тоже с интересом ознакомился с ней. — Вот видишь, Томмазо. Сам Ришелье ждет тебя, назначив сопровождающим этого славного гвардейца. — Я, право, не пойму, учитель. Ведь я недавно снова провинился, встав на защиту Галилея. — Да, ты хотел быть большим католиком, чем сам папа. Взялся защищать право Галилея высказывать ересь о вращении Земли вокруг Солнца, а он, Галилей, сам же от этой пагубной выдумки Коперника отказался. — За каждым, мой учитель, нужно признать право на высказывание в науке любой мысли и отказа от нее. — Итак, молодой человек, вручаю вам, как пожелал того сам Ришелье, заботу о Томмазо Кампанелле. Я вынужден покинуть вас. — Надеюсь, все устроится, монсиньор, — сказал Ноаль. — Мой дом, как дом посланника, неприкосновенен. — Мой юный друг, — обратился Кампанелла к Сирано. — Я хотел бы вас поздравить с доверием, оказанным вам Ришелье, его забота о моей судьбе несказанно меня волнует. Сирано де Бержерак ему не сказал, что записка Ришелье была «закладной», продиктованной им, и право воспользоваться ею было отвоевано в бою со ста противниками. Он лишь почтительно смотрел на Кампанеллу, который был для него живой легендой.Ришелье
Глава третья ДВА ГРОБА
Яд предательства хуже змеиного.Синьор Бенито Парца, начальник тюрьмы, едва из ее ворот выехала карета кардинала с «вечным узником», засеменил через улицу к стоявшему неподалеку каменному дому с колоннами, где разместился командир испанского гарнизона в вечном городе Педро Гарсиа, недавно смещенный испанским королем с поста губернатора Новой Испании, впав в немилость из-за неспособности выкачивать из колонии прежние потоки золота. Пониженный в должности и уязвленный этим, генерал Гарсиа готов был выместить свое настроение на местных жителях, которые в его глазах ничем не были лучше заокеанских индейцев, хоть и выглядели белолицыми и считались католиками. К испанским войскам, во всяком случае, они должного почтения, как и индейцы, не проявляли, оскорбляя тем испанскую корону. Бенито Парца так настойчиво добивался свидания с генералом, что обозлил дежурного офицера, каковым оказался знакомый нам уже капитан Лопес, взятый бывшим губернатором с собой как наиболее преданный человек. Правда, его надо было держать подальше от Андалусии и Генуи, где герою Новой Испании все еще угрожали былые вынесенные ему приговоры уголовного суда. Но, раздраженный подобострастным итальяшкой, Лопес все же понял, что речь идет об антииспанском заговоре, в котором принимает участие когда-то брошенный в тюрьму по тому же поводу узник и освободивший его кардинал Спадавелли. Пришлось допустить доносчика к генералу. Тучный генерал Гарсиа готовился обедать и скорчил недовольную гримасу на своем оплывшем лице, услышав, что ему предстоит заняться делами на голодный желудок. Желая скорее отделаться от назойливого итальянца, он приказал ввести его. — О, синьор генерал! Да продлятся ваши дни, как и дни его величества короля Испании, самого католического из всех королей! — заискивающе начал Парца. — Дальше, дальше! — не отвечая на приветствие, буркнул генерал, плохо разобравшись в испорченной испанской речи Парца. Капитан Лопес, долго живший в Генуе, где оставил уже известный нам след, взялся переводить невнятную болтовню начальника тюрьмы. Оказывается, в его тюрьме под видом посещения вечного узника, монаха Кампанеллы, еще тридцать лет назад готовившего восстание против испанской короны и приговоренного к пожизненному заключению, побывали посетители, опять же заговорщики против благодетельных испанских войск, помогавших святейшему папе поддерживать в его области порядок. Но эти заговорщики вовлекли в свой заговор даже кардинала Спадавелли, приближенного к самому папе, и этот кардинал умудрился обманом выцарапать у доверчивого святейшего отца всей католической церкви помилование закоренелому заговорщику, который вместе с коварным монсиньором Спадавелли покинул теперь тюрьму, чтобы поднять восстание в Папской области против испанцев. Генерал Педро Гарсиа отличался вспыльчивостью. Сообщение Бенито Парца вывело его из себя, и у него даже разлилась желчь, что сказалось на пожелтевшем от ярости лице. — Капитан Лопес! — хрипло скомандовал он. — Тотчас узнай, куда монсиньор кардинал запрятал преступника, обманувшего самого папу. Наш долг — оказать святейшему папе услугу и тотчас пресечь все подлые замыслы заговорщиков. — Они собирались у него в камере, синьор генерал, под видом составления запрещенных святой церковью гороскопов. Это близко к колдовству, а за него, как известно, карают не тюрьмой, а костром, синьор генерал. — Пусть перестанет болтать! — крикнул генерал Лопесу. — Вели ему сказать, куда спрятали монаха. — Мне удалось подслушать, как кардинал приказал кучеру кареты ехать к французскому посланнику. — Ага! — воскликнул генерал, так надуваясь от ярости, что мундир затрещал на животе. — Запрятать негодяя в логовище исконного врага Испании, которая ведет с Францией войну! Капитан Лопес, приказываю взять солдат не только со шпагами, но и с мушкетами и без лишних разговоров ворваться в дом, где засел преступник. При сопротивлении действовать, как в Мексике. Ты понял? — Понял все, мой генерал! Гарсиа, поморщившись, бросил Парца кошелек, из которого предварительно переложил в карман половину монет. Начальник тюрьмы, низко кланяясь и пятясь, стал удаляться, бормоча благодарность от имени всех своих тринадцати детей. Генерал сел обедать, повязал салфетку, но аппетит пропал от одной только мысли, что надо сообщить святейшему папе о принятых мерах, упомянув при том имя кардинала Спадавелли. Но как это сделать, он решить не мог, ибо не привык в Новой Испании к дипломатическим уверткам, действуя лишь по своему усмотрению. — Эй, Лопес! Ты не ушел? На случай, если придется извиняться перед папой, учти, что монах не должен быть «схвачен». — Как? — удивился заглянувший вновь к генералу Лопес. — Ты вконец оглупел! Как расправлялся ты со жрецами? — Понял все, — поклонился Лопес, помахав перед собой шляпой с пером, и вышел. Конный отряд испанцев под командованием капитана Лопеса в составе десяти человек промчался по улицам Рима, разгоняя испуганных прохожих и переходящих местами улицу гусей, которые, как известно, когда-то спасли Рим. Сейчас они сами, подобно осаждавшим тогда Рим варварам, обращались в бегство, раскрывая крылья и громко гогоча. У дома французского посланника отряд остановился и спешился. Лопес размещал солдат группами. Увидев заросли кустарника напротив дома, он приказал там засесть двоим солдатам с мушкетами и взять на прицел дверь и окна, если преступник попытается спастись бегством. Сам Лопес в шляпе со свисающими полями, которые защищали его от тропического солнца в Америке, с цветастым пером птицы кетсаль из сельвы, резко отличающим его от всех остальных испанских воинов, решительно взошел на крыльцо и постучал в дверь ногой, встав к ней спиной. Он не успел среагировать на мгновенно открытые створки и не увернулся от весьма чувствительного пинка, который он получил ниже спины.Восточная мудрость
 Капитан невольно пробежал, теряя равновесие, несколько шагов, пересчитав ступеньки крыльца, и растянулся в пыли под громкий хохот не только вышедшего на крыльцо человека, но и своих же собственных солдат.
Вне себя от ярости, капитан вскочил на ноги, обнажил шпагу и бросился к обидчику, который тоже с обнаженной шпагой стоял в проеме открытой двери.
— Прочь с дороги! — заорал Лопес. — Именем испанского короля я требую выдачи преступного монаха Кампанеллы.
— Эта территория, сеньор испанец, по международным законам, принадлежит не испанскому, а французскому королю, именем которого я предлагаю вам убраться отсюда к дьяволу.
— Мне плевать на твои международные законы. По велению моего короля я и мои солдаты войдем в дом, кому бы он ни принадлежал, и выволочем оттуда заговорщика.
— Вам придется убедиться в своей неспособности пройти мимо меня, сеньор! — на приличном испанском языке продолжил незнакомец.
— Кто ты такой, — заорал Лопес, — чтобы вставать у меня на дороге?
— Тот самый камень, о который вы споткнетесь, сеньор.
Сзади защитника дома показался французский посланник.
— Сеньоры! — воскликнул он тоже по-испански, ибо, как дипломат, знал несколько языков. — Умоляю вас не прибегать к силе оружия. Все мы одинаково чтим власть святейшего папы Урбана VIII, и я честью дворянина заверяю вас, что в моем доме нет никого, появившегося там помимо воли святейшего папы.
— А я тебе покажу, где ожидают тебя и твой папа, и твоя мама, которые наверняка уже сдохли! — закричал Лопес, одновременно давая сигнал солдатам штурмовать дверь.
Сам он ринулся на защитника дома вперед всех и первый получил отпор, еще не понимая, что произошло. Он стоял перед молодым французом без шпаги в руке, которой он только что собирался проткнуть наглеца.
Лопес непроизвольно отскочил в сторону, давая солдатам дорогу к противнику.
Но противник сам перешел в атаку и уже не применял того излюбленного приема, с которого когда-то начал в Париже весьма блистательную карьеру известного дуэлянта.
Первого же солдата молниеносным, неуловимым движением он сразил ударом в грудь, и тот со стоном повалился к его ногам.
Второй солдат был также поражен ударом шпаги, получив тяжелое ранение.
Третий упал рядом.
Лопес меж тем подобрал свою шпагу, не решаясь ринуться в бой. Мексиканский сподвижник Лопеса капрал Педро Карраско, державший лошадей, был последним, если не считать двух засевших в засаде солдат, и также не решился, несмотря на свою былую карьеру тореадора, сразиться со страшным противником.
Капитан Лопес оглянулся на кусты и дал сигнал.
Раздались почти одновременно два выстрела, дымки ружей слились в один, а стоящий на крыльце Сирано де Бержерак с пронзенной навылет грудью замертво повалился назад на французского посланника, который вежливо посторонился, дав ему упасть навзничь.
— Вперед! За монахом! — крикнул Лопес и ринулся в дом, оттолкнув изящного французского посланника.
Капрал Карраско ворвался в дверь следом за капитаном.
По улице вскачь неслись запряженные цугом кони, карета, громыхая огромными колесами, подпрыгивала на неровных камнях.
Трудно было поверить, что столь старый кардинал может распахнуть дверцу и на ходу выскочить из кареты и, держа крест в поднятой руке, взбежать на крыльцо.
— Господом богом заклинаю от имени святейшего папы Урбана VIII прекратить насилие!
Как ни был Лопес воспитан в духе силы, жестокости и произвола, но вид старца с поднятым крестом, в развевающейся мантии с алой подкладкой остановил его.
Он крикнул, чтобы капрал вернулся.
— Монсиньор! Мы только защищались. Видите — шесть убитых. Мы лишь воздали должное убийце, — говорил Лопес, кланяясь кардиналу, как он привык делать в церкви перед мексиканским епископом.
Смущенный капрал вышел из дома и, прежде чем вложить шпагу в ножны, вытер ее о край камзола.
Капитан переглянулся с ним.
Сидевшие в засаде солдаты с мушкетами вышли, не успев перезарядить ружья. Они стали за ноги стаскивать к коням убитых, хотя двое подавали признаки жизни, и перебрасывали их через седла лошадей, на которых недавно прискакали сюда.
Капрал Карраско подвел капитану его коня.
— Дело сделано, — сказал Лопес, — скачем к генералу Гарсиа.
— Вашему генералу придется явиться на аудиенцию к святейшему папе Урбану VIII, которую он назначает ему завтра в восемь часов утра, сеньор капитан! — тоном приказа произнес кардинал.
Лопес поклонился, хотя с большим удовольствием пронзил бы и этого дряхлого жреца своей доброй шпагой, но кто знает, как это может обернуться. Здесь все-таки не славная Америка, где знаешь, как надо себя вести.
Солдаты повезли павших на поле боя, а капитан Лопес помчался к тюрьме, напротив которой квартировал генерал Педро Гарсиа, не предвидя с его стороны особых похвал, хотя собирался доложить ему, что «дело сделано», с монахом покончено. По крайней мере, он так понял своего побывавшего в доме капрала Карраско, с кем вместе они захватили когда-то сына вождя племени майя Августина-Кетсаля.
Когда Лопес докладывал генералу о сражении, то единственный защитник дома у него превратился в засевший там отряд отборных французских солдат, которых удалось одолеть благодаря его военной хитрости, связанной с засадой и применением мушкетов, взять которые мудро приказал генерал.
— Все-таки пуля, мой генерал, сильнее шпаги, — закончил он свой доклад, в котором упомянул, что все защитники дома, а также заговорщик-монах, бежавший из тюрьмы, уничтожены.
Появление кардинала он изобразил как Злой Рок, помешавший ему из боязни за его превосходительство генерала Педро Гарсиа должным образом отметить победу.
На следующее утро в восемь часов страдающему одышкой генералу Гарсиа пришлось подняться по лестнице ватиканского дворца и, сдерживая тяжелое дыхание, выслушать стоя наставительные упреки святейшего папы Урбана VIII, на аудиенцию которого он в других условиях и не смел рассчитывать.
Вернувшись от папы, генерал Гарсиа слег, он был почти уверен, что ватиканский гонец уже скачет в Испанию с посланием папы к королю.
И был прав. Гонец в двухцветной форме скакал, меняя лошадей, чтобы не морским, а сухопутным путем, через Апеннины, добраться до Испании.
Пока скакал гонец в одном направлении и другой гонец с ответом испанского короля и приказом по испанскому гарнизону в Вечном городе еще не выехал на каравелле, в Риме, по его улицам, двигалась печальная процессия.
Ее возглавлял сам кардинал Спадавелли, правда, почему-то не в полном облачении, подобающем в таком случае, и не пешком, а в карете, за которой двигались профессиональные плакальщицы, оглашая улицы вечного города отработанными рыданиями, затем граубинденцы во главе с лейтенантом Вильгельмом Бернардом несли два гроба. Процессию замыкали ехавшие в карете французский посланник Ноаль в самой парадной форме с черной повязкой на рукаве камзола, отороченной черными кружевами, и его друг писатель Ноде, роль которого в двигающейся по улицам Рима процессии была отнюдь не последней.
Похоронная процессия, как могло со стороны показаться, направлялась не на кладбище, а вышла на Аппиеву дорогу, которая была знаменита не только своей древностью, впервые вымощенная камнем во времена Аппия Клавдия, но и тем, что после подавления восстания рабов и гладиаторов на всем ее протяжении расставлены были столбы с распятыми на них соратниками Спартака. Она вела куда-то до Капуи и дальше до древней Брундизии. Однако процессия, миновав старинные мраморные виллы, перед пересечением с второстепенной, уже современной дорогой остановилась. Плакальщицы были отпущены, карета кардинала, выполнившая свой долг, заставляя встречных испанских солдат сторониться, вернулась назад к Ватикану, а граубинденцы вместе со своим лейтенантом, сопровождаемые каретой французского посланника, свернули на запад, выйдя к Тибру. Дальше странная процессия двигалась вдоль его берега до самого устья, где еще задолго до порта остановилась перед невзрачной египетской фелюгой.
Здесь господин Ноде, очевидно уже знавший владельца фелюги, старого египтянина, командовавшего двумя темнокожими матросами, возможно продолжавшими считать себя его невольниками, вступил с египтянином в громкий, переходящий в крик разговор, который больше всего напоминал торг. Речь шла о том, чтобы доставить два гроба с усопшими в сопровождении господина Ноде в Тулон.
К первоначально назначенной сумме в тысячу пистолей египтянин, вспоминая о трех своих сварливых женах и несметном числе принесенных ему ими детей, просил надбавки «за запах», который будет исходить от гробов во время пути.
Ноде, весело поблескивая озорными глазами, склонный к шуткам, несмотря на взятую на себя печальную обязанность, договорился с египтянином, что надбавит к назначенной сумме еще столько же, если аллах подскажет тому то же, что и его обоняние.
Гробы были водружены на фелюгу, господин Ноде перешел на борт суденышка, негры-матросы поставили паруса, а посланник Франции в Папской области господин Ноаль еще долго стоял на берегу Тибра, почти у самого его устья, наблюдая, как становятся все меньше и меньше косой и четырехугольный, оба паруса фелюги.
Лейтенант Вильгельм Бернард с непроницаемым лицом ждал, когда господин посланник перестанет махать кружевным платком и сядет в карету, чтобы с отрядом граубинденцев проводить его обратно в Рим во избежание новых столкновений с недружелюбными Франции испанцами.
Карете Ноаля пришлось ехать шагом, ибо только у лейтенанта Бернарда была лошадь, остальные же граубинденцы были пешими.
Спустя несколько дней в порт в устье Тибра, ловко лавируя, вошла испанская каравелла. С фелюгой она разминулась, очевидно, далеко в море.
На ней прибыл вместе со своим конем гонец его католического величества короля Испании с приказом о смещении генерала Гарсиа с поста начальника испанского гарнизона в Папской области и переводе его в действующую армию в районе Арраса, где ему придется вступить в военные действия с французами.
Генерал Педро Гарсиа, проклиная тот миг, когда к нему явился этот доносчик из римской тюрьмы, потребовал к себе капитана Лопеса и объявил тому, что тот будет сопровождать его в этот проклятый Аррас, где придется столкнуться с противником более опасным, чем ничтожные индейцы его любимой Мексики, готовые признать их за сынов божьих. Эти французишки скорее сочтут их, испанцев, исчадиями ада, куда рады будут их всех отправить.
Капитан Лопес без всякого энтузиазма пошел собираться в дальний путь, решив взять с собой своего верного капрала Карраско. Все-таки тот умел, когда надо, использовать свою шпагу не только против быков.
Об отправке двух гробов во Францию Лопес уже знал и успел сообщить об этом со слов доносчиков генералу Гарсиа, но того даже это сообщение мало утешило, хотя подтверждало успех проведенной по его приказу операции против заговорщиков.
Капитан невольно пробежал, теряя равновесие, несколько шагов, пересчитав ступеньки крыльца, и растянулся в пыли под громкий хохот не только вышедшего на крыльцо человека, но и своих же собственных солдат.
Вне себя от ярости, капитан вскочил на ноги, обнажил шпагу и бросился к обидчику, который тоже с обнаженной шпагой стоял в проеме открытой двери.
— Прочь с дороги! — заорал Лопес. — Именем испанского короля я требую выдачи преступного монаха Кампанеллы.
— Эта территория, сеньор испанец, по международным законам, принадлежит не испанскому, а французскому королю, именем которого я предлагаю вам убраться отсюда к дьяволу.
— Мне плевать на твои международные законы. По велению моего короля я и мои солдаты войдем в дом, кому бы он ни принадлежал, и выволочем оттуда заговорщика.
— Вам придется убедиться в своей неспособности пройти мимо меня, сеньор! — на приличном испанском языке продолжил незнакомец.
— Кто ты такой, — заорал Лопес, — чтобы вставать у меня на дороге?
— Тот самый камень, о который вы споткнетесь, сеньор.
Сзади защитника дома показался французский посланник.
— Сеньоры! — воскликнул он тоже по-испански, ибо, как дипломат, знал несколько языков. — Умоляю вас не прибегать к силе оружия. Все мы одинаково чтим власть святейшего папы Урбана VIII, и я честью дворянина заверяю вас, что в моем доме нет никого, появившегося там помимо воли святейшего папы.
— А я тебе покажу, где ожидают тебя и твой папа, и твоя мама, которые наверняка уже сдохли! — закричал Лопес, одновременно давая сигнал солдатам штурмовать дверь.
Сам он ринулся на защитника дома вперед всех и первый получил отпор, еще не понимая, что произошло. Он стоял перед молодым французом без шпаги в руке, которой он только что собирался проткнуть наглеца.
Лопес непроизвольно отскочил в сторону, давая солдатам дорогу к противнику.
Но противник сам перешел в атаку и уже не применял того излюбленного приема, с которого когда-то начал в Париже весьма блистательную карьеру известного дуэлянта.
Первого же солдата молниеносным, неуловимым движением он сразил ударом в грудь, и тот со стоном повалился к его ногам.
Второй солдат был также поражен ударом шпаги, получив тяжелое ранение.
Третий упал рядом.
Лопес меж тем подобрал свою шпагу, не решаясь ринуться в бой. Мексиканский сподвижник Лопеса капрал Педро Карраско, державший лошадей, был последним, если не считать двух засевших в засаде солдат, и также не решился, несмотря на свою былую карьеру тореадора, сразиться со страшным противником.
Капитан Лопес оглянулся на кусты и дал сигнал.
Раздались почти одновременно два выстрела, дымки ружей слились в один, а стоящий на крыльце Сирано де Бержерак с пронзенной навылет грудью замертво повалился назад на французского посланника, который вежливо посторонился, дав ему упасть навзничь.
— Вперед! За монахом! — крикнул Лопес и ринулся в дом, оттолкнув изящного французского посланника.
Капрал Карраско ворвался в дверь следом за капитаном.
По улице вскачь неслись запряженные цугом кони, карета, громыхая огромными колесами, подпрыгивала на неровных камнях.
Трудно было поверить, что столь старый кардинал может распахнуть дверцу и на ходу выскочить из кареты и, держа крест в поднятой руке, взбежать на крыльцо.
— Господом богом заклинаю от имени святейшего папы Урбана VIII прекратить насилие!
Как ни был Лопес воспитан в духе силы, жестокости и произвола, но вид старца с поднятым крестом, в развевающейся мантии с алой подкладкой остановил его.
Он крикнул, чтобы капрал вернулся.
— Монсиньор! Мы только защищались. Видите — шесть убитых. Мы лишь воздали должное убийце, — говорил Лопес, кланяясь кардиналу, как он привык делать в церкви перед мексиканским епископом.
Смущенный капрал вышел из дома и, прежде чем вложить шпагу в ножны, вытер ее о край камзола.
Капитан переглянулся с ним.
Сидевшие в засаде солдаты с мушкетами вышли, не успев перезарядить ружья. Они стали за ноги стаскивать к коням убитых, хотя двое подавали признаки жизни, и перебрасывали их через седла лошадей, на которых недавно прискакали сюда.
Капрал Карраско подвел капитану его коня.
— Дело сделано, — сказал Лопес, — скачем к генералу Гарсиа.
— Вашему генералу придется явиться на аудиенцию к святейшему папе Урбану VIII, которую он назначает ему завтра в восемь часов утра, сеньор капитан! — тоном приказа произнес кардинал.
Лопес поклонился, хотя с большим удовольствием пронзил бы и этого дряхлого жреца своей доброй шпагой, но кто знает, как это может обернуться. Здесь все-таки не славная Америка, где знаешь, как надо себя вести.
Солдаты повезли павших на поле боя, а капитан Лопес помчался к тюрьме, напротив которой квартировал генерал Педро Гарсиа, не предвидя с его стороны особых похвал, хотя собирался доложить ему, что «дело сделано», с монахом покончено. По крайней мере, он так понял своего побывавшего в доме капрала Карраско, с кем вместе они захватили когда-то сына вождя племени майя Августина-Кетсаля.
Когда Лопес докладывал генералу о сражении, то единственный защитник дома у него превратился в засевший там отряд отборных французских солдат, которых удалось одолеть благодаря его военной хитрости, связанной с засадой и применением мушкетов, взять которые мудро приказал генерал.
— Все-таки пуля, мой генерал, сильнее шпаги, — закончил он свой доклад, в котором упомянул, что все защитники дома, а также заговорщик-монах, бежавший из тюрьмы, уничтожены.
Появление кардинала он изобразил как Злой Рок, помешавший ему из боязни за его превосходительство генерала Педро Гарсиа должным образом отметить победу.
На следующее утро в восемь часов страдающему одышкой генералу Гарсиа пришлось подняться по лестнице ватиканского дворца и, сдерживая тяжелое дыхание, выслушать стоя наставительные упреки святейшего папы Урбана VIII, на аудиенцию которого он в других условиях и не смел рассчитывать.
Вернувшись от папы, генерал Гарсиа слег, он был почти уверен, что ватиканский гонец уже скачет в Испанию с посланием папы к королю.
И был прав. Гонец в двухцветной форме скакал, меняя лошадей, чтобы не морским, а сухопутным путем, через Апеннины, добраться до Испании.
Пока скакал гонец в одном направлении и другой гонец с ответом испанского короля и приказом по испанскому гарнизону в Вечном городе еще не выехал на каравелле, в Риме, по его улицам, двигалась печальная процессия.
Ее возглавлял сам кардинал Спадавелли, правда, почему-то не в полном облачении, подобающем в таком случае, и не пешком, а в карете, за которой двигались профессиональные плакальщицы, оглашая улицы вечного города отработанными рыданиями, затем граубинденцы во главе с лейтенантом Вильгельмом Бернардом несли два гроба. Процессию замыкали ехавшие в карете французский посланник Ноаль в самой парадной форме с черной повязкой на рукаве камзола, отороченной черными кружевами, и его друг писатель Ноде, роль которого в двигающейся по улицам Рима процессии была отнюдь не последней.
Похоронная процессия, как могло со стороны показаться, направлялась не на кладбище, а вышла на Аппиеву дорогу, которая была знаменита не только своей древностью, впервые вымощенная камнем во времена Аппия Клавдия, но и тем, что после подавления восстания рабов и гладиаторов на всем ее протяжении расставлены были столбы с распятыми на них соратниками Спартака. Она вела куда-то до Капуи и дальше до древней Брундизии. Однако процессия, миновав старинные мраморные виллы, перед пересечением с второстепенной, уже современной дорогой остановилась. Плакальщицы были отпущены, карета кардинала, выполнившая свой долг, заставляя встречных испанских солдат сторониться, вернулась назад к Ватикану, а граубинденцы вместе со своим лейтенантом, сопровождаемые каретой французского посланника, свернули на запад, выйдя к Тибру. Дальше странная процессия двигалась вдоль его берега до самого устья, где еще задолго до порта остановилась перед невзрачной египетской фелюгой.
Здесь господин Ноде, очевидно уже знавший владельца фелюги, старого египтянина, командовавшего двумя темнокожими матросами, возможно продолжавшими считать себя его невольниками, вступил с египтянином в громкий, переходящий в крик разговор, который больше всего напоминал торг. Речь шла о том, чтобы доставить два гроба с усопшими в сопровождении господина Ноде в Тулон.
К первоначально назначенной сумме в тысячу пистолей египтянин, вспоминая о трех своих сварливых женах и несметном числе принесенных ему ими детей, просил надбавки «за запах», который будет исходить от гробов во время пути.
Ноде, весело поблескивая озорными глазами, склонный к шуткам, несмотря на взятую на себя печальную обязанность, договорился с египтянином, что надбавит к назначенной сумме еще столько же, если аллах подскажет тому то же, что и его обоняние.
Гробы были водружены на фелюгу, господин Ноде перешел на борт суденышка, негры-матросы поставили паруса, а посланник Франции в Папской области господин Ноаль еще долго стоял на берегу Тибра, почти у самого его устья, наблюдая, как становятся все меньше и меньше косой и четырехугольный, оба паруса фелюги.
Лейтенант Вильгельм Бернард с непроницаемым лицом ждал, когда господин посланник перестанет махать кружевным платком и сядет в карету, чтобы с отрядом граубинденцев проводить его обратно в Рим во избежание новых столкновений с недружелюбными Франции испанцами.
Карете Ноаля пришлось ехать шагом, ибо только у лейтенанта Бернарда была лошадь, остальные же граубинденцы были пешими.
Спустя несколько дней в порт в устье Тибра, ловко лавируя, вошла испанская каравелла. С фелюгой она разминулась, очевидно, далеко в море.
На ней прибыл вместе со своим конем гонец его католического величества короля Испании с приказом о смещении генерала Гарсиа с поста начальника испанского гарнизона в Папской области и переводе его в действующую армию в районе Арраса, где ему придется вступить в военные действия с французами.
Генерал Педро Гарсиа, проклиная тот миг, когда к нему явился этот доносчик из римской тюрьмы, потребовал к себе капитана Лопеса и объявил тому, что тот будет сопровождать его в этот проклятый Аррас, где придется столкнуться с противником более опасным, чем ничтожные индейцы его любимой Мексики, готовые признать их за сынов божьих. Эти французишки скорее сочтут их, испанцев, исчадиями ада, куда рады будут их всех отправить.
Капитан Лопес без всякого энтузиазма пошел собираться в дальний путь, решив взять с собой своего верного капрала Карраско. Все-таки тот умел, когда надо, использовать свою шпагу не только против быков.
Об отправке двух гробов во Францию Лопес уже знал и успел сообщить об этом со слов доносчиков генералу Гарсиа, но того даже это сообщение мало утешило, хотя подтверждало успех проведенной по его приказу операции против заговорщиков.
Глава четвертая БОГ ТОТ, ПОКРОВИТЕЛЬ НАУК
Наука помогает нам в борьбе с фанатизмом в любом его проявлении, она помогает нам создать собственный идеал справедливости, ничего не заимствуя из ошибочных систем варварских традиций.Жозеф Ноде, французский писатель, стоял на борту фелюги, качаясь на волнах, и побаивался приступов морской болезни. Толстенький, благообразный, склонный, как истый француз, к юмору, он как бы противостоял самому себе, ибо расположен был к домашнему уюту, покою, а никак не к приключениям собственных героев, что теперь ему предстояло претерпеть самому. Берег Италии скрывался за горизонтом, когда хозяин фелюги, правоверный египтянин, почтительно приблизился к сопровождавшему печальный груз французу. Писатель Ноде, страдая морской болезнью, не любовался красотами моря, как некогда стоявший на этой же палубе молодой бакалавр Пьер Ферма, прославивший Францию своими математическими открытиями. Ему виделись нависшие тучи над бегущими с бычьей яростью седогривыми холмами, грозящими разнести в щепы суденышко. А хозяин этого суденышка, вспоминая, как он много лет назад вез на фелюге тоже французов (Пьера Ферма с отцом и Рене Декарта), с ухмылкой поглядел на полного француза, направляясь к нему с затаенной надеждой, и на недурном французском языке с поклоном обратился к нему, единственному своему живому пассажиру: — Да продлит аллах благословенную жизнь почтенного господина и да увеличит он его щедрость, чтобы сравнялась она с милостью, каковую по Корану надлежит проявить к несчастному моряку, изнемогающему от трех старых и сварливых жен, от требований детей, столь же наглых, сколь и неблагодарных, не считая милых просьб толпы внуков! — Не слишком ли красочно, почтенный последователь Корана, живописуешь ты свои невзгоды? — Я лишь решаюсь напомнить почтенному господину о нашей договоренности: сам аллах услышал не только мои мольбы, но и ощущения моего носа, вынужденного мириться с почитаемыми мною гробами, еще не преданными земле. — В таком случае проверим тебя на запах и поднимем крышку гроба, если испанские корабли достаточно далеко. Несколько удивленный шкипер крикнул седого негра-матроса, свободного от вахты у руля, и вместе с ним приподнял крышку ближнего гроба. «Покойник» в монашеской одежде открыл агатовые, пронизывающие, жгучие глаза и оперся на локоть. — Можно подняться? — спросил он. Египтянин пал на колени, негр отскочил в сторону. — Как ваша рана, отец Фома? — спросил Ноде. — Царапина, синьор, сущая царапина! — Однако вы искусно упали, отец Фома. Не только этот негодяй, хвалившийся, что был тореадором, но даже я подумал, что он сразил вас. — На месте быка я поднял бы его на рога. Но как наш защитник? И они перешли к другому гробу. Негр в суеверном страхе спрятался за парус. Крышку подняли без него, но из гроба никто не встал. Пришлось Ноде, монаху и шкиперу втроем поднять оттуда молодого человека без чувств и перенести его в единственную каюту. Монах расстегнул на нем камзол. — Сквозное ранение в грудь, большая потеря крови, несмотря на сделанную мной еще в доме посланника перевязку. Надо ее менять. Видно, недаром я писал в темнице медицинский трактат. И Кампанелла принялся старательно ухаживать за раненым Сирано де Бержераком. Египтянин с хитрецой заметил Ноде, когда тот вышел из каюты: — Аллах все видит, почтенный господин! И если мне нельзя доплатить за непослушный мой нос, которому ничего не удалось учуять, то сам аллах велит заплатить за послушный мой язык, которому есть что рассказать. Ноде расхохотался, ибо был смешлив по натуре. — Хорошо, я добавлю тебе пятьсот пистолей, чтобы твой язык не произнес излишнего, как твой нос не учуял необычного. Египтянин хитровато посмотрел на гробы и низко поклонился. …Маленькая фелюга ловко шныряла между высокими бортами стоящих на рейде каравелл, шхун, бригов, барок и гордо проплывала мимо мелких по сравнению с нею рыбачьих лодок, заполнявших подступы к набережной Тулона. Многие из них были вытащены на берег, лишь задеваемые набегающей пенной волной. Египетская фелюга завершила наконец свое плавание, проскользнув в открытом море мимо всех испанских кораблей, и покойно застыла теперь, закрепленная к медному кольцу мола просмоленным канатом. Господин Ноде, оставив раненого на попечении монаха-лекаря и египтянина, отправился за телегой для перевозки раненого на постоялый двор, прежде чем отправиться в более далекий путь. Господину Ноде пришлось проталкиваться через толпы слоняющихся в поисках найма матросов, подвыпивших после плавания моряков, хрипло предлагающих заманчивую любовь женщин, назойливых продавцов овощей и фруктов. Он пробирался между ящиками, тюками, плетеными корзинами или сваленными в беспорядке грузами, вдыхая всевозможные запахи: смолы, ворвани, чеснока, человеческого пота, живой и жареной рыбы, душистых апельсинов, дурманящих цветов, разрезанных дынь и арбузов. Он был оглушен разноязычным говором, его истолкали, намяли ему бока, не раз наступили на любимые мозоли, прежде чем он достиг знакомого трактира «Пьяный шкипер». Добраться в нанятой им телеге до мола, где пришвартовалась фелюга, можно было, лишь имея невероятный запас изощренных ругательств, которыми виртуозно владел нанявшийся усатый возница из бывших солдат, хлестая кнутом не только свою клячу, но и толпу, мешающую проехать. С большими предосторожностями Сирано де Бержерак был перенесен в телегу и проделал, лежа в таком экипаже, путь по Тулону из порта до трактира «Пьяный шкипер», где ему пришлось задержаться, пока его лекарь-монах не дал наконец согласия отправиться всем вместе в далекий путь. К этому времени предприимчивый Ноде уже сыскал нужную карету. Случилось так, что Мазарини, выполняя указание Ришелье, приобрел для пребывания во Франции Кампанеллы построенный на пепелище поместья Мовьер домик, куда и прибыла карета путешественников из Тулона. Сирано узнал свои родные места, и это обрадовало и взбодрило его, он даже пытался сам войти в сложенный из камней домик, появившийся на месте их старенького деревянного шато, сгоревшего в огне крестьянского гнева. Приехавших уже ждали: философ Декарт со своим другом-противником, советником тулузского парламента Пьером Ферма и профессор-философ Пьер Гассенди. Кардинал Ришелье решил продемонстрировать свою заботу об освобожденном узнике и позаботился пригласить в его убежище во Франции людей, ближе всего стоящих по своим взглядам к Кампанелле, который должен был оказаться здесь в кругу друзей. Ришелье никогда ничего не делал без умысла. Рене Декарт, приглашенный Ришелье вернуться во Францию для встречи с Кампанеллой, был в плаще, прикрывающем мундир нидерландской армии, где он, воюя против Испании, служил, укрывшись от гонений католической церкви. Был он горделив, представителен, с лицом не столь красивым, сколь мужественным, полным энергии и благородства, но идущего не от знатности, которую он отвергал, а от глубокого, самобытного ума, оставившего след и спустя три столетия в сознании его последователей, картезианцев. Его противоположностью, при той же остроте ума, выглядел юрист, поэт и математик Пьер Ферма, спокойный, дружелюбный, с полноватым, чисто выбритым лицом, с блуждающей улыбкой в уголках чуть насмешливых губ и еще темными волосами до плеч. И наконец, Пьер Гассенди, которого мы помним по приватным занятиям с молодыми людьми, в числе которых наряду с Жаном Покленом — Мольером был и Сирано де Бержерак. Сирано, узнав, что, кроме обрадовавшего его своим присутствием Гассенди, здесь и сам Рене Декарт, книги которого он защищал от костра у Нельских ворот, и загадочный Пьер Ферма, делающий, как говорят, удивительные математические открытия, не указывая путей к ним, а предлагая современникам самим их найти, сразу почувствовал себя лучше, предвкушая беседы с такими людьми. Жозеф Ноде, как бы захлопнув исписанную им страницу очередной книги, любезно улыбаясь, распрощался со всеми и укатил в Париж в той же карете, чтобы известить его высокопреосвященство господина кардинала Ришелье о прибытии сопровождаемых Ноде по поручению посланника Франции при папском дворе Ноаля лиц, имеющих на руках письмо самого святейшего папы Урбана VIII для передачи его кардиналу Ришелье. Сирано был помещен в отдельную комнату и не принял участия, как о том мечтал, в беседе философов с Кампанеллой. Однако огорчение Сирано смягчилось появлением местного кюре, его первого учителя, в сопровождении друга детства Кола Лебре. Они вошли к Сирано, когда тот полулежал в кресле, пытаясь при виде их встать. Кюре движением руки остановил его. Лебре расплылся в добродушной сияющей улыбке и, подойдя к давнему другу, обнял его за плечи. — Сави, дружище! Как же я рад тебя видеть! — Сын мой, я горжусь, что сам его высокопреосвященство кардинал Ришелье в своей мудрой милости поручил тебе сопровождать сюда вызволенного им из заключения мученика философа Фому Кампанеллу, он найдет здесь, во Франции, много расположенных к нему сердец, пробуждая в них надежду на светлое будущее людей на Земле. — Ах, кюре! Друг мой, Кола! Вы для меня будете здесь лучше всех лекарств. Отец Фома — изумительный лекарь. Я бы совсем встал на ноги, если бы решился принять его предложенную им мне кровь взамен моей потерянной при бесчестном, предательском пулевом ранении из-за угла. — А что значит, Сави, принять его кровь? — наивно спросил Лебре. — Наши лекари лечат многие болезни, «отворяя кровь», выпуская дурную, но ничего не оставляя взамен. Тело должно само восполнить потерю. Отец Фома Кампанелла, перенеся тяжкие мучения, как никто другой, познал, что такое потеря крови, и, находясь в темнице, написал медицинский трактат на опыте лечения самого себя, что позволило ему выжить. В этом трактате наряду с другими способами лечения он высказал мысль, что кровь другого здорового человека с успехом восполнит потерянную кровь больного. Но применить этот свой способ, отдав мне собственную кровь, отцу Фоме не удалось, ибо я не мог принять его жертвы, поскольку он для всего мира во много раз важнее, чем я, ничем не прославившийся, кроме вызывающих драк. — Ты сурово судишь себя, сын мой, — заметил кюре. — Это и хорошо и плохо. Не всем в твои годы удалось написать пусть злую, но призывающую людей к исправлению комедию о педанте. — Вы читали ее, отец мой? Я рад! Но ведь ее никто не издал. — Пока мне попалась она в списках. И то, что ее прилежно переписывают, говорит в ее пользу. — А ведь отцы иезуиты подослали в театр людей, чтобы ее освистали. — Подождите! — прервал что-то надумавший Кола Лебре. — Если тебе нужна кровь здорового человека, то здоровее меня не найдешь во всей деревне. Давай попросим отца Фому Кампанеллу «отворить» мне кровь и перелить ее, как он того хотел, в твои жилы. — Что ты, Кола! Я и так поправлюсь. — Да таких, как ты, в гроб кладут. Сирано загадочно усмехнулся, но о гробах ничего не рассказал, связанный взятым с него Ноалем словом дворянина. После первой встречи с почтившими его приезд философами Кампанелла, придя к своему подопечному Сирано, узнал о готовности его друга детства предоставить ему свою кровь. Превратившись в лекаря, философ вооружился острым ножом и необрезанным бычьим пузырем, за которыми сбегал в свою лавочку Кола Лебре. С помощью кюре, который оказался не только способным художником, но и прекрасным ассистентом, Кампанелла артистически проделал неизвестную до той поры операцию. «Отворив» обычным способом кровь Лебре, он направил ее по отросткам бычьего пузыря, как во вскрытую вену Сирано, расположив Лебре выше его друга, чтобы кровь к нему шла самотеком. Тогда, конечно, еще не знали, что не всякую кровь можно переливать любому человеку, но кровь Лебре и Сирано, к счастью, оказалась, как ныне сказали бы, одной группы. Изрядно пополневший со времени наследования отцовской лавочки здоровяк Кола Лебре даже не почувствовал потери своей «избыточной», как он сам сказал, крови, которую полезно для него спустить. И он был искренне рад помочь старому другу. Результат сказался быстро, щеки Сирано порозовели. Кюре смотрел на Фому Кампанеллу как на волшебника. — Я преклоняюсь перед вашим искусством, святой отец, как преклонялся перед вашим трактатом о Городе Солнца, — сказал кюре. — Это всего лишь долг человека, друг мой, — ответил Кампанелла. — Лечение человека и лечение человечества. После чего они вместе тактично оставили Сирано и Лебре вдвоем, дав им вдоволь наговориться: «А ты помнишь?», «А как тогда было?». Когда кюре вернулся, они вспоминали как раз его козу, которая перешла сперва к соседу-крестьянину, а потом была отобрана солдатами сборщика податей. — Мог ли кто-нибудь из нас тогда думать, — воскликнул кюре, — что мудрый философ, указавший на зло собственности, сам будет у нас в Мовьере! Поистине господь руководит нашими поступками и сводит воедино неисповедимые пути! — Это не совсем так, дорогой учитель, — отозвался Сирано. — В том, что Фома Кампанелла здесь, виновны прежде всего вы, кюре. Если бы вы не внушили тогда мне, мальчишке, святость его идей отрицания такого зла, как собственность, кардиналу Ришелье не пришлось бы содействовать его освобождению… — На этом Сирано оборвал себя, и кюре так и не понял, каким образом тот причастен к освобождению Кампанеллы, как не понимали этого в течение столетий историки Франции, ибо те, кто это знал, не обмолвились и словом, а кардинал Ришелье сумел повернуть приезд Кампанеллы во Францию в выгодную для себя сторону. Меж тем новые друзья Кампанеллы решили дать тому отдохнуть после дороги, беседы с ними и диковинного лечения. Рене Декарт и Пьер Гассенди вышли в сад и завели между собой учтивый философский спор о сущности материи. Гассенди во всем видел только материальную суть мира, Декарт же настаивал, что материальная основа становится человеком лишь при ее совмещении с душой, превращающей неодушевленное тело в мыслящее существо. Однако оба сходились на том, что мир воспринять можно, лишь наблюдая его с помощью реальных чувств, а не слепо представляя по канонам веры. Пьер же Ферма направился к раненому молодому человеку, внешность которого навела его на некоторые мысли, о которых он хотел говорить с ним лишь наедине. Случилось это на другой день. Умный кюре понял Ферма с полуслова, решив, что беседа с таким человеком, как этот юрист, поэт и математик, будет целительной для Сирано, и он увел с собой ничего не понимающего Лебре, который никак не хотел оставлять друга. Пьер Ферма сел у кресла Сирано. — Друг мой, — начал он, — ваша особенность лица, насколько я понимаю, приносила вам до сих пор лишь одни огорчения, а я зашел к вам именно потому, что отныне ваше «отличие» от всех нас, «приземленных», должно направить вашу жизнь совершенно по-иному. Сирано при одном лишь намеке на свой нос насторожился, но ласковый и убежденный тон математика, о котором он столько слышал, по возрасту своему годившегося ему в отцы, успокоил его. — Я хочу рассказать вам, молодой человек, что в вашем возрасте мне привелось совершить путешествие в Египет и побывать в подземном храме бога Тота, покровителя наук и мудрецов, принесшего людям знания с далекой звезды Сириус.[91] Я заговорил с вами об этом потому, что этот бог древних, как мне кажется, имеет к вам некоторое отношение. Его называли «Носатым» и изображали с клювом птицы ибиса, начинавшимся выше бровей, как у вас. Сирано улыбнулся. — Мне придется удивить вас, уважаемый господин Ферма, но о моем «родстве» с языческими «богами», якобы прилетевшими со звезды, мне приходилось слышать еще в коллежские годы от одного индейца племени майя. — В пользу правдивости легенды о боге Тоте, прилетевшем с Сириуса, говорит, например, то, — спокойно продолжал Ферма, — что древние египетские календари почему-то были связаны с Сириусом и периодом обращения этой двойной звезды в пятьдесят лет. — Признаться, господин Ферма, я ничего не слышал о древнеегипетском боге Тоте. Однако я пытался возразить индейцу, доказывая, что мои предки не могли до Колумба побывать за океаном. И, представьте, он привел мне цитату из Библии, хотя и был неграмотным, указав место, где говорится о сынах неба, которые входили к дочерям человеческим (очевидно, не будучи сынами человеческими) и те рождали им гигантов. — Весьма важное дополнение. Я — математик. Истина, если она такова, доказывается разными путями. Я рад, что различные доказательства о возможном вашем родстве с небожителями, как условно назовем их, сходятся и «гипотеза» о «звездных жителях» доказуема, как теорема. Кстати, эти «небожители», по мнению мыслителя Джордано Бруно, должны существовать у многих звезд, подобных нашему Солнцу. Даже на костре инквизиции он не отказался от этой дерзкой мысли. Позвольте же мне эту гениальную догадку ученого-мученика доказать вам. — Как так? — удивился Сирано. — Фактами, ибо нет ничего достовернее факта. Дело в том, дорогой Сирано, что такими фактами обладает один «сын Солнца», как он себя называет. (Впрочем, все мы «сыны Солнца».) И он крайне заинтересован встретиться с вами. — Кто же это? Почему я о нем ничего не знаю? — Потому что он живет в Англии и пишет приключенческие романы. Зовут его Тристан Лоремет. — Где я могу увидеть его? — Это не так легко, имея в виду непрекращающуюся враждебность между Францией и Англией. Однако это необходимо. Я имею о вас некоторое представление, побеседовав с местным кюре, который не только учил вас в детстве латыни, но и следил потом за вашей судьбой. Мне кажется, что вы могли бы на правах «ищущего» вступить в «общество доброносцев». — Я? В такое общество? Я же буян и вольнодумец! — Вы — вольнодумец, поклоняющийся Добру, и это сближает вас с доброносцами, объединенными в тайное общество. — Но ведь они противостоят государственной власти! — Это не так. Носители добра помимо, а порой и вопреки государственной власти в любой стране содействуют благу людей, как стремился к этому, скажем, Сократ. Я не случайно упомянул имя этого древнего философа. Вам еще придется столкнуться с ним. — С Сократом? Мне? Вы шутите, метр Ферма! — Ничуть. Но я не имею права забегать вперед. Помимо того, это связано с весьма сложными математическими представлениями. Я убежден, что вам, прирожденному бойцу, надлежит коренным образом изменить свой жизненный путь, если вы хотите посвятить себя служению Добру. — Я склонен скорее к служению против Зла. — Это тождественно, говоря математическим языком. Цветок и Весы. Два символа: Красоты и Справедливости. Или Жизни и Искупления во имя Добра. В «обществе доброносцев», не знающих ни государственных, ни религиозных границ, вы сможете встретиться с Тристаном Лореметом, прославленным англичанином-чудаком, который, как все считают, скрывая некий изъян лица, всегда носит полумаску. Но для вас он ее снимет, чтобы вы выглядели, стоя рядом, как братья, два сына Солнца, а это позволит вам узнать многое. — Но кто меня примет в «общество доброносцев»? У меня дурная слава. — Ваш подвиг с освобождением Кампанеллы говорит за вас, ваша защита книг Декарта от сожжения говорит за вас, ваша сатирическая комедия против ханжей-педантов говорит за вас. Я мог бы стать вашим поручителем… В доме послышался шум. Во двор въехала карета. Захлопали двери. В комнату вслед за Кампанеллой вошел Мазарини в скромной серой сутане, с опущенными глазами, но решительными движениями. — Его высокопреосвященство, — жестко заговорил он, — господин кардинал Ришелье, осведомленный о вашем прибытии, господин Сирано де Бержерак, выражает вам благодарность за выполнение его поручения и как главнокомандующий французскими войсками приказывает вам немедленно отправиться в полк, в роту гасконцев господина де Карбон-де-Кастель-Жалу и принять участие в боевых действиях против испанцев близ Арраса. Кстати, имейте в виду, что пулевая рана получена вами в нашей действующей армии, а не в Италии, где вы, слышите ли, никогда не были. — Монсиньор, — обратился к Мазарини Кампанелла, — я тревожусь за состояние здоровья своего пациента, которому едва ли следует садиться в седло и брать шпагу. — У его высокопреосвященства, отец Фома, иное мнение, суть которого мной изложена. Что же касается вас и письма святейшего папы Урбана VIII, каковое вам надлежит вручить его высокопреосвященству господину кардиналу Ришелье, то он позаботился о том, чтобы это было сделано в подобающей обстановке в Лувре, где его величество король Людовик XIII даст вам особую аудиенцию в присутствии его двора. Сирано вскочил: — Я готов оказаться в рядах гасконцев и посчитаться с испанцами, которым я не намерен простить пущенной в меня из-за угла пули в Вечном городе. — Не забывайте, Бержерак, не там, а «на восточной границе Франции», — перебил Мазарини. — В боях близ Музона. — К востоку от Франции, — повторил Сирано. — За Музоном. — Решено! — внезапно воскликнул появившийся Лебре. — Мы едем вместе. Я вступаю в роту гасконцев вместе с тобой!А. Франс
Глава пятая ГАСКОНЦЫ
Испанцы крепко держались за завоеванную ими часть Нидерландов. Одной из важнейших крепостей был Аррас. Высокие каменные стены с зубцами и выступающими за ними красными черепичными крышами поднимались над равниной, представ перед Сирано и Лебре, когда они подъезжали к району осады на приобретенных Лебре для их похода конях. На переднем плане виднелись французские, огибавшие город лагерем, войска, целый город палаток белых, серых, голубых, повозки маркитанток с полукруглым цветастым верхом, кухни, источающие дымные ароматы костров и солдатской пищи. От лагеря к крепостным стенам тянулись свеженасыпанные валы, а на стенах крепости нет-нет да и появлялись дымки, после чего перед французским лагерем вздымался столб черного дыма от упавшего ядра, и лишь после этого доносился звук выстрела и грохот взрыва. В ответ начинали грохотать и французские пушки на колесах, выкаченные на край поля, изрытого почти до крепости осадными работами: траншеями, валами, подкопами и ямами от пушечных ядер, словом, перепаханного мертвящей сохой войны. Гасконцев капитана де Карбон-де-Кастель-Жалу удалось найти не сразу. Всадники долго ехали мимо колесных пушек, еще не выдвинутых для стрельбы, дымящихся костров, зачем-то марширующих то в одну, то в другую сторону солдат в мундирах разных полков, коновязей с унылыми, опустившими головы лошадьми. Хорошенькие маркитантки зазывали всадников в свои повозки, обещая отменное угощение, перебрасываясь при этом с солдатами вольными шутками. Наконец какой-то часовой на валу окрикнул всадников с характерным беарнским акцентом, несказанно обрадовав друзей. — Свои, друг, свои! — закричал Лебре. — Господин Савиньон Сирано де Бержерак, первая шпага Парижа, и его старый друг Кола Лебре спешат пополнить ваши гасконские ряды славных гвардейцев. — Проезжайте, — указал часовой. — Вот в той палатке найдете капитана. — И часовой с интересом стал рассматривать необычное лицо де Бержерака, о скандальных подвигах которого наслышался от своих товарищей, из-за фамилии считавших его гасконцем. Капитан де Карбон-де-Кастель-Жалу, лихой рубака с двумя шрамами, крест-накрест пересекавшими лицо бравого воина, превыше всего после короля и кардинала ставил своих гасконцев и, узнав, что к нему в отряд прибыл сам Сирано де Бержерак, искренне обрадовался. — Браво, господа! Именно вас и не хватало в этом лагерном болоте, где мухи на лету дохнут от скуки. И особенно не хватало вас испанцам, которые, несомненно, мечтают испробовать на себе прославленную шпагу знаменитого де Бержерака. Входите в палатку, прошу вас, господа гвардейцы! Я полагаю, вам не повредит подкрепиться с дороги? — Добрая фляга вина, а то и две всегда к месту, высокочтимый наш капитан, — заверил и за себя и за друга Кола Лебре, с трудом и нескрываемым удовольствием сползая с коня на землю. — Скажу вам откровенно, господин капитан, что между стулом и седлом предпочтение охотнее всего я сделал бы креслу. Старый вояка, взявшись за бока, оглушительно захохотал. — Не судите строго добряка Лебре, господин капитан, — сказал Сирано. — Он решил вступить в ваш отряд, чтобы сопровождать меня, беспокоясь за мою пустяковую рану пулей навылет, которую я не собираюсь прощать испанцам. — Сирано де Бержерак, да еще обозленный на испанцев! Это немалое для нас приобретение! Но… я позволю себе вспомнить, что имею дело не только с отважным бойцом, о котором не смолкает слава, но и с поэтом-острословом. Нашим гасконцам, вернее теперь сказать, вашим гасконцам, очень не хватает собственной песни, с которой они могли бы пойти рядом с вами в бой, господин Сирано де Бержерак. — Вы хотите, капитан, чтобы я сочинил такую песню? — Это будет вашим первым боевым ударом по враждебным вам испанцам! — с надеждой глядя на Сирано, сказал капитан. — Идет! — весело отозвался Сирано. — Песня будет завтра же к утру. И мы вместе будем петь ее, идя на штурм! — Браво, новый гвардеец! У вас есть чему поучиться, словно вы не ранены пулей, как о том сказали. — Из-за угла, капитан. — При осаде Музона, как я слышал? — Восточнее, — неопределенно ответил Сирано. Капитан щедро подливал вина в кружки. Кола Лебре раскраснелся и что-то пьяно напевал, а Сирано заметил: — Скажу вам, капитан, что не вижу особой разницы в непомерной дозе вина и отмеренной дозе мышьяка. — О! Вы, как всегда, острите, Сирано! Но, клянусь вам, перед боем остаться без вина — это все равно что без него отобедать! На следующее утро Сирано и Лебре явились в палатку капитана. — Господин капитан де Карбон-де-Кастель-Жалу! — торжественно объявил Лебре. — Мой друг Сирано с присущим ему талантом поэта выполнил ваше поручение, я же, склонный в некотором роде к музыке, осмелился положить его зажигающие слова на известный мне простенький деревенский мотивчик, чтобы господа гвардейцы могли бы распевать песню, идя в бой. Капитан, полусонный, вскочил, протер глаза, подкрутил усы и, напяливая ботфорты, потребовал, чтобы друзья немедленно пропели ему «гимн гасконцев», как назвал он их совместное творение. И ранним утром, едва осветило солнце остроконечные крыши города за крепостной стеной Арраса, из палатки капитана донеслось пение, сразу привлекшее внимание не только гасконских гвардейцев, но и встревоженных испанцев, появившихся на крепостной стене, чтобы понять, в чем дело. А из палатки слышалась исполняемая в два голоса:Нет, лучше бурей силы мерить,Последний миг борьбе отдать,Чем выбраться на тихий берегИ раны горестно считать.Адам Мицкевич
ПЕСНЯ ГАСКОНЦЕВ
 Лопес же схватил с ковра из перьев мачете, которым так ловко владел в Америке, и метнул его в Сирано.
Реакция Сирано была молниеносной, он отклонился от смертельного удара, но острый, изогнутый дугой мачете, с жужжанием вращаясь, все же скользнул по его лицу, начисто срезав на лбу, выше бровей выступающую часть носа. Кровь залила Сирано глаза. Он видел противника сквозь кровавую пелену.
Однако она не помешала ему нанести разящий удар, положивший конец преступной жизни Диего Лопеса, по которому плакал топор андалузского палача и кандалы каторжника в Генуе, не говоря уже о проклятиях коренных жителей Америки за его гнусные деяния, которые губернатором Мексики Педро Гарсиа преступлениями не считались.
В дверях показался Лебре.
Сирано сорвал с груди убитого генерала салфетку и приложил ее к своему изуродованному лбу.
— Надо остановить кровь! — закричал Кола. — У меня есть отличная мазь, этот бальзам приготовляла кухарка, которая, возможно, была испанской ведьмой. Помнишь, еще в детстве мазь останавливала кровь, когда мы разбивали носы?
Лебре выхватил из кармана склянку с бальзамом и проворно сделал повязку Сирано, которая почти закрыла ему глаза.
Все же он не захотел остаться в доме, когда снаружи доносился шум еще не кончившегося боя.
Он выскочил наружу и вместе с гасконцами стал теснить расстроенные ряды испанцев.
Потеряв командиров, не получая приказов, те все больше терялись, стали отходить и наконец обратились в бегство.
Тем временем и другие французские части пришли на помощь гасконцам, расширяя прорыв.
Французы захватили много пленных, обходясь с ними по-рыцарски, в особенности с поварами, которым отдавали должное за их поварское искусство, оставив их трудиться у захваченных кухонь.
Лебре повел Сирано, держа его за руку, поскольку повязка сползла ему на глаза, в «генеральскую хижину».
— Обед ждет нас, Сави, он может остынуть, — убеждал он. — Ты завоевал его в честном бою и обрел на него неоспоримое право! «Наше право, наша слава!» — пропел он.
И оба приятеля, несмотря на рану Сирано, сели за стол. Голод оказался сильнее боли, а запах пряных блюд действовал, как ныне сказали бы, подобно обезболивающим средствам.
Снаружи доносилась песня гасконцев:
Лопес же схватил с ковра из перьев мачете, которым так ловко владел в Америке, и метнул его в Сирано.
Реакция Сирано была молниеносной, он отклонился от смертельного удара, но острый, изогнутый дугой мачете, с жужжанием вращаясь, все же скользнул по его лицу, начисто срезав на лбу, выше бровей выступающую часть носа. Кровь залила Сирано глаза. Он видел противника сквозь кровавую пелену.
Однако она не помешала ему нанести разящий удар, положивший конец преступной жизни Диего Лопеса, по которому плакал топор андалузского палача и кандалы каторжника в Генуе, не говоря уже о проклятиях коренных жителей Америки за его гнусные деяния, которые губернатором Мексики Педро Гарсиа преступлениями не считались.
В дверях показался Лебре.
Сирано сорвал с груди убитого генерала салфетку и приложил ее к своему изуродованному лбу.
— Надо остановить кровь! — закричал Кола. — У меня есть отличная мазь, этот бальзам приготовляла кухарка, которая, возможно, была испанской ведьмой. Помнишь, еще в детстве мазь останавливала кровь, когда мы разбивали носы?
Лебре выхватил из кармана склянку с бальзамом и проворно сделал повязку Сирано, которая почти закрыла ему глаза.
Все же он не захотел остаться в доме, когда снаружи доносился шум еще не кончившегося боя.
Он выскочил наружу и вместе с гасконцами стал теснить расстроенные ряды испанцев.
Потеряв командиров, не получая приказов, те все больше терялись, стали отходить и наконец обратились в бегство.
Тем временем и другие французские части пришли на помощь гасконцам, расширяя прорыв.
Французы захватили много пленных, обходясь с ними по-рыцарски, в особенности с поварами, которым отдавали должное за их поварское искусство, оставив их трудиться у захваченных кухонь.
Лебре повел Сирано, держа его за руку, поскольку повязка сползла ему на глаза, в «генеральскую хижину».
— Обед ждет нас, Сави, он может остынуть, — убеждал он. — Ты завоевал его в честном бою и обрел на него неоспоримое право! «Наше право, наша слава!» — пропел он.
И оба приятеля, несмотря на рану Сирано, сели за стол. Голод оказался сильнее боли, а запах пряных блюд действовал, как ныне сказали бы, подобно обезболивающим средствам.
Снаружи доносилась песня гасконцев:
Глава шестая ШЛЯПА КОРОЛЯ
Хитрость порой может заменить ум, но хитрость даже вместе с умом никогда не станет мудростью.За день до появления Мазарини в Мовьере, едва Жозеф Ноде добрался до дворца кардинала Ришелье и был незамедлительно принят им, между ними произошел многозначительный разговор. Ришелье выслушал сообщение Ноде о том, как он выполнил поручение господина Ноаля и доставил во Францию синьора Кампанеллу и сопровождающего его тяжело раненного испанской пулей господина Сирано де Бержерака. Когда же речь зашла о том, что Кампанелла и раненый юноша путь по Папской области до устья Тибра проделали в гробах, крышки с которых сняли лишь в открытом море, кардинал Ришелье нахмурился, встал из-за стола, сбросив привычно примостившегося у него на коленях кота, и стал расхаживать по кабинету так, что полы его пурпурной мантии стали развеваться. — Весьма скверные новости привезли вы мне из Италии, господин Ноде, — сказал он, выслушав доклад. — В ваших книгах, которые мне привелось читать, все устраивалось много лучше, чем получилось у вас на деле. — Но, ваше высокопреосвященство, — забормотал смущенный Ноде, — оба беглеца благополучно прибыли во Францию, и синьор Кампанелла привез с собой письмо святейшего папы Урбана VIII, адресованное вам лично, которое обязан вам вручить он сам, как повелел папа. — Прискорбно, что я не имею на руках этого письма, — опять недовольно заметил Ришелье. — Однако цепь логических построений позволяет мне прочесть его на расстоянии. — Ваше высокопреосвященство! Такое деяние доступно лишь вашему высокому уму. — Какой же вы писатель, господин Ноде, если не сможете представить себе, что МОГ написать святейший папа, направляя мне письмо с освобожденным узником после его тридцатилетнего заключения? — Увы, ваше высокопреосвященство, я должен признаться, что моего воображения недостаточно. — Здесь требуется отнюдь не воображение, почтенный Ноде. Во всяком случае, я благодарю вас за выполнение поручения нашего посланника в Папской области господина Ноаля, который получит повышение и, — он обернулся к стоявшему за его креслом Мазарини с опущенными вниз глазами, — ПЕРЕВОДИТСЯ ОТНЫНЕ в далекую Россию французским послом при московском царе, притом со всем штатом нашего представительства в Риме. Чтобы ни одного человека из бывших при Ноале там не осталось. — Слушаю, ваше высокопреосвященство, — поклонился Мазарини. — А вас, господин Ноде, я тоже хочу наградить направлением в качестве советника к губернатору Новой Франции, где вам, надеюсь, удастся написать книгу по нашему заказу о тамошних краснокожих аборигенах, с кем мы имеем военный союз в борьбе против английских колоний. Ноде поник головой. Мало того, что ему придется пересечь океан, отправляясь на край света, именуемый Новой Францией, претерпеть в пути все ужасы морской болезни, но, увы, не скоро вернуться к домашнему уюту. Словом, будучи в достаточной мере проницательным, он не без юмора поставил себя рядом с египетским владельцем фелюги, который получил дополнительно 500 пистолей за молчание, а он, Ноде, — горькую милость всесильного кардинала. И бедный Жозеф Ноде рассыпался в благодарностях за полученное новое поручение, которое проклинал в душе. Но, отнюдь не лишенный писательского воображения, вопреки замечанию Ришелье, он догадался, что кардинала, видимо, устроило бы не благополучное возвращение во Францию Сирано де Бержерака в сопровождении Кампанеллы, а их гибель в пути… Но умный Ноде о такой своей проницательности не подал и виду, расплываясь в почтительной улыбке на своем полном и добродушном лице. Ничего не поделаешь, придется плыть через океан к индейцам и захудалому губернатору колоний. Ришелье, отпустив незадачливого писателя, призвал Мазарини и срочно направил его в Мовьер для уже известного нам поручения, а сам приказал подать себе карету для поездки в Лувр к королю, чтобы застать его там раньше, чем он отправится на охоту с ловчими птицами. Король не слишком обрадовался непредвиденному появлению кардинала, он вышел к нему в охотничьем костюме, с недовольной физиономией, вытянув вперед шею. — Рад вас видеть, кардинал, — сказал он. — Надеюсь, у вас хорошие новости, а не надоевшие мне жалобы на моих мушкетеров, умеющих держать шпаги в руках. Или вы в чем-то сомневаетесь? — Я никогда не сомневаюсь, имея дело с вами, ваше величество, — низко поклонился Ришелье. Такие слова и тон кардинала польстили Людовику XIII, но одновременно и насторожили его. — Так что у вас там приключилось, если нужно задерживать меня перед выездом на охоту, которая развеет мою несносную скуку? — Ваше величество! Я никогда не решился бы напрасно обеспокоить вас. Тем более когда речь идет о вымирающем искусстве охоты с ловчими птицами. — Что верно, то верно, Ришелье. Не думаю, что меня в этом деле мог бы заменить кто-нибудь из здравствующих ныне государей. — Ваше величество! Не только государи, никто на свете из ныне живущих не сравняется в столь славном деле с вашим величеством. — Ну, кардинал, не иначе как кого-то из ваших гвардейцев проткнули шпагой. Говорите — кого и кто. Прикажу повесить. — Нет, ваше величество, на этот раз дело идет лишь о пышной церемонии в вашем дворце. — Это уже интересно. Пышной, говорите? И это может развлечь? — Несомненно, ваше величество, если вы согласитесь дать большую аудиенцию в присутствии всего двора и всех иностранных послов посланцу самого святейшего папы Урбана VIII. — Вот как? С чем же папа прислал его к нам? — Он привез важнейшее письмо. Будучи сам пожизненным узником, еще тридцать лет назад готовившим восстание против испанской короны… — Опять Испания? Она уже надоела мне. Война с ней ваше дело, кардинал, на то вы и генералиссимус. — Но речь идет не просто об Испании, ваше величество, а о признании в вашем лице первого из всех католических королей. — Вот как? Кто нас признал таковым? — Сам святейший папа Урбан VIII, освободив вдохновителя антииспанского заговора и прислав его со своим личным посланием во Францию. — Сколько же просидел в темнице этот гонец? — Около тридцати лет, ваше величество. И перенес из-за испанцев необыкновенные мучения. Это святой монах Кампанелла. — Никогда не слыхал. Но папе виднее. Если он его освободил в пику испанскому королю, хоть тот и родственник нашей супруги Анны Австрийской, все равно это нам приятно. — Ради лишь этого чувства, ваше величество, я рекомендую вам дать этому гонцу святейшего папы большую аудиенцию. — А это не задержит моей охоты? — Что вы, обо всем позабочусь я сам, во дворец будут приглашены все вассалы, и преданные, и строптивые, даже пользующиеся дарованными им шляпными привилегиями на приемах. — Вам непременно нужно, чтобы кто-то остался при мне с необнаженной головой? — Ваше величество, я просто хочу поставить их в самое для них затруднительное положение. — Как это вы сделаете? — Об этом я могу лишь шепнуть вам на ухо, — сказал Ришелье. Оглянувшись, он подошел к королю и произнес шепотом несколько слов, потом добавил уже громко: — А что им останется после этого делать? Людовик XIII расхохотался: — Вы неоценимый человек, кардинал! Я не знаю, чем вас наградить за такую выдумку. Эвоэ! Виват! Хорошо, готовьте торжественную аудиенцию. Посмотрим на этого бедного монаха. Вот удивится-то! Да и не он один! — И король опять захохотал. Ришелье был доволен. Все оборачивалось так, как он хотел. Он даже без своей обычной осуждающей улыбки наблюдал в окно, как со двора выехала кавалькада королевской охоты с сокольничими, держащими на кожаных перчатках с крагами хищных птиц с колпачками на головах. Король тоже надел такую перчатку, и ему передали самого крупного и ловкого из соколов. В назначенный Ришелье день, когда Мазарини должен был привезти Кампанеллу в Лувр, во дворце собирались даже издалека приехавшие вассалы, не говоря уже о придворной знати, обретавшейся в Париже. Приемный зал наполнился роскошно одетыми вельможами и прекрасными дамами в самых модных туалетах со сверкающими драгоценностями, а перья на мужских шляпах соперничали с ними в пышности и яркости. По условию приема все были в шляпах. Очевидно, это связывалось с какой-то особенной торжественностью великосветского сборища, устроенного кардиналом с согласия короля. Королева в сопровождении приближенных к ней дам, опять же по предусмотренному кардиналом ритуалу, вышла раньше супруга и сразу осветила своей необыкновенной красотой, оттененной простотой и изяществом наряда, весь зал. Вельможи зашушукались, приветствуя королеву сниманием шляп. Наконец наступила торжественная минута, ждали выхода короля. Но он задерживался, ибо не было сигнала о приближении кареты с Мазарини и римским гостем. Мазарини сидел в карете рядом с Кампанеллой и вел с ним многозначительную беседу: — Отец Фома! Великий кардинал Ришелье предоставил вам убежище во Франции в надежде, что вы ему ответите признательностью и послушанием. — Признательность моя исходит от сердца, монсиньор, но что вы имеете в виду под послушанием? — Мне кажется, что не все ваши произведения восхищают его высокопреосвященство господина кардинала Ришелье. Быть может, в последующих своих сочинениях, которые вы напишете здесь на свободе, не зная забот и трудностей существования, вы разъясните некоторые положения, высказанные вами в трактате о «Городе Солнца»? — Что там требует разъяснения на ваш взгляд, синьор Мазарини? — Его светлость, как высший блюститель нравов, обеспокоен толкованием предложенной вами «общности» жен в вашем Городе. — Ах, боже мой! Конечно, в том моя вина! Неверно толковать употребленное мной слово «общность» как использование одной жены несколькими мужчинами. Это вульгаризация, монсиньор! Я лишь предоставляю свободу выбора в равной степени и мужчинам и женщинам, а вовсе не узакониваю распущенность. Напротив, нравы должны быть строгими, но в то же время не исходить из вечного «права собственности» супругов друг на друга, освященного церковью. — Вы восстаете против брака, начало которому господь положил еще с Адама и Евы. — Если вы обращаетесь к священному писанию, то можете вспомнить, что господь допустил после гибели Содома и Гоморры, чтобы род человеческий был продлен с помощью дочерей, а не жены спасенного Лота, превращенной в соляной столб. Как известно, они, подпоив отца, поочередно соблазняли его, чтобы понести от него и не дать человеческому роду прекратиться. — Ну знаете, отец Фома, на вашем месте я не приводил бы таких примеров, — возмутился Мазарини. — Но разве не более цинично восприятие «общности», то есть «не принадлежности» жен, как призыва к распутству? Очевидно, нужно какое-то другое слово, которое исключило бы всякое иное толкование, кроме истинного. — Вам предоставится возможность найти любые слова, чтобы разъяснить, что в Городе Солнца вы имеете в виду отнюдь не общность всего имущества, что противоречит всем законам — и человеческим и божеским. — Общность имущества (здесь не надо искать другого слова!) должна быть полной, монсиньор. Беда, если дом или конь, поле, колесница или лодка могут принадлежать одному, а не другому, зарождая в нем зависть. Не должно существовать понятий: «это твое», «это мое»! Человеку может принадлежать только то, что на нем в условиях природы. Иначе зародыши «зла собственности» расцветут бесправием и тягой к преступности, к нищете и богатству, к праздности и страданиям и сведут на нет преимущества жизни в подлинно свободном от всех зол обществе. — Мне трудно переубедить вас, отец Фома. Но я хотел бы предупредить вас, что не эти обреченные мечты, а заслуги противоборца испанской тирании вывели вас из темницы и вводят сейчас в королевский дворец Франции. — Вы огорчаете меня, синьор Мазарини. Я надеялся, что монсиньор Ришелье разделяет мои убеждения, если просил папу о моем освобождении. — Вы глубоко заблуждаетесь, отец Фома. Кардинал Ришелье не обращался к святейшему папе с такой просьбой. Папа Урбан VIII освободил вас по своей великой милости, из сострадания. Что же касается молодого человека, защищавшего вас, то он был прислан в Рим, поскольку кардинал Ришелье предвидел ваше освобождение. И если вам будут оказаны какие-либо знаки внимания, то отнесите их не к своим необузданным мечтам, а только лично к себе. — Мудрейший синьор Мазарини, я должен признаться вам, что эти мечтания и составляют мою сущность. По крайней мере, так понимает меня господин Сирано де Бержерак, которого монсиньор Ришелье нашел нужным прислать за мной. — Ничего не значащее совпадение. Этот молодой человек известен в Париже как крайне необразованный и тупой буян. Он мог вам наговорить немало глупостей, забывая, что он только солдат со шпагой, не больше. — Как странно, — заметил Кампанелла. — Он произвел на меня иное впечатление. — Первое впечатление всегда обманчиво, отец Фома. — Я привык думать наоборот, монсиньор. — Вам придется отказаться от многих своих былых привычек. — Но, обретя теперь свободу в вашей прекрасной стране… — Мы с вами земляки, синьор Кампанелла. Эта страна действительно прекрасна, если к ней должным образом относиться. — Я хочу лишь воспользоваться ее гостеприимством, чтобы издать свое собрание сочинений. Мазарини пожал плечами и загадочно произнес: — Сколько успеете, отец Фома. Долгой вам жизни на свободе.[92] Карета въезжала в Лувр. Мечта господина Абеля де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерака неожиданно осуществилась. Его в убогой квартирке на окраине Парижа нашел посланец Мазарини и пригласил присутствовать «в шляпе» (как было сказано в письменном приглашении) на большой аудиенции в Лувре. (Оказывается, Ришелье наперечет знал тех, кому дарована безумным королем «английская привилегия»!) Это вызвало необычайное оживление в доме господина Абеля. Он пошел на немалые траты, чтобы приобрести (из основного капитала!) нарядную одежду, особо крикливую шляпу с перьями, вызвать портных, которые сбивались с ног, прилаживая новые камзол с шитьем и кружевные панталоны на грузную фигуру бывшего «владетельного сеньора». Его багровое, квадратное лицо было оживлено, и бедная Мадлен, а также дети, старший сын и дочь, издергались из-за капризов господина Абеля за эти предшествующие его «восшествию в Лувр» дни. Конечно, понадобилась и стоившая уйму денег шпага, которую «королевский писец», пожалуй, впервые в жизни взял в руки. В таком виде, провожаемый всей семьей, и отправился он (для экономии) пешком через весь город в Лувр, делая вид, что он прогуливается. Конечно, в числе приглашенных туда на торжественный акт большой аудиенции были граф и графиня де Ла Морлиер и состоящий при них маркиз де Шампань. Предок мужа графини Мишеля де Ла Морлиер получил в тяжелое для Франции время по прихоти угодного англичанам безумного короля Карла VI право не снимать шляпы перед французским королем в знак заслуг перед английской короной. Сам Мазарини письменно от имени кардинала Ришелье напомнил графу о возможности показать перед всеми себя как особо привилегированного по сравнению с другими дворянами, и потому он был сегодня особенно напыщен и чем-то напоминал индейского петуха из числа тех, которые недавно появились во Франции, вывезенные из заморских колоний в Америке. Был он тучен до невозможности и по сравнению с маркизом де Шампань казался горой рядом с мышью. При его завидном росте шляпа, украшенная отборными перьями, возвышалась над всеми. И головные уборы других вельмож, обладающих подобной же «шляпной привилегией», тонули в толпе. Их и не было видно. — Ну, мадам, — шептал маркиз де Шампань, — сегодня и на вас, а следовательно, и на меня падет сияющая тень не снятой перед королем шляпы вашего достойного супруга. — Ах, маркиз, я умираю от любопытства, чем все это вызвано? — Ах боже! Это уже известно всему Парижу, я был в двух или трех салонах, где об этом только и говорят. — Что же там говорят, почему вы молчите? — Я не могу молчать, графиня, я никогда не молчу, в этом моя особенность, мой дар и мое несчастье, если хотите! — Я хочу, чтобы вы не молчали. Именно этого хочу. — Извольте. Весь парижский свет говорит о причуде его высокопреосвященства, который представит королю человека, желающего отменить браки и сделать всех дам доступными любым мужчинам. — Боже, какой ужас! — воскликнула графиня. — Впрочем, в этом что-то есть. — Конечно, есть, графиня, все с вожделением ждут такого указа короля. Однако общими должны стать и дворцы, и сундуки с золотом, земли и замки — словом, все, чем вы обладаете, как никто другой. — Я обладаю и еще кое-чем. — Это останется при вас, а вот имущество… — Ах оставьте, маркиз! Я могла бы еще подумать, чтобы стать «общей» для избранных, но не нищей же!.. — Предвижу смуту, сударыня. — Неужели король примет подобного смутьяна? — Примет и, как видите, у всех на глазах. — Мне кажется, я потеряю сознание. — Я поддержу вас, положитесь на меня. — Мне уже душно, где мой веер? — Он у вас в руке, мадам. А я — рядом. И тут открылись парадные двери зала, в них показался торжественный церемониймейстер двора с посохом, увенчанным тремя лилиями. — Его величество король Людовик XIII, — громогласно провозгласил он. В нарядной шляпе, украшенной перьями, вошел король обычной своей порывистой походкой, вытянув вперед шею. И как по мановению незримой силы множество шляп первых вельмож Франции, даже приехавших к этому дню издалека, взвились вверх и опустились к самым ногам, чтобы проделать замысловатые, заимствованные, кстати сказать, у испанцев движения. Король гордо шел в своей вызывающей пышной шляпе, зорко поглядывая по сторонам, чтобы убедиться, все ли обнажили перед ним головы. Только три человека остались в шляпах: потомок егеря, спасшего в пору английских завоеваний безумного короля на охоте, полузабытый дворянин Абель де Сирано, герцог Анжуйский, чьи предки отстояли это право при присоединении Анжу к Франции, и граф де Ла Морлиер, похожий на башню, увенчанную вместо крыши головным убором, столь же аляповатым, как и у господина Абеля де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерака. Придворные состязались друг перед другом в изяществе поклона перед королем, все, кроме упомянутых вельмож, которые ограничились лишь сотрясанием перьев на шляпах. Через зал была проложена ковровая дорожка, по которой и шествовал король, сопровождаемый присоединившейся к супругу королевой и кардиналом Ришелье. Закинув голову, тот ястребиным взором окидывал все вокруг. Не дошел король и до половины зала между почтительно расступившимися перед ним придворными, как открылись противоположные двери, и там появились два монаха в серых сутанах, смиренный будущий кардинал Мазарини и на шаг впереди него тревожно озирающийся, полуослепленный дворцовым блеском, недавний вечный узник Кампанелла. И тут произошло невероятное. Король обнажил голову перед скромным монахом, выражая тем самое высокое уважение, которое, если верить истории, короли вообще никому не оказывали. Получилась невероятная ситуация. Весь зал, весь цвет французской знати стоял перед былым вечным узником, итальянским монахом с обнаженными головами, все, все, кроме… трех вельмож, имевших привилегии не обнажать головы перед королем. Перед королем! А если сам король обнажил? — Снимайте шляпу, ваше сиятельство, — зашипел мужу своей любовницы маркиз де Шампань. — Делайте, как король! Граф де Ла Морлиер не обладал быстротой соображения. Пока до его ума дошли слова маркиза, герцог Анжуйский, бывший в шляпе при выходе короля, обнажил голову. Теперь и графу де Ла Морлиер не оставалось ничего другого, как последовать его примеру. Кардинал Ришелье, хоть и смотрел на Кампанеллу, все же заметил замешательство обладателей вредной «шляпной привилегии», запоздавших обнажить в конце концов свои головы. Последним с видимой неохотой снял так дорого стоившую ему шляпу обескураженный господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак. Кампанелла меж тем подошел к Людовику XIII и выразил ему свою величайшую преданность и признательность, затем он попросил разрешения передать монсиньору кардиналу Ришелье письмо святейшего папы Урбана VIII. Ришелье взял пакет, благословив монаха, вскрыл печати и быстро пробежал папское послание. — Так и есть, ваше величество, волею господа я предугадал содержание послания наместника святого Петра. Святейший папа не ошибся, выбрав Францию местом своего доверия. Так французский монарх вместе с жесточайшим правителем Франции кардиналом Ришелье и всей французской знатью, оплотом реакции и абсолютизма, встречали с обнаженными головами первого коммуниста Европы Томмазо (Фому) Кампанеллу, автора великого «Города Солнца», послужившего столетия спустя одной из вех при разработке путей в коммунистическое завтра человечества. Ришелье же утвердился в глазах всех как лицо, пользующееся особым вниманием папского престола. Вся эта задуманная им церемония дала ему повод отменить во имя королевского величия устаревшую, заимствованную у англичан «шляпную привилегию», унижавшую королевское достоинство. Отмена эта способствовала еще большему утверждению абсолютизма, впоследствии забытая историками из-за своей незначительности. Что же касается королевского писца господина Абеля де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерака, то он, хотя и осуществил свою заветную мечту не снять шляпу перед королем, в Лувр больше никогда не приглашался.По Сократу
ЭПИЛОГ
Коварство может обмануть ум, но не заменить его.Франция тем временем, участвуя в Тридцатилетней войне, как ее впоследствии назвали, обретала среди истощенных ею стран «европейскую гегемонию», что приписал себе в заслугу кардинал Ришелье, достигнув высшей власти и всеобщего почитания, хотя до конца войны было еще далеко. Тенью на этой славе он считал лишь вынужденное наглым де Бержераком его участие в освобождении Кампанеллы, взгляды которого, выраженные в «Городе Солнца», возмущали аполлогета абсолютизма. И он сделал все возможное, чтобы требуемое молчание знающих, включая самого Сирано, позволило бы современникам поверить, будто освобождение вечного узника исходило только от папы Урбана VIII, вызванное его антииспанскими настроениями. Однако Ришелье допускал, что истина может стать известной в будущем. Мазарини подсказал ему надежный способ исключить это. Он затребовал в порядке ватиканской ревизии церковные книги местечка Мовьер, где приходским священником был знакомый нам кюре. Тот не сразу заметил подмену в возвращенных книгах записи о рождении и крещении Савиньона, сына господина Абеля де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерака, а, обнаружив ее, встревожился, хотя не видел никакого практического смысла в этой ошибке. Он оставил эту неверную запись в церковной книге без последствий, не желая привлекать внимания Ришелье и Мазарини к ложе доброносцев, где кюре считался мастером. Путаница с крещением Сирано выяснилась лишь после его кончины, когда его друг детства Кола Лебре готовил предисловие к его посмертному изданию «Иного света», обнаружив по документам, что, всю жизнь бывший его сверстником, Сирано по записи на пять лет его моложе! Сирано во время своей бурной жизни, конечно, не подозревал о способе сделать его участие в освобождении Кампанеллы невозможным из-за якобы слишком юного его тогда возраста. Сказаться это, как рассчитал Мазарини, могло лишь на последующих историках, которым истинная роль Сирано не будет понятна.Сократ
Книга третья ИНОЖИТЕЛЬ
Природа не знает мифов, но мифы воспевают природу.Сократ

Научно-фантастический роман-гипотеза в 3-х частях с прологом и эпилогом о невероятном превращении лихого дуэлянта в философа и писателя, обладающего загадочными знаниями грядущего
ПРОЛОГ
Воображение — вот крылья, поднимающие человека над обыденностью.Когда мой роман о юном Сирано де Бержераке был уже завершен и я готовился перейти к следующему роману о нем, мне позвонили по телефону из Союза писателей, а потом из Общества «Франция — СССР» по поводу того, что со мной хочет встретиться французский журналист, сотрудник журнала, органа общества. Свидание наше должно было состояться в Доме дружбы, причудливый фасад которого виден с Арбатской площади. Я люблю старую Москву и, направляясь к Арбату, намеренно шел по староарбатским переулкам с еще сохранившимися домишками «о трех окнах», всегда так привлекающих внимание наших зарубежных гостей. Ведь великолепные многоэтажные «здания под облака» они видят и у себя на Западе, а домики, сделанные целиком из дерева, поражают их, как видения из старой сказки. Старой сказкой показался мне в свое время и Париж, когда четверть века назад я бродил по нему, как бы прикасаясь к его древней истории, и когда мои французские друзья подсказали мне мысль написать о Сирано де Бержераке. И сейчас я шел на свидание с французом уже в Москве в предвкушении новых подробностей из жизни удивительного человека, который словно побывал в нашем времени, а потом снова вернулся в эпоху жестоких кардиналов-правителей, бездумных королей, дворцовой роскоши и крестьянской нищеты. Имя Сирано де Бержерака взял для своей героической комедии Эдмон Ростан, а в дни гитлеровской оккупации Франции оно появилось в заголовке подпольной газеты бойцов Сопротивления. Такова притягательная сила неистового современника д'Артаньяна, который прославился не только шпагой, как тот, но и остротой своих поэтических произведений и философских мыслей. Наш французский гость сразу расположил меня к себе, склонный к юмору, невысокого роста, подвижный, черноволосый, с темными горящими глазами, с веселой белозубой улыбкой и быстро меняющимся выражением продолговатого лица. Полушутливо он сообщил, что его зовут почти как Жюля Верна — Жюль де Вернон и это непременно должно расположить меня, фантаста, к нему, как расположен он сам ко мне из-за своей жены, русской француженки, правнучки бывшего князя Шаховского Елены Шаховской, имя которой (как он знает!) я использовал в своем романе «Льды возвращаются». — К сожалению, льды вернулись в международные отношения, — заметил он. — Суть вашей фантазии в том, что льды эти действительно должны вернуться, но уже на свои прежние места, как во времена потепления. Я хочу верить в это, ибо «безумию разума» невозможно восторжествовать. Человечество не должно следовать примеру несчастных китов, которые порой все вместе выбрасываются неведомо отчего на сушу, чтобы затем сообща погибнуть. С присущей ему манерой перескакивать в разговоре с одной темы на другую он вспомнил, что первая русская летчица тоже была Шаховская, а потом спросил: — Но как вы угадали ее, мсье Алекс? — Кого? Летчицу? — Нет! Мою жену! Неужели повидались с нею в Париже? Он сносно говорил по-русски, с милым мягким акцентом, объяснив, что изучил этот язык, влюбленный в свою будущую супругу. — Нет, мне не привелось столкнуться с вашей супругой. Я лишь встретился там с такими людьми, как Жак Бержье, Эме Мишель, узнав от них о Сирано де Бержераке. Они натолкнули меня на мысль написатьо нем и помогли впоследствии собрать о нем еще больше важных сведений. — Ба! — воскликнул француз. — Как вы могли о нем узнать, когда никто о нем ничего толком не знает! А, догадываюсь, мсье Алекс! Вам способствует свойство моего великого «почти тезки», кажется, так правильно сказать по-русски? — Если вы имеете в виду воображение, которое отличало вашего великого французского фантаста, то без этого дара действительно не написать романа, как и нельзя представить себе то, чего нет, или создать нечто новое. Ведь воображение и отличает человека от всего остального животного мира. Жюль предложил мне пройтись по вечерней Москве, признавшись с улыбкой, что он страстный пешеход и дома не может успокоиться, если не пройдется по парижским бульварам и не посидит вечером за вынесенным из кафе столиком. Мы оделись и вышли на Арбатскую площадь. Заранее предвидя интерес гостя к старым московским домикам, я предложил Жюлю наши бульвары и старинные переулки. — О нет, нет! — неожиданно возразил наш гость. — Покажите лучше мне ту вашу улицу, которая называется «Сделанная телега», «Сверкающая колесница», «Новая арба» и которая к тому же проламывает путь из прошлого в будущее. Я не сразу понял его, но наконец догадался, что французу нужен Новый Арбат — проспект Калинина с его огромными домами-книгами, как назвал их Жюль, «со строчками окон, по которым можно читать о будущем». Говоря мне все это, он заразительно рассмеялся, обнажив при этом белые зубы под черными усиками. — Это восхитительно! — энергично жестикулировал он руками. — Смотрите! Прошлое и будущее существуют у вас совсем рядом. Эти дома-громады вытесняют старые каменные мешки своими многоэтажными плечами, а бывшие великаны упираются, не хотят уходить в забвение. Эта улица должна особенно привлекать вас, мсье Алекс. — Почему? — удивился я. — О-о! — погрозил он мне пальцем. — Вы совсем не зря обратились к истории. Вы хотите, чтобы ваша фантазия работала и на будущее и на прошлое. И, знаете, это очень правильно, мой друг! Что такое история? Это фантазия, обращенная назад! Каждый видит ее по-своему, поскольку «машины времени» для путешестия в прошлое нет, иначе я был бы Сирано де Бержераком, посетившим вас. — Вы правы, Жюль. Ведь прошлое дает нам пищу для фантазии не меньшую, чем будущее. Роль же «машины времени» играет воображение. Кстати, вы знакомы с каратэ? — О-о! Еще бы, иначе я не был бы чемпионом Франции по фехтованию. — На саблях? — Нет, что вы! Конечно, на шпагах! — А не потому ли Сирано де Бержерак так искусно владел шпагой, что знал, как и вы, приемы, которые сходны с каратэ? — Браво! Может быть, может быть! На все надо смотреть с высоты. И потому вам придется провести меня сейчас через вашу Сену по мосту. — Через Москву-реку. — О да, конечно! У вас Москва-река! А Сена — это «Париж-река»! — И он засмеялся. — О-о! Я узнаю этот отель! «Украина»! Я в нем остановился. Моя жена так велела. Она тоже здесь останавливалась. Может быть, вы с ней здесь виделись? — Уверяю вас, мсье Жюль. Имена моей героини и вашей супруги чистое совпадение. — Ну может быть, может быть. Она отдает свой голос коммунистам, а я — социалистам. Мы часто из-за этого ссоримся. — Ссоритесь? — О да, конечно! Настоящее семейное счастье — это 80 процентов терпения, 10 процентов ссор и 10 процентов безоблачного счастья! А совсем без облаков не может быть дождя, а только засуха. Тоже плохо. Не правда ли? Я вас весьма замучаю прогулкой на ту самую горку, откуда Москва видна, как открыт Париж с Эйфелевой башни. — Вы имеете в виду площадку на Ленинских горах напротив нового университета? — О да, конечно! И вы совсем не пожалеете, показав мне такую прекрасную панораму. В оплату вашей любезности я расскажу вам кое-что о себе, вернее о Сирано де Бержераке, поскольку у меня тоже есть фантазия, позволяющая путешествовать в прошлое… и обратно, — загадочно добавил он. — И он так близок вам, Сирано де Бержерак? — Конечно! Я даже влюблен в свою русскую княжну именно так, как мог влюбиться только Сирано де Бержерак. «Когда ты входишь, солнце меркнет!..» — продекламировал он. — Вы имеете в виду ростановского Сирано, стихи Ростана? — О нет! Совсем нет! Я имею в виду самого Сирано де Бержерака, «стихи влюбленного поэта». Если вы будете рассказывать о нем, то должны передать его страстное желание любить. — И он любил? — О да, конечно! Иначе не могло быть! Я, как никакой другой, очень хорошо его понимаю. Больше, чем знаю. — Это любопытно. Больше понимать, чем знать? — Конечно, я ведь могу признаться, куда он исчезал один или два раза из парижского общества. — Один или два раза? Из-за болезни или ран? — Может быть, может быть. Но он каждый раз возвращался другим, совсем другим. Вот это надо понять! О нем пишут столько нагромождений, столько противоречностей… Я, кажется, не так сказал? — Противоречий? — О да, конечно! Противоречий! Так правильно. Один биограф утверждает, что он был кутила и дамник, то есть бабник, простите, я так говорю? Другой, а это его друг детства Никола Лебре, вспоминает, что Сирано вино сравнивал с мышьяком, которым люди отравляют себя, и чуждался женщин из-за своей внешности. — Но все-таки, может быть, Ростан был прав, угадав в нем натуру страстную и бескорыстную. — О да, может быть, может быть, если учесть и другие стороны его характера, желание служить добру и людям, а не только утоление своих желаний. Вам надо искать понимание его жизни в нем самом, в том, что он оставил после себя людям. О, эти загадочные трактаты или сонет «Философу Солнца» с последней строчкой «Мне — ничего, а все, что есть, — другим!». Мы с вами, русский и француз, в равном положении. Его сочинения нужно одинаково переводить со старофранцузского языка. А это у нас, увы, не сделано полностью. В особенности в отношении стихов, а вам нельзя обойтись без них! Они его суть. Как вы поступите, мсье Алекс? — Очевидно, так же, как ваш Ростан. Мне придется мысленно воплотиться в своего героя и говорить за него. — О, это будет трудно — спорить с самим Ростаном! — Нет, почему же спорить? Идти его путем. Конечно, не подражая, но с той же свободой творчества. К тому же, я располагаю собственноручно написанными стихами Сирано под его портретом. — О-о! Это прекрасно! Я сам буду потом переводить угаданные вами стихи Сирано на современный французский язык. — Конечно, Сирано — это его стихи, но есть еще его загадочные знания, о которых говорится в статье Эме Мишеля в журнале «Сьянс э ви».[93] — Я знаю эту статью, читал с улыбкой. — Почему с улыбкой? — Потому что могу объяснить, откуда Сирано все это узнал. Жюль с загадочным видом смотрел на огни, рассыпанные на другой стороне излучины реки. Они казались волшебным отражением звездного небосвода в исполинском, лежащем у нас под ногами зеркале. — И вы можете объяснить мне? — почему-то шепотом спросил я и стал перечислять: — Как Сирано мог знать 350 лет назад многоступенчатые ракеты для межпланетных путешествий, явление невесомости, парашютирующий спуск, электрические лампы, радиоприемники, телевидение, звукозапись, но не с помощью наших кассет с магнитными лентами, а в виде сережек, начинающих нашептывать нужную главу по мысленному приказу. — О-о! Теперь это говорят «от биотоков мозга». Но если вспомнить о биотоках и биологии, то Сирано говорил еще и о клеточном строении нашего организма, даже о микробах. — Которые, представьте, были открыты лишь двести лет спустя! — О, конечно, конечно! Но не только о микробах, мсье Алекс, но и об антителах в нашей крови, как мы ныне знаем, которые борются с враждебными бактериями, как он утверждал, правда, образами, доступными пониманию в XVII веке. — Да, да, все это сообщено в «Сьянс э ви», но не имеет объяснений. — Я объясню, я открою вам эту тайну. Огни вечерней Москвы располагают меня к этому. Я хочу, чтобы они горели так каждый вечер и не тушились из предосторожности или по какой-нибудь еще причине. Так пожелал бы и Сирано де Бержерак, уверяю вас. И наш французский гость стал рассказывать мне в этот вечерний час столь необычные вещи, что я слушал его затаив дыхание, не веря ушам, с замиранием сердца. Передо мной как бы стоял живой Сирано де Бержерак, повествующий о том, чего никто не мог знать, кроме него. И я как бы услышал из первых уст разгадку тайн удивительного человека, живого, яркого, страстного, мудрого, ищущего блага для людей, пережившего страстные взлеты и горькие разочарования, оставив после себя память в веках. Некоторое время мы оба молчали, задумчиво глядя на россыпь московских огней, потом Жюль заговорил снова: — А его огромный нос! Легенда о нем бесспорна, но в портретах, нарисованных художниками с натуры, легенда эта не подтверждается. И уверяю вас: никакой такой переносицы, которая, по их мнению, у Сирано де Бержерака якобы была выше бровей, нет, как нет и шрама на ее месте. — Вероятно, портреты писались уже после его ранения? — О да, конечно! Чтобы в те времена художники взялись писать портрет, нужно было иметь много денег и некоторые известия… — Некоторую известность? — О да, конечно! Хотя бы стать если не графом, то писателем или математиком, как Пьер Ферма, или философом, как Декарт. — Значит, ранение Сирано от сабельного удара не оставило следа на его лице? Или, напротив, стерло одну особенность? — О да, мсье Алекс! Мне это как-то не приходило на ум. — Но то, что пришло вам на ум, мсье Жюль, для объяснения невероятных знаний Сирано, требует по меньшей мере путешествия на триста с лишним лет вперед и возвращения обратно? Неужели Сирано был способен на это? — Вы желаете спросить, где моя шляпа с пером и шпага? Или хотите со мной обратно в XVII век? Не советую. Правда, ядерной угрозы тогда не было, но Несправедливость и Зло торжествовали. Давайте лучше искать такой путь, который не вел бы назад. — А что вы скажете, если идти только вперед? — Земля круглая. А время? — лукаво спросил мой спутник. Берет на нем держался лишь на одном ухе. Я невольно поймал себя на том, что как бы пытаюсь представить его себе в шляпе с пером и со шпагой на боку. Обмениваясь шутками, мы весело дошли до метро, потом доехали поездом до Киевского вокзала, откуда я проводил его до гостиницы «Украина». А оттуда до Арбатской площади, до Дома дружбы, было рукой подать (если сравнить это с только что проделанной прогулкой!). Дом дружбы многих поражает своим необычным фасадом в мавританском стиле (былой владелец особняка Савва Морозов отличался экстравагантностью вкусов и поступков, даже помогал революционерам. Особняк этот он выстроил, «протестуя против всего обычного»). В вестибюле меня ожидал представитель Общества «Франция — СССР», чтобы принести извинения за французского журналиста, не смогшего прилететь в Москву и просившего отложить нашу беседу до его предстоящего приезда. Но воображаемая встреча с ним в моем подсознании состоялась. И никакая сила не могла меня в том переубедить. Я теперь знал тайны Сирано, как и представлял его страстную натуру, стремление любить и вместе с тем беззаветно служить всеобщему благу. Француз прочитал первую строчку его любовного сонета и последнюю философского, так пусть же сонет Сирано, посвященный «Философу Солнца», откроет завершающий роман о дуэлянте, поэте, писателе и философе Сирано де Бержераке, каким фантаст представил его себе.Сирано де Бержерак
ФИЛОСОФУ СОЛНЦА
Сонет
Кампанелле
Часть первая МИССИЯ УМА И СЕРДЦА
Познал я горесть всю земнуюИ к небу обращаю взор,К Луне и Солнцу, в даль пустую,Богов где вижу и простор.[94]Собственноручная подпись Сирано де Бержерака под его портретом.

Глава первая ИЩУЩИЙ
Шло третье десятилетие Тридцатилетней войны. Париж был в счастливом отдалении от мест кровавых схваток «во имя короля иль бога». В Европе неистовствовала реакция, утверждая неограниченную власть королей — абсолютизм. После Реформации, пробудившей надежды угнетенных народов на избавление от гнета церковного монарха, сидящего на «святом престоле», католицизм перешел в наступление под знаменем нерушимых догм. И при этом властители Европы под видом служения папе римскому или освобождения от клерикального гнета пытались прежде всего утвердить собственную власть. И противостояли друг другу в неутолимой вражде с одной стороны — Священная Римская империя, представляемая Габсбургами, и с другой — протестантская коалиция во главе с удачливым шведским королем Густавом-Адольфом, непокорные курфюрсты, Нидерланды, Дания, Швеция. К этой воинствующей группе, к которой, помимо религиозной отступницы Англии с ее англиканской церковью, кромвелевской революцией и казнью собственного короля, в удобный момент примкнула и католическая Франция. Ее правитель кардинал Ришелье, близкий к папскому нунцию,[95] вступая в нескончаемую войну, помышлял не столько об интересах папы римского, сколько о собственной гегемонии в Европе. И вписывались в летопись сражений имена полководцев, затемнявших один другого, среди которых после Толли особенно прославился Валленштейн. Воспитанный иезуитами, а потом возненавидевший их, он расчетливо женился на родственнице императора и сразу удивил всех сначала небывалой щедростью и роскошными пирами, а вслед за тем редкими способностями в военном деле. Как военачальник, он умудрялся малыми силами побеждать целые армии, а при пустоте императорской казны знал, как обходиться без нее. Он считал, что «армия в двадцать тысяч человек останется голодной, а в сорок тысяч будет сыта и довольна». И там, где проходили его войска, оставалась выжженная земля, покрываемая затем новыми лесами с волками и медведями или болотами с коварными топями. За армией тащились, по численности людей превосходя ее, обозы. Ехали на скрипучих телегах и солдатские семьи, и всевозможные проходимцы, тунеядцы, чужеземцы, преступники. На отнятых у крестьян подводах везли также скарб, награбленный у жителей этих мест, «не так, как надо, молившихся», словом, все то, что, по замыслу полководца, могло прокормить армию, а также поднять ее боевой дух, который не держится в голодном теле. И так двадцать с лишним лет! С переменным успехом для враждующих сторон. Вожди их погибали или в бою, или на плахе (в том числе и непобедимый Валленштейн). Их сменяли другие, продолжая отвратительное преступление против человечества, опустошая цветущие края, растаптывая все христианские заповеди морали, за которые якобы боролись. Историки спустя двести с лишним лет после завершения этого позора цивилизации (по словам Виктора Гюго) так живописали воспроизведенную ими по документам отталкивающую картину: «…то, чего не могла сожрать или поднять с собой эта саранча, то истреблялось. И оставался за армией хвост из „свиноловов“ или „братьев-разбойников“, которые не давали спуску ни врагам, ни союзникам, а потом на попойках при дележе добычи резались между собой». Земские чины Саксонии жаловались: «Императорские войска явили невиданный даже у турок пример безжалостного истребления всей земли огнем и мечом. Они рубили все, что попало, отрезали языки, носы и уши, выкалывали глаза, вбивали гвозди в голову и ноги, вливали в уши, нос и рот расплавленную смолу, олово и свинец; больно мучили разными инструментами; связывали попарно и ставили в виде мишеней для стрельбы или прикручивали к хвостам коней. Женщин позорили всех, без различия возраста и звания, и отрезали им груди. Как звери набрасывались на детей, рубили, накалывали их на вертелы, жарили в печах; церкви и школы превращали в клоаки. Умалчиваем о других варварских злодеяниях, пером не описать всех». По свидетельству историка XIX века, «особенно свирепствовала „испанская уния“, но немногим лучше были и французы. Немецкая молодежь была перебита, уцелевшие по лесам и болотам падали жертвами заразы и особенно голода, не только питались трупами, но резали друг друга, даже матери жарили и ели собственных детей… Из семнадцати миллионов в живых осталось лишь четыре миллиона».[96] Конечно, летописец, писавший эти содрогающие любого читателя строки сто лет назад, не подозревал, что в той же Европе или Южной Америке век спустя (то есть в наше столетие!) другие историки должны написать подобные же строки, но о своем собственном времени. И еще более страшные, но уже не о Тридцатилетней, а всего лишь о тридцатиминутной войне, висящей жуткой угрозой над всем человечеством, последствия которой могут быть губительнее всех минувших войн вместе взятых. Конечно, этого не могли даже вообразить себе двое молодых людей, вкусивших первые плоды войны и шествовавших теперь по парижским улицам: один в надвинутой на глаза шляпе, с черной повязкой на лбу, прикрывающей брови, бледный, очевидно от перенесенной потери крови, но мускулистый, худощавый; другой — розовощекий здоровяк, покинувший гасконскую роту гвардейских наемников не из-за ран, как его спутник, а из отвращения к виду крови. Солдатом тогда был лишь тот, кто получал за это жалованье. Ведь «sold» и означает жалованье, от которого всегда, вместе с военной службой, можно отказаться. Но потрепанных гвардейских мундиров молодые люди снять не успели, шагая среди куда-то спешащих, суетливых, пестро одетых парижан. Кареты с гербами на дверцах, запряженные попарно цугом подобранными по масти лошадьми, проносились по ухабистым мостовым. Всадники в шляпах с перьями без стеснения пускали коней вскачь, заставляя прохожих испуганно жаться к стенам, снимая на всякий случай шляпы. Приятели были слишком горды, чтобы унижаться перед надменными кавалерами, но уступать им дорогу приходилось. Наконец они достигли своей цели и были ошеломлены представшей перед ними картиной: особняк герцога д'Ашперона, который был им нужен, обнесенный каменной стеной, как крепость в центре Парижа, словно был взят штурмом. Во всяком случае, несколько каменщиков в перепачканных фартуках пробивали в стене проем, а плотники сооружали мостик через канаву, знаменующую крепостной ров под стеной. — Похоже, что его светлость господин герцог попал в немилость, — сказал розовощекий. — Напротив, — усмехнулся его спутник с черной повязкой на лбу, — как бы это не знаменовало особое внимание высокой особы к нашему герцогу. Молодые люди, решив не торопить события, смешались с толпой, тоже заинтересованной происходящим. Через каких-нибудь полчаса проем в стене был пробит, деревянный мостик возведен, и рабочие скрылись за стеной. Розовощекий, толкнув приятеля в бок, кивнул вдоль улицы. Там появился отряд гвардейцев личной охраны его высокопреосвященства господина кардинала Ришелье. Горожане толпились у стен домов и низко кланялись. Дюжие гвардейцы несли на плечах жерди носилок с покоящимся на них креслом. На нем гордо восседал в пурпурной мантии, бессильно свесив парализованные руки и ноги, кардинал Ришелье. Он поворачивал голову на тонкой шее из стороны в сторону и ястребиным, колким взором оглядывал все вокруг, являя собой несокрушимую силу, презревшую собственную немощь. Многие падали перед ним на колени, протягивали руки, стараясь коснуться пальцами свисающей с носилок пурпурной мантии. Впереди шел герольд со звонкой трубой, украшенной цветными лентами, вслед за ним и позади носилок шествовали вооруженные гвардейцы, которые грубо отталкивали ботфортами тянущиеся к властителю Франции руки. Процессия остановилась перед мостиком и, пройдя по нему в пробитую в стене брешь, скрылась во дворе герцога д'Ашперона. Стоявшему в толпе молодому человеку с повязкой на лбу показалось, что немощный, но могучий кардинал, встретясь с ним взглядом, сверкнул глазами. Это заметил и его розовощекий приятель. — Он узнал тебя, Сави! — прошептал он. — Не думаю. Что я для него? Дуэлянт, скандалист. — Не скажи! А кто выиграл у него заклад о том, что не допустит сожжения книг Декарта? — Этого он забыть не мог! — с многозначительной улыбкой непоследовательно отозвался Сирано де Бержерак. И, помрачнев, добавил: — Как и я никогда не забуду Кампанеллу! Прожив последние годы в приютившей его Франции, перенесший тридцатилетнее заключение философ недавно умер в предоставленном ему Ришелье убежище под Парижем — в местечке Мовьер, где родились оба молодых человека, наблюдавшие сейчас многозначительное посещение всесильным кардиналом Ришелье наверняка трепещущего перед ним герцога д'Ашперона. — Надеюсь, носилки кардинала удалось внести в замок без выламывания парадных дверей? — не без иронии заметил Сирано. — Тише, ты! Здесь всюду шпионы кардинала, — зашипел Лебре, друг детства Сирано и соратник в бою. — Совершенно с тобой согласен, но все же думаю, что его высокопреосвященство предпочтет беседу с его светлостью без нашего с тобой участия, дорогой Кола. — Не могу этого отрицать, Сави. И будь у нас иная цель, я предпочел бы находиться где-нибудь подальше. — Нет, зачем же? — возразил Сирано. — Отсюда мы увидим, как пышная процессия проследует обратно. Тогда настанет наш черед. Друзьям не пришлось ждать долго. Очевидно, высокий визит носил предупредительно-символический характер и его высокопреосвященство не удостоил герцога продолжительной беседой, и, может быть, главным в этом посещении была пробитая брешь в стене замка излишне влиятельного вассала. Герцогу предоставлялась возможность поразмыслить над тем, что кардинал не пожелал пару раз завернуть за угол, чтобы пройти через главные ворота, а приказал нести себя напрямик. Он никогда ничего не делал без задней мысли. Может быть, такая мысль пришла к нему на этот раз от воспоминания о выпускном акте в коллеже де Бове, когда наказанный выпускник Савиньон Сирано де Бержерак выломал наскоро сложенную в актовом зале стенку карцера, чтобы отвечать на вопросы его высокопреосвященства. Через некоторое время толпа наблюдала, как в проеме показался герольд с украшенной лентами трубой, возвещающей о появлении повелителя Франции. Затем группа солдат с носилками на плечах вынесла покойное кресло с беспокойным, хотя и недвижным, кардиналом в пурпурной мантии. На улице толпящиеся парижане, бросаясь на колени, кричали славу кардиналу. Когда толпа за процессией замкнулась, наполнив улицу шумным говором, в проеме стены показался герцог д'Ашперон. Величавый, с белой эспаньолкой и озабоченным лицом, он вышел вслед за кардиналом без шляпы, и ветер развевал его длинные седые волосы. Он стал деловито распоряжаться вновь появившимися каменщиками и плотниками, приказав разобрать мостик и заделать стену камнями. Лебре подошел к его светлости и как-то по-особенному сложил пальцы рук. Герцог кивнул, жестом предлагая следовать за ним. — А не служит ли работа этих каменщиков, ваша светлость, неким символом Добра? — вполголоса спросил Лебре. — Лишь бы не стала символом отнюдь не добра причина, что призвала каменщиков сюда, — сумрачно отозвался герцог. Сирано де Бержерак молча шел следом, привычно придерживая локтем рукоятку шпаги, принесшей ему легендарную славу в более чем ста удачных дуэлях, неизвестно как сошедших ему с рук. Герцог с двумя друзьями поднялся по винтовой, но широкой мраморной лестнице и провел их анфиладой роскошных комнат. Хрустальные люстры, ценные картины, вазы тончайшей работы, фарфоровые безделушки из далеких стран, оружие со сверкающими ножнами и рукоятками, украшали стены там, где не было цветных панно. Богатые комнаты кончились, хозяин особняка повел друзей по невзрачной крутой лестнице вниз, очевидно в подвальное помещение. Сирано, привычно усмехнувшись, подумал про себя: «Здесь гвардейцам с носилками его высокопреосвященства не удалось бы развернуться. Очевидно, прием кардинала и двух скромных солдат намечался в разных по убранству комнатах». Герцог пропустил Сирано вперед, а сам вместе с Лебре задержался на ступеньках лестницы. Спустившись, Сирано оглянулся и увидел, что оба его спутника оказались в белых замшевых запонах, передниках. Головы их накрылись белыми капюшонами с прорезями для глаз. Он не сразу понял, кто герцог, а кто Кола. Он узнал друга лишь по грузноватой фигуре, а герцога по величавой осанке. — Ищущий себя в братстве доброносцев, — торжественно обратился к Сирано скрытый капюшоном герцог, — тебе предстоит пройти испытания, прежде чем ты предстанешь перед Вершителем Добра. Как скромный здешний надзиратель, я передаю тебя в руки назначенного тебе ритора. И тут Сирано увидел подле себя еще одну фигуру в белом запоне и капюшоне, скрывающем лицо. — Сэр, прошу прощения, но вам придется довериться мне, — с акцентом произнес незнакомец и протянул руку. Меж тем герцог-надзиратель надел на голову Сирано капюшон, но без прорезей для глаз, и он ощутил себя беспомощным слепцом. Ритор-англичанин держал его руку. — Плиз, сэр. Прошу вас, — предложил он. Сирано, доверяясь своему поводырю, двинулся вперед, но вскоре споткнулся, пол ушел из-под ног, и он, оступившись в яму, едва удержался стоя. Ритор помог ему выбраться оттуда, и они снова двинулись вперед. И опять ощутились неровности пола. Теперь Сирано уже не терял равновесия, нащупывал ногой, куда ступить. — Сожалею о неудобствах вашего вступления в наше общество, но здесь все для яркости, но скорее для неясности, построено на символах, о которых нам еще предстоит побеседовать. Сейчас вы испытываете символические превратности судьбы и крепкую руку брата, готового прийти вам на помощь. — Мерси боку, — ответил Сирано по-французски и повторил по-английски: — Сенкью вери мач. — Не сомневаюсь, друг мой, что мы найдем с вами общий язык. Уэлл? Верно? — Найдем, — решительно заверил Сирано. — Теперь будем стучать в дверь, — сказал ритор и ударил трижды с интервалами в оказавшуюся, очевидно, перед ними дверь. — Кто стучит? — отозвался из-за преграды знакомый Сирано голос. — Достопочтенный Вершитель Добра, это явился назначенный вами ритор в сопровождении ищущего блага людям и дорогу в руководимое вами благочестивое общество. — Отомкните дверь! — услышал Сирано тот же голос. — Объявляю заседание общества доброносцев открытым! Сирано ощутил, что они с сопровождающим вошли в просторное помещение, в котором гулко отдавались их шаги. — Ваше проходное слово? — раздался неведомо кем заданный вопрос. — Габаон, — ответил ритор и громко возвестил: — Сообщаю братьям доброносцам и достопочтенному Вершителю Добра: новоявленный ищущий под именем Савиньона де Бержерака достоин быть принятым в наше благочестивое общество для Великого Дела борьбы со Злом. — Кто поручается за него? — послышался голос Вершителя Добра. — Почтенный магистр и Поборник Добра, советник парламента в Тулузе, поэт и математик, метр Пьер Ферма; занятый делами в парламенте, он не смог прибыть в Париж на это заседание (сожалею об этом), но по нашему уставу поручительство может быть заочным. Вери уэлл! Я кончил. — Очень хорошо, — словно перевел его последние слова Вершитель Добра. — Сообщение ритора принято. Откройте глаза ищущему. Ритор не стал снимать с головы Сирано капюшон, а лишь повернул его прорезями для глаз вперед (они были до того на затылке), что позволило ему увидеть дюжину шпаг, направленных присутствующими доброносцами в капюшонах ему в грудь. — Оцени, ищущий, что шпаги эти лишь видимым образом устремлены к твоему сердцу, которое отныне ты отдаешь Добру. Эти шпаги доброносцев всегда будут за вас, пока вы сообща с нами будете служить делам общества, противостоя разгулу Лжи и Насилия во всем Свете. Но горе вам, если вы измените клятвам, которые сейчас принесете. У нас всюду глаза и уши, по их сигналу эти шпаги пронзят неверное сердце. — Уэлл! — возгласил ритор. — Заверяю, что шпагам этим не придется пролить кровь ищущего, которого по поручению Вершителя Добра я наставлю на должный путь, как того требует наш устав. Сирано оглядел подземное помещение без окон со сводчатым потолком. На полу лежал ковер, расшитый узорами. На алтаре со свечами раскрытая книга. Сирано чисто внешне воспринимал торжественную обстановку подземелья. — Там, на востоке, где восходит светило, дающее жизнь всему живому, место Вершителя Добра. Место же доброносцев — на западе. Оно знаменует их долг и готовность повиноваться Вершителю Добра в делах, которые не знают границ между государствами, оскверняющими мораль нескончаемыми войнами и религиозными распрями, питающими ненависть. Все мы объединены здесь единой целью сотворения Добра, — громко поучал ищущего ритор. — Готов ли ты объединиться с нами? — Готов, — ответил Сирано, — и надеюсь, что Добром будет и защита права на жизнь каждого из живущих. — Ритор! Твой «ищущий» произнес благие слова, — отозвался Вершитель Добра. И только теперь Сирано де Бержерак узнал старческий голос своего бывшего учителя, деревенского кюре из Мовьера, перед которым сейчас почтительно стояли доброносцы в капюшонах, а среди них «местный надзиратель» — герцог д'Ашперон рядом с сыном лавочника Кола Лебре. — Ищущий Савиньон Сирано де Бержерак, — провозгласил Вершитель Добра — кюре, протягивая Сирано бумагу, — прочти и подпиши кровью эту клятву, которую даешь перед будущими соратниками по обществу, которое в современном мире Зла и Несправедливости вынуждено быть тайным. Сирано прочел: — «Я, ищущий блага людям Савиньон Сирано де Бержерак, клянусь перед господом богом, перед светлым разумом человечества и перед братьями доброносцами, что с нерушимой верностью употреблю все свои силы, а если потребуется, отдам жизнь для достижения мира и согласия между людьми всех стран, и да поможет мне в этом мой разум и совесть, которые объединю с разумом и совестью всех людей, живущих на Земле, без различия званий, рас и убеждений. Аминь». Ритор протянул острием вперед свою шпагу. Сирано уколол о нее палец правой руки, а потом, когда выступила алая капелька, подписал кровью письменную клятву. — Поздравляю тебя, сын мой, который стал отныне доброносцем, — торжественно сказал старый Вершитель Добра. — Дела твои теперь станут нашим общим делом, в котором нуждается несчастное человечество, вот уже более двух десятилетий терзаемое кровопролитной войной ханжей и властолюбцев. Что можешь сказать ты, новый доброносец, своим собратьям по обществу? Сирано задумался лишь на мгновенье, а потом решился прочесть свой сонет, выражавший его сокровенные помыслы, посвященный Томмазо Кампанелле, которого он поместит впоследствии в своем трактате в страну мудрецов на иной планете, названной им «Солнце».Искать и найти — большое счастье.Найти и потерять — великое горе.Сократ
ФИЛОСОФУ СОЛНЦА
Глава вторая ДЕМОНИЙ СОКРАТА
Вы, люди, воображаете, будто то, чего вы не понимаете, имеет духовную природу или вообще не существует.Герцог д'Ашперон как радушный хозяин и «местный надзиратель» простился с доброносцами и проводил их всех, после чего с озабоченным видом проверил, восстановлена ли стена, хорошо ли заперты ворота, потом вызвал всех своих людей, раздал оружие, расставил по местам и даже послал «смотровых» на соседние улицы. Вероятно, «посещение с проломом стены» его высокопреосвященства и состоявшийся без свидетелей разговор с ним не без оснований насторожили герцога. В подземелье замка остался лишь ритор и только что принятый в общество доброносцев Сирано де Бержерак. Сирано не пришел еще в себя от признания Тристана в его внеземном родстве с ним. А тот как ни в чем не бывало продолжал наставительную беседу с новообращенным: — Твой сонет, друг Сирано, убедил меня, что ты мыслишь не так, как все. Вери найс! Превосходно! И ты пробудил во мне некоторые воспоминания, которыми я хотел бы поделиться со своим братом по Добру и по крови. — Признаюсь вам, ритор, слова ваши о нашем родстве волнуют меня, ибо мне уже приводилось слышать намеки на мое якобы внеземное происхождение. Так говорил индеец-майя, рассказывая о белых богах, прилетавших тысячи лет назад на полуостров Юкатан, что за океаном. По его словам, они запрещали не только человеческие жертвоприношения, но и любые убийства, учили отказу от войн, обязательному для всех труду, презрению к богатству, всеобщему равенству людей без различия каст, знатности и принадлежащих им владений. Но такое учение якобы не понравилось былым вождям и жрецам, отвергнувшим пришельцев, и те, разочарованные в неразумных людях, улетели, оставив после себя жен, которых брали из числа местных женщин, и потомство с наследственным признаком — носом, начинающимся выше бровей, как у меня и у вас, ритор. — Узнаю участников нашего первого межзвездного похода «Миссии Ума и Сердца»! Они действовали от всего сердца, но слишком прямолинейно. И не только на заокеанском материке, в Америке. — Да, ритор, из некоторых библейских текстов следует, что «сыны неба входили к дочерям человеческим и те рожали им гигантов». — Это все тот же межзвездный поход. Главный корабль находился между Землей и Луной, посылая малые небесные шлюпы во все места Земли, где можно было оказать помощь людям, содействовать их процветанию. Это и записано в вашей Библии. В отдельных своих частях она является хроникой древних событий и заслуживает там доверия, как и древнеегипетские сказания о боге Тоте Носатом. — О нем говорил со мной метр Пьер Фрема, мой поручитель, рассказав о своем посещении Египта и знакомстве с культом бога Тота, покровителя ученых и мудрости, что открыл людям многие знания, будто прилетев с Сириуса. — Названия небесных тел условны, друг мой, — перебил Тристан. — Могу ли я говорить с тобой на древнегреческом языке? — Я изучал его и пойму вас, но отвечать предпочту по-французски, чтобы не истерзать ваш слух своим произношением. — Я, конечно, привык к безупречной и сладкозвучной лексике древних, но наш двуязычный диалог состоится. Итак, нашу с тобой прародину я назову на древнем языке Солярией, а ее обитателей соляриями. — Как в «Городе Солнца» Кампанеллы? — Именно потому я и употребил эти латинские названия, более близкие твоему сознанию, чем истинные наименования, трудно воспринимаемые земным ухом. — Все это поражает меня, брат Тристан. Если я твой брат по прародине в межзвездной бездне, то что значит по сравнению с этим мой сонет с мыслями, хорошо известными Томмазо Кампанелле, которому посвящен сонет. — Это говорит лишь о том, что Томмазо Кампанелла, чьим убежденным последователем ты стал, мыслил не так, как другие. А великий Сократ говорил мне в одну из наших с ним встреч: «Думать не так, как другие, вполне достойно, если это служит благу людей». Сирано недоуменно посмотрел на ритора и переспросил: — Сократ? Встреча с Сократом? Я не ослышался? — Конечно, Сократ! Замечательный, простой и мудрый человек с лицом фавна и трепетным, отзывчивым сердцем. Я расскажу о первой нашей встрече с ним. — Зачем ты шутишь, брат Тристан! Или испытываешь меня? — Испытание ты уже прошел. Я должен направить тебя на твой путь, как сделал это и в отношении Сократа в свое время. — В свое время? Сирано едва сдерживал овладевшее им бешенство. Что это? Неужели англичанин, владеющий древним языком, издевается над ним? Внезапно пронзительная мысль охватила Сирано. Нет, нет! Скорее всего он имеет дело с умалишенным! И бред того о богах-соляриях так же достоверен, как и его «бессмертие», позволившее ему «в свое время», две с лишним тысячи лет назад, общаться с Сократом. Жгучую горесть и жалость ощутил Сирано. Многое бы он отдал, чтобы вернуть недавнее состояние готовности бороться вместе с доброносцами против зла, добиваясь торжества справедливости! И Сирано отвернулся, чтобы скрыть выступившие у него на глазах слезы, не прерывая «больного». А «безумный» Тристан как ни в чем не бывало предавался воспоминаниям: — Это было во времена великого зодчего Фидия и его друга Перикла, правителя Афин, созидавших великолепный храм Афины-Девы на холме над городом. Дороги шествий еще не было. Я всегда имел склонность к лазанию по скалам, закаляя характер, потому не воспользовался подъездными путями для доставки наверх мрамора, а по крутой горной тропке поднялся прямо на площадку, где уже красовался почти законченный Парфенон. Как красивы были его мраморные колонны на фоне удивительно синего неба! Великолепная гармония пропорций! Солярии могли бы позавидовать, если бы знали такое чувство! Но мне хотелось не только любоваться истинной красотой, создаваемой людьми, но увидеться с молодым скульптором, сыном каменотеса, всю жизнь высекавшего из глыб «божества». Этому молодому человеку Фидий поручил украсить храм изображением богинь, носительниц Зла, а Сократ, так звали ваятеля, самовольно заменил мрачные фигуры светлыми изображениями богинь Добра и сделал это так впечатляюще, что разъяренный было самовольством подмастерья Фидий в восхищении от увиденного признал решение юноши лучшим, чем его прежний замысел. Мне же казалось, что художник, вооруженный идеями Добра, воплотивший их силой искусства в благородный камень, может оказаться тем самым соратником по «Миссии Ума и Сердца», которого я тщетно искал по всей Элладе. Кто знает, может быть, скульптор Сократ, не будь моего вмешательства, обрел бы не меньшую известность, чем философ, искатель блага, каким он стал после наших бесед. Ценя их и прислушиваясь к моим советам, он оставил мрамор и свой шелковый хитон с нарядными сандалями, бродя среди народа босой, едва ли не в рубище и беседуя с людьми о жизни, дабы направить каждого по светлому пути. Так он стал признанным первым мудрецом Эллады. — Уж не хочешь ли ты сказать, — прервал наконец Тристана Сирано, полный не столько сострадания, сколько возмущения и сарказма, —что был тем самым Демонием Сократа, о котором тот говорил как о неизменном своем советчике? — Именно так, брат мой по крови, Демоний Сократа — твой слуга! Как принято говорить в ваше время. И здесь самообладание Сирано изменило ему. Перед ним, бесспорно, не умалишенный, а англичанин-насмешник, решивший унизить французика со славой дуэлянта, оскорбив и обезоружив его издевательским обрядом. Неужели же все произошедшее в подвальном зале, шпаги, направленные ему в грудь, кровью подписанная клятва, все это лишь жалкое балаганное представление, разыгранное для того, чтобы развенчать Сирано! Скачки настроения и противоположных выводов были характерны для вспыльчивого и резкого Сирано де Бержерака. Оскорбленный и уязвленный, он потерял над собой власть и, ухватившись за шпагу, сквозь зубы процедил: — Да было бы вам известно, мистер Лоремет, что я провел более ста дуэлей, хотя ни разу не вызывал своего противника на поединок. Они сами после моего словесного отпора обидчикам вызывали меня. Но ваши речи, сэр, оскорбляют не только меня, но и великих мыслителей, которых я чту. Вы решились глумиться над Сократом и Кампанеллой, и вам придется в таком случае скрестить со мной оружие! — Что я слышу? Не хочу верить ушам! Вери бед! Скверно! Не ты ли, брат Савиньон, подписал клятву кровью? — Я не преступлю клятвы, защищая свою честь и доброе имя философов, и не позволю никому, как не допустил сожжения книг Декарта у Нельских ворот, слышите, никому, даже названного моим ритором, водить меня за нос, как бы он ни был велик, с помощью басен и сказок о внеземных существах или собственном «бессмертии». Тристан Лоремет расхохотался, и смех его был таким искренним и заразительным, что подействовал отрезвляюще на Сирано, который не знал, как этот смех воспринять, и совершенно смутился. — Брат мой Савиньон! — перешел на французский язык Лоремет. — Я не сомневаюсь, что тебе ничего не стоило бы с помощью своей шпаги доказать, что я вовсе не бессмертен. Признаю твою правоту. Приношу свои извинения. Прошу пощады и согласия выслушать меня. Мне легко если не доказать, то показать, что, не отличаясь от людей продолжительностью жизни, я действительно встречался с Сократом. — Как это может быть? — хмуро спросил у него Сирано. — Только такому острому уму, как твой, я берусь объяснить это. Согласись лишь выслушать меня. — Я должен не только согласиться, но и понять. — Это уже моя забота. Так слушай, вспыльчивый мой друг. Наша прародина Солярия, как я назвал ее для тебя, находится у другого солнца, пусть его назвали когда-то Сириусом или как-нибудь по-другому. Расстояние до нее так огромно, что даже свет идет оттуда до Земли годы и годы. Понятно? Еще больше, чем свету, нужно затратить времени межзвездному кораблю, чтобы преодолеть это расстояние, как приходилось нам, соляриям, в своем стремлении добраться до вашей Земли. И беда, если б Природа не пришла нам на помощь! — Чем же можно помочь в преодолении бездны небесной? Что может сравниться со скоростью распространения света, о которой ты говоришь и которую мы воспринимаем как мгновенное сверканье луча? — Мгновенное? Нет и нет! Природа, наоборот, поставила предел достижимой скорости. Ничто не может перемещаться быстрее, чем распространяется свет! Вам, людям, этот простой закон пока еще неизвестен, однако он непреложен. С приближением летящего тела к этой скорости для него меняется течение времени. Оно уже иное для улетевших на корабле к звездам, чем у оставшихся на месте. — Время иное? Как это понять? — Очень просто! В природе есть немало примеров, заложенных в нее ограничений. Нельзя, например, разделив камень на части, получить вес частей больше, чем имел сам камень. — И что же? — Изволь. Найдешь ли ты что-либо центральнее центра окружности? — Разумеется, нет, ибо окружность строится из центра. — Вери уэлл! Считай, что из «центра» образовалась и наша Вселенная, для которой время течет с момента ее возникновения, а в ее центре оно стоит и всегда стояло. В этом разгадка вечности, друг мой. Вселенная потому и существовала всегда, что в центре ее время оставалось и остается недвижимым. — Допустим. Значит, чтобы время стояло не только в центре Вселенной, пришлось бы всему веществу ее, уподобившись лучу света, мчаться с предельной скоростью? — Ты неплохой ученик, брат мой. Ты угадал, что стоянию времени соответствует перемещение тел в пространстве именно с такой, назовем ее центральной, скоростью. Центральной, поскольку нет ничего центральнее центра окружности. И теперь тебе станет понятным некий образ: представь себе стрелку вселенских часов, где протекшее время отмечается не углом поворота стрелки, а длиной дуги, описанной или ее концом, или любой точкой на ней, вплоть до оси вращения. Представь еще, что конец стрелки вселенских часов отмечает время для тел, находящихся в покое, а перемещение точки от конца стрелки к ее центру вращения отражает скорость, обретенную телом. Дуги, описываемые точкой по мере ее приближения к оси вращения, окажутся тем короче, чем меньше станет радиус описываемой ею дуги. А в центре вращения дуга превратится в нуль, и время остановится. Понятно? Сирано наморщил лоб и произнес: — Следовательно, если мысленно перенестись на луч света, то распространяется он в любое место Вселенной мгновенно, раз время у него стоит. — Ты понял самую суть! Все именно так! Для луча света или тела, достигшего скорости распространения луча, время стоит. Но для остального мира, для всех его тел, в зависимости от скоростей, с которыми они движутся и находятся в покое, время протекает по-прежнему. Это ты уяснил? — Видимо, так. — Вот и открытие тайны моего «псевдобессмертия»! Просто после пережитого мною несчастья на Земле, где я оказался неспособным предотвратить вероломную казнь лучшего из людей, великого философа Сократа, добившись лишь его посмертной реабилитации, я, готовый сам выпить предназначенную Сократу чашу яда, счел необходимым вернуться на Солярию, чтобы сообщить о своей несостоятельности. Летя туда со скоростью, близкой к скорости света, как бы приближаясь умозрительно к оси вращения стрелки вселенских часов, я обогнал земные тысячелетия, отмечаемые концом этой стрелки. И когда, найдя на Солярии успокоение и поняв свой долг продолжать выполнение «Миссии Ума и Сердца», я вернулся на Землю, для меня минуло двадцать лет, ровно на столько я и постарел, а на твоей Земле прошло, как ты уже представил себе, два тысячелетия. И вместо Сократа я нашел Сирано де Бержерака. Ты мог бы теперь считать меня своим Демонием, если бы сам не был сравнительно близким потомком соляриев. Нам обоим надлежит вместе продолжить великое Дело «Миссии Ума и Сердца», которому на службу я пытаюсь поставить тайное общество, поскольку оно может быть противопоставлено государственным и церковным войнам и античеловеческому произволу, хотя в грядущем всегда надо предвидеть возможность недостойного использования подобных обществ в совершенно противоположных целях.[97] И все же нельзя ныне бездействовать, видя неисчислимые несчастья наших братьев на Земле. — Ты действительно считаешь уже всех людей своими братьями? — Так же, как и тебя, — братьями по крови! Правда, если охватить мыслью миллионы лет, которые прошли со времени прилета сюда первых соляриев-колонистов. — Где же они, эти носолобые? — И у нас на Солярии, друг мой, живут многие народы и, подобно земным, имеют свои характерные черты лица. Разные расы в различное время достигали там вершин цивилизации. — Ну, если не наследственные признаки, то куда же делась на Земле привнесенная на нее цивилизация? — Считай, брат мой, что ваши мифические Адам и Ева были соляриями, но «райскую цивилизацию» покинутой планеты удержать им было не под силу. Ведь цивилизация — это не только сумма знаний, передаваемая поколениями с помощью обучения, книг и предметов культурного обихода. Понятно? Это еще и мастерские, надлежащим образом оборудованные, с умелыми руками, способными подобные предметы воспроизводить. Требовалось и сырье, которое надо было найти в незнакомых недрах, научиться использовать. А потомки первых колонистов, оказавшись среди богатой земной природы, должны были бороться за существование, когда грубая сила и ловкость в борьбе с земными зверями оказались нужнее книжных знаний культурных предков. И увы, за первые десятки тысячелетий, а быть может, и много быстрее, первые колонисты с Солярии одичали, превратившись из соляриев в людей, дав начало роду человеческому, когда охота, то есть убийство живых тварей, стала основой существования. — Но почему в памяти людской не осталось ничего о нашей прародине? — Почему же не осталось? Вспомни детские сны, ощущение полета без всяких усилий. — Допустим, и я помню такие ощущения. И что же? — Так ведь это ощущения ваших пращуров, которые испытывали потерю веса при преодолении звездных бездн. — Ты хочешь сказать, что не бог создал на Земле человека, а он прилетел со звезд? — Именно это, ибо нет у вас на планете самостоятельно развившегося на ней разумного существа и нет у человека здесь сородичей. О подлинных же своих братьях земной человек забыл. Но на Солярии вспомнили тех, кто покинул когда-то наш мир, чтобы заселить иной. И пусть спустя непостижимо долгое время и смену несчетных поколений, благодаря сделанным историками Солярии находкам удалось возродить память об улетевших братьях. Уклад нашего общества к тому времени уже стал таков, что посылка «Миссии Ума и Сердца» к древней земной колонии соляриев стала нашей потребностью, хотя участие в ней, связанной с межзвездным полетом, требовало от миссионеров отказа от личного счастья, от родных и близких, которые не могли уже дождаться их возвращения на Солярию. У вас это назвали бы подвигом. У нас — велением сердца. Ты все понял? — «Мне ничего, а все, что есть, — другим!» — Ты угадал в своем сонете наш завет. Потому я и обращаюсь к тебе, рассчитывая на твое участие в «Миссии Ума и Сердца», в которой так нуждается человечество. — Лоремет! Я всей душой готов поверить тебе! К моему большому сожалению, даже впечатляющая история одичания наших земных предков — еще не доказательство достоверности тобой рассказанного, ибо приведено писателем Тристаном Лореметом, отличающимся смелой выдумкой, столкнувшей меня с «живым Демонием Сократа». — Выдумкой? — впервые возмущенно воскликнул ритор. — Вы, люди, воображаете, будто то, чего вы не понимаете, имеет духовную природу или вообще не существует. — Ты прав, Тристан. Наши лжемудрецы порой считают, что того, чего они не знают, быть не может. Как вольнодумец, я отрицаю их догмы, но я и у призрака, явившегося мне, готов потребовать доказательств его существования. — Вери уэлл! Я представлю их тебе… Устроит ли тебя, если я… Лоремет был прерван громким условным стуком в дверь. Тристан открыл ее и увидел на пороге встревоженного герцога д'Ашперона. — Скорее! Гвардейцы кардинала штурмуют замок. Они требуют выдачи английского шпиона Лоремета, который, по сообщениям доносчиков кардинала, вошел в замок, не выйдя оттуда с остальными гостями. Тристан Лоремет совсем по-мальчишески присвистнул, хотя по внешности ему было лет под семьдесят, и подмигнул Сирано де Бержераку, надевая на лицо свою черную маску. — Я буду защищать вас своей шпагой! — запальчиво предложил Сирано. — Нет, — возразил герцог. — Вы возьмете двух коней и вместе покинете Париж. — А вы, ваша светлость, останетесь заложником? Я не могу этого допустить! — протестовал Сирано. — Отнюдь нет. Я открою ворота и предложу гвардейцам обыскать замок, конюшни, помещения для слуг. — А мы? — удивился Сирано. — Вы будете скакать по одной из ведущих из Парижа дорог. Следуйте за мной, — с присущей ему краткостью речи предложил герцог. Лоремет в неизменной своей маске и Савиньон Сирано де Бержерак с черной повязкой на лбу двинулись за седовласым величественным герцогом, который повел их по коридору, отпер замыкающую его дверь и пропустил вперед, сам освещая сзади дорогу факелом, который держал в руках. Пахнуло сыростью. Они двигались в подземелье, однако вскоре ощутился запах конюшни. Они действительно оказались рядом со стойлами, где их ждала пара уже оседланных коней. — Берите поводья, — скомандовал герцог, — ведите коней за собой. Я буду освещать путь впереди. Тайный подземный ход вел куда-то из замка д'Ашперона, предусмотрительно сооруженный, видимо, еще предками герцога. Кони, бывшие всегда наготове, составляли с подземным ходом неотъемлемую часть защиты хозяина замка, жившего в беспокойную эпоху смут и сражений народа с солдатами, католиков с гугенотами, короля с вассалами, хотя бы находившихся у него под боком в Париже. — Куда, ваша светлость, ведет этот ход? — спросил Сирано. — Он выведет на берег Сены, где, я думаю, ваша прославленная шпага, господин де Бержерак, не понадобится. Надеюсь, вы не откажете вернуться в мой замок в качестве должным образом обеспеченного мной поэта? Сирано было вспыхнул. Ведь он не раз отвергал подобные предложения, и даже сделанное самим кардиналом Ришелье. Однако сдержал себя, вспомнив о подписанной им клятве, поняв, что герцог делает это предложение, исходя из интересов тайного общества, помимо того, Сирано вспомнил, что, отказавшись от солдатского жалованья, он лишен всяких средств к существованию, ибо обратиться за ними к отцу господину Абелю де Сирано-де-Мовьер-де-Бержераку он не мог. Тот слишком потратился на экипировку сына в гвардейцы короля, чтобы при своей скупости давать теперь еще деньги на его содержание.[98] Обо всем этом думал Сирано, замыкая шествие, где впереди с факелом величественно шествовал герцог, словно не в подземелье, а по дворцовому ковру, направляясь на свидание с монархом. Следом шел Тристан, ведя в поводу лошадь, которая храпела, когда мимо проносились, хлопая крыльями, встревоженные летучие мыши. Ведомый Сирано конь, более смирный, чем у Тристана, замыкал шествие. Сесть в седло, пока они находились в подземелье, было невозможно. Шли долго, очень долго. Савиньон подумал о легендах, повествующих о подземных лабиринтах, скрытых под Парижем. Впоследствии о них будет писать Виктор Гюго, когда горожане используют их как сточные канавы растущего города. Но в описываемое время подземный ход оставался сравнительно сухим, хотя стены, как несколько раз ощутил Сирано, местами были влажными. Наконец под ногами стала хлюпать вода. Пахнуло свежестью, видимо, близко была уже и желанная река. Герцог остановился у решетки, замыкающей ход. Снаружи никто не мог бы попасть сюда. Сочившаяся со стен подземного хода влага собиралась теперь в ручеек, по которому ступали люди и лошади. Он выливался сквозь решетку, стекая в Сену. Очевидно, снаружи это выглядело обычной сточной канавой. Выход из «канавы» был низким, чтобы не выдать размером решетки истинного назначения коридора. Герцог отпер внутренний замок, откинул решетку. Обученные лошади проползли через низкий выход. Герцог д'Ашперон, стоя с внутренней стороны решетки, запер ее изнутри; успокоенный тем, что его план спасения Тристана и Сирано удался, он готов был уже повернуться и уйти, когда услышал снаружи крики. Он недооценил хитрости и коварства кардинала Ришелье. Тот, конечно, имел достаточно шпионов, чтобы проведать о старинном тайном ходе из замка, и за решеткой гостей герцога ждала засада. Герцог не осмелился выйти. Он лишь слышал звон шпаг, крики, стоны, потом лошадиный топот. Он не знал, что случилось с Тристаном и Сирано. С тяжелым чувством он побрел обратно в замок, чтобы впустить туда гвардейцев.Демоний Сократа — Сирано де Бержераку
Глава третья ПОГОНЯ
Что бы ни случилось, не теряй бодрости.К вечеру, когда жара стала спадать и с полей от прикрытой купами деревьев Сены потянуло свежестью, стражники парижской заставы оставили свои алебарды и мушкеты, позволив себе прилечь на жухлую траву. По дороге никто уже не вздымал клубы пыли, скоро предстояло загородить въезд в город на ночь. Но не успели стражники поведать друг другу очередные страсти о призраках и проделках врага человеческого, как барабанно-копытная дробь по булыжной мостовой заставила их вскочить. Мимо пронеслись два всадника, очевидно спеша засветло покинуть Париж. Все же их приметная внешность не осталась незамеченной. Странно испачканные в такую сушь свежей грязью плащи развевались за спинами, подобно недобрым птичьим крыльям. Края шляп с перьями у одного на английский манер, а у другого по-гасконски все же не скрывала черную полумаску и черную повязку, выглядевших на всадниках сходными знаками. Никем не предупрежденные стражи заставы не могли, конечно, знать, что промчавшиеся мимо них господа незадолго перед тем разгромили (вернее, это сделал лишь один из них!) отряд гвардейцев кардинала, засевших на берегу Сены у решетки одной из сточных канав, откуда внезапно появились замаскированные люди со своими почти ползущими на брюхе конями. И что потом, при скрещении шпаг, полдюжина гвардейцев неизвестно как осталась без оружия, а другая полдюжина получила более или менее серьезные ранения. Невольно припоминалась невероятная победа, одержанная здесь, в Париже, неким забиякой Сирано де Бержераком над ста противниками, правда, в большинстве своем пьяным сбродом и трусливыми монахами, пытавшимися сжечь книги философа Декарта. Но у повергнутых на берегу Сены слуг кардинала, надо думать, память отшибло. Хотя, справедливости ради, надо признать, что, потерпев такое поражение от по меньшей мере самого дьявола, воплотившегося в человека в испачканном камзоле с черной повязкой на лбу, они все же не отказались от погони, правда, побуждаемые к этому своим усердным лейтенантом, уберегшимся от ран, господином де Морье, который, может быть, не столько стремился догнать неугодных его высокопреосвященству, несомненно, опасных господ, сколько самому ускакать подальше от куда более опасного в гневе кардинала Ришелье. Для того чтобы расспросить стражников на всех парижских заставах у дорог, ведущих в разные стороны из столицы, гвардейцам понадобилось немало времени, и когда они допытались наконец, в каком направлении умчались беглецы, те были уже далеко. Сирано де Бержерак и Тристан Лоремет, не имея возможности переговариваться на всем скаку, каждый в отдельности мог подумать, что опасность миновала. Во всяком случае, с наступлением ночи, добравшись до одинокого постоялого двора с заманчивым названием «Не откажись от угощения», они решили дать коням отдых. Сирано не знал планов Тристана и был удивлен, что они скачут на восток, вместо того чтобы добраться до пролива Ла-Манш и переправиться в Англию, где Лоремет окажется в безопасности. Сам же Сирано не знал за собой вины и мог бы вернуться в Париж. Но пока они оставались во Франции и его старшему другу (а может быть, действительно «звездному брату»!) грозила опасность, мысль покинуть его не могла даже прийти Сирано в голову. Хмурый пожилой трактирщик с торчащими седыми космами молча взял взмыленных лошадей, подозрительно оглядев всадников, прибывших без слуг и багажа. В проеме освещенной изнутри двери Сирано почудилось видение, заставившее быстрее забиться его сердце. Фигурка женщины показалась нашему поэту чарующе прелестной. Гибкий, охваченный корсажем стан, лебединая шея, очаровательный силуэт головки с кокетливо взбитыми волосами разожгли его фантазию. Когда же он вошел в трактир и увидел пленительную женскую улыбку, о которой тщетно мечтал с ранней своей юности, его даже зазнобило. Все необыкновенное, до того приключившееся с ним, сразу потускнело в его сознании. Несомненно, причина была в том, что теперь его уже не уродовал безобразный нос, всегда отвращавший представительниц прекрасного пола. А он так жаждал любви, наш Сирано, готовый увлечься кем угодно, кому он не покажется столь безобразным, как прежде. Однако появление Тристана помогло Сирано сразу прийти в себя. Он вспомнил о своем долге, о данной клятве и устыдился готового овладеть им чувства. Если пара жгучих глазок может оказаться сильнее дюжины гвардейских шпаг кардинала, то чего стоит готовность Сирано служить Добру? — Хотят ли проезжие господа поужинать, принести ли им бургундского вина? — спросила юная трактирщица, может быть, дочь встретившего их мрачного старика или — о боже мой! — угнетаемая им жена? Сирано вопрошающе взглянул в глаза прелестнице и сразу получил ответ на все заданные им мысленно вопросы. Но каковы эти ответы, он не смог бы, пожалуй, сам себе повторить. Важно то, что они говорили взглядами друг другу нечто очень значительное. «Добрая фея постоялого двора» принесла им волшебных жареных цыплят, кувшин сказочного вина и попросила разрешения присесть к их столу, колдовски подперев подбородок ладонью. И столько было природной грации в ее позе, что Сирано пожалел, что он не скульптор, и дал себе слово, что дар ваятеля заменит страстностью поэта. Все заметивший Тристан тихо шепнул: — Если бы не усталые наши кони, мы уже мчались бы дальше к цели, ждущей нас обоих, ни о чем другом не думая. Сирано вспыхнул и с горячностью заговорил: — Конечно, я знаю, тебе пришлось отказаться от всего личного, от родных и близких, от собственных чувств… — Ты прав, — кратко заметил Тристан. Сирано принял это как упрек. — Не думаешь ли ты, что у нас на Земле на обет безбрачия способны лишь попы и кардиналы? — Во всяком случае, это потребует железной воли и несгибаемой преданности делу. Уэлл? — И Тристан поднял на Сирано глаза. — У тебя нет оснований сомневаться во мне, Демоний Сократа. — Не только Сократа, но и твой, Сирано, — примирительным тоном сказал Тристан, поправляя свои спадавшие на плечи полуседые волосы. — О почтенные господа! Почему вы так плохо кушаете, говоря о возвышенном? Или я не угодила вам своей стряпней? — Вы не можете не угодить смертному, Мадонна! — пылко воскликнул Сирано. — Я хотела бы, чтобы вы повторяли мне это… еще и еще раз, — опустив глаза, не без кокетства произнесла деревенская красавица. «Вот что может сделать один вражеский удар летящим ножом! Благодарю тебя, злой враг, за устранение моего природного уродства! Прости, что моя шпага действовала быстрее рассудка! — мысленно шептал Сирано. Но тотчас оборвал себя: — Впрочем, это уже не имеет значения!» Он повернулся к Тристану и встретил его предостерегающий взгляд. — Ах, господа! — продолжала трактирщица. — Я вижу, что вы так дружны, и должна огорчить вас. У меня всего две свободные кровати, и, как назло, они в разных комнатах. Если вы задержитесь у нас еще на день, то я завтра же прикажу работникам снести их вместе. — Вери найс, прелестно, миледи! — вежливо произнес Тристан. — Отведите нас в эти, надеюсь, уютные комнаты. Гуд найт, спокойной ночи. Молодая женщина шла по лестнице впереди со свечой в поднятой руке. Когда она полуоборачивалась, Сирано любовался ее профилем. Хозяйка показала заботливо разобранные умелой рукой постели, пожелала постояльцам спокойной ночи и, как почудилось Сирано, намеренно не спешила уйти из его комнаты. Ему стоило немалого труда смирить себя, думая о находящемся за перегородкой Тристане, госте с чужих звезд. Но фея так нежно взглянула на него перед уходом! Нет! Он просто вообразил себе все это, еще менее вероятное, чем судьба Демония, друга Сократа, и ему, Сирано, связавшему себя с ним, земные женщины еще недоступнее, чем далекие звезды! С этой мыслью он провалился в глубокий сон. Разбудила его Она. Нежная рука ласково коснулась его щеки. Он по-солдатски разом проснулся и резко сел на кровати. В полутьме он увидел молодую хозяйку, поставившую свечу позади себя на стул. Просвечивающая ночная рубашка делала ее похожей на призрак в полупрозрачном одеянии. И эта ночная нимфа была еще прекраснее, чем деревенская мадонна в платье с корсажем. Волосы ее волнами спускались по плечам и источали дурманящий аромат. Она пришла к нему! Сама пришла… А как же старый трактирщик? А нимфа, словно отвечая на его мысли, прошептала: — Он донес на вас, гвардейцы сейчас ворвутся сюда. Спасайтесь! Я не знаю вас, но… — Остальное договорил ее взгляд. Мгновение понадобилось Сирано, чтобы натянуть ботфорты, прицепить шпагу. Теперь он готов был пройти через любой вооруженный строй. Женщина с восхищением смотрела на него. — Вам придется прыгать в окно. Ваш друг уже там, с лошадьми. — И она открыла раму. Снизу из трактира доносились грубые мужские голоса. Сирано посмотрел в черноту ночи, привлек к себе свою спасительницу и запечатлел на ее ищущих влажных губах, быть может, не просто благодарный поцелуй. Потом прыгнул в темноту. Ноги ушли во что-то мягкое, вскопанную грядку или кучу навоза. Остро запахло дегтем, конюшней и конским потом. Лошади были уже оседланы, а совсем близко за углом храпели другие кони, ночью ворвавшиеся с гвардейцами на постоялый двор. Она свесилась из окна. — Туда! — показала она свечой в руке. — Там огороды, кони сами перепрыгнут через ограду! Сирано и Тристан не заставили себя ждать. Последнее, что успел увидеть Сирано, это силуэт мадонны в освещенном окне. Кто-то оттянул ее назад.Л. Н. Толстой
 Кони действительно сами, невзирая на темноту, с привычной легкостью преодолев преграду, вынесли всадников в поле.
Сирано сначала удивился сметливости «подземных коней» герцога д'Ашперона, но потом понял, что это местные кони, свежие, которых на всякий случай еще с вечера оседлала прелестная хозяйка, неведомо каким чутьем угадав грозящую ее гостям опасность.
То, что кони оказались свежими, дало беглецам неоспоримое преимущество.
Гвардейцы, обнаружив их бегство, не смогут уже на своих утомленных за дорогу от Парижа лошадях угнаться за ними.
Весь день с утра до самого вечера Тристан и Сирано скакали на восток.
Еще один придорожный трактир дал им возможность сменить лошадей, но помогла им на этот раз не «добрая фея с постоялого двора», а тощий трактирщик с жадно бегающими глазами, получивший от Тристана кошелек с пистолями.
Казалось, беглецам уже ничто не угрожает. Кардинальские слуги остались далеко позади.
Однако Сирано и Тристан не учли безграничного влияния кардинала Ришелье в любом уголке Франции.
Усердный лейтенант де Морье, первоначально спеша сам поскорее ускакать подальше от Парижа, понял, что вернуться туда с пустыми руками, упустив государственных преступников, это все равно что взойти на эшафот.
Поэтому энергия его мало сказать что удесятерилась.
Он спасал свою жизнь, которую ценил, впрочем, как и многие другие, выше всего на свете.
Ему пришла благотворная мысль мобилизовать для погони именем всесильного кардинала Ришелье свободные от боевых действий воинские части, которые могут встретиться на пути.
И он так красноречиво объяснил капитану кавалерийского полка графу де Пасси необходимость поймать врагов кардинала, расписав ему выгоду, славу или расправу в случае удачи или неудачи, что бравый офицер решил сам отправиться во главе сильного отряда по направлению к альпийской границе Франции, к которой, по-видимому, устремились беглецы.
Ничего не подозревая об этом, наши герои, сберегая силы коней, расположились на мирной лужайке, где паслись коровы, дополняя чисто французский пейзаж, прикрытый почти неприметной дымкой, которую живописцы научились с поразительным искусством передавать. Под этой нежной вуалью природа выглядела особенно привлекательной.
— Солярия — сестра Земли, — сказал Тристан. — Но нигде на ней я не видел раньше такой отдохновенной красоты, как здесь, даже в милой моему сердцу сократовской Греции.
— Там слишком жарко, — заметил Сирано.
— Ты прав.
— Ты замечаешь нашу французскую дымку? Я обожаю ее с детства, проведенного в местечке Мовьер близ Парижа. Мы с моим другом Кола Лебре ловили рыбок в Сене, а я умолял его отпустить их обратно в воду.
— Дымка, говоришь ты? — спросил Тристан, приподнимаясь на локте, чтобы посмотреть на пасущихся лошадей. — Вери бед! Скверно! Не находишь ли ты, что дымка там, вдали на дороге, слишком густа?
— Это, несомненно, пыль, Тристан. Ее могут поднять только скачущие кони.
— Упорству твоих землян могут позавидовать наши солярии. Вперед! Граница недалеко!
— Ты думаешь, Тристан, что граница с Граубинденом остановит моих соотечественников?
— Не думаю. Я знаю, сколько крови пролито за обладание этой маленькой швейцарской провинцией из-за ключевых ущелий, проходящих по ней.
— Но в этих ущельях мы будем зажаты, Тристан. Не повернуть ли на юг?
— Нет, мой друг. Именно в горах мы найдем убежище.
Сирано не спорил. Поймав своего коня, он вскочил в седло и полетел вслед за уже скачущим Тристаном.
Погоня была близка, притом на свежих армейских лошадях. И как это слуги кардинала выследили их, снявших заметные черные знаки?
Но золото кошелька, оставшегося у тощего трактирщика, вместе с его страхом перед солдатами кардинала оказалось прекрасным следом, по которому помчались конные воины графа де Пасси.
Тристан и Сирано оборачивались, видя, как, несмотря на усилия их усталых лошадок, грозное пыльное облако неотвратимо приближается. И оно представлялось им серой сутаной того, кто, прикрыв ее кардинальской мантией, таил под нею злость и ненависть, жестокость и коварство, с помощью которых управлял Францией, навязывая свою волю истощенным нескончаемой войной европейским странам, в числе которых не было лишь близкой путникам Швейцарии, оставшейся в стороне от сражений.
Граубинден! Альпийская провинция, родина отважных горцев, добившихся независимости, отказавшаяся от войн и посылавшая за золото своих солдат для охраны европейских монархов.
Сирано уже сталкивался с ними, охранявшими папский дворец в Ватикане. Но тогда они были союзниками против испанцев, а сейчас? Как они встретят беглецов, если за ними гонятся французы самого Ришелье, с которым едва ли захотят ссориться граубинденцы!
Но всадники миновали границу без всяких затруднений. Она попросту не охранялась. Война бушевала вдали отсюда, и власти кантона не хотели нести расходов по охране ненужной пока никому границы.
Но если не было граубинденцев, то за спиной беглецов, сокращая расстояние, скакали французы.
Долина между горными склонами то расширялась, то сужалась. Дорога делала изгибы, копируя текущую здесь речку, берущую начало в альпийских высотах.
В одном месте скалистые бастионы так сжали дорогу, что она узкой лентой едва протискивалась между ними.
Тристан скакал впереди, словно знал здесь любой камень.
За скалой, почти перегородившей ущелье, он неожиданно повернул налево, вброд перебрался через речку и стал углубляться в зеленую чащу, заставляя лошадь карабкаться по круче.
Сирано решил, что он, чувствуя погоню за спиной, пытается уйти в сторону, пользуясь тем, что скала закрывала на время их от преследователей. Однако Сирано ошибся. У Тристана было совершенно иное на уме.
Но не ошибся лейтенант де Морье. Предвидя, что преследование может продолжиться и в горной местности, он захватил с собой из полка графа де Пасси опытного горца-следопыта.
Потеряв из виду преследуемых, отряд остановился у скалы, и усатый солдат-швейцарец, соскочив с седла, стал внимательно всматриваться в пыльную дорогу.
Ему не составило большого труда разгадать план беглецов именно так, как представил его себе Сирано.
Отряд вброд перешел речку, где вода доходила лишь до брюха лошадей, и солдаты с гиком стали погонять коней, понуждая их взбираться по склону.
Тристан и Сирано находились уже много выше. Им хорошо было видно сверху, как многочисленные преследователи, немного поплутав, нашли верный путь и идут по их следам.
— Оставим лошадей, — предложил Тристан. — Надо пожалеть бедных животных. Ты ведь жалел рыбок из Сены. Уэлл?
— Вери уэлл! — в тон Тристану ответил Сирано, соскакивая с седла. — Ты хочешь сдаться? Вряд ли с нами поступят так, как я с пойманными рыбками.
Тристан улыбнулся, бросив свое обычное:
— Ты прав.
Он направился к скале и с завидной ловкостью для его возраста стал взбираться по почти вертикальной каменной стене.
Сирано не мог надивиться на его силу и ловкость. Сам он никогда не лазил по горам, но тренировки, которые он провел под руководством индейца племени майя в коллеже де Бове, помогли ему сейчас, и он старался ни в чем не уступить своему старшему брату и руководителю.
— В Солярии тоже есть горы? — крикнул он снизу.
— В Солярии есть все, что встречается на Земле, кроме Ненависти, Зла и Несправедливости.
— Как бы я хотел увидеть такой край, — отозвался Сирано.
— Кто знает! Может быть! — загадочно ответил сверху Тристан.
Солдаты нашли брошенных внизу коней и заметили взбирающихся по скалам беглецов.
Началась беспорядочная стрельба из мушкетов. Впрочем, пули расплющивались о камни много ниже, чем находились два доброносца.
Среди солдат нашлись скалолазы, которые по приказу лейтенанта полезли по той же стене, проводник же, граубинденец, повел отряд в обход, заверив, что они прискачут наверх чуть ли не раньше, чем там появятся беглецы.
Но доброносцы поднялись все же прежде. Действительно, они оказались снова на тропке, на которой в любую минуту могли появиться конные преследователи.
И тут Тристан вдруг повел Сирано резко вниз, чтобы снова, как подумалось тому, сбить с толку преследователей. И он опять ошибся.
Чаща деревьев разом оборвалась, открыв вид на круглую впадину, похожую на кратер когда-то действовавшего вулкана. Посередине поднималось странное сооружение, напоминая одинокую крепостную башню.
Крепость здесь, в непроходимых горах? Ее не достроил какой-нибудь суверен? Сирано не успел спросить об этом Тристана, поняв, что тот устремляется к странному строению. Но эту башню, в которой, очевидно, хотели укрыться беглецы, увидели и преследователи. Может быть, о ней знал и проводник.
Она была совершенно круглой, поднимаясь выше самых высоких деревьев, поблескивая на солнце своими боками, словно покрытая броней от пуль. Сирано отметил это, прыгая с камня на камень в попытке не отстать от ловкого Тристана. Он слышал за собой крики спускающихся солдат. О чем думает Тристан? На что рассчитывает?
Почти задыхаясь, догнал он Лоремета, в изнеможении упавшего у основания загадочной башни.
— Помоги мне, брат, — прохрипел он. — Здесь дверь, люк…
Кони действительно сами, невзирая на темноту, с привычной легкостью преодолев преграду, вынесли всадников в поле.
Сирано сначала удивился сметливости «подземных коней» герцога д'Ашперона, но потом понял, что это местные кони, свежие, которых на всякий случай еще с вечера оседлала прелестная хозяйка, неведомо каким чутьем угадав грозящую ее гостям опасность.
То, что кони оказались свежими, дало беглецам неоспоримое преимущество.
Гвардейцы, обнаружив их бегство, не смогут уже на своих утомленных за дорогу от Парижа лошадях угнаться за ними.
Весь день с утра до самого вечера Тристан и Сирано скакали на восток.
Еще один придорожный трактир дал им возможность сменить лошадей, но помогла им на этот раз не «добрая фея с постоялого двора», а тощий трактирщик с жадно бегающими глазами, получивший от Тристана кошелек с пистолями.
Казалось, беглецам уже ничто не угрожает. Кардинальские слуги остались далеко позади.
Однако Сирано и Тристан не учли безграничного влияния кардинала Ришелье в любом уголке Франции.
Усердный лейтенант де Морье, первоначально спеша сам поскорее ускакать подальше от Парижа, понял, что вернуться туда с пустыми руками, упустив государственных преступников, это все равно что взойти на эшафот.
Поэтому энергия его мало сказать что удесятерилась.
Он спасал свою жизнь, которую ценил, впрочем, как и многие другие, выше всего на свете.
Ему пришла благотворная мысль мобилизовать для погони именем всесильного кардинала Ришелье свободные от боевых действий воинские части, которые могут встретиться на пути.
И он так красноречиво объяснил капитану кавалерийского полка графу де Пасси необходимость поймать врагов кардинала, расписав ему выгоду, славу или расправу в случае удачи или неудачи, что бравый офицер решил сам отправиться во главе сильного отряда по направлению к альпийской границе Франции, к которой, по-видимому, устремились беглецы.
Ничего не подозревая об этом, наши герои, сберегая силы коней, расположились на мирной лужайке, где паслись коровы, дополняя чисто французский пейзаж, прикрытый почти неприметной дымкой, которую живописцы научились с поразительным искусством передавать. Под этой нежной вуалью природа выглядела особенно привлекательной.
— Солярия — сестра Земли, — сказал Тристан. — Но нигде на ней я не видел раньше такой отдохновенной красоты, как здесь, даже в милой моему сердцу сократовской Греции.
— Там слишком жарко, — заметил Сирано.
— Ты прав.
— Ты замечаешь нашу французскую дымку? Я обожаю ее с детства, проведенного в местечке Мовьер близ Парижа. Мы с моим другом Кола Лебре ловили рыбок в Сене, а я умолял его отпустить их обратно в воду.
— Дымка, говоришь ты? — спросил Тристан, приподнимаясь на локте, чтобы посмотреть на пасущихся лошадей. — Вери бед! Скверно! Не находишь ли ты, что дымка там, вдали на дороге, слишком густа?
— Это, несомненно, пыль, Тристан. Ее могут поднять только скачущие кони.
— Упорству твоих землян могут позавидовать наши солярии. Вперед! Граница недалеко!
— Ты думаешь, Тристан, что граница с Граубинденом остановит моих соотечественников?
— Не думаю. Я знаю, сколько крови пролито за обладание этой маленькой швейцарской провинцией из-за ключевых ущелий, проходящих по ней.
— Но в этих ущельях мы будем зажаты, Тристан. Не повернуть ли на юг?
— Нет, мой друг. Именно в горах мы найдем убежище.
Сирано не спорил. Поймав своего коня, он вскочил в седло и полетел вслед за уже скачущим Тристаном.
Погоня была близка, притом на свежих армейских лошадях. И как это слуги кардинала выследили их, снявших заметные черные знаки?
Но золото кошелька, оставшегося у тощего трактирщика, вместе с его страхом перед солдатами кардинала оказалось прекрасным следом, по которому помчались конные воины графа де Пасси.
Тристан и Сирано оборачивались, видя, как, несмотря на усилия их усталых лошадок, грозное пыльное облако неотвратимо приближается. И оно представлялось им серой сутаной того, кто, прикрыв ее кардинальской мантией, таил под нею злость и ненависть, жестокость и коварство, с помощью которых управлял Францией, навязывая свою волю истощенным нескончаемой войной европейским странам, в числе которых не было лишь близкой путникам Швейцарии, оставшейся в стороне от сражений.
Граубинден! Альпийская провинция, родина отважных горцев, добившихся независимости, отказавшаяся от войн и посылавшая за золото своих солдат для охраны европейских монархов.
Сирано уже сталкивался с ними, охранявшими папский дворец в Ватикане. Но тогда они были союзниками против испанцев, а сейчас? Как они встретят беглецов, если за ними гонятся французы самого Ришелье, с которым едва ли захотят ссориться граубинденцы!
Но всадники миновали границу без всяких затруднений. Она попросту не охранялась. Война бушевала вдали отсюда, и власти кантона не хотели нести расходов по охране ненужной пока никому границы.
Но если не было граубинденцев, то за спиной беглецов, сокращая расстояние, скакали французы.
Долина между горными склонами то расширялась, то сужалась. Дорога делала изгибы, копируя текущую здесь речку, берущую начало в альпийских высотах.
В одном месте скалистые бастионы так сжали дорогу, что она узкой лентой едва протискивалась между ними.
Тристан скакал впереди, словно знал здесь любой камень.
За скалой, почти перегородившей ущелье, он неожиданно повернул налево, вброд перебрался через речку и стал углубляться в зеленую чащу, заставляя лошадь карабкаться по круче.
Сирано решил, что он, чувствуя погоню за спиной, пытается уйти в сторону, пользуясь тем, что скала закрывала на время их от преследователей. Однако Сирано ошибся. У Тристана было совершенно иное на уме.
Но не ошибся лейтенант де Морье. Предвидя, что преследование может продолжиться и в горной местности, он захватил с собой из полка графа де Пасси опытного горца-следопыта.
Потеряв из виду преследуемых, отряд остановился у скалы, и усатый солдат-швейцарец, соскочив с седла, стал внимательно всматриваться в пыльную дорогу.
Ему не составило большого труда разгадать план беглецов именно так, как представил его себе Сирано.
Отряд вброд перешел речку, где вода доходила лишь до брюха лошадей, и солдаты с гиком стали погонять коней, понуждая их взбираться по склону.
Тристан и Сирано находились уже много выше. Им хорошо было видно сверху, как многочисленные преследователи, немного поплутав, нашли верный путь и идут по их следам.
— Оставим лошадей, — предложил Тристан. — Надо пожалеть бедных животных. Ты ведь жалел рыбок из Сены. Уэлл?
— Вери уэлл! — в тон Тристану ответил Сирано, соскакивая с седла. — Ты хочешь сдаться? Вряд ли с нами поступят так, как я с пойманными рыбками.
Тристан улыбнулся, бросив свое обычное:
— Ты прав.
Он направился к скале и с завидной ловкостью для его возраста стал взбираться по почти вертикальной каменной стене.
Сирано не мог надивиться на его силу и ловкость. Сам он никогда не лазил по горам, но тренировки, которые он провел под руководством индейца племени майя в коллеже де Бове, помогли ему сейчас, и он старался ни в чем не уступить своему старшему брату и руководителю.
— В Солярии тоже есть горы? — крикнул он снизу.
— В Солярии есть все, что встречается на Земле, кроме Ненависти, Зла и Несправедливости.
— Как бы я хотел увидеть такой край, — отозвался Сирано.
— Кто знает! Может быть! — загадочно ответил сверху Тристан.
Солдаты нашли брошенных внизу коней и заметили взбирающихся по скалам беглецов.
Началась беспорядочная стрельба из мушкетов. Впрочем, пули расплющивались о камни много ниже, чем находились два доброносца.
Среди солдат нашлись скалолазы, которые по приказу лейтенанта полезли по той же стене, проводник же, граубинденец, повел отряд в обход, заверив, что они прискачут наверх чуть ли не раньше, чем там появятся беглецы.
Но доброносцы поднялись все же прежде. Действительно, они оказались снова на тропке, на которой в любую минуту могли появиться конные преследователи.
И тут Тристан вдруг повел Сирано резко вниз, чтобы снова, как подумалось тому, сбить с толку преследователей. И он опять ошибся.
Чаща деревьев разом оборвалась, открыв вид на круглую впадину, похожую на кратер когда-то действовавшего вулкана. Посередине поднималось странное сооружение, напоминая одинокую крепостную башню.
Крепость здесь, в непроходимых горах? Ее не достроил какой-нибудь суверен? Сирано не успел спросить об этом Тристана, поняв, что тот устремляется к странному строению. Но эту башню, в которой, очевидно, хотели укрыться беглецы, увидели и преследователи. Может быть, о ней знал и проводник.
Она была совершенно круглой, поднимаясь выше самых высоких деревьев, поблескивая на солнце своими боками, словно покрытая броней от пуль. Сирано отметил это, прыгая с камня на камень в попытке не отстать от ловкого Тристана. Он слышал за собой крики спускающихся солдат. О чем думает Тристан? На что рассчитывает?
Почти задыхаясь, догнал он Лоремета, в изнеможении упавшего у основания загадочной башни.
— Помоги мне, брат, — прохрипел он. — Здесь дверь, люк…
Глава четвертая АУТОДАФЕ[99] В ГОРАХ
Солдаты графа де Пасси и гвардейцы кардинала со своим лейтенантом де Морье по всем правилам военной науки тех времен осадили странную башню, из которой беглецам уже не уйти. Офицеры, надменно сидя на камне, допрашивали усатого солдата-граубинденца о том, что это за башня… — У нее дурная слава, ваши светлости, спаси меня бог! — бормотал проводник. — Ее зовут в горах чертовой башней. — Но, во всяком случае, они никуда от нас не уйдут, ваше сиятельство. Мы возьмем их голыми руками. Пить и есть им понадобится. Вот мы их и накормим и напоим. И сами сыты будем, — заверил лейтенант. Капитан расхохотался: — Вы шутник, лейтенант! Накормить рубленым свинцом без спаржи? Напоить расплавленной смолой вместо вина? — Боже упаси, ваше сиятельство! Его высокопреосвященство непременно пожелает побеседовать с ними. — Побеседовать? С ними сперва я «побеседую». Не знаю, что его высокопреосвященству после этого останется. Лейтенант вспыхнул, вскочил, подтянулся: — Ваше сиятельство, можете надеяться, что я не слышал ваших слов. — Ладно, — примирительно заметил капитан. — Прикажите, чтобы вместе со священником нам доставили сюда вина, и пусть солдаты разобьют для нас с вами палатку. Осада так осада! — И он скверно и витиевато выругался, поминая коней, их помет, гулящих красавиц и обманутых мужей. Солдаты разожгли костры, варили пищу и располагались на долгий срок. Наконец появился священник. Офицеры обрадовались, главным образом вину, которое одновременно принесли крестьяне близкой деревушки. Священника позвали в палатку. Это был тощий молоденький служитель церкви с молитвенником, как ему приказали, в руках. Французских офицеров он боялся, будучи протестантом, в то время как во Франции правил католический кардинал Ришелье. — Вот что, ваше юное преподобие или как вас там, — объявил граф де Пасси, не предлагая священнику сесть. — У нас нет времени ждать у этой чертовой башни, пока укрывшиеся в ней еретики подохнут с голоду. Видите, солдаты разожгли костры. Вам это ничего не подсказывает? — Ничего, ваша светлость. Очевидно, пища в горячем виде полезнее сухарей. — А вы скрипите мозгами, как философ, ваше молоденькое преподобие. Я упомянул о еретиках, намекнул вам о кострах, а вы мне закладываете уши рассуждениями о горячей пище. Этому вас учили в семинарии? — Ваше сиятельство, меня учили бояться бога. — А черта? Вас не учили бояться черта? — Упаси меня всевышний! — истово зашептал священник. — Так ответьте мне, если вы сами не еретик, чего заслуживают еретики по законам святой католической церкви? — У меня протестантский приход, ваша светлость. — Эй, малый! Кого ты нам приволок? Думаешь, нам мало засевших в башне еретиков? — Ваша светлость, дозвольте обратиться к беглецам с проповедью. Может быть, сердца их еще не окаменели. — Это огнем проверять надо, святенький отец мой, огнем! — Огнем? — ужаснулся протестантский священник. — Именно огнем. Вас я приказал привести, чтобы устроить аутодафе по всей форме. Так мы с лейтенантом решили. — Умоляю о прощении, ваша светлость. Я не вмешиваюсь в священнодействия католической церкви и чту ее, но мы находимся на территории страны, не участвующей в войне за веру. В нашем кантоне аутодафе не помнят. — Лейтенант, гоните в шею этого лжесвятошу, пока я окончательно не рассвирепел. Пусть найдут нам настоящего католического священника, хоть из Франции доставят. Не какого-нибудь кюре, а аббата позловреднее, из монастыря, где ему наскучило. Аутодафе так аутодафе! Огнепредставление! По всей форме. Тут без святых отцов никак нельзя. Протестантский священник, низко кланяясь, удалился по кратчайшему, но отвесному пути, оказавшись отличным скалолазом. Глядя вниз, он с ужасом думал о зверском замысле французских офицеров. Направленный во Францию за нужным аббатом, посланец уже скакал прочь от разбитого вокруг странной башни военного лагеря. …Сирано втащил обессилевшего Тристана в круглое отверстие внизу башни, которое тот назвал люком, и по его указанию плотно закрыл его, вращая слева направо. После этого он потащил космического пришельца по крутой винтовой лестнице. Она вела по извилистой щели, образованной внутренней стенкой башни и сооруженной для чего-то внутри ее более тонкой башней. Лестница закончилась, когда они поднялись уже выше деревьев, судя по числу ступенек, ибо окон в башне не было и подниматься пришлось в полной темноте. На последней ступеньке Тристан коснулся рукой перил, и мягкий свет из невидимого источника залил круглую комнату, в которой они очутились. По стенам шли широкие окна, сквозь которые минуту назад дневной свет не проникал в помещение. А теперь через них Сирано увидел солнечную поляну с выбежавшими на нее солдатами. Из стволов их мушкетов поднимались облачка дыма, но звуки выстрелов не доносились. — Поберегитесь, Тристан. Лучше лечь на пол, чтобы пуля, пробив стекло, не достала тебя. — Это не окна, брат мой, это… как бы тебе сказать, нечто вроде зеркал, где ты видишь не подлинные предметы, а их изображения. Я потом объясню тебе. Подожди, — продолжал Тристан, задыхаясь, — я проглочу целительную крупинку, а то начинаю себя чувствовать, как Сократ после выпитой чаши цикуты. — Что с тобой, учитель? — Сирано впервые назвал так Лоремета. Тот печально улыбнулся: — Усталое сердце, брат мой, последователь и наследник долга. Впервые оно схватило меня, когда я вместе с родными и друзьями прощался с Сократом в темнице. Ведь, по тогдашним порядкам, он выпивал чашу яда и умирал в присутствии близких под наблюдением палача. Осушив чашу, приговоренный должен был ходить у ложа, чтобы яд подействовал быстрее. И у него сначала немели ноги. Тогда он ложился, и они отнимались. Паралич поднимался все выше, пока не достиг груди. Но яд коснулся не только его отданного людям сердца, избавив палача от омерзительной процедуры удушения смертника, яд тронул и мое несчастное сердце. Видишь, вот еще одно доказательство, что твой и Сократа Демоний вовсе не бессмертен. — Ты проявил при восхождении на скалу такую удивительную силу и выносливость! — Увы, переоценив себя, но иначе мы не спаслись бы… — Ты думаешь, мы отсидимся в этой башне, столь странной и снаружи и внутри? Зачем здесь так много часов со стрелками? Я видел подобную коллекцию только во дворце кардинала, когда Ришелье вызвал меня. Тристан, почувствовав себя после проглоченной крупинки лучше, усмехнулся и мягко пояснил: — Это вовсе не часы, друг мой, а механические глаза и уши, которые дают знать, как работают машинные устройства звездного корабля, на котором я прилетел не так давно с Солярии. — Это корабль? — удивился Сирано. — До чего же не похож на морское судно! Скорее напоминает пушку. — Он и есть в какой-то степени пушка. Ты верно подметил. Отдача выстрелов толкает ее, заставляя подниматься с земли. На значительной высоте нижняя часть пушки отваливается, а верхняя, все еще «стреляя» пламенем, но не выбрасывая ядер, продолжает разгоняться. И корабль, выйдяза пределы земного тяготения, окончательно освобождается от «пушечного устройства», направляя свой полет к звездам. Вы, люди, пользуетесь ракетами лишь в увеселительных целях во время фейерверков. — Кто же этого не видел! Но вряд ли многие осознали. — Все просто, друг мой, когда понято. — Понять, как поднимается твой корабль, проще, чем объяснить вот эти окна-зеркала, которые, по-видимому, не выходят наружу. — В таких зеркалах у нас на Солярии наблюдаются события, происходящие на огромных расстояниях или произошедшие когда-то и записанные на особых лентах, вроде как у вас печатают мысли в книгах. Ты мог бы увидеть все это сам, если бы согласился отправиться сейчас вместе со мной на Солярию. — На Солярию? Через звездные бездны, «съедающие» тысячелетия? — в ужасе переспросил Сирано. — Да, на твою прародину, в мой покинутый дом, к соляриям, где ты можешь увидеть не только дальновидящие зеркала, но и «говорящие» книги, которые нужно закрепить в виде сережки, какие носят у вас прекрасные дамы, и слушать по своему мысленному приказу интересующую тебя главу.[100] — Зачем? Зачем мне видеть все это? Я люблю свою Францию со всеми ее красотами и уродствами, величием и низостью. В твоем присутствии я поклялся служить Добру, искореняя Зло, от которого так страдают люди. Зачем ты требуешь нарушения этой клятвы? — Успокойся. Сейчас лучше всего перекусить после утомительной скачки. В корабле осталось достаточно запасов для обратного путешествия. Как видишь на экранах, так назовем эти скрытые окна, солдаты взяли нас в форменную осаду, рассчитывая, что голод и жажда принудят нас к сдаче, но жестоко ошибаются. Мы могли бы прожить здесь года три-четыре. Никакая осада не продлится так долго. Солдаты уйдут, сочтя нас погибшими. Но не лучше ли нам с пользой провести это время? — Что ты имеешь в виду? — Посетить нам вместе Солярию. Мы сможем слетать в этот мир двух лун. У нас там две луны. И ты увидишь не только «экранные окна», но и многое другое, а главное, постигнешь, как могут жить люди, ибо солярии те же люди, но лишь разумно содружествуют между собой, вместо того чтобы по-земному враждовать. Сирано наблюдал на экране, как к палатке привезли священника с молитвенником в руках и как он скрылся за мягким пологом. — Клянусь, учитель, — обернулся он к Лоремету, — видимо, я в чем-то не понял тебя. Что ты обещаешь мне на Солярии? Свет, который я увижу, покинув мрак невежества? Общественное устройство, которое предвидел наш философ Кампанелла? Мир, где, быть может, все наоборот? — Вери уэлл! Ты хорошо сказал. Именно все наоборот. Это надо видеть своими глазами. — Зачем? — Чтобы вернуться во всеоружии знаний, чтобы продолжить со мной, а потом и после меня «Миссию Ума и Сердца» на твоей родной планете, помочь ей догнать в развитии Солярию. — Что ты говоришь, Тристан? Или ты считаешь меня безнадежным учеником, который не усвоил ничего из тобою сказанного? — Нет, почему же? Считая тебя способным, я и хочу перенести тебя в мир знаний, которые ты сможешь усвоить, в мир мудрости. — Перенести в иной мир? — Сирано горько усмехнулся. — Неужели ты думаешь, что я способен на предательство? — О каком предательстве ты говоришь? — Не ты ли объяснял мне, что был Демонием Сократа и скоротал тысячелетия, перемещаясь в пространстве с предельной скоростью? — Вижу, ты усвоил урок. — Более чем усвоил! Настолько понял этот удивительный закон, что не могу улететь с тобой с Земли, хотя бы и на сказочную Солярию, увидеть там «золотой век» и вернуться на Землю только через две тысячи лет, когда здесь люди без какой-либо моей помощи сами преодолеют свои заблуждения, построят себе дальновидящие зеркала, шепчущие книги и не знаю, что еще, а главное, откажутся от угнетения, несправедливости и распространения зла. Зачем тогда я буду им? Чтобы дивиться на меня, как на звероподобного предка, просвещенного чужим умом? — Ты говоришь страстно и верно. Мне стыдно за себя. Видишь, я не только не бессмертен, но и не слишком мудр. Ай эм сорри. Прости, должно быть, мое усталое сердце слишком скупо питало кровью мой мозг, и я упустил сказать тебе главное. — Если ты хочешь снова говорить о бегстве с Земли, я не стану тебя слушать. Я лучше выйду из закручивающегося внизу люка со шпагой в руке, чтобы принять смерть от своих современников, чем покину их ради собственного спасения. — И все-таки тебе надо выслушать меня. Ни о каком предательстве твоих современников речи не будет. — Но ты говорил о полете к звездам длительностью в две тысячи лет! — Я все объясню. Для всех планет есть общий закон: «Чтобы думать, надо есть». — И Тристан достал какие-то металлические банки, которые после его манипуляций с ними нагрелись и сами открылись, источая приятный аромат. Тристан передал Сирано банку с удобной палочкой и сам принялся с аппетитом есть, начав свои объяснения. Сирано последовал его примеру, с напряженным удивлением слушая его. — Я говорил о своем первом полете, занявшем тысячелетия, но не успел сказать, что ко времени моего возвращения на Солярию звездоведы там уже знали, что Вселенная представляет собой замкнутую область, сравнимую с исполинским цилиндрическим кольцом, внутреннее отверстие которого так сузилось, что радиус его превратился в нуль. — Какое же это кольцо без внутреннего отверстия? — перебил Сирано. — Ты споришь, значит, пытаешься представить это сжавшееся кольцо. Я помогу тебе. Вообрази себе исполинскую змею, удава непостижимой толщины, который свернется вокруг тончайшей иглы. Возьмем лишь одно кольцо его тела и сочтем, что оно срослось. Если мы разрежем его поперек, то получим… — Две примыкающие друг к другу окружности. — Браво! А если разрежем вдоль змеиного тела, свернувшегося вокруг тончайшей иглы? Сирано задумался на мгновение. — Пытаюсь представить. Видимо, будет одна окружность с точкой центра посередине, оставшейся от иглы.[101] — Теперь пойми, что поскольку Вселенная изогнута кольцом, то лучи света там идут не по прямым, а по кривым линиям. Притом не по окружности сечения кольца, а с удаленным от полюса перегибом. — И что же? — А то, что между двумя точками-планетами, находящимися в разных частях кольца, но близко к его внутренней поверхности, свет идет, огибая невыразимо длинную дугу. В то же время не по кривой, а по прямой, проведенной через нулевую точку соприкосновения внутренней поверхности кольца, через «полюс Вселенной» расстояние между теми же планетами ничтожно! Вот и получалось, что корабли, летя по лучу света, преодолевали ненужные расстояния через звездные бездны и на оставленных ими планетах проходили тысячелетия. А по прямой, отклоняющейся от пути луча и соединяющей точки через «полюс Вселенной», то есть через место соприкосновения кожи свернувшегося бесконечно толстого удава, лететь нужно совсем недолго. — Значит, ты летел сюда с Солярии уже по кратчайшему пути? — Именно так. Провел десяток лет по солярийскому счету дома. Но долг участника «Миссии Ума и Сердца», а также знатока земных условий повел меня снова к вам, чтобы встретить тебя. — Теперь я понял! Ты хочешь вернуть меня на Землю еще при жизни кардинала Ришелье. — Превратив за это время тебя в человека даже более образованного, чем он, знатока еще недоступных людям знаний. — Смотри, Тристан! Офицеры прогнали священника, он полез на скалу. И зачем солдаты везут на лошадях хворост и даже бревна? — Боюсь, что им нужен католический священник, а не местный. И не вижу в этом ничего для нас хорошего. — А что, если нам подняться на твоей летающей башне из кольца осады и перелететь в другое место Земли, чтобы не откладывать дело Добра? Пусть сложатся твои знания и моя сила! — Куда ты предлагаешь перелететь? — Хотя бы в Новую Францию. Пусть через океан, но там есть безлюдные места, где легко спрятать в горах твой корабль. Это на севере того континента, где обитает индейское племя майя, к которому принадлежал мой тайный воспитатель в коллеже де Бове. — Признавший в тебе потомка сынов Неба, кто дал людям законы, по которым невежественные дикари не пожелали жить? — И по которым не желают жить мои просвещенные, но властолюбивые современники. — Новая Франция? — задумчиво произнес Тристан. — Случилось так, что я знаю советника вице-короля, губернатора Новой Франции, писателя Ноде, с которым вместе мы освободили Кампанеллу. Он поможет нам вернуться во Францию морским путем. — Так ты решительно не хочешь насытиться на Солярии мудростью ваших будущих веков? — Позволь мне ответить, учитель, стихами. Это свойственно мне. — Уэлл. Уважаю в тебе поэта.Из тьмы невежестваК звезде познанияСтремится ум.Сирано де Бержерак
Глава пятая «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
Когда стих ужасающий грохот за стенками башни, взлетевшей из разведенного под ней костра, Сирано ощутил необычайную легкость, знакомую лишь по детским снам, когда, проснувшись, Савиньон прибегал к матери в восторге от того, что только что летал. Сирано как будто парил над полом башни, понимая рассудком, что такого не может быть и все это лишь грезится ему во сне. И неправдоподобность всего вслед за тем произошедшего мешала признать его реальность. Тристан парил рядом. Но, в отличие от беспомощно висевшего над креслом Сирано, держался смело и непринужденно. Он умело подплыл к нему. Потом он предложил ему надеть вместе с ним под камзол и панталоны тугое одеяние, пронизанное металлическими нитями. После включения «магнитного действия» такое «белье» потянет вниз, как былой вес, и они станут чувствовать себя как обычно на Земле, а их мышцы, находясь в постоянном напряжении, не ослабнут за время долгого путешествия. Сирано послушно выполнил указания Тристана, а когда после включения «магнитного действия» снова обрел свой вес, то пожалел об утраченной сказочной легкости, дарившей ни с чем не сравнимое наслаждение. Меж тем на зеркале-экране появилась огромная, чуть затемненная сбоку луна, словно завернутая в причудливый туманный полог. Сирано удивился столь скорому сближению со спутницей Земли, но Тристан объяснил, что он видит перед собой не Луну, а покинутую ими Землю, прикрытую облаками. Сирано оживился, стараясь угадать, где Франция, а где Новая Франция, куда они могли бы приземлиться. — Увы, Сирано! Вери бед! Наш поспешный отлет, напоминавший бегство, не позволил мне направить корабль в облет Земли, чтобы опуститься, как ты предлагал, в Канаде. Ай эм сорри! К сожалению, у нас уже нет выбора. Аппарат настроен так, чтобы вынести нас сначала на орбиту вокруг Солнца, когда мы не будем ощущать своего веса, а потом в подходящий момент, нагрузив нас привычным весом, направиться прямо к «черной дыре», первые две ракетные ступени, отработав, уже упали обратно на Землю. — О какой «черной дыре» говоришь ты, учитель? — Когда-нибудь земные астрономы, идя по следам Галилея с его телескопом, обнаружат в небосводе «черные дыры», скорее всего объяснив их присутствием там столь огромных небесных тел, что вызванная ими тяжесть удержит у себя даже световые и другие магнитные лучи, а потому тела эти покажутся «черными дырами», на самом деле будучи совсем не дырами и вовсе не черными. — Ты хочешь, чтобы наш корабль попал в объятия такой тяжести и никогда уже не вернулся обратно? — Конечно, нет! Дыра, к которой мы направляемся, подлинно черная и на самом деле «дыра», притом всеобщая. Она черна не из-за сверхсильной тяжести межзвездного тела, а потому что является той самой нулевой точкой, полюсом Вселенной, о чем я говорил тебе. — Кольцо с внутренним отверстием, превратившимся в точку? — Ты отличный ученик и, конечно, понял, что все до единого поперечные сечения Вселенной, представляющие окружности с бесконечным радиусом, соприкасаются в общей для всех нулевой точке, как витки свернутой вокруг иглы спиральной пружины. Правда, тебе нужно сделать еще одно усилие мысли, чтобы понять, что мы, живя в трехмерном пространстве, так же ограничены в своих восприятиях, как были бы безнадежны в своих попытках понять сферичность поверхности некие двухмерные существа, обитающие на этой поверхности, считая ее плоскостью. — Трудно представить себя ничтожным трехмерником. — Тем не менее лучи света, не подчиняясь представлениям трехмерников, движутся на самом деле по кривым линиям, сходясь у оси изогнутого в четвертом измерении Вселенского Кольца, минуя всегда нулевую точку. Вот она и выглядит абсолютно черной, являясь в то же время подлинной и «всеобщей дырой», через которую с одинаковой легкостью можно проникнуть в любую область Вселенной. Потому только эта «черная дыра» и нужна нам. Через нее мы выйдем, если усталое сердце не откажет мне совсем, на противоположную часть дуги Вселенского Кольца, где нас ждут иное Солнце с сестрой Земли — планетой Солярией, которые, к счастью, как Солнце с Землей, расположены, как мы уже говорили, недалеко друг от друга по кратчайшему пути. — И потому мы достигнем цели не через две тысячи лет? — По кратчайшему пути и в кратчайший срок, отнюдь не приближаясь к световой скорости, чтобы не обогнать своих современников, и не тратя на это год разгона и год торможения. Не будь Солярия и Земля так близко к Полюсу Вселенной, нам не удалось бы наше путешествие с обычной космической скоростью, с которой мы улетим от Солнца. И у нас, подчеркиваю, у нас, мой дорогой, не было другого выхода. И я обеспокоен лишь тем, что осаждающие гвардейцы, захватив местность вокруг ракеты, лишили нас возможности дать весть о своем прилете с помощью силовой связи.[102] — Что значит «силовая связь»? — Я объясню тебе. Луч света ограничен скоростью своего распространения. Воспользовавшись им или магнитным лучом, мы получили бы на Солярии собственный сигнал через две тысячи лет после своего прибытия. Силовой же сигнал, сходный с силой тяжести, распространяется почти мгновенно. Если бы мы смогли воспользоваться оставленными на Земле аппаратами, на Солярии уже ждали бы нас. Ясно? — Если нас ждут где-нибудь, учитель, то доброносцы на Земле. — Ол райт! Верно сказано. Но мы летим к Солярии, чтобы вернуться к ним на Землю. — А что ждет тебя на Солярии, учитель? Ничто так не сближает людей, как совместное путешествие. Еще недавно не знавшие друг друга Сирано и Лоремет, одинокие в непостижимо огромной межзвездной бездне, оказались теперь самыми близкими друг другу. Откровенность Тристана представилась Сирано естественной. — К сожалению, меня никто там не должен был бы ждать. Так думал я и в прошлый раз, возвращаясь на Солярию, чтобы найти вновь себя и набраться сил после потери такого ученика, как великий Сократ. Но случилось невероятное. И только тебе, ставшему как бы частью меня самого, твой Демоний может рассказать о своем первом возвращении. Уэлл? — Я слушаю тебя, учитель. — Я покинул свою родную планету, отказавшись от всего: от родных и близких, от возможной подруги и детей, решив посвятить себя благу других, мне неизвестных существ, но, несомненно, нуждающихся в помощи более разумных братьев с их прародины. — Я тоже как бы дал обет безбрачия, посвятив себя идеям доброносцев. — Потому я и хочу насытить тебя на Солярии силой знания, которая поможет тебе заменить на Земле меня. — Как заменить? — Ты уже почувствовал мое усталое сердце. Видишь, я опять глотаю целительную крупинку, ибо не хочу оставить тебя одного на пути к «черной дыре». Я должен провести через нее корабль и доставить тебя на Солярию. — Где тебя никто не ждет? — Ты затрагиваешь самое мое больное место. Сердце мое не было еще усталым, хотя и раненным кончиной Сократа, когда я возвращался на Солярию длинным путем. На Солярии прошли тысячелетия. Память обо мне и других моих соратниках, оставшихся на Земле, сохранилась лишь в мифах и преданиях, как у вас об эре Сократа. Кто мог ожидать возврата никому не известного предка, который даже не оставил прямого потомства? И все же… Тристан замолчал. Сирано не торопил, видя, чего стоит Тристану это откровение. — Надо знать соляриев, чтобы понять, что нашлась среди них удивительная натура солярессы Ольды, которая, едва был получен на подходе к Солярии магнитный сигнал о моем возвращении, отыскала мое изображение на камне и, представь, решила, что любит меня, никогда не видев живым, и станет моей подругой. — Женщины всегда были для меня загадкой, а солярессы тем более. — Разгадка заключалась в том, что, оказавшись в числе встречающих меня, она сразу поразила меня своим сходством с божествами современников Сократа. Они высекали их изображения из камня и создавали шедевры красоты. И я, еще находясь во власти земных представлений, увидел на Солярии живую богиню моих землян! Если встречавшие меня солярии интересовались мной как посланцем прошлого, к тому же знатока чужого звездного мира, который может обогатить науку Солярии, то она, Ольда, видела во мне героя, подругой которого намеревалась стать. — И стала? — Конечно! Разве ты, Сирано, устоял бы? — Не знаю, Тристан, мне бы пришлось выдержать борьбу с самим собой. Я помню, когда меня вызвал к себе во дворец кардинал Ришелье, я залюбовался древней статуей в одном из его залов. Я увлекался античными философами, преклонялся перед античностью вообще, но эта античная богиня являлась потом ко мне во сне живой и зовущей. — Тогда ты поймешь меня! Мы прожили с Ольдой десять солярийских лет, познав безоблачное счастье, хотя и находились среди облаков… Сирано понял значение этих слов лишь много позднее, а сейчас слушал не перебивая. — К концу моего пребывания на Солярии у нас родилась дочь Эльда. Мы любовно пестовали ее всего лишь один наш год (два земных), чтобы передать потом на воспитание «ваятелям сердец», лучшим умам планеты, которые подготавливали юных соляриев к восприятию знаний, дабы знания эти никогда не могли бы быть использованы во зло. — И ты расстался со своей богиней? — осторожно спросил Сирано. — Выше счастья, выше жизни у нас, соляриев, Долг, мой молодой друг. Чувство долга знакомо и тебе. Но, к счастью, тебе еще не знакома та невыразимо острая боль внутренней борьбы, когда я должен был лететь к Земле как ее знаток и участник «Миссии Ума и Сердца» и оставить на Солярии подругу свободной, чтобы она могла избрать себе спутника жизни из числа достойнейших соляриев. Теперь ты поймешь, что значит для меня, после долгих скитаний по Франции и Англии в годы вашей чудовищной религиозной войны, найти на Земле тебя, чтобы стать твоим Демонием. — Я оценил тебя, учитель, и понимаю твое состояние в ожидании близкого прибытия на Солярию. — Порой мне хочется, Сирано, чтобы все это было бы только моим сном. — Тристан! Именно такое состояние я и ощущаю все время. И, к счастью, не могу проснуться. …На Солярии действительно никто не ждал прилетевших… Из непривычного тумана в незнакомом Сирано разноцветье выступало покрытое чужой травой поле. Укоротившаяся башня из альпийского ущелья прочно стояла на инопланетном лугу. — Нас скоро заметят, — уверял Тристан, видя настороженное отношение земного спутника ко всему инопланетному. Каково было Сирано де Бержераку, современнику д'Артаньяна, еще недавно сторонившемуся в Париже карет с гербами, запряженных лошадьми попарно цугом, увидеть на лугу карету (без гербов), катящуюся по ровному полю, как под горку, без всякой упряжки! Возничий, похожий на Тристана, только много моложе, вышел из кареты, оживленно заговорив с ним на непонятном языке, деликатно стараясь не выдавать своего интереса к его спутнику. Он повез прибывших в своей самодвижущейся карете без лошадей в город, где дома стояли не рядом, как в земных городах, а один на другом, уходя несчетными ярусами в розовые полупрозрачные облака. И вдруг Сирано, казалось бы, совсем недавно проскакавший верхом половину Франции, увидел, как по улице, образованной местными вавилонскими башнями, между двух аллей с пахучими в цветенье деревьями, заставляющими вспомнить Париж и Тюильри, в самокатящейся открытой карете ехала стоя… лошадь! Обыкновенная земная лошадь без седла! Может ли такое присниться! Или Тристан действительно привез сюда в прошлый прилет жеребят из Древней Греции, которые родились две тысячи лет назад, но время для них в продолжение почти всего полета стояло! Тристан, отгадав мысли Сирано, утвердительно кивнул. Он был непривычно взволнован, снова проглотив целительную крупинку. Самокатящаяся карета остановилась около одной из башен. Прохожие в развевающихся одеяниях, явно недоумевая, разглядывали Сирано в его, вероятно, кажущемся им нелепым костюме. У Тристана тряслись руки, когда он оперся на локоть Сирано, сказав ему, что теперь им придется подняться в его дом под самые облака. Они приехали не к знатокам знания или вождям планеты, а именно к его бывшему дому. Сирано встревоженно взглянул на учителя. На нем лица не было, казалось, он только что забрался к Сирано в спасительную башню, преодолев немыслимый подъем по скалам. Ведь у него усталое сердце. Как же можно подниматься под облака? — Я понесу тебя! — предложил Сирано. Тристан улыбнулся, молча указав глазами на обыкновенную земную лестницу, круто поднимавшуюся вверх снаружи «вавилонской башни», уходившей в самое небо, ибо дожди здесь, как узнал потом Сирано, были только искусственными. День, очевидно более короткий, чем земной, клонился к вечеру. Еще не зашедшее местное светило казалось, как и на Земле при заходе, сплющенным, но обладало короной из колеблющихся языков пламени. А в фиалковом небе появились сразу две луны. Одна полнолунным шаром висела над башнями, а другая, маленькая, бледная и ущербная, виднелась в самой выси небосвода, проглядывая сквозь облака, как месяц в последней четверти. Вот к ней-то и надо было подняться Сирано с Тристаном по крутой лестнице, которую, конечно, не преодолеть с усталым сердцем. Но все опять получилось не так, как наяву. Едва они вступили на первые «ступеньки», выяснилось, что по ним здесь не поднимаются, а они сами двинулись вверх, унося вставших на них все выше и выше. Через каждые несколько ярусов приходилось переходить с лестницы на лестницу, чтобы подниматься и дальше к розовым облакам. Башни казались исполинскими колоннами, подпиравшими небо, а лес у их основания — кустарником, в который слились сады и парки, разделенные просеками улиц. На них виднелись игрушечные самокатящиеся кареты и точки пешеходов. На васильковых водоемах кто-то плавал — не то ручные животные, не то прирученные птицы. Сирано мысленно старался себе представить Ольду, былую подругу Тристана. Как она встретит солярия, оставившего ее ради Долга? Женщины Земли таких вещей не прощают. А солярессы? Сирано смотрел с высоты на раскинувшийся перед ним простор и жалел, что в этом сне на этот раз ему не дарована легкость невесомости, он не может броситься с лестницы и пронестись над парками, улицами, водоемами. Сирано только крепче сжал руку подавленного предстоящей встречей Тристана, стараясь вселить в него бодрость. И вот на балконе, перед которым внизу словно расстилался весь мир, распахнулась дверь, и на пороге ее застыла Ольда. Сирано воспринял ее как воплощение строгой и совершенной красоты, заслоняющей возраст, она была ожившей статуей, которой он грезил после посещения кардинальского дворца. Да, именно ожившей, ибо неповторимо прекрасна была не только ее очерченная легким одеянием фигура, лицо с прямым носом, продолжающим линию лба, невыразимо прекрасно было выражение испуга, радости, счастья, отразившееся на этом лице, когда расширились ее васильковые глаза, когда в непосредственном порыве, не замечая столь необычного для Солярия гостя, она бросилась к Тристану и совсем по-земному заплакала, зарыдала у него на груди. Это были слезы радости, столь человечной, понятной Сирано, что ему ничего не надо было объяснять о верности подруги герою, улетевшему для выполнения Долга. Все ясно было и Тристану. Он изменился, помолодел сразу лет на десять, если не больше, улыбался, сиял, но молчал, не в силах вымолвить и слова. А когда он заговорил, то на древнегреческом языке, объясняя, что его сопровождает житель далекой планеты Земля. Ольда приветствовала Сирано тоже по-гречески. Оказывается, она изучила земной язык и все проведенные вместе годы Тристан и Ольда говорили между собой только на этом языке. Но более того… Сирано, сняв свою нелепую здесь земную шляпу с пером, смущенно, отойдя чуть в сторону, любовался счастьем учителя. И вдруг ощутил на себе чей-то внимательный взгляд. На него смотрела застывшая в проеме двери тоненькая соляресса. Ее темные, спадающие волнами на плечи волосы обрамляли бледное лицо, чем-то напоминающее материнское, но более подвижное, меняющееся, полное радостного восторга и любопытства, совсем еще юное, но поистине неземное, какое только и может привидеться во сне. — «Долго как длилось утро и день возрастал светоносный!» — сказала, вернее, пропела она строку из «Илиады» Гомера. Значит, и она, Эльда, дочь Тристана и Ольды, тоже знала земной язык, очевидно общаясь на нем с матерью, вернувшись к ней после общественного воспитания и ощущая как бы рядом отца. Сирано был поэтом и оценил тонкость чувств соляриев. Ольда перестала плакать, теперь глаза ее сияли. Тристан взял за обе руки Эльду и радостным и изучающим взглядом рассматривал дочь. А Эльда подошла потом к Сирано и, в свою очередь, взяла в свои маленькие нежные ладони его руки и, смотря в него, именно «в него», а не на него, своими бездонно-черными глазами, опять сказала по-древнегречески, в подражание земным поэтам, соблюдая гекзаметр: — Пусть счастье и радость встречавших коснется и гостя с Земли. Сирано, чувствуя, как сильно забилось его сердце, смущенно склонил голову, поправив черную повязку на лбу. И словно ожгло его воспоминание об индейской легенде и библейские строки о том, как «сыны неба входили к дочерям человеческим…». А он для соляриев был «сыном неба»! Но может ли он мечтать о чем-либо подобном, не познав на Земле восторгов любви!Как думать могу я,Что сны только сны!Из японской поэзии
Глава шестая МИР МУДРОСТИ
Если бы мне предложили высшую мудрость с непременным условием, чтобы я молчал о ней, я бы отказался.Открывшийся Сирано де Бержераку мир Солярии был столь благоустроен, прекрасен, справедлив и многогранен, что знакомство с ним напоминало Сирано соединение его собственных грез с учениями любимых философов. Он был принят соляриями как равный, к нему относились почтительно и старались не утомлять любознательностью. Живя в доме учителя, семья которого говорила на земном языке эллинов, к счастью, изученном Сирано еще в коллеже де Бове, он, естественно, познавал новый для него мир через Тристана, Ольду и особенно через юную Эльду. Она, посвятившая себя воспитанию самых маленьких соляриев, взяла землянина на правах «несмышленыша» под свою опеку. Став его первой наставницей, она стремилась показать ему свое знакомство с культурой далекой Земли, а потому говорила с ним на древнегреческом языке только «гекзаметра размеренными строками», подражая изученным ею поэтам Эллады. Выходило это у нее так естественно и мило, что придавало ее речи особый, волнующий колорит. — Нет в мире достойнее долга, чем воспитание соляриев малых, — певуче говорила она. — Они, как птенцы, что у вас на Земле или в древнюю пору у нас на Солярии. В сердцах, как забьются они, еще нет ничего. Расцвести они могут цветком доброты или черной гирляндой злодейства. И лишь воспитанье насытит их чувством и радостью братства. — Ты совершенно уверена, Эльда, что все мы появились на свет неразличимо одинаковыми и природа продолжала создавать нас неизменными? — Ты мыслью своей пронизаешь насквозь. Конечно, права я отчасти, но все же… Вспомни, у вас на Земле каждый живет ценой жизни другого. Смерть съедобных питает вас всех. Убийство вам же подобных приносит желанные блага. В несчетных веках на Солярии нашей не знали убийств, «кровавая склонность» изжилась сама. От мысли одной, чтобы жизни лишить, здесь каждый из нас содрогнется. И если теперь я о том говорю, то лишь ради тебя в том себя принуждаю. — Спасибо тебе, наставница, которую у нас на Земле сочли бы обитательницей Олимпа. Но как же вы обходитесь без убийств «съедобных», ради поддержания своей жизни? Ведь вы же не боги Олимпа, чтоб питаться лучами светила! — Пропитанье соляриям нашим дает вечно враждебный нам мир. — Что это за мир? — удивился Сирано. — Невидимый нам без хитрейших устройств. Ничтожные злобные звери стремятся проникнуть к нам в кровь и вызвать недуги. «Хранители жизни», такие, как мать, незримо помогут нам выиграть сраженье в крови и победить там болезни. — У нас для этого «отворяли кровь». — Бесконечно давно и у нас так лечили, не зная того, что органы наши, кровь восполняя, «друзьями здоровья» ее насыщают, мельчайшими стражами тела, способными злобных врагов уничтожить,[103] возвращая больному и радость и силу, все то, что во мне так вскипает и рвется наружу. Прости. И мудрая наставница Сирано де Бержерака начинала танцевать, кружилась, взлетала в воздух, быстро меняла грациозные позы, невыразимо женственная и, застыв, подобно статуе, достойной античного резца, всматривалась в него бездонными в своей черноте глазами. Потом порывисто начинала кружиться, заливалась смехом. Наконец, утомленная, садилась в волнующей близости к Сирано и, переводя дух, сразу начинала рассказывать. О том, что злобное невидимое зверье размножается с непостижимой быстротой в специально создаваемых для этого условиях под влиянием минеральной питательной среды и животворных лучей светила. В своей слившейся массе они представляют то необходимое питательное вещество, которое в былое время выращивалось древними соляриями в почве планеты. Получая питательную массу от невидимых своих врагов, солярии ныне научились приготовлять из нее самые изысканные и вкусные блюда. Сирано слушал, дивился, сам не зная, чему больше: изобретательности соляриев, сумевших отказаться от всех видов убийств, или столь резким, но очаровательным переходом в поведении Эльды. Эти переходы и восхищали, и вместе с тем смущали Сирано. Ему трудно было сосредоточить внимание на том, что Эльда снова говорила на певучем языке эллинов. И она учила, как не смог бы учить никто на Земле. Однажды она решила превратиться в ученицу, пожелав непременно овладеть родным для Сирано французским языком. Ей нравилось его звучание, и она с радостным упоением воспроизводила каждую услышанную фразу, сразу усвоив произношение. Это были непередаваемо прекрасные для Сирано взаимные уроки! Эльда делала поражавшие Сирано успехи в освоении второго и даже более любимого, по ее словам, земного языка. Во время очередного урока она спросила, как истая парижанка: — Зачем ты носишь эту уродливую черную повязку на лбу? Я хочу видеть тебя таким, каков ты есть. Сирано, смутившись, рассказал и о своем прирожденном уродстве (искренне удивив этим Эльду, привыкшую к носолобым соляриям), и о своем ранении, когда брошенный врагом острый нож-мачете снес ему верхнюю часть носа, оставив безобразный шрам. Эльда захлопала в ладоши совсем по-земному (чему научил ее сам же Сирано), заявив, что теперь дело за ее матерью Ольдой, недаром она уже не «дочь» и даже не «сестра», а прославленная «мать здоровья». Величественная Ольда по просьбе дочери явилась к землянину: — Я могу избавить тебя, Сирано, от твоего нежелательного шрама, остатка невежественного лечения после ранения твоего. — Что же ты хочешь сделать, прославленная «мать здоровья»? — Пусть не беспокоит тебя мной задуманное. Это не будет связано ни с каким кровопролитием, как в былые времена у нас и ныне на вашей прекрасной, по словам Тристана, планете. — Прости меня, «мать здоровья», но я не из тех, кто боится крови. — О, речь идет не о том, чтобы щадить тебя, а скорее о том, чтобы приобщить тебя к нашим знаниям живого организма. — Я преклоняюсь перед знаниями соляриев и радуюсь всякой возможности обогатиться ими. — Тристан уже поведал тебе жизненный уклад соляриев. Все вместе мы составляем наше неделимое общество, и каждый из нас представляет живую ячейку, могущую существовать лишь в содружестве с другими ячейками, стремясь сделать все, на что способен каждый для других. — «Мне ничего, а все, что есть, — другим!» — перевел Сирано на древнегреческий язык последнюю строчку своего сонета, посвященного философу Кампанелле. — Я знаю этот стих. Тристан, запомнив, читал его мне. Твой философ предвосхищал некоторые черты нашего общества, в основе которого лежит стремление каждого служить всем. Представь теперь, что живой организм подобен нашему обществу, состоящему из несметного числа живых ячеек, которые не способны обходиться друг без друга, не служа своим существованием всему организму.[104] Операции, которые у нас делают, вторгаясь внутрь тела для его исправления, как я хочу это сделать с твоим лбом, не нарушают целостность кровяных протоков, а лишь раздвигают по граням раздела живые ячейки (клетки), не повреждая их, и внутрь тела можно проникать легко и безболезненно, исправляя в нем неладное и позволяя потом вновь соприкоснувшимся живым ячейкам снова быстро срастись неповрежденными краями. — Ты должна, «мать здоровья», так же ловко владеть ножом, как мне привелось на Земле пользоваться длинным клинком — шпагой. — О нет, землянин. Любое острие слишком грубо для нежного обращения с составляющими наш организм ячейками. Я делаю это пальцами. — Пальцами? — удивился Сирано, разглядывая тонкие и нежные пальцы солярессы Ольды, которые восхитили бы античных ваятелей. — Да. Пальцы мои служат направляющими особого излучения, которое с нужной чуткостью раздвигает живые ячейки, не повреждая их. Посмотри, — и она показала, что в тени ее пальцы заметно светились. То, что произошло в дальнейшем, конечно, скорее всего могло бы привидеться Сирано во сне, если бы не изменившаяся его внешность, когда надобность в черной повязке начисто отпала, что отражено было впоследствии земным художником. Как в тумане вспоминались Сирано мгновения, когда Ольда попросила его оголить бедро, откуда она, нежно прикасаясь пальцами, совершенно безболезненно взяла кусок кожи и перенесла его на лоб и часть носа Сирано, сделав это с неподражаемым искусством ваятельницы, предварительно сняв оттуда поврежденный шрамом покров. Перенесенная кожа, словно всегда была на этом месте, с непонятной быстротой прижилась, преобразив лицо Сирано, а шрам с былого переносья прирос на бедре. Он был по-мальчишески рад своему новому облику, робко помышлял о том, какое впечатление произведет он теперь на Эльду. Эльда же радовалась результату операции матери, как девочка: смеялась, прыгала, шутила. Потом обняла Сирано и «по-земному», как научил отец, поцеловала в лоб. От этого инопланетного поцелуя Сирано бросило в жар. Он не удержался и прочел своей ученице посвященный ей сонет на французском языке:Сенека
Глава седьмая ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ
Нет большего подвига, чем отдавать себя людям.Тристан, как и предложил после аутодафе в горах Сирано, мягко посадил свой звездный корабль в Новой Франции, к северу от реки Святого Лаврентия. Так назвал ее французский мореплаватель Картье, водрузивший на этой земле французский флаг. В безлюдном месте, в горах, «крепостная башня» могла бы оставаться незамеченной годами. Но покинуть свое «звездное убежище» Тристану с Сирано не удалось. Усталое сердце Тристана сказалось. Подъем по скалам все-таки не прошел для него даром. Бледный, изможденный, лежал он недвижно на ложе в круглом помещении с экранами и циферблатами. — Друг мой, — обратился он к ухаживающему за ним Сирано. — Я не ошибся, остановив свой выбор на тебе, как на своем преемнике. Силы покидают меня, словно и мне привелось выпить свою чашу цикуты. Теперь ты должен действовать в служении Добру один. — Учитель, не пугай меня. Такая потеря слишком много значила бы для меня. Тристан горько улыбнулся. — О нет, нет! Я не стану называть по именам тех, кого оставил, не называй и ты никогда моего имени, но помни меня и мои советы, как помнил их великий Сократ. Уэлл? — Не равняй меня с ним, учитель! Под твоим мудрым руководством он учил людей благу. — Ол райт! Ты тоже должен их учить. Вот об этом я и хочу говорить с тобой, пока еще мыслю и, как сказал ваш великий философ, существую. — «Когито эрго сум» — Декарт! Я защищал его книги от сожжения изуверами. — Я помню этот подвиг. Но шпагу тебе придется вложить в ножны навсегда, чтобы отныне служить Добру только пером. — Я склонен к этому, учитель. Писал стихи и даже комедию. — Твое оружие — смех. Ты должен высмеивать Зло, Несправедливость, Жестокость власти. — И церкви! — Уэлл, и церкви, изуверов, но… Здесь ты должен быть так же осторожен, как при скрещивании шпаг. Нет! Более осторожен, ибо требуется иное уменье, чем владение клинком. Церковники могут наложить запрет на твои сочинения, если ты не заключишь их в кольчугу. — Кольчугу? Какую? Я всегда дрался без нее. — Ты был только дуэлянт, остряк и балагур. Так останься и в сочинениях своих остряком, балагуром, весельчаком. Вот тебе маска, равная кольчуге, маска вроде той, что пригодилась мне в почтенной Англии, чтобы скрывать свое «инопланетное уродство»! — А я всем выставлял его напоказ. И мучился, и дрался за него — и не добился ничего. — Ты не пробился во дворец, но вызволил из заточения Кампанеллу, которого с почетом усыновила бы Солярия. За это да простится тебе сотня твоих драк. — Я готов служить Добру пером и расскажу людям все то, что знаю о Солярии, именем которой назвал свой «Город Солнца» Кампанелла. — Это я воспользовался его словом, говоря о своей планете. Но тебе придется писать по-иному. Если отец Кампанелла учил, рисуя идеальное, как он считал, устройство жизни, то ты рази земные уродства, показывай их через телескоп, в какой Галилей смотрел на звезды. Пусть люди увидят в твоих сочинениях самих себя и нелепые, сложившиеся между ними на Земле отношения. — Я для контраста расскажу о всех чудесах твоей планеты. — Остерегись, дорогой мой! Тебе никто не поверит, обзовут обманщиком, лгуном или сумасшедшим и все твои благие советы выбросят вместе с книгой, если ее даже и не успеют запретить. — Но как же быть, учитель? — Дай мне лечебную крупицу. Когда мне станет лучше, мы продолжим разговор. Тристан заметно слабел, у Сирано уже не оставалось надежды, что они вместе вернутся во Францию. Скрепя сердце, спустя час, когда Тристану как будто полегчало, Сирано слушал мудрые наставления, жадно впитывая их, чтобы предстоящие годы всегда чувствовать подле себя своего Демония. — Ты спрашивал, как же быть? — с трудом возобновил беседу Тристан. — Как сделать, чтобы тебя не сочли лгуном или безумцем? Говори еще более безумные вещи, чем кажущиеся безумными. Рассыпь известные тебе чудеса счастливой Солярии между самыми глупыми нелепицами. Вери найс! Прелестно! Пусть читатели твои сочтут, что все это «выдумки» одинаково смешны и глупы. Но через сотни лет, когда люди сравняются с соляриями в своих познаниях, они сумеют разобраться, где ты шутил, а где вещал. Но главное, пусть люди ныне знают, как жить нельзя! Ты понял? — Понял. Шутить и «прятать жемчуг в камни»? — Хотя бы так! Но камни эти должны лететь в намеченную цель, крушить несправедливость, власть, злодейство! — Я напишу трагедию, пойду поэтом к герцогу д'Ашперону. — Да, да! Он предложил тебе. Ол райт! Ты прав! Поступишь верно, хотя и отказался от предложения кардинала Ришелье. — Д'Ашперон — наш доброносец. Я пойду к нему, чтобы служить не чванству кардинала, а вместе с герцогом нашему общему делу. — Потому я тебя и одобряю. Уэлл, уэлл! А теперь иди, оставь меня и отдохни. Я, кажется, усну. И может быть, проснусь. Вери найс! Но солярий Тристан, Демоний Сократа и Сирано де Бержерака, современник Фидия, Перикла, Кромвеля и Ришелье, не проснулся… В неописуемом горе стоял над его холодным телом Сирано де Бержерак, размышляя о своем последнем долге учителю, отдавшему свою жизнь людям чужой планеты. И Сирано принял неожиданное решение. Он покинул ракету. Сами собой заработали ракетные устройства, и они подняли к небу гигантскую башню с единственным своим мертвым пассажиром, оказавшимся совсем не бессмертным Демонием, чтобы унести в межзвездное пространство и навсегда сохранить нетленным того, кто служил умом и сердцем неизвестным ему прежде людям. Ракета растворилась, исчезла в синем небе, заглохли раскаты грома в горах, где не прошло дождя. Сирано почувствовал полное и безнадежное одиночество. Он упал на землю, готовый грызть ее, и зарыдал, зная, что его никто не видит. Он рыл пальцами землю у корней могучих сосен, окружавших его со всех сторон. Безутешное горе и сознание безысходного одиночества терзали его, отнимая последние силы. Он не знал, какое время пролежал на земле, царапая ее пальцами, но когда повернул мокрое от слез лицо, то не поверил глазам. У скалы недвижно застыла, словно каменная, фигура индейца со скрещенными на груди руками. Он был в мягких мокасинах, в кожаных брюках с бахромой по шву, в куртке, расшитой такой же бахромой, и в шапке с ярким пером. У правого бедра висел колчан со стрелами, у левого — томагавк, боевой топорик, а за спиной виднелся огромный лук. Индеец, конечно, давно мог бы сразить Сирано стрелой, однако, видимо, ждал, когда он придет в себя, став свидетелем его горя. Сирано вскочил одним движением и взглянул в узкие темные глаза, наблюдавшие за ним с холодным спокойствием. Тогда Сирано снял висевшую у него на перевязи шпагу, положил ее у ног и протянул индейцу обе руки ладонями вперед. — Франция! Квебек! — произнес Сирано, надеясь, что здесь все-таки Новая Франция и французские слова могут быть знакомы аборигену. Индеец молчал, никак не реагируя ни на слова, ни на жесты чужеземца. Тогда Сирано улыбнулся, приветливо, сердечно. Вероятно, из всех видов общения людей друг с другом улыбка самое общепонятное и действенное средство передачи мыслей и желаний, способное преодолеть барьеры и языковые, и даже порожденные враждой. Индеец, не меняя каменного выражения лица, сказал несколько французских слов: — Колдун. Аббат. Костер. Для Сирано этого было достаточно, чтобы понять, что индеец видел запуск ракетного корабля, совершенный, как он понял, Сирано. И он, конечно в его представлении — «колдун». А у аббата такого колдуна ждет костер. Очевидно, индейцу были знакомы нравы служителей святой католической церкви. Сирано, превозмогая головокружение, коснулся рукой сердца. — Квебек. Франция. Друг, — выговорил он, показав жестом на себя и индейца. Тот с достоинством кивнул. Рука его протянулась к томагавку. Сирано, пересиливая овладевшую им слабость, напрягся, готовый применить узнанные от другого индейца приемы борьбы без оружия. Индеец взял боевой топор и доверчиво положил его рядом со шпагой на землю. И как только Сирано понял, что абориген мирно принял его, силы вдруг совсем оставили его. На него накатился мрак, вызванный горем и всем им перенесенным, он без сознания повалился на землю. Он не знал, как очутился в вигваме племени, обитавшем в соседнем каньоне, ошибочно принятым Сирано и Тристаном за безлюдный. Долгое время Сирано находился между жизнью и смертью, даже не воспринимая трогательного ухода за собой семьи Медвежьего Когтя, принесшего его сюда. Все племя приняло участие в судьбе «колдуна», своей волей отправившего в небо круглую скалу и, очевидно, отдавшего для этого слишком много жизненных сил, вызвав в горах гром без дождя. Простодушные обитатели вигвама, видя, как мечется в бреду их гость, произнося непонятные слова, не догадывались о его видениях, которые или были повторением пережитого, или подменяли собой реальность, будучи бредовыми грезами. Даже сам Сирано, начав приходить в себя, не мог провести грань между реально происшедшим и пригрезившимся во время болезни. Он мучительно старался восстановить цепь событий: неистовая погоня по дорогам Франции, в альпийском ущелье; подъем под пулями гвардейцев, подорвавший усталое сердце учителя; диковинная башня и люк, у которого упал учитель; круглое помещение с окнами, не выходящими наружу; аутодафе, из пламени которого взлетела ракета Тристана, которую Сирано предложил опустить в Новой Франции; и наконец, приземление ее именно в Новой Франции и потом раздирающее душу горе потери учителя с так и не оправившимся усталым сердцем! Но было ли на самом деле все, что «привиделось» Сирано между взлетом и посадкой ракеты? Лежа в вигваме, Сирано не в состоянии был это решить. Но он и не мог отказаться от воспоминаний о пейзажах Солярии, о мудрой Ольде, о горячо и нежно любимой Эльде! Но… если они с Тристаном побывали там, разве та же Ольда не исцелила бы его усталое сердце? Разве отпустила бы его на Землю, чтобы он сразу погиб бы там? Мучимый этими вопросами, Сирано выздоравливал, не зная, как ему отблагодарить приютивших его индейцев. Случай помог ему оказать услугу Медвежьему Когтю, как звали его спасителя, который едва сам не погиб от когтей медведя во время охоты. Его принесли в вигвам истекающим кровью. И Сирано отдал ему свою кровь, перелив ее в его жилы так, как сделал это когда-то Кампанелла. Сирано повторил усвоенные им приемы, которые вечный узник описал в своем медицинском трактате, еще находясь в темнице. Спасение Медвежьего Когтя «колдуном» еще больше расположило к нему индейцев. Он еще долго прожил с ними, пока окончательно поправился, знакомясь с их немудреным бытом. И ему казалось, что он действительно имеет дело с одичавшими за миллион лет соляриями, но сохранившими если не достижения былой цивилизации, то твердые устои справедливого уклада общества. И эти дети теперь земной природы были куда ближе к сказочным, пусть даже привидевшимся ему соляриям, чем его европейские сородичи, убивающие друг друга за золото, за власть, за иные верования, когда главным правом в жизни служит насилие. То, что Сирано колдун, стало у всех индейцев племени непреложным, но он обрел славу доброго колдуна. И к нему приходили с маленькими своими нуждами простодушные обитатели вигвамов, а Сирано узнавал их жизнь и обычаи. Индейцы не знали собственности, которую ценой любой крови защищали власть имущие во всех европейских государствах. Правда, индейцы в отличие от соляриев охотились, но добытая ими дичь становилась общей для всего племени. Дети воспитывались сообща женщинами, преданными этому делу, умеющими внушить малышам чувство достоинства, взаимовыручки, преданности каждого всем. Потом мальчиков учили владению оружием и приемам охоты или защиты племени от любых нападений, а девочек — женскому делу: выделыванию кож, шитью одежды, приготовлению пищи и поддержанию очагов и, конечно, уходу за детьми. Все это восхищало Сирано. Когда к нему привыкли, он стал расспрашивать, где же Квебек и как он мог бы добраться до него. Старейший из индейцев, с оливковым цветом лица, привел его на край ущелья и показал рукой, сказав на местном языке: — Кана — да! — и добавил по-французски: — Там![106] И Сирано дали спутника, проводника, который мог вывести его к Квебеку. Тяжел был путь. Индейцы здесь не знали лошадей, они всегда рассчитывали лишь на свои ноги. И ноги Сирано наконец привели его в Квебек, столицу Новой Франции. Здесь, среди убогих домишек, воздвигнутых переселенцами, по преимуществу скупавшими у индейцев шкуры зверей, он встретился наконец с французами. К сожалению, его поношенный солдатский камзол внушил тем подозрение, которое не рассеивалось даже дворянской шпагой на боку. Сирано де Бержераку пришлось на первых порах выдать себя за человека, потерпевшего кораблекрушение и вынужденного добираться до реки Святого Лаврентия почти через всю страну. Ему верили и не верили. Но когда он назвал имя советника губернатора господина Ноде, отношение к нему смягчилось. Его провели во «дворец». Более насмешливого названия нельзя было присвоить хижине, где властвовал мальтийский рыцарь Шарль де Монманьи, назначенный наместником короля в колонии, превышающей площадью Францию, но где надо было начинать все с голого места. Основную власть здесь имели торговые компании, промышляющие пушниной и скупкой у индейцев ценного сырья, губернатор же представлял короля. Ноде холодно принял Сирано. — Прошу извинить, почтенный господин, — сказал он, услышав имя Сирано де Бержерака, — но я имел честь встречаться с названным вами дворянином и, признаться, не нахожу слишком большого сходства между вами. — Я напомню вам, господин Ноде, что вы оказали мне неоценимую услугу, переправив меня в гробу на фелюгу. — Гм, — удивился Ноде. — Вы в самом деле кое в чем осведомлены о судьбе милого юноши, которого я знал, но который едва ли остался жив. — Однако он перед вами, господин Ноде! Что же касается изменившего очертания моего носа, который наверняка запомнился вам как верх уродства, то я получил ранение в бою под Аррасом и благодаря судьбе, забросившей меня в чужие страны, с помощью тамошних лекарей свел следы ранения. — Я рад бы был поверить вам, что у индейцев есть такие колдуны, которые умеют заживлять подобные раны, но не раньше, чем вы сведете меня с ними. Сирано был в отчаянии. Как убедить этого подвижного толстяка в том, что представший перед ним бродяга и есть Сирано де Бержерак, которого тот доставил в гробу на фелюгу, а потом перевез в карете в Мовьер. «Мовьер-Кюре! Вершитель Добра Доброносцы!» — мелькнуло в мыслях у Сирано. И, подчиняясь невольному порыву, он сделал тайный знак пальцами, которому научил его ритор тайного общества покойный Тристан. Этот знак вызвал удивление, потом радость Ноде. Он ответил Сирано таким же знаком. — О молодой мой друг! Все рассказанное вами так необычно, что вы должны извинить меня за мое недоверие. Но теперь я вижу в вас не только смелого юношу, сражавшегося за нашего Кампанеллу, но и брата по выбранному в жизни пути. Я готов всем, чем могу, содействовать вам. Но прежде всего вам нужно надеть достойный костюм. У меня есть кое-что. Я прикажу служанке перешить вам по фигуре. — Наконец-то я могу поблагодарить вас, брат Ноде, не только за оказываемую мне любезность здесь, но и за заботу о милой нашей Франции, куда сейчас стремлюсь, надеясь на вашу помощь. — Мы ждем корабля в ближайшие недели. Но чтобы попасть на него, вам нужно очаровать вице-короля и губернатора рыцаря мальтийского ордена Шарля де Монманьи. — Я готов, если вы окажетесь настолько любезны, что представите меня ему. — Но как вы объясните ему свое пребывание здесь? — Я признаюсь ему, как и вам, что вынужден был бежать вместе с ритором доброносцев в звездном корабле, который и приземлился в Новой Франции. — О боже мой! Одно лишь упоминание о доброносцах вызовет у благородного рыцаря мальтийского ордена такой гнев, что мне уже не спасти вас с помощью пустого гроба. Губернатор заполнит его вашим телом навечно. — Поверьте, это не устроит меня. Но что я должен сказать рыцарю мальтийского ордена? — Самое нелепое, что только сможете придумать, но только не правду. Представляемый им орден, созданный еще крестоносцами пятьсот лет назад, перекочевавший из Палестины на Мальту, пользовался в Париже излишним, по мнению его высокопреосвященства господина кардинала Ришелье, влиянием, и он нашел лучшим удалить господина Шарля де Монманьи подальше, возведя его в высокий ранг. Та же судьба постигла и меня после участия в освобождении Кампанеллы. Став советником рыцаря, я узнал его нрав и наставляю вас: чем нелепее будет ваша выдумка, объясняющая появление здесь, тем она покажется вице-королю и губернатору достовернее. Сирано задумался и, пока ему готовили платье для официального приема губернатором, выдумывал самое невероятное и глупое путешествие, которое он якобы совершил. Он вспомнил совет Тристана и был готов для высокой беседы. Она состоялась во «дворце», то есть в хижине переселенцев, отведенной наместнику короля, пока каменный дом для него будет возведен. Рыцарь мальтийского ордена Шарль де Монманьи оказался надутым и важным вельможей, считающим себя мудрецом и философом, способным к возвышенным мыслям. Вице-король любезно расспросил Сирано, из какой он страны, каково его имя и как он попал сюда. Сирано де Бержерак представился, заметив, что его отец пользуется наследственной привилегией не снимать шляпу в присутствии короля. Это произвело на вице-короля благоприятное впечатление. Когда же Сирано поведал ему, что совершил путешествие сюда по воздуху, привязав вокруг себя множество склянок с росой, и поскольку роса притягивается солнцем, то и поднялся вместе с нею над землей. Земля же, очевидно, вращается, ибо, начав спуск, Бержерак обнаружил, что у него под ногами вместо окрестностей Парижа оказалась Новая Франция. Вице-король, несмотря на свое рыцарство, был человеком воспитанным. Он или поверил Сирано, или сделал вид, что поверил, наговорил любезностей и даже отвел ему комнатку во дворце, а ночью явился к нему со словами: — Вам, совершившему столь отважное путешествие, не пристало уставать, и я осмелюсь передать вам мнение отцов иезуитов, с которыми я совещался по вашему поводу. Представьте, любезнейший, отцы иезуиты настаивают, что вы колдун, а самое меньшее снисхождение, на которое вы можете рассчитывать с их стороны, это сойти за обманщика. Меня же лично в вашем рассказе смутило то обстоятельство, что свой путь от Парижа, где вы были лишь вчера, вы могли бы совершить с помощью притягивающего росу солнца даже и в том случае, если бы Земля и не вращалась, что наиболее спорно. Сирано, быстро приведя себя в порядок и усевшись рядом с вице-королем на узкой койке, постарался доказать доступными тому способами, что Земля все-таки вращается и что отцы иезуиты напрасно в этом сомневаются. Он вспомнил о Тристане, и его Демоний, словно находясь подле него, подсказал ему нужные слова. — Ваша светлость, государь мой, вице-король и губернатор! Я буду крайне счастлив, узнав о вашей победе в богословском споре с отцами иезуитами, уважение к которым спешу выразить. И вы, несомненно, выйдете блестящим победителем в диспуте, если напомните отцам иезуитам, что утверждение, будто Солнце вращается вокруг Земли, как видят то наши глаза и как утверждал язычник Птоломей, обманчиво и противоречит здравому смыслу, ибо Солнце — центр Вселенского государства, коему дарит свое тепло. И оно подобно его величеству королю этого государства, и ему, светилу, не пристало бегать вокруг одного из своих подданных, чего не станет делать ни одна коронованная особа. Губернатор ответил: — Ваш довод весьма остроумен, я приведу его в дальнейшем споре с отцами иезуитами и хотел бы добавить к вашей мысли еще и доказательство в вашу пользу одного из почтенных отцов церкви: «Земля вращается, но не по причине, которую приводит Коперник, а потому, что огонь ада заключен в центре Земли и души осужденных на вечные времена, спасаясь от страшного пламени, карабкаются по внутренней полости грешной Земли, заставляя тем ее вращаться, подобно белке в колесе».[107] И теперь я вижу, — закончил вице-король и рыцарь мальтийского ордена, — что святой отец был прав, и вы своим отважным путешествием доказали существование ада и усилий грешников избавиться от адского пламени. Однако вернуться во Францию таким путем вам, господин Сирано де Бержерак, не представляется возможным, ибо, даже поднявшись вновь при помощи банок с росой в воздух, при вращении Земли в ту же сторону вас отнесет еще дальше от милой нашей Франции, но пусть вас, почтенный наш гость, не удручает это непоправимое обстоятельство, ибо в ближайшее время во Францию отправится корабль, где вы можете найти для себя достойное место рядом со знающим вас еще во Франции господином Ноде, который возвращается в Париж, желая посетить могилу почившего его высокопреосвященства кардинала Ришелье. С этими словами вице-король покинул клетушку своего столь странно явившегося к нему гостя, чтобы разъяснить отцам иезуитам их заблуждения, втайне надеясь, что в скором времени ему самому удастся совершить захватывающее путешествие по воздуху с помощью банок с росой.Сократ
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Никто так не врет, как очевидцы.За время отсутствия Сирано во Франции произошло немало событий. Одним из них еще до кончины Ришелье была его расправа с «очевидцами» необыкновенного вознесения на небо дьявольской башни. Совершенно ясно, что это было неумное вранье графа де Пасси и лейтенанта де Морье, старавшихся прикрыть выдумкой свое нерадение в поимке важного государственного преступника, несомненного сообщника английского смутьяна Оливера Кромвеля, посягнувшего на священную власть короля, став во главе организованной им армии английского парламента. Так или иначе, но подозреваемый англичанин Тристан Лоремет исчез и, уж конечно, не вознесся на небо в крепостной башне, как уверяли «очевидцы». Поистине никто так не врет, как они! И по приказу кардинала граф де Пасси и лейтенант де Морье закончили жизнь на эшафоте. Что же касается солдат и гвардейцев, то они направлены были в войсковые части, брошенные в бой после вступления Франции в нескончаемую войну, и там в большинстве своем полегли. Лишь некоторым удалось постричься в монахи, где они уподобились отцу Жозефу Марли, вернувшемуся в монастырь св. Августина после неудавшегося аутодафе в горах, подвергнув себя тяжкому покаянию: не произносить в оставшейся жизни ни слова, став во искупление своих грехов «молчальником», добровольным немым. Также и новые монахи из бывших солдат, если и не остались немыми, то о башне в горах предпочитали молчать. Вскоре после этой последней расправы кардинал Ришелье скончался, твердо уверенный в том, что никакой летающей крепостной башни не было, а его воины плохо служили ему. Через полгода после кончины всесильного кардинала умер и бессильный король Людовик XIII, назначив регентшей при своем пятилетнем сыне Людовике XIV его мать, королеву Анну Австрийскую. Правителем же Франции стал преемник Ришелье, молодой и красивый кардинал Мазарини.Народная поговорка
Часть вторая ПОЖАР СТРАСТЕЙ
Как гибельны страсти! Это ветры, надувающие паруса корабля, они его иногда топят, но без них он не может плавать.Вольтер

Глава первая «ДЕНЬ БАРРИКАД»
В этот день кардинал Мазарини, первый министр Франции, в обычной своей серой сутане, подкладку которой он еще при жизни Ришелье приказал сделать алой, чтобы не надевать пурпурной мантии, подобно своему патрону, протащившему его в кардиналы, в тревоге стоял в Лувре у окна против Нельской башни на другом берегу Сены и вспоминал последние минуты жизни Ришелье. Немощный духом и телом король Людовик XIII, превозмогая очередной недужный приступ, приехал тогда во дворец кардинала проститься со своей яркой исполинской тенью, всегда ненавистной ему, но могучей и неотвратимой. Король связал себя с ней, когда королева-мать Мария Медичи подняла мятеж знати против сына. Коронованный юноша во имя обретения наконец подлинной королевской власти приказал заколоть любимца королевы-матери «комнатного маршала» д'Акра, бездарно правившего от имени регентши страной, не желая уступать власть королю. Вслед за тем была казнена и жена маршала Кончини, горничная королевы, признанная ведьмой, сумевшей подчинить себе Марию Медичи уменьем причесывать ее волосы. Духовник же королевы, друг папского нунция (посла Ватикана во Франции), епископ Люсонский, герцог Жан Арман дю Плесси де Ришелье сумел примирить мать с сыном, положив конец кровопролитной родственной распре, что удалось ему сделать благодаря любовной связи с королевой, чему он обязан также и возведением его в сан кардинала и назначением министром короля. А через два года он стал и первым министром, подлинным правителем и даже генералиссимусом Франции. Это возвышение, впрочем, не помешало ему впоследствии способствовать изгнанию бывшей своей возлюбленной в Кeльн, где Мария Медичи и умерла в бедности, горестно вспоминая былую власть, раболепие вельмож и неверную кардинальскую любовь. Еще в Риме в свиту нунция проник проныра монах Мазарини, сменивший ливрею камердинера сначала на солдатский мундир, а потом на монашескую рясу. В Париже он проявил себя неоценимым помощником в темных делах, требующих интриг, коварства и умения убрать противника или переманить его на свою сторону. Там он и стал личным секретарем Ришелье, в нужное время возведенный с его помощью в кардиналы. Людовик XIII, тяжело дыша от ходьбы по паркетным залам и не решаясь сесть, стоял перед широкой кроватью с балдахином, где утопала в подушках голова кардинала с торчащей седеющей эспаньолкой. Король старался не пропустить ни слова из того, что в назидание ему шептал Ришелье: — Я передаю в дар вашему величеству свой дворец,[108] заверяя при этом, что нет у вас лучшего слуги и продолжателя моего дела, чем кардинал Мазарини, которого сам папа возвел в равное моему звание, дабы и впредь защищать абсолютную власть французской короны. Мазарини стоял рядом, стройный, окаменевший, почувствовав на себе мельком брошенный острый взгляд короля. — Враги вашего величества, пользуясь родством с испанским королем ее величества королевы Анны, ни с кем не сравнимой по своей красоте, замышляли заговоры против меня, а тем самым против вас. Я уйду из мира раньше вашего величества. Но если господь всемогуший призовет вслед за мной и Людовика Справедливого, то умоляю не передавать всей власти в руки королевы-регентши, ибо наследнику вашему всего пять лет, а высокомерные вассалы в своей неукротимой жажде властвовать сделают все, чтобы притеснять его, поставив под сомнение ваше отцовство. Людовик XIII кивнул и неприязненно поморщился. Он не любил напоминаний о наследовании его власти. Промолчав, он закашлялся, повернулся и ушел, не взглянув на умирающего. Когда же Ришелье скончался, король, узнав об этом в Лувре, холодно заметил: — Умер «великий политик», — вложив в эти слова все свое презрение к политике, которой никогда не занимался, и не выразив никакого сожаления по поводу понесенной утраты, впрочем, как и все присутствующие при этом придворные. Никто не пожалел страшившего всех при жизни неистового политика, реформатора, философа, драматурга, коварного интригана, мягкого и жестокого правителя, не останавливавшегося ни перед чем ради укрепления абсолютизма французской короны. Однако последний завет Ришелье Людовик XIII, впрочем, как и всегда, все-таки выполнил: Мазарини стал первым министром, наследовав власть Ришелье, а когда через полгода король сам прощался с жизнью, он назначил королеву Анну регентшей при своем малолетнем сыне Людовике XIV, но… подчинил ее регентскому совету. Величавая, надменная красавица Анна Австрийская была вне себя от негодования. Она сломала бесценный веер, разбила редкую фарфоровую чашку и, окруженная толпой раболепствующих фрейлин, бессильно опустившись в атласное кресло, почувствовала себя обреченно одинокой в кругу злобствующих врагов. И тогда на ее половину вошел стройный, но смиренный красавец кардинал с расчетливыми движениями и вкрадчивым голосом. Конечно, отнюдь не бескорыстно он взялся снять с Анны опеку регентского совета с помощью созыва по указу королевы парламента, коему надлежит «служить обществу и переустроить государство» (по примеру парламента английского). Королева Анна доверилась кардиналу-искусителю и подписала указ. Мазарини умело взялся за дело, созвав от имени королевы парламент. Каждому из членов он польстил его правом на «переустройство» правления в стране вплоть до влияния на престолонаследие. Обуреваемые жаждой выгоды, «королевские люди» собрались в Париже и на первом же заседании парламента освободили прелестнейшую королеву Анну от опеки регентского совета, распустив его. Но едва королева Анна стала формально полновластной, она тотчас же, по замыслу Мазарини, распустила и сам парламент, не успевший сделать и шага в направлении «служения обществу и переустройству государства». Озадаченные члены парламента разъезжались, уверенные первым министром, что им ничего не грозит. Однако «чванливые» и высокомерные аристократы, если не грозили им, начинали грозить сами. Еще недавно объединяясь с королевой Анной против Ришелье, они теперь повели наступление на нее, которую сами же только что облекли высшей властью. Наглостью, которой не переносила Анна, угрозами и буйством они вынудили регентшу поделиться властью с ними. Настала мрачная пора «кабалы чванливых», как выражались в народе. Они утопали в роскоши, предаваясь пьянству, распутству, всячески унижая королеву-регентшу. Однако это царство разгула и беспутства не смогло продолжаться больше четырех месяцев. Пришла очередь Мазарини, и он показал, что может разогнать «чванливых», не считаясь с их высокомерием, некоторых даже упрятав в тюрьму. Он не останавливался перед тем, чтобы оскорблять знать, нанося аристократам самые болезненные раны. Но он поступал так и в отношении магистрата и восстановил против себя и, особенно против своего приятеля и помощника, заправлявшего финансами, флорентийца Эмери, как крестьян, так и горожан. И вот теперь на улицах Парижа за Нельской башней, на которую смотрел из окна Лувра кардинал Мазарини, неистовствовала толпа. Два всадника, приобретшие лошадей в Гавре, куда их доставил корабль из Новой Франции, с трудом пробирались по улицам Парижа сквозь возбужденную, негодующую толпу, не представляя, что здесь происходит. Все лавки были закрыты, улицы перегорожены цепями и загромождены пустыми бочками, мешками с землей, досками, вытащенной из домов мебелью, словом, непроходимым валом. — Кажется, повторяется «день баррикад», — заметил, слезая с коня, Ноде. — Что вы имеете в виду? — поинтересовался Сирано де Бержерак, последовав его примеру. — Все, как в 1588 году, как я и писал в одном из своих романов, не думая, что мне придется пережить свое творение самому. Во всяком случае, на конях нам дальше не пробраться. Я вижу здесь кабачок. Попросим хозяина подержать у себя наших лошадей, а сами отправимся пешком. «Не откажись от угощения», — прочел Сирано вывеску. Они постучали в запертую дверь. Пока трактирщик открывал ее с видимой неохотой, Ноде рассказывал Сирано о былом «дне баррикад»: — Тогда горожане перегородили улицы, чтобы помешать королевским войскам войти в Париж, где обосновался герцог Генрих Гиз, по прозвищу Рубчатый. В ту ночь воевали три Генриха: король Генрих III Валуа, Генрих Наваррский Бурбон и Генрих Гиз, «король Парижа», сумевший снискать расположение простолюдинов, но, как глава католической лиги, для достижения власти он заручился поддержкой Испании, которой распродавал Францию по частям. — Как же вы описали его конец, дорогой Ноде? — Именно так, как произошло. Генрих III, изучавший Макиавелли, внезапно признал «короля Парижа» Генриха Гиза, утвердил все его распоряжения и дружески пригласил к себе. Самонадеянный Гиз, суливший фанатикам повторение Варфоломеевской ночи, отважно явился к королю и был заколот на пороге его кабинета. — Неужели после того, что мы видели по дороге сюда, здесь произойдет нечто подобное? — О, друг Сирано! Поистине с вами не умрешь от скуки! То вы ввергаете меня в плаванье на фелюге с двумя гробами, откуда восстаете и вы, и отец Кампанелла, ради которых приходится избегать испанских кораблей, как пиратов, в результате чего я был выдворен с почетом в Новую Францию; то вы же перелетаете туда неведомым способом, по убеждению вице-короля, с помощью стеклянных банок с росой, притягиваемой солнцем; то сейчас заставляете меня пережить мной же описанный «день баррикад». Сирано искренне смеялся шутке своего неунывающего толстяка. Сонный старый трактирщик с торчащими седыми космами отпер дверь, подозрительно оглядывая гостей. — Лошадей, конечно, я могу поставить во двор, если будет заплачено за корм, который нынче вздорожал, почтенные господа. Но где же ваши слуги и багаж, без которого не путешествуют? — произнес он отнюдь не приветливым голосом. Сирано почудилось, что он уже слышал это как-то раз. Ноде отчаянно торговался с бессовестным кабатчиком. Наконец они договорились о цене, и трактирщик, открыв ворота, увел коней во двор, а путники отправились по парижским улицам пешком. Еще по дороге в Париж они увидели бедствующую Францию, опустошенную поборами, как набегами врагов. Крестьяне, ограбленные сборщиками податей, питались кореньями, лишенные скота, порой вынужденные сами впрягаться в плуг, терпели негодуя. И у всех на устах виновник общих бед Мазарини. Его имя слышалось вперемежку с проклятиями и на улицах Парижа, где слилось недовольство и знати и простолюдинов. Брожение в столице уже складывалось в мощное движение Фронды (что означало — шутка, детская игра в лапту), которая отнюдь не в шутку грозила королевскому двору. В толпе Сирано и Ноде слышали крики: «Свобода!» Оказывается, Мазарини вчера арестовал трех членов парламента, и народ требовал свободы им и свободу себе. Возбужденные парижане стекались к баррикадам. Путники вынуждены были задержаться около одной, где в образованный всякой всячиной вал рядом с опрокинутыми столами и стульями, старой телегой и лестницей попала лакированная карета, из которой не выпрягли даже лошадей, две пары редкой белой масти в яблоках. На крыше кареты стоял оратор в епископском облачении и держал перед столпившимися горожанами зажигательную речь. — Кто это? Кто? — спрашивали окружающих Сирано и Ноде. — Герцог Рец, архиепископ парижский, разве не узнаете? Или вы гугеноты? — отвечали им соседи по толпе, награждая их косыми взглядами. — Сколько можно терпеть у руля нашей Франции невежду, корыстолюбца, превзошедшего в тщеславии и алчности самого почившего кардинала Ришелье! Народ стонет под его игом, несчетные поборы губят вас, многих пускают по миру. Он, Мазарини, призвал откупщиков, так называемых «партизан», взымая с них причитающуюся по налогам сумму вперед и предоставляя им право сдирать с вас, простых людей, прежде всего крестьян, сумму вчетверо большую. Ему выгоднее иметь дело с несколькими наживающимися на разорении народа бессовестными «партизанами-откупщиками», чем с самим народом. Но народ в вашем лице, горожане Парижа, должен сказать свое слово! Если временщик заточил вчера в тюрьму трех уважаемых членов парламента, вручивших власть королеве-регентше, то все вы вправе потребовать свободу узникам и свободу себе! Надо положить конец узурпатору власти, вчерашнему камердинеру, надевшему кардинальскую сутану и ослепившему королеву. На баррикады! На баррикады! — Однако, — заметил Сирано, — речь архиепископа мало напоминает церковную проповедь. — С тем же успехом проповедью можно назвать рычание льва, — отозвался Ноде и добавил: — Герцог Рец! Я знал его, он из флорентийцев свиты зловещей Екатерины Медичи. Еще в юности он изучал заговоры и сам Ришелье, прочтя его памфлет о заговоре Фьески против генуэзского деспота Дория, заметил об авторе: «Вот опасный ум». И кажется, он действительно опасен кое-кому в Лувре. Толпа ринулась к дворцу, увлекая с собой двух доброносцев от баррикады к баррикаде. На одной из них Сирано с замиранием сердца увидел вдали силуэт женщины с простертой вперед рукой. Но в ней была не свеча, как когда-то, а знамя. — Свобода! Свобода! — кричали вокруг, быть может, повторяя ее возглас. Сирано попытался пробиться к ней, но бегущая толпа повлекла его дальше к Лувру. Уже вблизи дворца толпа задержалась еще около одной баррикады, где на опрокинутой бочке стоял другой оратор. Его длинные русые кудри струились по плечам, одухотворенное лицо с тонкими, почти женственными чертами пылало, бархатный голос гремел. — Это герцог Бофор, незаконный внук Генриха IV! — воскликнул Ноде. — Ну да, Бофор! Наш Бофор! — отозвался благообразный горожанин. — Мало найдется милашек, которые отвернутся от такого молодца! Недаром его прозвали «королем торговок», а торговки в наше время — сила! Вы только послушайте его! — Горожанки и горожане, дорогие моему сердцу парижанки и парижане! — и гремел, и вкрадчиво проникал в души слушателей красивый вибрирующий голос. — Настало время потребовать ответа от коварногопсевдосвятоши, нарушившего обет безбрачия, не вступая в брак, поскольку под рясой у бывшего камердинера нет и капли королевской крови. Но зачем ему узы брака, когда можно наслаждаться его радостями без всяких уз, налагаемых церковью и совестью? Хохот пронесся по толпе. Больше всех хохотал, тряся жирными подбородками, сытый горожанин, стоявший подле Сирано и Ноде. — Ни для кого не секрет, — продолжал как бы на ушко, даже наклонившись к толпе, Бофор, — что этот «кардинал», кокетливо показывая алую подкладку своей подобранной сутаны, проникает по ночам в спальню «мамаши» и, надо думать, не для напутствия ее в качестве духовника, а принося ей скорее не духовную, а плотскую пищу, куда более сладостную! И снова хохот в толпе. — Наслаждаясь плотскими радостями по ночам, они загубили нашего малолетнего короля. Его наверняка уже нет в живых! — В Лувр! В Лувр! К королю! К нашему маленькому королю! — закричали в толпе. Еще в юности, слоняясь по парижским салонам, участвуя в несчетных дуэлях, которые, казалось, могли бы открыть Сирано де Бержераку путь в Лувр, он так и не добился тогда заветной цели. И вот теперь, став иным, стремясь не к своей выгоде, а посвятив себя борьбе со Злом, вместе с толпой Сирано, потеряв своего спутника Ноде, ворвался в королевский дворец. Сотни ног топтали зеркальный паркетный пол роскошных беломраморных залов с лепными украшениями в простенках и на потолке. И Сирано увидел перед собой прославленную красотой королеву Анну. Она вышла к толпе, ведя за плечи хилого сына, Людовика XIV, который через четверть века стал олицетворением безграничной королевской власти, основанной на прихоти, самодурстве, бессмысленном этикете. Но сейчас рядом с неестественно бледной, но величавой королевой стоял перепуганный худенький мальчик в роскошном, видимо стесняющем его, костюме и расширенными глазенками смотрел на возбужденные лица ворвавшихся во дворец людей. Анна сказала: — Я приказала освободить трех арестованных членов парламента и строго взыщу со своего первого министра за его самовольство. Занимавшийся нашими финансами Эмери мной уже отстранен. Кроме того, я обещаю выполнить ваши желания, которые изложат мне выбранные вами представители и которые не пойдут во вред стране и короне. Сирано отметил про себя, что французский язык королевы Франции желал бы лучшего. Во всяком случае, соляресса Эльда, изучавшая его на невообразимом расстоянии от Франции, успела в произношении куда больше. Ноде так и исчез, и Сирано решил идти к доброносцу герцогу д'Ашперону один. Он шел знакомыми улицами, по которым проходил когда-то вместе с другом детства Кола Лебре, но вспоминал почему-то не виденные ими вместе дома, которые встречались теперь ему, а исполинские башни, сложенные из поставленных друг на друга дворцов, уходившие в розовые полупрозрачные облака, куда поднимали чудесные самодвижущиеся ступеньки лестниц. Впрочем, было ли все это на самом деле? Не мечта, а грубая реальность с баррикадами и негодующей толпой окружала теперь его. И как не похожи эти люди на соляриев! С этими мыслями Сирано оказался перед стеной замка, в которой виднелся сравнительно свежий заделанный в ней проем. Тот самый, через который проник на носилках в замок герцога д'Ашперона немощный, но всевластный кардинал Ришелье, наследника которого поносят теперь на улицах Парижа. Мог бы это представить себе Ришелье? Но доброносец Сирано де Бержерак не только представил себе это, но и слился с негодующей толпой, заразясь от нее ненавистью к угнетателю французов, к невежественному монаху-итальянцу в кардинальской сутане (даже не мантии), который душит французский народ. Сирано вернулся в Париж другим человеком, чем тот, который покинул его вскачь, летя вместе с незабвенным учителем на измазанных грязью конях из подземной конюшни герцога д'Ашперона. Герцог д'Ашперон, когда к нему привели Сирано, долго испытующим взглядом смотрел на него. Даже знаков тайного общества, которыми они обменялись при встрече, видимо, было недостаточно для герцога-доброносца, чтобы признать Сирано де Бержерака. — Прошу простить меня, — сказал, откинув седые длинные волосы, спадавшие ему на плечи, герцог д'Ашперон. — Я действительно знал господина Савиньона Сирано де Бержерака, но… его так долго не было в Париже, кроме того, я провожал его в путь не одного… Право, достойный гость мой, мне трудно признать его в вас, как бы вы ни напоминали мне его своей наружностью. — Ваша светлость, вы приняли на себя скромное звание местного надзирателя Дома добра. Перед нашим расставанием вы предложили мне быть поэтом при вашей особе. И надо думать, не для восхваления вашего имени и знаменитого рода, а для целей, в которых мы объединены с вами общим обрядом… — Я готов повторить свое предложение Сирано де Бержераку, как только удостоверюсь, что он передо мной. — Сирано де Бержерак, которого вы вспоминаете, был признанным дуэлянтом, но я дал клятву не вынимать шпагу из ножен, дал клятву тому, кого вы, ваша светлость, провожали в подземном ходе перед решеткой вместе со мной и которого, увы, уже нет в живых. — Вот видите, вы отказываетесь признать Сирано де Бержерака в главном, чем он был знаменит, в его искусстве владения шпагой! — Простите, ваша светлость, но вы предложили ему быть при вас поэтом. Значит, была еще сторона Сирано, которую вы отмечали. — Разумеется. — Так разрешите мне доказать вам, что я — это я. — Извольте. Каким образом? — Позвольте считать, что я уже служу вам, и предложить для борьбы со Злом то, что вы вправе ожидать от меня. — Охотно позволяю, если вы на это способны. — Тогда я прочту вам памфлет, который сочинил сегодня, находясь на баррикадах, перегородивших улицы Парижа. — Памфлет? Против кого? — Против врага Добра, врага народа. — Читайте. Сирано де Бержерака я считал на это способным. И Сирано прочитал герцогу д'Ашперону свой первый памфлет, которым после издания его герцогом д'Ашпероном было положено начало знаменитой «Мазаринаде», составившей усилиями лучших умов Франции целых сто томов.В смиренной серенькой сутанеС подкладкою кроваво-алойНевежда мудрым вдруг не станет,Как камердинер — кардиналом.«Мазаринада»
«СЕРЫЙ»
Глава вторая ШКОЛА ВЛАСТИ
Каждый видит, чем ты кажешься; Немногие чувствуют, что ты есть.Рейн! Могучая полноводная река, словно хранящая былое величие Священной Римской империи немецкой нации,[109] низведенной Вестфальским мирным договором до положения стоячего болота, в какие превратились некоторые пострадавшие в Тридцатилетнюю войну раздробленные владения фюрстов и рыцарские земли, границы которых порой сужались до одного лье, с ютящейся внутри них сотней-другой подданных. Рейн, конечно, всегда оставался равнодушным к нескончаемым войнам на его берегах между патентантами[110] Кeльна и Пфальца из-за сооружений, которые одними строились, а другими разрушались. Безразличная к ручейкам человеческой крови светлая река несла свои чистые тогда воды,[111] рождая множество легенд и красивых сказок, которые слагались о ее берегах. Город Кeльн на одном из них являл собой отнюдь не процветающий центр: множество полуразвалившихся, заброшенных домов, пустые улицы, давным-давно начатый строительством, гениально задуманный собор походил на безобразный скелет, одетый в забытые людьми строительные леса, и далеко не напоминал тот всплеск ажурного камня к небу, который создаст столетия спустя мировую славу готической архитектуре. По безлюдным улицам мчалась карета, запряженная попарно цугом восьмеркой золотисто-рыжих лошадей. По обе стороны кареты и позади нее скакал отряд королевских мушкетеров во главе с их капитаном, имя которого впоследствии будет прославлено несравненным Александром Дюма-отцом. Капитан этот в шляпе с развевающимися перьями держался рядом с дверцей кареты, где виднелся в окне прелестный профиль дамы. С бравым капитаном ехали отважные и надежные друзья, способные постоять за французского короля (пусть пока малолетнего), который вместе с матерью, королевой Анной, направлялся к ее первому министру, отсюда, из Кeльна, управлявшему Францией, поскольку Париж был захвачен Фрондой. Карета остановилась около замка фюрста, вынужденного уступить его кардиналу Мазарини, имевшему права по Вестфальскому мирному договору, завершившему Тридцатилетнюю войну, распоряжаться в раздробленных германских государствах как у себя дома и нашедшего удобным отсюда, из Германии, вести французские дела. Королева Анна, учтиво поддержанная под руку капитаном мушкетеров, сошла с подножки кареты, одарив галантного капитана, помня былые его услуги, теплым и ясным взглядом, и величественно прошла по каменным ступеням сквозь толпу гонцов, ожидающих приема кардинала, не просто расступившуюся перед нею, а распавшуюся на согнувшихся в подобострастном поклоне людей. Анна властно распахнула двери кабинета, где за грубым столом сидел в своей рабочей сутане, подбитой алой материей, кардинал Мазарини. При виде королевы он вскочил, сделав знак рукой гонцу. Тот, низко кланяясь, пятясь, удалился из кабинета. Анна, величественная, гневно-надменная, свысока смотрела на Мазарини, потом бросила ему на стол скомканную бумажку. — Извольте, кардинал, прочесть этот гнусный пасквиль, касающийся не только вас, священнослужителя и министра, но и меня, облеченную парламентом Франции высшей властью. Я не терплю непристойностей. Мазарини, не говоря ни слова, лишь благословил королеву Анну поднятой рукой, в ответ на что она чуть заметно присела в полуреверансе, взял бумагу, тщательно расправил ее и стал читать. Робкий мальчик-король вошел вслед за матерью и с любопытством рассматривал комнату, украшенную рогами и многими кабаньими головами. «И что их так к свиньям тянет?» — поморщился Людовик XIV. Мазарини читал напечатанный в Париже листок.Макиавелли
У СПАЛЬНИ КОРОЛЕВЫ
(памфлет)
Глава третья ДАМЫ ФРОНДЫ
Когда ты входишь, солнце меркнет.Последствия Тридцатилетней войны в Германии, где пребывал Мазарини, были ужасны. Обезлюдевшие города, покинутые деревни, невозделанные поля — упавшие цены на крестьянские продукты повлекли за собой уход людей с насиженных земель. По стране бродили преступные шайки нищих и разбойников, цыганские таборы, итальянские «артисты» с верблюдами, медведями, обезьянами или голодные бродяги, готовые на все. От военных обозов остались, ища себе «работу», целые цехи «веселых женщин», набранных из неудачниц разных национальностей и любых сословий (даже высших!), потерявших близких и родной кров, забывших мораль и воспитание, повинуясь на немецкий лад «фельдфебелицам», столь же властным, как и развратным. Самая древняя профессия становилась единственным прибежищем этих обездоленных женщин, у которых не оставалось ничего, кроме самих себя. И они перекочевали из армейских обозов в города. По иному складывались судьбы блистательных дам Парижа в годы торжества Фронды. Многие прелестницы (по словам историка), столь же честолюбивые и отважные, как и не умеющие краснеть, стали занимать в движении Фронды заметное место. Первой среди них считалась бывшая приятельница королевы Анны герцогиня де Шеврез, устоявшая даже от гонений Ришелье, вынужденного уничтожать ее хотя бы насмешками в своих комедиях. С нею соперничали во влиянии «генерал-роза» Фронды, неистовая дочь Гастона Орлеанского (бывшего до рождения Людовика XIV престолонаследником) принцесса Монпансье и очаровательная мадам Лонгвиль, сестра молодого, но прославленного в войну принца Конде, которого обожали солдаты, сравнивая его с самим Густавом-Адольфом, шведским королем. Красота и обаяние сестры героя покоряли даже противников Фронды. Сам Людовик II Конде рассматривал Фронду как средство для познания радостей жизни, которые виделись ему в кутежах и буйстве, веселье и наслаждении. Королева Анна пока еще находилась в Париже, была весьма чувствительна к нарушениям этикета, чем принц Конде пренебрегал, и мучительно страдала от этого так же, как и от приятелей принца, петимеров (франтов), превращавших королевский дворец в посмешище. Конде распоряжался там, как султан (по выражению современников), живя на более широкую ногу, чем король. Основной заботой его было интриговать против соперника в военной славе Тюрена, с которым ему пришлось впоследствии сразиться на поле боя в пригороде св. Антония, когда Тюрен изменил Фронде. Но всему этому еще предстояло произойти, а пока вожаки Фронды наслаждались успехом, достигнутым народом на баррикадах, нимало не заботясь о простолюдинах и крестьянах, не задумываясь о переустройстве государства по примеру английской революции, приведшей к казни короля. Фронда, крича о верности короне, растратила собранные деньги на роскошь, пьянство и излишества, сколотив лишь «скоморошное ополчение» с «извозчичьей конницей» и ополченцами в лентах, оравших по кабакам о своей доблести. Лучшие же умы столицы, все еще стремясь вдохнуть энергию в движение против деспотизма, создавали памфлеты, разоблачающие кардинала Мазарини, пополняя ими знаменитую «Мазаринаду». Разрозненная в своих стремлениях Фронда, рожденная недовольством народа своей жизнью и знатью, жаждущей большей власти и выгод, не сумела ослабить влияния первого министра в провинциях, где губернаторы играли вторую роль после поставленных там Мазарини «государственных секретарей», не создала в Париже новых органов власти. Однако шумела. Одна из первых дам Фронды графиня де Ла Морлиер в сопровождении маркиза де Шампань, своего неизменного, но несколько полысевшего и потускневшего «чичисбея», как говорили когда-то в Италии,[113] запросто, без засланного вперед для предупреждения о визите гонца, приехала к герцогу д'Ашперону. Герцог принял ее в мрачноватом зале с узкими окнами, украшенном рыцарскими латами, оружием и портретами предков. — Как это прелестно, ваша светлость, — щебетала графиня, — чувствовать себя в вашем замке не на скользком паркетном полу, а на прочном каменном, как бы переносясь в славное рыцарское время, когда так почитали дам! — Позвольте, графиня, выразить вам свои рыцарские чувства, — раскланялся величественный герцог, тряхнув своей седой гривой волос. — О, в таком случае вам предстоит выполнить желание посетившей вас дамы, которую маркиз согласился сопровождать. — Если это даже и превысит мои силы, то все равно любое ваше желание в этом замке — закон. — О, пустое, ваша светлость! — вмешался маркиз де Шампань, поводя, словно принюхиваясь, своим крысиным носом. — При вас в поэтах, как говорят, состоит наш старый знакомый господин Сирано де Бержерак. Графине хотелось бы увидеть его. — Нет ничего проще угодить даме! — поклонился герцог и приказал бесшумно появившемуся слуге в ливрее пригласить в зал Сирано де Бержерака. Сирано появился здесь, вежливо раскланявшись с гостями герцога. — О боже! — всплеснула ручками графиня с родинкой. — Так измениться к лучшему! Возможно ли! Уверяю вас, господин де Бержерак, вы будете пользоваться необычайным успехом у дам, если согласитесь в знак нашего давнего знакомства посетить меня. Мне так хотелось бы послушать вместе со всеми, кто почтит меня своим присутствием, ваши изумительные по остроумию памфлеты и трогающие душу сонеты! — Графиня хотела бы напомнить вам, дорогой Сирано, что вы помогли ей в свое время ввести в парижскую моду поэтические дуэли, — вставил пожухлый чичисбей. Сирано бросил быстрый взгляд на герцога д'Ашперона, тот в ответ незаметно сделал пальцами знак доброносцев. Сирано понял, что патрон советует ему воспользоваться предоставляемой ему трибуной для применения оружия, которое назвал более острым, чем шпага. Сирано поклонился графине: — Я буду счастлив, ваше сиятельство, вновь оказаться в числе ваших гостей. — Ах, это так мило с вашей стороны! Обещаю вам припасенный мной для очередного вечера сюрприз! Я даже немного боюсь за вас! — Я не принимаю больше вызовов на дуэли, графиня. — О, уверяю вас, от такой дуэли уклониться невозможно! — И, кокетливо прикрывшись веером, графиня грациозно подала руку своему спутнику, чтобы тот проводил ее в карету. Герцог сопровождал их до мраморной лестницы, заменившей былую винтовую с перилами, выкованными из одного куска железа, потом вернулся к Сирано. — Благодарю, друг мой, что вы без слов поняли меня. Ваше поприще — разить Зло острым словом. — Я готов, — отозвался Сирано. — Я думаю, что вы не откажетесь от сопровождения вас вашим другом Ноде в салон графини де Ла Морлиер. Ноде, потерявший Сирано в толпе в «день баррикад», нашел потом тайный Дом добра, надзирателем которого считался среди доброносцев герцог д'Ашперон. Когда Сирано вместе с надушенным, утопавшим в кружевах Ноде появился в гостиной графини де Ла Морлиер, свидетельницы того, как он когда-то участвовал впервые в «поэтической дуэли» и тоже впервые был вызван на поединок, графиня с родинкой встретила вошедших радостным возгласом. Благо былого противника Сирано здесь не оказалось. Может быть, он не примыкал к сторонникам Фронды. Но сторонники, вернее, сторонницы Фронды ослепили Сирано, как и предупреждала графиня де Ла Морлиер. С радушной улыбкой подводила она его поочередно к «звездам Фронды», как называла она прелестных дам, приехавших к ней в сопровождении видных, но молчаливых спутников. — Герцогиня де Шеврез! — с придыханием возвещала она и продолжала, обращаясь к гостье: — Ваша светлость, позвольте представить вам поэта Сирано де Бержерака, о котором вы не могли не слышать! — Я рада, что вижу первого парижского рыцаря шпаги в числе друзей Фронды, — царственно произнесла пожилая красавица, протягивая Сирано надушенную руку для поцелуя. Ноде, почтительно переминаясь с ноги на ногу, раскланивался за спиной у Сирано. — Надеюсь, — продолжала герцогиня, — ваши обещанные нам памфлеты окажутся более действенными, чем неучтивые комедийные стрелы покойного кардинала, которые он направлял в нашу сторону. — Подобные стрелы могли лишь обуглиться в сиянии вашей красоты, ваша светлость, — поклонился Сирано. — Мои же стрелы направляются во мрак невежества и коварства. — Вы находчивы, — поощрительно улыбнулась герцогиня де Шеврез. К ним порывисто, словно вызывая ветер, подошла блестящая принцесса Монпансье. — Не разочаровывайте меня, господин де Бержерак! — звонко воскликнула она. — Не уверяйте, что не поднимете больше шпаги, которую обнажили даже против ста человек! — Шпагой, ваше высочество, действительно можно сдержать сто человек, но для привлечения на правую сторону миллионов людей нужно уже другое оружие. — Но и шпага ваша может понадобиться, господин де Бержерак, если дело дойдет до осады Бастилии, где вы, надеюсь, окажетесь рядом со мной. — Я всегда избегал Бастилии, ваше высочество, никак не допуская, что могу там встретиться с принцессой. Принцесса Монпансье расхохоталась: — В Бастилии внучку Генриха IV вы бы не встретили, но на стенах крепости у пушек можете найти. — Я буду подносить ядра, начиненные памфлетами. Графиня де Ла Морлиер увлекла Сирано и Ноде вместе с ним дальше. — А вот и сама сестра легендарного Конде, мадам де Лонгвиль, скорее зажмурьтесь, мой Бержерак! — Это было бы преступлением, ваше сиятельство! — воскликнул Сирано. — Конечно, людям приходится жмуриться, глядя на солнце, но они не могут обойтись без его живительных лучей! — Вы милы, Бержерак, — сказала госпожа де Лонгвиль. — Я расскажу о вас брату, он пригласит вас в Лувр немного повеселиться. — А теперь, — воскликнула графиня де Ла Морлиер, оглядываясь на маркиза де Шампань и делая ему какой-то знак, — мы попросим нашего поэта прочесть свои памфлеты, направленные против чудовища в рясе, который держит в плену нашу прелестную королеву Анну и ее малолетнего сына, нашего любимого короля! Маркиз де Шампань исчез из гостиной и незаметно вернулся уже не один. Сирано уже увлеченно читал свои памфлеты, которые так взбесили кардинала Мазарини, готовившего их автору ни с чем не сравнимую по жестокости месть. Памфлет «У спальни королевы», болезненно уязвивший королеву Анну, произвел в гостиной графини подлинный фурор. Дамы повскакивали с кресел, рукоплеща поэту. Сопровождающие их кавалеры молча ухмылялись в усы и переговаривались между собой. — Какая прелесть! — восклицали дамы. — Как изысканно, тонко и вместе с тем зло! Но это святая злость, равная доброте! — Лучше об этом адюльтере не сказать и в самом язвительном дамском обществе, — заметила герцогиня де Шеврез. — Даже в таком, где не умеют краснеть! — подтвердила принцесса Монпансье. — Вас поблагодарят за эти памфлеты не только крестьяне, — с обворожительной улыбкой произнесла госпожа де Лонгвиль. — Прелестные дамы! — возвестил, вмешавшись в дамские голоса, маркиз де Шампань. — В нашем кругу появилось еще одно светило, баронесса де Тассили, неся с собой знойное дуновение юга Испании. Об этом светиле, уверен, скоро заговорит весь Париж! Баронесса Лаура обращается с просьбой к нашему поэту прочесть вслед за памфлетами и свои сонеты о любви, ибо любовь — непобедимое оружие наших дам. Надеюсь, эту просьбу поддержат все. — Конечно! — воскликнула хозяйка дома, предвкушая впечатление, которое произведет на гостей приготовленный ею для сегодняшнего вечера сюрприз. Сирано оглянулся и почувствовал, что теряет сознание, как во время встречи с индейцами в канадских горах. Ослепленный, ошеломленный, смотрел он перед собой на чудо или новую игру его воображения. Что это? Награда за его терзания или воплощение несбыточной мечты о женщине-совершенстве, воплотившейся не в небесную, а в земную плоть? Он не мог отвести глаз от волшебного облика его Эльды со звездной Солярии, неведомо как оказавшейся здесь, черноволосой, смуглой и яркой, воздушно легкой, грациозной и в то же время стремительной в движениях. Смотря на него так знакомым ему бездонным в черноте глаз взглядом, она сказала по-французски с едва заметным и милым чужеземным акцентом: — Я была бы счастлива услышать слова, которыми вы воспеваете любовь и женщину. Соляресса Эльда, его звездная наставница и ученица, говорила почти так же, быть может, чуть более чисто. Но она могла сказать эту фразу и так. И тогда Сирано, повинуясь непосредственному чувству, пожелал проверить, не соляресса ли Эльда догнала его на Земле, чтобы участвовать в «Миссии Ума и Сердца» вместе с ним, но не дает пока повода открыться перед людьми. Если это так, то она должна понять, что он читает посвященный ей на Солярии сонет, правда, из внушенной Тристаном предосторожности, в несколько измененном, «земном» виде:Сирано де Бержерак
 Нет! Это не был танец солярессы Эльды! Это было нечто совершенно иное, действительно пламенное и чувственное.
Но что же это значит? Может ли быть такое совпадение? Или в самом деле все путешествие на Солярию лишь горячечный бред больного воображения, ищущей мечты о совершенстве в людях, в обществе, в жизни? Как же это могло вдруг воплотиться в светском салоне знатных дам? В мире, который он называл клокочущей пустотой!
Сирано не мог прийти в себя. Ноде, ничего, конечно, не поняв, все же почувствовал неладное и пристроился рядом с Сирано, но тот сделал ему знак, что хотел бы остаться среди гостей в одиночестве.
Когда пламенный танец испанки закончился, Лаура подсела к Сирано и, задыхаясь от приступа кашля, прошептала:
— Выдовольны моей благодарностью?
— О да, баронесса! Но я не знаю, как, в свою очередь, выразить благодарность вам!
— О, очень просто! Признаться, что прочитанный вами сонет посвящен мне.
— Вам? Вы знали его? — с надеждой спросил Сирано.
— Что вы, Бержерак! Конечно, нет! Но мне достаточно впервые услышать его, чтобы понять, что и сонет, и его автор принадлежат мне.
Сирано вглядывался в прекрасную молодую женщину, так волнующую его своей внешностью и словами.
— Я люблю поэзию, мой Бержерак, — продолжала все с тем же очаровательным акцентом Лаура. — Я в девичестве зачитывалась сонетами Петрарки, посвященными Лауре, мечтая, что и мне, тоже Лауре, когда-нибудь другой великий поэт будет посвящать подобные сонеты. И кажется, я дождалась этого. Не правда ли?
Нет лучшего способа найти путь к сердцу поэта, как признать его поэзию, сравнить его с великими предшественниками. А тут еще невероятное сходство! Сходство с сокровенной мечтой поэта!
Впрочем, вглядываясь в свою пленительную собеседницу, Сирано находил не только сходство, но и отличия от воображаемой Эльды. Да, он мысленно произнес «воображаемой», готовый уже счесть свое путешествие с Тристаном на Солярию грезой, рожденной беседами с учителем и последующей горячкой.
Лицо Лауры было прекрасно, почти такое же, каким представлял себе Сирано свою Эльду. Вот только неестественный блеск глаз и нездоровый румянец лица. Впрочем, это можно объяснить возбуждением огненного танца.
— «Твоей звезды всего лишь тень я, повелевать ты мной вольна!» — продекламировала тихим голосом Лаура. — Это ведь про нас с вами, сеньор де Бержерак! Я хочу слушать это еще и еще раз…
Сирано похолодел, потом его бросило в жар.
Все-таки она сказала заветное слово! Впрочем, соляресса повторила то, что произнесла перед тем на Земле юная трактирщица, а сейчас так же случайно их повторила Лаура-пламя. Знак это ему или совпадение?
— У меня особняк в Сен-Жерменском предместье. Я буду счастлива видеть вас у себя… даже без сопровождающего, — вкрадчиво добавила она.
Сирано был окончательно повергнут.
Он внутренне убеждал себя, что должен пойти ей навстречу, в надежде, что наедине она признается ему в своем участии в «Миссии Ума и Сердца» с Солярии, в своем служении Земле.
И он согласился, радостно согласился!
Справедливости ради надо сказать, что, не будь даже такого внутреннего оправдания принятию приглашения, он все равно бы согласился, всю жизнь так жаждавший женской любви, ослепленный сейчас красотой Лауры, польщенный ее похвалой, увлеченный этой женщиной своей мечты, которая невольно заслонила волнующей реальностью, ощутимой близостью неясный, призрачный облик Эльды.
Если сама судьба возвращает ему Эльду, хотя бы и так, как это произошло, то как он может пройти мимо нее?
Но мимо Сирано с лукавой понимающей улыбкой прошла графиня де Ла Морлиер и, наклонясь к нему, прикрывшись веером, заговорщически шепнула:
— Не я ли говорила, что вы будете пользоваться успехом у дам? Поздравляю вас! Кстати, муж нашей гостьи, отважный барон де Тассили, недавно погиб в бою. Какая жалость! Бедная Лаура! — притворно вздохнула графиня и протянула руку подоспевшему маркизу де Шампань.
Лаура-пламя еще некоторое время побыла в салоне, а потом маркиз де Шампань, очевидно, как было условлено, проводил ее из гостиной и, вероятно, увез в своей карете, потому что появился у графини только к концу вечера.
Дамы еще долго занимались Сирано де Бержераком, говоря ему множество лестных слов, но… произошло чудо. Все светские звезды поблекли в его глазах, утратив недавний блеск и красоту.
Он не мог ни о ком думать, кроме Лауры, которая перед уходом шепнула, что ждет его с новым, посвященным ей сонетом.
И этот рвущийся из сердца сонет уже зрел в его поэтической мечте.
Нет! Это не был танец солярессы Эльды! Это было нечто совершенно иное, действительно пламенное и чувственное.
Но что же это значит? Может ли быть такое совпадение? Или в самом деле все путешествие на Солярию лишь горячечный бред больного воображения, ищущей мечты о совершенстве в людях, в обществе, в жизни? Как же это могло вдруг воплотиться в светском салоне знатных дам? В мире, который он называл клокочущей пустотой!
Сирано не мог прийти в себя. Ноде, ничего, конечно, не поняв, все же почувствовал неладное и пристроился рядом с Сирано, но тот сделал ему знак, что хотел бы остаться среди гостей в одиночестве.
Когда пламенный танец испанки закончился, Лаура подсела к Сирано и, задыхаясь от приступа кашля, прошептала:
— Выдовольны моей благодарностью?
— О да, баронесса! Но я не знаю, как, в свою очередь, выразить благодарность вам!
— О, очень просто! Признаться, что прочитанный вами сонет посвящен мне.
— Вам? Вы знали его? — с надеждой спросил Сирано.
— Что вы, Бержерак! Конечно, нет! Но мне достаточно впервые услышать его, чтобы понять, что и сонет, и его автор принадлежат мне.
Сирано вглядывался в прекрасную молодую женщину, так волнующую его своей внешностью и словами.
— Я люблю поэзию, мой Бержерак, — продолжала все с тем же очаровательным акцентом Лаура. — Я в девичестве зачитывалась сонетами Петрарки, посвященными Лауре, мечтая, что и мне, тоже Лауре, когда-нибудь другой великий поэт будет посвящать подобные сонеты. И кажется, я дождалась этого. Не правда ли?
Нет лучшего способа найти путь к сердцу поэта, как признать его поэзию, сравнить его с великими предшественниками. А тут еще невероятное сходство! Сходство с сокровенной мечтой поэта!
Впрочем, вглядываясь в свою пленительную собеседницу, Сирано находил не только сходство, но и отличия от воображаемой Эльды. Да, он мысленно произнес «воображаемой», готовый уже счесть свое путешествие с Тристаном на Солярию грезой, рожденной беседами с учителем и последующей горячкой.
Лицо Лауры было прекрасно, почти такое же, каким представлял себе Сирано свою Эльду. Вот только неестественный блеск глаз и нездоровый румянец лица. Впрочем, это можно объяснить возбуждением огненного танца.
— «Твоей звезды всего лишь тень я, повелевать ты мной вольна!» — продекламировала тихим голосом Лаура. — Это ведь про нас с вами, сеньор де Бержерак! Я хочу слушать это еще и еще раз…
Сирано похолодел, потом его бросило в жар.
Все-таки она сказала заветное слово! Впрочем, соляресса повторила то, что произнесла перед тем на Земле юная трактирщица, а сейчас так же случайно их повторила Лаура-пламя. Знак это ему или совпадение?
— У меня особняк в Сен-Жерменском предместье. Я буду счастлива видеть вас у себя… даже без сопровождающего, — вкрадчиво добавила она.
Сирано был окончательно повергнут.
Он внутренне убеждал себя, что должен пойти ей навстречу, в надежде, что наедине она признается ему в своем участии в «Миссии Ума и Сердца» с Солярии, в своем служении Земле.
И он согласился, радостно согласился!
Справедливости ради надо сказать, что, не будь даже такого внутреннего оправдания принятию приглашения, он все равно бы согласился, всю жизнь так жаждавший женской любви, ослепленный сейчас красотой Лауры, польщенный ее похвалой, увлеченный этой женщиной своей мечты, которая невольно заслонила волнующей реальностью, ощутимой близостью неясный, призрачный облик Эльды.
Если сама судьба возвращает ему Эльду, хотя бы и так, как это произошло, то как он может пройти мимо нее?
Но мимо Сирано с лукавой понимающей улыбкой прошла графиня де Ла Морлиер и, наклонясь к нему, прикрывшись веером, заговорщически шепнула:
— Не я ли говорила, что вы будете пользоваться успехом у дам? Поздравляю вас! Кстати, муж нашей гостьи, отважный барон де Тассили, недавно погиб в бою. Какая жалость! Бедная Лаура! — притворно вздохнула графиня и протянула руку подоспевшему маркизу де Шампань.
Лаура-пламя еще некоторое время побыла в салоне, а потом маркиз де Шампань, очевидно, как было условлено, проводил ее из гостиной и, вероятно, увез в своей карете, потому что появился у графини только к концу вечера.
Дамы еще долго занимались Сирано де Бержераком, говоря ему множество лестных слов, но… произошло чудо. Все светские звезды поблекли в его глазах, утратив недавний блеск и красоту.
Он не мог ни о ком думать, кроме Лауры, которая перед уходом шепнула, что ждет его с новым, посвященным ей сонетом.
И этот рвущийся из сердца сонет уже зрел в его поэтической мечте.
Глава четвертая КИНЖАЛ ЛЮБВИ
Любовь и страдание, как рукоять и лезвие кинжала в драгоценных ножнах.Герцог д'Ашперон посетил утром отведенную поэту комнату в замке, застав Сирано уже одетым, готовым к отъезду. Расчесывая перед зеркалом свои густые, ниспадающие на плечи волосы, он обрадовался приходу герцога, вскочил со стула, приветствуя хозяина и предлагая ему сесть. — Я уже знаю со слов нашего друга Ноде о вашем успехе, — сказал герцог, опираясь о спинку стула. — А вы, я вижу, уже куда-то спешите? И без него? — О да, ваша светлость! Одна из вчерашних прекрасных дам почтила меня приглашением посетить ее особняк. У меня есть надежда на ее помощь в нашем деле. — Противостоять кардиналу Мазарини стало, мой друг, модным у наших дам. — Я рассчитываю не только на моду, — заверил Сирано. Он говорил совершенно искренне, надеясь, что еще сегодня, оставшись с Лаурой-Эльдой наедине, позволит ей открыться ему и как возлюбленной подруге, и как тайной участнице «Миссии Ума и Сердца», и, наконец, как матери их ребенка, которому предстоит положить начало «племени гигантов» на Солярии! Очевидно, он оставлен там на воспитание «ваятелям сердец», подобным самой Эльде. Герцог распорядился подать Сирано его коня, купленного при помощи Ноде еще в Гавре. От смотрителя Дома добра не ускользнуло прикрываемое долгом доброносца неистовое чувство Сирано, влекущее его к женщине, вчера еще ему неизвестной. И герцог с тревогой провожал его взглядом, стоя в рыцарском зале, когда Сирано выезжал из ворот. Новый особняк, названный Лаурой в Сен-Жерменском предместье Парижа, Сирано нашел без труда, подъехав к нему одновременно с подводой, груженной роскошной мебелью. На ней виднелись упакованные атласные кресла с гнутыми ножками и закругленными спинками и зеркала в золоченых рамах, переложенные соломой. Все это начали сгружать с криками и руганью, пока Сирано привязывал коня к решетке. Обгоняя слуг, тащивших поклажу, Сирано вошел в вестибюль, показавшийся ему совершенно нежилым из-за сваленных там вещей, часть которых только что привезли. К гостю вышел угрюмый монах, судя по капюшону за его спиной, не из числа мавристов (конгрегации св. Мавра, ордена бенедиктинцев, с центром в этом предместье Парижа), а капуцин. Смерив Сирано недружелюбным взглядом, он молчаливым жестом пригласил его следовать за собой. Они прошли анфиладой еще не обставленных комнат. На пороге одной из них им встретилась отвратительная старуха с провалившимся носом. Гнусавым голосом она спросила: — Чего сказать-то Лауре? Она не назвала Лауру даже баронессой, удивив этим и раздражив Сирано. Он подчеркнуто произнес: — Доложи, любезная, баронессе Лауре де Тассили, что по ее приглашению приехал засвидетельствовать ей свое почтение Савиньон Сирано де Бержерак. Ведьма, видимо вкусившая когда-то и сладость и горечь разврата, забормотала, глупо играя словами: — Почтение… почтение… под чтение… пот чтения… Врешь не врешь — платья не сошьешь… — И ушла. Сирано остался в гостиной, где ковер еще не постлан был на пол, скатанный валиком у дивана, рассчитанного на интимную беседу, представляя собой два повернутых друг к другу кресла с одной общей ручкой. Сирано взволнованно ждал появления хозяйки, заранее предвкушая теплый прием, который она окажет ему. Но все получилось наоборот (словно на Солярии!). Кто-то глухо закашлял за дверью, потом все замолкло. Лаура показалась в дверях, сделав к Сирано несколько замедленных шагов. Ее удивительно бледное теперь лицо казалось не то холодным, не то усталым, не то надменным. Сирано невольно вспомнил о грандецце, о которой столько слышал, напыщенном величии, свойственном испанским грандам. — Ах, это вы, поэт, застали мой особняк неодетым? — разочарованно произнесла Лаура. — Что же вы не поторопились захватить с собой своего старичка в кружевах? Как же вы рискнули приехать без него? Сирано не верил ушам. Не она ли просила приехать его одного с посвященным ей сонетом? Или это игра скрывающейся солярессы? Лаура пожала плечами, указав гостю на замеченный им диван. Сидя на серебристом атласе, Сирано всматривался в так знакомое и вместе с тем совершенно чужое лицо Лауры, стараясь узнать свою Эльду. Конечно, сходство с ней ощущалось, поскольку Сирано страстно этого желал. Если бы не болезненная бледность и блеск глаз, лицо Лауры было бы вполне неземным, но… быть может, соляресса намеренно сделала эти признаки, чтобы не отличаться от людей, будучи слишком прекрасной для них?! Сирано не знал, с чего начать. Лаура молчала и никак не шла ему навстречу, смотря на него изучающим взглядом. «Нет! Она не только не Эльда, она и не Лаура, какой была вчера!» — подумал Сирано и решился выяснить все сразу: — «Долго так длилося утро…» — начал он на древнегреческом языке строчку из «Илиады» Гомера, которую прочитала ему Эльда при их первой встрече на Солярии. — «…и день возрастал светоносный!» — к величайшей радости Сирано, закончила за него Лаура. Сирано уже готов был броситься к ней, овладеть ее маленькими ладонями, как всегда делал на Солярии, но она уже по-французски и совсем другим тоном добавила: — Вот не гадала, что вы можете по-эллински. Меня обучал так капеллан в Новой Испании, когда мой покойный отец дон Альварес де Гарсиа дель Пополо Валенсе был там вице-королем. Надменный тон, каким это было сказано, и упоминание имени Гарсиа неприятно напомнили Бержераку не вице-короля, а разгромленного под Аррасом испанского генерала и тяжелое свое ранение в лицо. Ах, если бы услышать теперь так ожидаемые «гекзаметром размеренные строки», какими любила говорить Эльда! Но… вместо них Лаура холодно заметила: — Какие пышно возвышенные стихи у этих греков. Уж лучше Вергилий. — И она, к величайшему удивлению Сирано, прочитала стихи великого поэта на великолепной латыни, и это совершенно убило Сирано. Эльда не могла знать латинского языка! К ужасу своему, Сирано понял, что, не найдя Эльду на Земле, он все же не потерял влечения к непонятной, загадочной Лауре. Но ему хотелось теперь увидеть ее такой, какой она была вчера, и он сказал: — Ваш танец с кастаньетами поистине достоин королей. Лаура загадочно усмехнулась. Через гостиную прошла омерзительная старуха, поджавши запавшие губы. — Как вы терпите, баронесса, подле себя такое уродство? — не выдержал Сирано. — Ах, это Марта из Пфальца! Я ей речью обязана, — непонятно сказала Лаура и приложила палец к губам. Потом ответила гостю: — Танец? Вчера имелось другое настроение. Она говорила не только с акцентом, но и не совсем правильно. Они помолчали. В гостиную вошел мрачный капуцин и остановился у двери. — Это мой духовник, отец Витторио. Пора идти молиться за упокой души мужа. — Когда же, баронесса, будет у вас другое настроение? Лаура пожала плечами: — Не знаю, может быть, всегда не будет. Или никогда. Сирано, покраснев от стыда перед самим собой, встал: — Сожалею, сударыня, что, неверно поняв вас вчера, так некстати явился сюда явно не вовремя. — Нет, отчего же, — вдруг переменилась Лаура. — Вы нужны так же, как и ваш толстячок, и особенно его светлость герцог д'Ашперон. Надо помогать сделать мой салон модным в Париже. Теперь Сирано побледнел. Так вот зачем он нужен капризной красавице, к несчастью, так похожей на его мечту! — Я позову вас, господин поэт, как только закончу туалет своего особняка. Позову вас, и непременно не одного, — утешила она его, словно он только и мечтал видеть ее при посторонних! Или все это тонко рассчитанное кокетство? Как бы то ни было, но Сирано возвращался в замок д'Ашперона совершенно расстроенный. Он готов был рвать на себе камзол, где на груди хранился ненужный сонет, а в него была вложена частичка его самого! Зачем не Эльду, не Лауру-пламя, а Лауру-холод встретил он сегодня себе на беду! Уезжая, он ничего не видел вокруг. Упав в отведенной ему комнате на кровать, зарывшись лицом в подушку, разметав по ней волосы, бедный Сирано скрежетал зубами, стараясь найти в себе силы побороть гложущее его чувство, на которое он не имел права, дав клятву доброносцам, и которое никому не было нужно! Искрометный испанский танец с кастаньетами едва ли мог исполняться светской дамой при дворе католического короля. Недаром она так усмехнулась. Разве что в дикой Новой Испании? И Сирано снова и снова вспоминал танцовщицу, обжигавшую зрителей как румянцем, так и движением, грациозную, вкрадчивую и неистовую. Лучше бы никогда не видеть ее, не искать в ней благородную Эльду с ее ласковостью и мудростью. Но Лаура, заслоняя собой образ Эльды, стояла перед его глазами. Если он мог видеть в горячечном бреду во всех деталях межзвездное путешествие, зримо ощущать инопланетную обстановку, полюбить чутких, справедливых соляриев, то как ему теперь избавиться от нового наваждения, уже не в бреду, не во сне, а наяву? Видно, не напрасно он, так жаждавший любви, писал когда-то в своем давнем сонете:Восточная мудрость
КИНЖАЛ ЛЮБВИ
Глава пятая СЕРДЦА ЖАР
Шли дни за днями, а Сирано не покидал герцога д'Ашперона, не переезжал к матери, тщетно ожидая зова Лауры. Разгульная жизнь вельмож Фронды продолжалась. По-прежнему бражничали они на пирах, обжираясь и распутничая, по-прежнему никто из них не заботился о простолюдинах и крестьянах, с которых прежде всего драли подати и Мазарини «для короля», и церковь для папы, владетельные сеньоры для себя, а теперь еще и Фронда «во имя служения королю», все одинаково нуждаясь в средствах. Процветали и великосветские салоны Фронды. Сирано получал приглашения на званые вечера и к герцогине де Шеврез, и к принцессе Монпансье, но всякий раз находил предлог отказаться, хотя, быть может, мог там встретить Лауру. Но нет! Он гордо желал увидеть ее в знакомом особняке, непременно одну, как она сама предложила ему волнующим шепотом у графини де Ла Морлиер. Однако вестей от баронессы де Тассили все не было! Сирано не находил себе места, но гордость не позволяла ему искать салонной встречи с Лаурой. Ноде, часто навещая его, только покачивал головой. По его настоянию Сирано задумал трагедию «Смерть Агриппы», поставить которую на сцене пообещал помочь деньгами герцог д'Ашперон. Без помощи мецената об успехе и мечтать не приходилось, хотя сцена в ту пору, когда и газет-то не было, служила всенародным рупором, и пьесы играли повсюду, порой без актеров, своими силами, и во дворцах, и в замках, даже в деревенских сараях. Недаром сам Ришелье сочинял в политических целях свои комедии. Сирано де Бержерак знал об удачах модных тогда Корнеля и былого своего друга по занятиям с Гассенди Жана Поклена, взявшего себе сценическое имя Мольера. Беспечно уверенный в себе, Бержерак намеревался не уступить им в сценическом искусстве, хотя имел за плечами лишь юношескую комедию «Проученный педант» и скандальную славу ее провала, вызванного гневом церкви. Остерегаясь теперь этого, он выбрал события столетней давности, рассчитывая при показе их бичевать невежество современной церкви, бесконечно далекой от истинной науки, ибо попы не способны ее понять! Трагедия обещала быть крайне острой, но Сирано надеялся приобрести после ее постановки славу не меньшую, чем принесла ему острая шпага, ржавеющая теперь в ножнах. Задумывался он и об осмеянии современного ему зла и нашел себе единомышленника в лице того же Мольера, с которым и поделился наброском едко-шутливых сцен, названных им «Проделки Скапена».[114] Былых друзей вновь объединило общее неприятие пороков современности и смелость их осуждения. Но все эти замыслы Сирано потускнели, едва герцог передал ему письменное приглашение на твердой глянцевой бумаге с виньетками: «Баронесса Лаура де Тассили обращается с покорнейшей просьбой к герцогу д'Ашперону, поэту Сирано де Бержераку и писателю Ноде почтить своим посещением ее особняк в Сен-Жерменском предместье во второй вторник августа текущего года за два часа до захода солнца, заранее извинив за скромность предлагаемого вечера». Это означало пышный ужин и всяческие развлечения. Сирано уже ни о чем не мог думать и снова отложил поездку к матери, которая горячо ждала сына, не понимая причин его задержки. Да и сам Сирано не мог объяснить собственных действий, он просто не в состоянии был поступить иначе. С самого утра долгожданного вторника он занялся туалетом, чего с ним никогда не случалось, начав с великолепных своих волос, уложив их спадающими кудрями на плечи, подстриг усики, начисто выбрил подбородок и долго разглядывал в зеркало лоб над переносицей, пытаясь вспомнить, прикладывали ли к нему индейцы свои снадобья, пока он болел, и не потому ли такая гладкая у него там кожа. Потом стал примерять нарядные костюмы, которыми снабдил герцог своего поэта; затем, предвидя возможное желание баронессы, старательно переписал на лучшей бумаге сочиненный им еще после их первой встречи сонет, который, как он считал, передавал всю глубину и пылкость его чувств. Взволнованно расхаживая по комнате, Сирано не мог дождаться Ноде, чтобы вместе с ним отправиться к герцогу, давшему согласие ехать к баронессе, сделав исключение ради любимого поэта, поскольку других приглашений не принимал. И вот к назначенному времени карета, запряженная четверкой вороных коней попарно цугом, подкатила под свод главного подъезда замка. Седовласый герцог был одет скромнее всех. Если Сирано выглядел молодым щеголем, то Ноде снова утопал в своих брюссельских кружевах, весело поблескивая глазами-бусинками. — Обожаю званые вечера у прелестных дам, ваша светлость, — оправдывался он перед критически оглядевшим его величественным герцогом. — Мужчина, право же, должен хотя бы выглядеть пышно, если лишен павлиньего хвоста. Карета тронулась к Сен-Жерменскому предместью. Все время пути три доброносца молчали. Кто ведает, о чем думали герцог, новый Вершитель Добра тайного общества, и писатель Ноде, мечтавший описать историю освобождения Кампанеллы, но у Сирано де Бержерака в душе бушевали противоречивые чувства. Радость предстоящей встречи омрачалась угрызениями совести. Он проклинал себя, стараясь разобраться в самом себе. Что он за человек, потомок «богов» или «соляриев», ученик Демония Сократа, казалось бы, способный на подвижничество? Так ли это, хотя он и рисковал собой, вызволяя Кампанеллу, хотя и уверовал твердо в его коммунистические принципы и видел их воплощенными на Солярии или воочию, или в горячечном бреду, быть может, под влиянием рассказов Тристана или Отца «Города Солнца». Да, он подписал кровью клятву доброносцев, но отказался ли он во имя добра от всех мирских страстей? Зачем он ищет встречи с пламенной женщиной, способной сжечь его? Он, воитель против клокочущей пустоты, сам готов оступиться в эту пропасть. Не он ли забыл свой сыновний долг и не оказывает помощи матери? Какое может он найти у самого себя, строжайшего из всех судей, оправдание? С горечью вспоминалось, как после свидания с кардиналом Ришелье он размышлял о своих успехах, оценив их всего лишь как удачи неудачника. Что ждет его впереди? Неудачная удача? Поистине бывают минуты, когда человек теряет самого себя. Именно их и переживал под тревожно предупреждающий стук колес Сирано, готовый выпрыгнуть из кареты, но остававшийся в ней. Впрочем, может быть, потому, что сидел там рядом с герцогом, теперешним Вершителем Добра их тайного общества, и, пока сопровождает его, как состоящий при нем поэт, не нарушает своей клятвы? Этот довод помог Сирано заглушить его терзания. О том, что ждет его после встречи с Лаурой-пламя, он думать боялся, хотя страстно жаждал этого, чем и обрек себя на все последующее. Однако приближался он к особняку с твердо принятым намерением заглушить в себе всякое проявление страстей. Но знакомого особняка он не узнал. Фасад его был украшен неведомо как успевшими здесь вырасти вьющимися растениями с распустившимися диковинными цветами. В красочно убранном вестибюле пахнуло запахом роз. Видимо, ковры были щедро умащены розовым маслом, ценящимся дороже золота. Вместо безобразной старухи гостей приветливыми улыбками встречали миловидные служанки, стараясь угадать всякое желание прибывших. Так же изменились и внутренние комнаты. В каждой был свой аромат заморских благовоний, сочетающийся с цветом обивки изящной и дорогой мебели. Шаги заглушались мягкими персидскими коврами, стены были украшены причудливой бронзой и драгоценной живописью. В углах комнат стояли древние беломраморные скульптуры римлян и греков. Все говорило о богатстве, щедрости и вкусе хозяйки особняка. Она, яркая, оживленная, счастливая, встречала гостей на пороге знакомой Сирано комнаты, где он виделся с нею последний раз. Там сидели уже приехавшие в сопровождении своих спутников знатные дамы: герцогиня де Шеврез, величественная, не тускнеющая красавица, спорящая с нею своей молодостью принцесса Монпансье, графиня де Ла Морлиер с неизменным своим крысоподобным чичисбеем, маркизом де Шампань, и какие-то важные вельможи, среди которых выделялась новая пурпурная мантия вновь назначенного кардинала Реца, недавнего парижского архиепископа, и балагурящего среди дам герцога Бюфона, которого Сирано запомнил стоящим на бочке одной из баррикад, произнося пламенную речь перед толпой. Баронесса Лаура де Тассили затмила собой всех. Сирано смотрел на нее, чувствуя, как испаряется его твердое намерение не поддаваться страсти. Прежде всего он заметил, что неестественных румянца или бледности, отличавших Лауру от его Эльды, больше нет. Но странно, исчезновение особенностей вовсе не сблизило их облика, а наоборот, сделало их совершенно непохожими, хотя и не менее прекрасными. Сирано смотрел и не верил глазам. Лаура же, улыбаясь всем, нашла миг, чтобы одним лишь взглядом агатовых глаз сказать Сирано нечто такое, что повергло его в полную растерянность, а она еще и «добила» его окончательно, шепнув: — Я жду обещанного сонета, мой поэт! И не отпущу вас отсюда раньше, чем взойдет солнце. — Я готов остановить светило! — ответил ей с поклоном Сирано. — Смотрите, — погрозила ему пальцем Лаура, — если не солнце, то часы можно останавливать. И в голосе ее опять прозвучал столь милый акцент и неуловимая неправильность речи. Вечер у баронессы де Тассили носил несколько фривольный характер. Так, для развлечения гостей в особняк были допущены не только цыгане из кочующего повсюду цыганского табора, но и итальянские комедианты, фокусники и акробаты с обезьянками, к счастью, без медведя, но с украденными детьми, приученными завязывать тело узлом и улыбаться. Все они были одеты в пестрые курточки и войлочные шляпы, «которые якобы не снимались даже перед королем». Цыганки пели «горячие» песни и плясали под них зажигательные танцы, шелестя вздымавшимися юбками и призывно вибрируя плечами. Вспоминался танец с кастаньетами Лауры-пламя, но у себя дома она танцевать не стала, предоставив это цыганкам. Те ушли не сразу, приставая к гостям, чтобы погадать по руке или раскинуть карты. Лаура спросила Сирано, не хочет ли он узнать свою судьбу? — Я неисправимый вольнодумец, баронесса, — ответил он. — Не верю ни попам, ни колдунам и не считаю, что жизнь кем-то предопределена. Каждый сам делает свою судьбу. — О-о! — протянула Лаура. — В таком случае, может быть, не только свою? — И загадочно засмеялась. Цыганки наконец ушли, но не раньше, чем им «позолотили ручки». Гости перешли обратно в гостиную, где Бержераку, «самому делающему свою судьбу», привелось пережить неприятные минуты. Два блистательных гостя, принц Конде и герцог Бюфон с кудрями, не уступающими бержераковским, наперебой стали ухаживать за прекрасной хозяйкой, оказывая ей всевозможные знаки внимания. Она охотно принимала это и смеялась до кашля. Сирано вспомнил о своем первом посещении великосветского раута, когда он, ощутив вокруг себя «клокочущую пустоту», обрушился на знать сонетом «Ода пустоте». Стараясь овладеть собой, Сирано примкнул к группе гостей, окруживших герцогиню де Шеврез, которая обращалась к кардиналу Рецу: — Измена Тюрена, перешедшего на сторону Мазарини, ставит его вне святой католической церкви рядом с вероотступниками, гугенотами. — Да будет низложен, ваша светлость, такой католический кардинал, как Мазарини, когда нас, кардиналов, призовут в Рим к святейшему престолу, — запальчиво отозвался кардинал Рец. — Такие слова вашего преосвященства убеждают меня, что не напрасно папа в Риме возвел вас в высший священный сан. Этот Мазарини, подобно ушедшему Ришелье, не брезгует привлечением на свою сторону вероотступников, лишь бы усилить свою власть. — Такая власть противна богу, ваша светлость, и собранное Фрондой ополчение в десять тысяч человек под командованием непобедимого принца Конде сумеет доказать это с освященным церковью оружием в руках. Принц Конде тем временем изощрялся в комплиментах Лауре, стремясь выйти и здесь, как на поле боя, победителем в соперничестве с герцогом Бюфоном. — Нет жемчужин испанской короны, которая сравнилась бы с сиянием Сен-Жерменского алмаза, обнаруженного нами сегодня здесь, баронесса! — И принц Конде церемонно раскланялся перед Лаурой. Герцог Бюфон не желал ему уступить: — Сам вице-король Новой Испании, прославленный генерал дон Альварес де Гарсиа дель Пополо Валенсе, смертью храбрых погибший в бою под Аррасом, воплотил весь блеск своей славы в красоте любимой дочери! — по-испански расшаркался перед испанкой Бюфон. Та ослепительно улыбнулась в ответ, а Сирано похолодел, страшась верить ушам. Неужели отец Лауры и тот чванливый испанский генерал, с которым ему пришлось свести счеты под Аррасом, припомнив преследование Кампанеллы в Риме, одно лицо! Знает ли Лаура, от чьего удара пал ее отец? Но Лаура, видимо, ничего не знала. Она мило улыбалась кавалерам, осыпавшим ее комплиментами, и смотрела в сторону Сирано. — Сколь ни поэтичны ваши слова, доблестные рыцари, но я намереваюсь надеяться, что приглашенный нами поэт не останется у вас в долгу. И она подошла к Сирано. — Написан ли вами, мой поэт, заказанный вам моим сердцем сонет, который отразил бы ваше отношение к нему? — О да, баронесса! — прошептал Сирано. — Тогда прочтите его всем. У меня на родине не делают секрета из сонетов и серенад. Надеюсь, что дамы Фронды, борясь за свободу, станут понимать меня. — Читайте, мой друг, читайте, знаю, ведь сонет вами написан, — поддержал Сирано стоявший рядом Ноде, улыбаясь Лауре из своих кружев. Сирано, тряхнув гривой волос, вышел на середину гостиной. — «Богине буйных грез», — возвестил он. Гости зашептались, находя название сонета смелым и интригующим. Сирано продолжал, как от искр загораясь с каждой строчкой:В чем счастье любви? Страсть? Взаимность?Нет! Счастье любви…Из японской поэзии
Глава шестая ХУЖЕ СМЕРТИ
И хоть мой ужас будет скрытОт осуждающего взора,Но сердце гложет жгучий стыдИ боль несмытого позора!Сирано де Бержерак
Предвкушая каждую вечернюю встречу с Лаурой, Сирано подолгу просиживал перед зеркалом, стараясь своей внешностью порадовать подругу. Последнее время его раздражал досадный кашель, мешавший встречам с Лаурой. Непонятно почему, он тревожился. И когда, как обычно, к нему зашел добродушный Ноде, он не постеснялся, правда с шуточкой, показать свой платок со следами крови, сказав: — Открываются старые раны. Это от избытка счастья. Ноде отнесся к этому «пустячку» с неоправданной, как показалось Сирано, серьезностью. — Друг мой, я старше вас и многое успел повидать. Мне бы очень хотелось познакомить вас с чудесным человеком, доктором Пигу, стремящимся, кстати сказать, вступить в наше тайное общество, ибо вся его деятельность посвящена Добру. Сирано не имел ничего против, удивясь лишь поспешности, с какой Ноде сразу же отправился в карете за Пигу. Доктор оказался высоким и худым человеком с длинным лицом и крючковатым носом, словом, ничуть не напоминающим воплощение Добра, каким готов был представить его себе Сирано. Когда они втроем сидели в одной из комнат замка в ожидании еще не вышедшего из своих покоев герцога, Сирано был неприятно поражен внимательным и сверлящим взглядом долговязого доктора, смотревшего на него во время приступа несносного кашля. — Господин де Бержерак, — обратился к Сирано доктор Пигу, — я столько слышал о вас, что мне хотелось бы поддерживать с вами самые дружеские отношения. — Я не вижу препятствий этому, — отозвался Сирано. — Тогда в качестве первой дружеской услуги позвольте мне серьезно огорчить вас. — Огорчить? — удивился Сирано. — Ваш платок испачкан кровью. — Какой пустяк! Я просто чуть простыл. Если бы вы видели, сколько потерял я крови из-за пронзившей менянасквозь пули, вы бы поняли, что старая рана может открыться. — Уверяю вас, такой опасности, как сейчас, вы в жизни еще не подвергались. Сирано насторожился. — У вас несомненный признак страшной болезни, которой вы заразились от человека столь же несчастного, как и вы, старая рана лишь способствовала этому. Боюсь, вы неосторожно выбирали себе для общения друзей или подруг. Сирано побледнел. — Доктор Пигу! Я готов был к дружбе с вами, но… лишь то обстоятельство, что я не вынимаю больше шпаги из ножен, спасает вашу жизнь. — Спасать надо не мою, а вашу жизнь, дорогой де Бержерак. Сирано похолодел. Он столько слышал ужасов о чахотке, которая поражала, делая беспомощными вчера еще могучих людей. В солдатской среде гасконцев презирали этих несчастных «кашлюг», неспособных по-мужски противостоять болезни слабых. Но сейчас он подумал не о себе, а о Лауре. По-иному выглядел ее кашель после танца, то румяное, то бледное лицо и блестевшие глаза. — Я предлагаю вам, дорогой Бержерак, незамедлительно лечь ко мне в больницу. К сожалению, мы, лекари, пока бессильны против этого злокозненного недуга. Увы, он неизлечим. Однако мы в состоянии, я надеюсь, избежать его скоротечности. — Скоротечная чахотка? — машинально произнес Сирано. — Я слышал об этом заболевании. Но мне, надеюсь, это не грозит? — От вашей болезни былые богатыри чахнут, теряют силы, волю, вянут, как сорванные цветы без воды. Я рассказал вам о недугах своих несчастных пациентов потому, что изобрел для их спасения ртутные препараты, способные если не победить горькие недуги совсем, то замедлить их развитие. К сожалению, препараты не всеми воспринимаются безболезненно. Поражая источник болезни, который нам неизвестен, мы вместе с тем вынуждены задеть и сам организм. Но тем не менее лечение необходимо, и уже сейчас, — закончил Пигу, остро смотря на Сирано. — Да, да, доктор! Я признателен вам и скорее всего обращусь к вам за помощью. — Говоря это, Сирано снова думал не столько о себе, сколько о Лауре. — Надеюсь, вы простите, что я оставлю вас с почтенным Ноде, поскольку сам должен спешить. Доктор понимающе улыбнулся. — Вы, несомненно, намерены поступить достойно, — заметил он, обмениваясь с Ноде многозначительным взглядом. Сирано помчался на конюшню, где попросил оседлать своего коня. Когда он приближался в Сен-Жерменском предместье к заветному особняку, сердце его отчаянно стучало. Как он скажет своей возлюбленной Лауре, что они оба несчастнейшие люди на Земле? И в своей беде он должен винить ее, ни о чем не подозревающую? А если она возмутится и обвинит, в свою очередь, его? Полно! Кашель и болезненный румянец на ее лице были еще до встречи с ним на вечере у графини де Ла Морлиер, до зажигательного танца там, до памятного первого раута вот в этом особняке! При виде особняка его неприятно поразили стоящие у решетки, как и в первый его приезд, подводы. Их загружали знакомой Сирано мебелью: атласные кресла с гнутыми ножками и закругленными спинками, зеркала в золоченой оправе. Что случилось? Сирано боялся подумать о том, что причина происходящего кроется в той же самой болезни, которой пугал его доктор Пигу. В довершение всего он заметил на одной из подвод безобразную старуху Марту с провалившимся носом, которой Лаура якобы обязана почему-то своей речью. Она увидела его и затряслась в отвратительном смехе. Сирано не стал заговаривать с ней и бросился к особняку. Странная перемена произошла там за несколько дней его отсутствия. Вьющиеся растения завяли и свисали мертвыми плетьми, как веревки. Вестибюль был завален принесенной сюда мебелью. Очевидно, хозяйка уезжала. Спросить было некого. Слуги, таская мебель, недружелюбно поглядывали на Сирано и на вопросы не отвечали. Он вошел в знакомые комнаты. Они встретили его пустотой и холодом. Лауры не было! Тогда он выбежал из особняка, вскочил на коня и пустился догонять подводу с безобразной старухой. Она-то знает! При виде всадника старуха усмехнулась. — Где баронесса де Тассили, что с ней? — спросил Сирано, наклоняясь в седле. Старуха замотала головой и что-то прогнусавила. Тогда Сирано достал кошелек и бросил в жадно подхватившие его руки. — Не больна ли баронесса Лаура? — Лаура-то? А как же… больна… больна! Боль-на! Бери кто хочет, что бык, что кочет. — И она противно хихикнула. — Марта! Если ты не скажешь, что случилось, я тебя проткну шпагой, как индюшку на вертеле. — Что вы, что вы, ваша светлость! Погостили, только и всего! Надо и честь знать! Знать надо знать, ваша светлость, — гнусаво болтала старуха. Сирано старался объяснить произошедшее по-своему. Очевидно, Лаура, как и он сегодня, обнаружила беспощадность своего страшного недуга и в ужасе бежала из Парижа, быть может, чтобы начать лечение. Но почему она даже не предупредила его, своего возлюбленного? Конечно, растерялась! Спрашивать было не у кого. В полном отчаянии Сирано помчался в Париж, сам не зная куда, и опомнился только у знакомого трактира в Латинском квартале. Сам Великий Случай привел его сюда, чтобы залить горе вином! Запах плохой кухни, разлитого вина и неопрятных посетителей охватил Сирано, едва он вошел в таверну, где не бывал несколько лет. Но тем не менее кто-то из давних знакомых позвал его к столу. Сирано не без труда узнал старого капитана, с которым когда-то дрался на дуэли, а потом подружился в трактире и даже обучал своим приемам вышибания шпаги из рук противника. — Учитель! Мой благородный и несравненный учитель! — кричал старый вояка, вскочив со своего места и кинувшись к Сирано с раскрытыми объятиями. Сирано осторожно отстранился, но все-таки сел на предложенное за столиком место. — Как я рад тебя снова увидеть! — продолжал капитан. — А я, признаться, думал, что тебя укокошили-таки в одной из ста твоих дуэлей, хотя слава о тебе густая, как это вино, которое непременно тебе придется отведать в знак давней дружбы! Сирано молча принялся пить кружку за кружкой. Капитан едва успевал ему подливать, правда, и сам от него не отставая. Однако, начав еще до приезда Сирано, он быстро захмелел. — Когда я дрался на дуэли с маршалом… да я, наверное, тебе об этом рассказывал… я всем рассказываю… — С генералиссимусом, господин барон, — мрачно поправил Сирано. — Э, нет! Чего нет, того нет! Капитан де Ловелет никогда не привирает, ему и без этого есть о чем рассказать! И он принялся пьяным голосом расписывать свои подвиги во время последней нескончаемой войны. Когда он заговорил о том, что принимал участие в операции под Аррасом, Сирано насторожился, решив одернуть болтуна, если тот заврется. — Ты знаешь, дружище Сирано, наши французские войска осадили Аррас, а испанцы под командованием инфанта, в свою очередь, окружили осаждающих. — Еще бы не знать! — хмуро подтвердил Сирано. — Какие-то смельчаки, кажется, гасконцы, отчаянные головы, прорвали окружение, разгромив отряд генерала Гарсиа, да и его самого прикончили, — продолжал, выкатив глаза, барон де Ловелет. — Ну а мы вместе с подоспевшим войском союзного нам курфюрста ударили по испанцам с тылу! Вот была каша, похлебка, бульон! Поверишь ли, мне, бывалому солдату, такой потехи видеть не приходилось! — Да, жаркое было дело, — неохотно подтвердил Сирано, вспоминая, что тогда погиб отец Лауры, которая, к счастью, не знает, от чьей руки. — У этих испанцев оказался богатый обоз и даже с девочками! Мы с немцами и захватили его как общую добычу. Но, знаешь, эти девочки куда опаснее самих испанцев. От тех хоть знаешь, что получишь. А у этих… я всегда берегусь! Был у меня один случай в Тулоне! Пламень-девка! Сойти с ума можно! Я уже заплатил за ее любовь… — Знаю, знаю, барон, — прервал Сирано. — Имел честь слышать. — Как? Я рассказывал еще при первой встрече? А какая была встреча! Прекрасная встреча! Какому ты приему меня обучил, век не забуду! Готов бочку вина вместе выпить! Словом, я, который самого черта в бою не боится, девок страшусь. И тебе советую… А как нам быть, изголодавшимся солдатам? Как, я тебя спрашиваю? Я тебе скажу. Нам отчаянно повезло тогда! Пей! Такое слушать надо, крепко запивая. Понимаешь? Карета! А в ней две цыпочки! Обе красавицы! И из благородных! Немцы первыми захватили их. Они, признаться тебе, все-таки подлые собаки, эти пфальцы и прочее… Когда старшая упиралась, применили ножички у дочки на глазах. Ну, груди там у старшей порезали или отрезали. Они, немцы, любители такой кулинарии. Старшая потом не выдержала, прикончила себя кинжалом. Спрятан у нее был. Что ни говори, испанка! А дочь припугнули. Тут, признаться, и я не оплошал тоже. И про меня вспомнили, как-никак капитан! Страху-то нет! Не заразишься. Дамы-то знатные. Зря генерал испанский свое семейство в обозе таскал. Вот и дотаскался! Сирано побледнел. — Имя! Как звали генерала? — Да откуда я знаю! В этих случаях я у девочек имени не спрашиваю. Пей, а то не дослушаешь. Сирано вскочил. — И вы, барон, считаете себя благородным человеком? — А что? — удивился капитан. — Женщины всегда были военной добычей. Мы еще две бочки превосходного испанского вина захватили. Что ж мы, пить его не должны были? Сирано опрокинул на стол недопитую кружку, вино растеклось, как лужа крови, стало стекать на пол. — Что случилось с младшей? — Ничего особенного. Жива осталась. Немцы даже отправили ее в обоз. Там у них был «цех веселых женщин». Их фельдфебелица ее всему, чему надо, обучила. В этом цехе у них все на военный лад, строго! Фельдфебелица — зверь в юбке! Я, признаться, вздумал отыскать ее, повидать еще разок. Уж больно хороша. Да фельдфебелица с проваленным носом напугала меня. С тоски ли, от унижения или еще от чего вроде заболела она чем-то. Ну я и махнул рукой. Побоялся заразиться. Сирано стало душно. Не попрощавшись со старым воякой-пьяницей, он вышел на улицу. Все было мрачно вокруг. Хмурые злые лица, затянутое тучами небо, накрапывал дождь. Сирано воспринимал это как отвечающее состоянию его души. Он ехал шагом, свесившись с седла на один бок. Горькие мысли терзали его. Какие ужасные совпадения! Или это не случайность? Что, если Лаура, дочь убитого им генерала де Гарсиа, намеренно отыскала его, Сирано де Бержерака, чтобы отомстить ему лютой местью за отца? Заразить чахоткой! Но как она могла оказаться в Париже, блистая роскошью, под именем баронессы де Тассили, и быть принятой в свете? Какая рука поддерживала и направляла ее? Мысль, что он стал жертвой мести, ожгла Сирано. Неужели женщине свойственно такое коварство — использовать для мести любовь? Превратить прославленного рубаку в чахлое существо, жалкое и презренное! Он передернул плечами. Нет! Не может этого быть! Отец Лауры пал от шпаги Сирано в бою, за это не мстят так коварно! Месть любовью! Месть, осуществленная посредством Любви? Что может быть ужаснее? Разве что только последствия этого притворного чувства! Совершенно удрученный, вернулся Сирано в замок д'Ашперона. Соскочив с коня и отдав поводья слуге, он поднялся по лестнице. Его ждал с многообещающим видом Ноде. — Друг мой, — встретил он Сирано. — Верьте, что я не оставлю вас в беде. Но прежде, чем вы согласитесь, чтобы я отвез вас в больницу к нашему другу Пигу, я должен вам сообщить нечто неожиданное. — Что именно? — мрачно осведомился Сирано. — Мне удалось установить, несчастный друг мой, что в книгах знатных фамилий барон де Тассили не числится. Очевидно, его никогда не было, ибо, судя по названию его имений «Тассили», их надо искать где-то в пустынях Африки. Словом, ни в каких сражениях он не участвовал, в бою не погибал и, надо думать, никогда не был женат на женщине, получившей в Париже прозвище Лаура-пламя. Ошеломленный Сирано сел на первый подвернувшийся стул. — Вы убиваете меня, Ноде, хотя я почти ожидал этого. Но дочь вице-короля Новой Испании дона Альвареса де Гарсиа дель Пополо Валенсе Лаура существует? Или она призрак? — Вам виднее, призрак она или нет. Но в парижский свет эта дама проникла под явно вымышленным именем баронессы де Тассили, ошеломляя своей красотой и богатством. — Но откуда у нее это богатство, Ноде? Особняк, карета, лошади, лакеи! Роскошные приемы! — воскликнул Сирано. — Ей оставил такие средства отец? — Не думаю. Едва ли ей что-либо перепало от отца, поскольку ее сочли погибшей вместе с матерью после разгрома испанских войск под Аррасом, где она оказалась в обозе. Имущество отца растащили, как шакалы, испанские родственники. — Так откуда же у нее оказались такие средства, скажите мне, Ноде? Откуда она могла их взять, да и зачем ей было их тратить попусту? — Это еще вопрос, «попусту» ли! Я вам сообщаю, друг мой, лишь то, что мне удалось установить. А это, надо думать, далеко не все! Но мне известно, что все роскошное убранство особняка, где мы с вами побывали, как и сам особняк псевдобаронессы де Тассили принадлежит… Сирано испытующе смотрел на Ноде. — …кардиналу Мазарини. Это он не пожалел ни денег, ни выдумки, чтобы рассчитаться с вами за памфлеты «Мазаринады». Наградить вас бесславной чахлостью, смять, унизить, сделать бессильным. Такова кардинальская месть, мой друг. Должно быть, он отыскал несчастную чахоточную Лауру в Кeльне и снарядил с ее помощью «миссию мести» в Париже. Сирано, пошатываясь, совершенно убитый услышанным, направился в свою комнату. Так вот откуда получил он смертельный удар отравленным кинжалом любви! А ранним утром на столе лежал сонет, последний, как он считал, сонет в жизни несчастного поэта.
ОТЧАЯНИЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ
Кардинал Мазарини при всей своей скупости не пожалел даже собственных средств, чтобы собрать достаточно войск и двинуть их на Париж для окончательного разгрома загнившей уже Фронды. Но он не забывал и мелочей. Шпионы кардинала донесли ему, что так называемая баронесса де Тассили, пользуясь в Париже принадлежавшим Мазарини особняком в Сен-Жерменском предместье, выполнила данное ей кардиналом поручение и покинула Париж. Перед отъездом ей была вручена доверенным лицом кардинала оговоренная сумма в золотых монетах и сверх того драгоценности, принадлежавшие жене погибшего под Аррасом генерала дона Альвареса де Гарсиа дель Пополо Валенсе. Дальнейшая судьба Лауры, а тем более ее лечение от болезни, остановившей на ней выбор Мазарини, его нисколько не интересовали, занятого делами более значимыми, с такой мелочью просто несравнимыми: прежде всего обессиливания Испании с помощью Англии во главе с Кромвелем и возвеличивания при этом Франции, и окончательного сокрушения противостоящей Мазарини Фронды, где, как было известно кардиналу, нет единодушия и торжествуют не какие-то высокие принципы, а разгулявшиеся страсти спесивой знати. В этих условиях удача мести кардинала зазнавшемуся писаке с помощью «отравленного кинжала любви» лишь на мгновение вызвала улыбку на озабоченном лице кардинала. Впрочем, узнав, что Сирано де Бержерак попал в больницу доктора Пигу, кардинал заметил: — Теперь надо дать волю злословию.[115] Мазарини делал историю Франции и ни в одном из своих дел не стеснялся в выборе средств.Часть третья ФИЛОСОФ
Оптимист не тот, кто не знал отчаянья, а тот, кто победил его.А. Н. Скрябин

Глава первая ВОЛЯ СКЕЛЕТА
Судьба Фронды, по свидетельству историков, решалась в сражении в парижском предместье св. Антония. Кардинал Мазарини, находясь в Кельне, сумел собрать достаточно войск и двинул их на Париж. Во главе он поставил Тюрена, сурового и скромного гугенота, отца нового военного искусства, хладнокровного до медлительности, умеющего побеждать более сильного противника малыми силами с помощью хитрых маршей и верно выбранных позиций. На этот раз ему противостоял всего лишь с ополчением Фронды, меньшим его армии, молодой Людовик II Конде, образец былой рыцарской отваги, беззаветный боец, отважный до безрассудности, считавший, что сражения выигрываются личным примером участия военачальника в схватке. Король Людовик XIV, уже юноша, наблюдал за сражением с холма, стоя рядом с Тюреном, издали руководившим боем, в то время как королева Анна возносила молитвы за успех Тюрена. Сам же Тюрен, уверенный и невозмутимый, отдавая дань своему противнику Конде, недавнему сопернику в борьбе за власть во Фронде, говорил, что «покрытый кровью и пылью принц Конде носился по полю сражения с пистолетами в руках, как бог войны Марс». «Я видел не одного, а дюжину Конде», — замечал он не без иронии, имея в виду безуспешность этой рыцарской отваги, побежденной холодным военным расчетом. Над вытоптанными крестьянскими посевами стоял дым от мушкетных и пистолетных выстрелов, конные сшибались в рукопашной сече, пешие стреляли, били, кололи, рубили друг друга. Зелень местами алела, усеянная телами людей, меньше всего заинтересованных в исходе войны и бездумно отдававших свою кровь и жизни за солдатское жалованье во имя безразличных им приказов крушить все равно какого врага. За дымовой стеной последнего сражения стоял Париж Фронды, четыре года излучавший молнии язвительных памфлетов «Мазаринады», служа прибежищем противоестественного, лишенного единства союза ненавидящих друг друга сторон: знати, магистрата и народа. «Колесница междоусобной войны» грохотала, словно катясь по усыпанной камнями дороге. Жители предместья в ужасе бежали. Хитроумный Тюрен, тесня ополчение, продвигался вперед. Со стен неприступной крепости Бастилии вздымались дымки не только мушкетных выстрелов. Верная своему обещанию, столь же дерзкая, как и обворожительная, принцесса Монпансье, стоя у пушки, сама наводила ее на наступающие королевские войска и подносила огонь к запальному фитилю, торжествующе взвизгивая при каждом ухающем громовом ударе пушечного выстрела и потом восторженно следя за полетом ядра и его падением среди неприятелей. Ядро некоторое время крутилось на земле, прежде чем взорваться, разя окружающих. И, глядя со стен Бастилии на разорванные ее ядрами тела вражеских солдат, которые тоже были французами, принцесса Монпансье ликовала, требуя, чтобы ей подносили все новые и новые ядра. Но вместо очередного канонира с ядром перед нею предстал запыленный гонец с черным измученным лицом. — Ваше высочество! Принц Конде прислал меня к вам с известием, что битва в предместье св. Антония проиграна, и, если ему не откроют сейчас ворота Парижа, где он мог бы укрыться, его ждет позор и эшафот! Принцесса Монпансье всплеснула руками. Дерзкая воительница, она все-таки прежде всего была женщиной, притом неистово влюбленной в своего Конде. — Где отец? — крикнула она. Бывший до рождения Людовика XIV престолонаследником, Гастон Орлеанский находился здесь же, в Бастилии. Он тоже принимал гонца, но не от командующего войсками Фронды Конде, а от его противника Тюрена, вернее, от Мазарини, только что выговорив условия капитуляции, предав при этом всех своих соратников и добившись для себя права почетного удаления в провинцию с сохранением богатств и званий. Вялый, уже безразличный ко всему, стоял Гастон Орлеанский, сгорбясь, как от непосильной ноши. Он вдруг почувствовал отвратительный запах гари и пороха. Подняв голову, увидел влетевшую к нему дочь, которая бросилась на колени к его ногам. — Отец мой! Спасите Конде! Я люблю его! — Но, дитя мое, — протянул руки Гастон, чтобы поднять дочь, — я оговорил милость короля к нашей семье… — продолжал он, не признаваясь, однако, какой ценой он эту милость получил. Принцесса Монпансье была умна и знала отца, прекрасно поняв все, что не успел или не хотел он сказать. — Только впустить, а потом тайно выпустить из Парижа Конде! Только это! Я умоляю! Потом я сама готова отдать себя в руки Тюрена! — Если бы Тюрена! — вздохнул Гастон Орлеанский. — Ты забываешь, дочь моя, кто стоит за его гугенотской спиной. — Король-католик? Я сумею умолить его. Пойду во всем ему навстречу. — Конечно, король не устоял бы против доводов дамы, но… Мазарини! — Этот изверг в сутане? — Увы, не столько король, сколько он войдет в Париж с карающим мечом. Я не могу защитить Конде. — Я все беру на себя, мой мудрый отец, которому по несомненному праву принадлежит французская корона, поскольку королева Анна со своим немощным супругом слишком долго были бесплодными и «наследник» вполне мог быть сыном не короля, а кардинала! И я знаю, что вы, истинный престолонаследник, лишь из любви к французам не ввергли их в войну за престол! Принцесса Монпансье отлично знала, как воздействовать на своего тщеславного отца. — Хорошо, — после мгновенного раздумья произнес Гастон Орлеанский. — Впервые я сожалею, что не правлю Францией как ее законный король. Только из-за угаданного тобой моего желания прекратить междоусобицу я приказываю сдать Париж, ворота которого на миг откроются, чтобы впустить Конде, а потом распахнутся перед королем Людовиком XIV, моим племянником (надеюсь!). И больше я ни о чем знать не хочу! Гастон Орлеанский действительно больше ничего не хотел знать ни о своих былых соратниках, схваченных людьми Мазарини и брошенных в Бастилию, на стенах которой не остыла еще пушка принцессы Монпансье, ни о верно служившем Гастону, но проигравшем последнее сражение принце Конде. Но дочь его знала о своем возлюбленном все! Она встретила его у парижских ворот, когда он спешился с боевого коня и сел в ее карету. В этой карете со спущенными шторами на окнах бесстрашный рыцарь, обожаемый солдатами за удаль и товарищество в бою, не слишком стесняясь присутствием дамы, снял с себя перепачканный кровью, запыленный костюм и тяжелые ботфорты со шпорами, облачась в приготовленное ему нарядное платье… испанки и дамские туфельки, шитые бисером. Его юное миловидное лицо после поспешного удаления эспаньолки вполне могло сойти за женское, но для надежности принцесса позаботилась о мантилье. И, промчавшись через весь Париж, принцесса Монпансье вывезла свою «спутницу» в предместье Мовьер. Стража на заставе, уже поставленная там Тюреном, позубоскалила насчет того, что пора бы карать дам за нехристианские обычаи скрывать смазливые мордашки за чадрами, мантильями и вуалями. На первом же постоялом дворе, не доезжая Мовьера, с названием «Подкова счастья», прелестную «испанку» ждала приготовленная для нее лошадь с дамским седлом. Довольно неумело усевшись в него, новая амазонка помчалась к границам Фландрии, где предполагала предложить себя в качестве военачальника испанцам. Тем временем в другие ворота Парижа торжественно вступил юный король Людовик XIV, прошедший школу власти у кардинала Мазарини и намеренный усердным трудом монарха утвердить свое безраздельное могущество, обеспеченное ему стараниями двух кардиналов, Ришелье и Мазарини, что позволит впоследствии королю-Солнцу сказать ставшую знаменитой фразу: «Государство — это я!» Невольным свидетелем скачущей в одиночестве загадочной амазонки стал некий путник, бредущий по той же дороге в Париж, не пожелав заглянуть поблизости в родные места и не оповестив друзей о своем возвращении после долгого вынужденного отсутствия. Амазонка на всем скаку обернулась на странную фигуру и едва не вывалилась из дамского седла. Что-то знакомое и вместе с тем невероятно непохожее почудилось в одиноком путнике. Будь это ночью и вблизи кладбища, его можно было принять за призрак, за мертвеца, за скелет, поднявшийся из могилы. Тоненькие ноги едва несли хилое до нелепости тело с опущенными плечами и поникшей головой. Когда он из уважения к даме снял шляпу, обнажился почти лишенный волос череп. Конечно же, принц Конде не мог узнать в этом жалком прохожем задорного поэта, лишь мельком увиденного им в салоне некой вскоре исчезнувшей баронессы де Тассили. Однако это был он, несчастный Сирано де Бержерак, не столько набравшийся здоровья в больнице доктора Пигу, сколько растерявший его там в уплату за избавление от грозивших ему страшных последствий неизлечимого недуга. Трудно было узнать в этом бредущем «скелете» непобедимого дуэлянта, беспримерного храбреца, сражавшегося против ста противников, бесстрашного посланца Франции, вырвавшего из рук испанцев философа Кампанеллу, гасконца, отличившегося в боях под Аррасом, когда его земляки шли в бой с песней Сирано и когда он получил тяжелое ранение в лицо. Но ртутный препарат медицины с нанесенным им увечьем не шел ни в какое сравнение ни с испанской пулей, сразившей де Бержерака в Риме, ни с острым индейским ножом мачете, который метнул в него своим последним в жизни движением преступный капитан Диего Лопес. Горестный вид Сирано де Бержерака послужил ему пропуском на заставе. Никому в голову не пришло задержать этого слабого больного человека как опасного врага, отнюдь не заподозрив в нем язвительного памфлетиста, с которым так жаждал рассчитаться кардинал Мазарини. Впрочем, пожалуй, уже расплатившийся с ним. Надо ли говорить о переполнивших материнское сердце чувствах, когда Мадлен де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак увидела своего сына Савиньона. Она плакала на его груди, но это были материнские слезы одновременно и жалости и радости. Она не могла без слез смотреть на изменившегося сына, которого с младенческих лет преследовала его внешность, она плакала и от счастья, ибо была почти уверена, что исчезнувший так надолго Савиньон, несомненно, погиб, снова ввязавшись в какой-нибудь поединок. Но он был жив, пусть больной, несчастный, но живой, вернувшийся в родной дом. — Ах, боже мой, — говорила она, любовно глядя на усталого Савиньона, — ты и не знаешь, какие у нас тут, в Париже, творятся дела. Гастон Орлеанский заточен в провинции вместе с дочерью принцессой Монпансье, кардинал Рец, ты подумай только, — кардинал! — брошен Мазарини, другим кардиналом, в тюрьму! И в Бастилии оказался и герцог Бюфон. А как его любили в народе. — Знаю, — отозвался Савиньон. — Слышал его на баррикаде. — Я очень боюсь за тебя. Не был ли ты связан с ними? — Только как автор памфлетов «Мазаринады». — Ах, это ужасно! Теперь, когда ты дома, нужно вести себя «не колебля пламени свечи». — Может быть, совсем не дыша? — не без иронии спросил Сирано. — Затаиться, затаиться, сынок! Мы спрячем тебя на чердаке, никто не узнает, что ты вернулся. Именно здесь тебя искать не станут. — Пожалуй, — согласился Сирано. — Ты должен дать слово матери, что ничего не будешь делать. — Нет, почему же! Я буду писать. — О мой бог! Опять памфлеты! — Нет, трагедию, которую обещал помочь поставить на сцене герцог д'Ашперон. Кстати, что слышно о нем? — Ничего не слышала о притеснении герцога. Очень уважаемый человек в Париже. — Немного приду в себя, наведаюсь к нему. — Нет, нет! Ты не должен показываться на улице, чтобы никто не узнал тебя! — Я думаю, мало найдется таких, которые смогли бы меня узнать, — горько усмехнулся Савиньон. — Берегущегося оберегает сам господь бог! Будь горестно к слову сказано, но вспомним скончавшегося нашего деревенского кюре. Он так говорил. — Я был на его похоронах. — Какое золотое было сердце! — Великий Вершитель Добра! — Именно так: вершитель добра. Как ты хорошо про него сказал. Беседу матери с сыном прервал поспешный приход монахов из монастыря св. Иеронима, где умер старший брат Савиньона Жозеф. Это были два сытых монаха с лоснящимися лицами, с узкими губами и выпуклыми глазами, казначей монастыря и его помощник. Они были так похожи друг на друга, что выглядели близнецами, хотя и не состояли в родстве, отличаясь к тому же и возрастом. — Спаси вас господь! — елейно начал старший. — Мы рады разделить ваше семейное счастье по случаю возвращения блудного сына. Сирано нахмурился: — Как вы об этом пронюхали, отец мой? Младший монах поморщился и произнес укоризненным басом: — Не следует говорить так о слугах господних, достойный Сирано де Бержерак. Мы с отцом Максимилианом, в отличие от меня, старшим, давно ждем вашего возвращения, о чем нам поведал наш послушник. — Надеюсь, отцы мои Максимилианы, вы не причисляете безмерное удивление к числу смертных грехов? — Все безмерное грешно, сын мой, — тоненьким голосом отозвался отец Максимилиан-старший. — Боюсь лишь, что у вас других грехов без меры. — Тогда, чтобы умерить этот мой «грех удивления», признайтесь, отцы мои Максимилианы, что за причина заставила вас так жадно ждать моего возвращения из дальних стран? — Говорить об ожидании, к тому же жадном, неуместно, — назидательно поднял палец казначей монастыря, — ибо монастырь наш заинтересован, господин Сирано де Бержерак, чтобы все наследники вашего почившего отца, да примет господь его душу, были в сборе при разделе наследства. — Наследство? А какое отношение вы к нему имеете? — Прямое, — гулким басом вставил теперь младший монах, — ибо монастырь наш, причисленный к ордену Иисуса нашего Христа, представляет усопшего в его стенах и постригшегося там Жозефа Сирано де Бержерака, внезапно скончавшегося. — Мы пришли с миром от имени нашего ордена, господин Савиньон. Мы не хотим доводить дело до рассмотрения в парламенте, — елейно продолжал старший иезуит. — Это будет слишком обременительно для вас. Знаете, какие эти судейские! Им все время надо платить! — Какое дело? До какого разбирательства в парламенте? — Мы уповаем, — еще более тоненьким голосом заговорил казначей, — что вы в благости господней, печалясь о потере старшего брата, отдадите монастырю св. Иеронима всю долю братского наследства. Мы уже говорили с вашей почтенной матушкой, но она убедила нас подождать вашего возвращения, и вы видите, мы, как служители господни, пошли ей навстречу, зная о ее безутешном горе. — Вы, иезуиты, претендуете на наследство человека, умершего раньше отца? — еле сдерживаясь, произнес Савиньон. — Не имея притом его волеизъявления. — Для вас, господин де Бержерак, если вы достаточно благочестивы и, надеемся, отреклись от былого вольнодумства, брат ваш всегда должен жить в нашей памяти, и вам надлежит, — поучал старший монах, — делиться с ним всем своим достоянием, как с живым, ибо он жив в думах монастыря, коему завещано представлять его и после кончины. — Слушайте, вы, разбойники в рясах! Не думайте, что, запугав мою покорную мать зловещей тенью своего ордена, вы сможете в моем присутствии грабить ее семью! — Ваш жалкий вид, почтенный господин де Бержерак, — ехидно заметил Максимилиан-старший, — не говорит в пользу того, что господь бог благоволит к вам и простил ваши прегрешения. И потому пристало ли вам, вольнодумцу и противнику церкви, после ниспосланного вам возмездия так говорить с ее служителями? — Вон отсюда! — заревел Савиньон. — Я дал клятву не вынимать шпаги из ножен, но я отделаю вас обоих шпагой в ножнах, уподобив ее палке! Вон отсюда! Или вы забыли, как я угостил монастырских крыс у костра близ Нельских ворот? Монахи в страхе вскочили, подбирая сутаны. Вид разгневанного скелета был ужасен. Казалось, выходец с того света грозит им или, что еще хуже, пособник сатаны! — Знайте, жадные стервятники, прижившиеся под монастырской крышей, что никогда вам не видеть ни раскаявшегося вольнодумца, ни единого отцовского пистоля. А вот отцовский пистолет вы можете узреть, благо клятва моя распространяется только на шпагу, а не на пистолеты! «Жадные монастырские крысы», бормоча проклятья и грозя сокрушающим гневом ордена Иисуса против закоренелого атеиста, вновь проявляющего себя в своей адской сущности, поспешили убраться из дома де Бержераков, твердо намереваясь, однако, «по-иезуитски» с жестокой справедливостью рассчитаться с безбожником, припомнив ему все его «злодеяния». Мать восхищенно смотрела на Савиньона: — Я думала, что не узнаю тебя, увидев, во что ты превратился. А ты, оказывается, прежний! — Поверь, матушка, ничто не в состоянии сломить твоего с виду немощного сына! Ничто! Я читал тебе когда-то сонет о том, что терзало меня когда-то в ожидании желанного яда. Сейчас, чтобы понять меня, им отравившегося, выслушай несколько строчек, которые я сочинил по дороге сюда:Пусть в жизни потерял я все,Подавлен горький стон мой!Пусть дух мой срамом потрясен,Но все же я не сломлен!Сирано де Бержерак
Глава вторая ПОДМОСТКИ
Гениальное — всегда чуждо современникам. Великий физик XX века Макс Планк говорил: «Новые идеи никогда не принимаются. Они или опровергаются, или вымирают их противники».Савиньон Сирано де Бержерак, оправившийся заботами матери от пагубных последствий лечения и уж не столь похожий на живого мертвеца, даже снова с густой шевелюрой, правда принадлежащей теперь парику, какие стали входить в моду после полысения Людовика XIII, появился в так знакомом ему трактире Латинского квартала. Дубовая стойка и за ней все тот же, казалось, нестареющий трактирщик в заношенном белом переднике, с тараканьими усами на длинном, как перевернутая бутылка, лице; грубо сколоченные из досок столы и такие же скамьи при них; шумные посетители, преимущественно студенты, художники, поэты, как и во времена, когда Сирано разыскивал среди них своего первого секунданта Шапелля или после дуэли пил со своим противником, старым капитаном де Лонгвилем, вино за этим же столом, а потом встретился с ним еще раз здесь, потрясенный своим несчастьем, и выслушал от него омерзительную историю пленения двух испанских дам. Сирано невольно передернул плечами. Волна пережитого накатилась на него. Но он пересилил себя. Нет! Не для того он явился сюда, чтобы снова впасть в отчаянье! Он не просто член тайного общества доброносцев, жизнь его отныне должна быть посвящена выполнению долга, завещанного незабвенным учителем, Демонием Тристаном! Сирано привычно тряхнул кудрями (на этот раз парика!), оглядывая помещение. Кисло пахло пролитым вином, дешевой кухней и неряшливой толпой. Кто-то из посетителей читал стихи или пел, кто-то спорил, а то и просто горланил. Сирано сел за свободный столик. Гарсон в кожаном переднике, ловкий малый с наглыми глазами, плавным картинным движением поставил перед ним кувшин вина и, как было заказано, две кружки, очевидно, еще для одного посетителя. А вот и он! Старый приятель Савиньона, войдя в трактир, печальными глазами искал Сирано. Этот взор как-то не вязался с элегантной видной фигуркой человека со свободными манерами, присущими странствующему актеру, способному играть сегодня разбойника, а завтра вельможу или коронованную особу. Мольер увидел Сирано, машущего ему рукой, и подошел к нему. Они обнялись и сели за стол. Сирано внимательно оглядывал былого соученика. — Я думал, ты веселее, — заметил он. — Я веселю других своей печалью, — ответил Мольер. — Печалью? — Да, грущу о судьбах горестных людей! Но не во мне дело. — Начнем с тебя, поскольку успех мной задуманного зависит от благополучия твоего. Мольер пожал плечами: — Играю, как комедиант, пишу комедии, как поэт, а вернее, как живописец с окружающей меня натуры. — Как? Без греческих богов, без римских матрон? Без всем знакомых масок? — Стремлюсь не смешить людей, а выставлять на посмешище их пороки… Ведь люди готовы прослыть скорее дурными, чем казаться смешными. — Согласен с тобой, Жан, и сам готов идти таким путем. — Я помню, как ты высмеял в своей юношеской комедии педантов, уродующих воспитанием молодых людей. — Меня освистали церковные приспешники. — Церковь — это крепость зла. Ее непросто взять штурмом. Я в своей комедии о лицемерах принужден прикрыться поклоном в сторону «монарха! — врага обмана»![116] Как не быть мне печальным, веселя других, если я предвижу, что попы постараются лишить меня даже гроба.[117] Ведь нас, актеров, как бы ни был популярен театр во Франции, не считают за людей и хоронить готовы, как собак. — Но окружают вниманием даже при дворе. — Вниманием, а не уважением. Что я для них, для знатных? Мольер? Сын придворного камердинера Поклена? Не граф и не маркиз, способный становиться ими лишь на сцене! — Чтобы они увидели в тебе самих себя. — Нет! Только не себя! Скорее своего соседа по театральному креслу, чтоб посмеяться вдоволь над ним, но никак не над собой! Однако перейдем к тебе. Ты пострадал от медицины? — Пожалуй, да. — Они у меня на прицеле, невежественные каннибалы, именуемые лекарями, первые помощники смерти![118] Они даже не знают строения человеческого организма. Попы запрещают им резать трупы, и врачам достаются или казненные, или покойники, похищенные с кладбищ. Немудрено, что студентов-медиков вместо понятий о человеческом теле учат проведению диспутов о том, сколько раз в месяц полезно напиваться до скотского состояния. — Ты зол на лекарей? — Не больше, чем на других невежд. — Как раз на них я и хочу обрушиться, но не комедией на этот раз, а трагедией, поставить которую в театре и прошу тебя помочь. — Трагедией? Вот как? Я знаю твои ядовитые памфлеты и ждал от тебя чего-нибудь в этом роде. Тебе так удались «Проделки Скапена». Хочешь трагедией высмеивать невежд? — Нет! Показывать их во весь их «исторический рост»! — История? — Да, столетняя, «Смерть Агриппы». — Этого чародея, колдуна, как принято считать? — Ученого, еще в прошлом веке поднявшегося выше всех, осмелившегося признать за женщиной права, равные мужским, получившего в своих колбах вещества, никому дотоле неизвестные! — Но не золото же! — Он получил нечто более ценное, заложив основы науки будущего, которая в грядущем перевернет весь мир![119] — Ты замахнулся на невежество, но средоточие его — все та же церковь. Берегись! — Прямо я ее не затрону. Мой Агриппа, правда, преследуемый монахами, светлый гуманист Корнелиус Генрих Неттесгеймский, профессор, врач, философ, потрясший всех трактатом «О недостоверности и тщете наук»! — Он отрицал науки? — Нет! Лжемудрецов, которые считают, что то, чего они не знают, существовать не может! И будто не результат опыта достоверен, а лишь мнение авторитета! Вот это я и покажу со сцены, чтоб у людей сердца заныли! — Браво! Но, берясь за трагедию, ты вступаешь в соперничество с самим Корнелем. — Сирано, как ты знаешь, не страшился никого! Предвидя критику адептов, я заранее парирую возможные удары, соблюдая все три единства: места, действия и времени, уложив все события в двадцать четыре часа. — Твоей трагедии не хватает еще одного единства. — Какого? — Денег. Без них, мой друг, трагедии не поставишь. — У меня есть меценат, герцог д'Ашперон. Он обещал помочь. — Тогда другое дело! Но ты откройся мне. Когда я обличаю пороки, я их вижу вокруг. А ты? Веришь ли ты, подобно своему герою, в «недостоверность и тщету наук»? — Еще бы! — усмехнулся Сирано, подумав о Солярии и той высоте знаний, с которой современные ему научные взгляды кажутся непроходимым невежеством. Сирано было нелегко выбрать способ осуждения этого невежества, помня заветы Тристана. — Так ты веришь утверждению Агриппы? — спрашивал Мольер. — Верить можно в бога, что я предоставляю делать попам и их прихожанам. Я же — знаю! Знаю, почему Агриппа был на голову выше всех наших знатоков знаний.[120] — Знатоков знаний? — удивился Мольер. — Как ты странно сказал! Сирано спохватился. Совсем не нужно упоминать на Земле понятия, принятые на Солярии. Тристан не одобрил бы этого. — Итак, дружище, решено! Пусть герцог д'Ашперон поможет золотом, которое, к сожалению, не успел сделать Агриппа, а театр я беру на себя. Горе невеждам! Передай мне рукопись трагедии. — Она со мной. — Тем лучше. Можно сразу начатьрепетиции. Лишь бы твои памфлеты из «Мазаринады» не помешали нам! Строительство Версаля, которому предстояло стать примером подлинно королевской роскоши для всей Европы, способствовало тому, чтобы трагедия Сирано де Бержерака «Смерть Агриппы» была поставлена в театре, которым увлекалась тогда вся знать Парижа. Сирано де Бержерак непривычно волновался, ожидая последней репетиции перед премьерой. Он пригласил друзей, которые помнили его. К сожалению, времена Фронды отличались обилием бессмысленных дуэлей, в которых Сирано, к счастью, не принимал участия. За четыре года на поединках было убито около тысячи вельмож. Несмотря на то, что поединки по-прежнему считались запрещенными, на дуэли дрались не только два противника, но и их секунданты. И многих из своих былых товарищей не смог теперь пригласить Сирано на последнюю репетицию, а потом на премьеру. Он рассчитывал на успех, ибо театральные знатоки не скупились на похвалы. Сирано встречал в вестибюле театра герцога д'Ашперона, прибывшего вместе с Ноде, как всегда, утопавшем в брюссельских кружевах; приехал из деревни и приодевшийся Кола Лебре; из имения недавно скончавшегося отца прискакал граф Шапелль де Луилье, прихватив с собой еще несколько сотоварищей, слушавших приватный курс лекций профессора Гассенди и, что особенно обрадовало Сирано, явился и сам профессор Гассенди, пожелавший увидеть творение своего ученика. Пришел и бравый старый вояка капитан барон де Ловелет, которого сопровождали, к удивлению Сирано, графиня де Ла Морлиер, конечно, вместе со своим крысоподобным чичисбеем маркизом де Шампань. Почтила репетицию своим величавым присутствием и герцогиня де Шеврез, привезя с собой толпу театралов с едва пробившимися усиками. Словом, последняя репетиция напоминала премьеру, правда, без проданных билетов. Но слава могла начаться с нее, а Сирано весьма рассчитывал на это. Последней он встретил свою мать, скромно одетую, сопровождаемую младшим сыном, у которого глаза горели от волнения, восхищения и надежды на торжество Савиньона, перед которым он преклонялся. Мольер, сам не участвуя в представлении, обходил гостей вместе с Сирано, радушно рассаживал их в креслах, успевал каждому сказать какую-нибудь остроту, а даме комплимент. Когда все гости уже расселись, Сирано заметил, что в зал прошмыгнули два монаха, показавшиеся ему знакомыми. Администратор театра, к которому Сирано обратился с вопросом об этих странных для театра гостях, глубокомысленно ответил, что не мог отказать настоятелю монастыря св. Иеронима, который прислал двух своих братьев, получивших на то специальное соизволение от епископа. Сирано встревожился и поделился своими опасениями с Мольером. — Ты знаешь, Сирано, как я опасаюсь церкви, но у нас серьезная защита в лице самого церковного цензора, разрешившего твою трагедию к постановке. Что значат тонзуры против цензуры! — сострил он и расхохотался. Но глаза его оставались если не печальными, то серьезными. Репетиция прошла как подлинное представление и с необычайным успехом. Автора поздравляли. Сама герцогиня де Шеврез пригласила его в ложу и сказала, что передаст королю свое восхищение трагедией, которая, конечно же, не уступает творениям гордеца Корнеля. Графиня де Ла Морлиер, в свою очередь, уверенно добавила: — Я никогда не думала, что женщины могут быть равноправными с мужчинами. Я совершенно не согласна с вашим профессором Агриппой. Может быть, он и очень умен, но, поверьте женщине, я никогда бы не согласилась на такое равноправие. Наша женская сила в нашем неравноправии. Не правда ли, маркиз? Маркиз де Шампань поспешил заверить свою повелительницу, что она совершенно права, ибо женское неравноправие и дает женщине ни с чем не сравнимые права властвовать над мужчинами. Кола Лебре обнимал Сирано с мокрыми глазами. — Веришь ли, Сави, я плакал, когда умер Агриппа, я почувствовал потерю, которую как бы понес сам. — Это так и есть, дорогой Кола, — отозвался Сирано. — Все мы потеряли в его лице величайшего мудреца, который видел вперед на века. — Ах, Сави. Я знаю еще только одного такого же человека, но я не скажу тебе, кто он. Сирано рассмеялся. Этот Кола по дружбе слишком переоценивает его, но даже ему он не мог признаться ни в чем, что касалось Солярии. Перед премьерой трагедии Сирано де Бержерака «Смерть Агриппы» к церковному цензору аббату Монсье по поручению генерала ордена иезуитов явились два монаха из монастыря св. Иеронима. Аббат Монсье был высокообразованным и добродушным человеком. Связанный с бывшим архиепископом парижским, кардиналом Рецем, во времена Фронды он следил за тем, чтобы пасквили и памфлеты, направленные против кардинала Мазарини, как-нибудь не задели святой католической церкви. Он никогда не злоупотреблял своим правом запрета, но в Ватикане были им довольны, ибо за все скандальное время Фронды не было ни одного театрального скандала, задевающего церковь. Иезуитов аббат Монсье не любил, зная, что они для достижения своих целей не стесняются в средствах, а сам аббат Монсье в этом отношении был человеком прежде всего гуманным. Но гостей из монастыря св. Иеронима ему пришлось принять. — Ваше преподобие, господин аббат, — жидким тенорком начал старший Максимилиан, — по велению генерала нашего святого Ордена Иисуса мы с моим младшим братом по монастырю, тоже Максимилианом, вынуждены были зреть богопротивное представление готовящейся к постановке трагедии, сочиненной грязным памфлетистом и греховным дуэлянтом господином Савиньоном Сирано де Бержераком, и мы просим вашего соизволения, ваше преподобие, господин аббат, еще раз обсудить вопрос о запрете намеченной премьеры этого бездарного, еретического ярмарочного представления, которое лишь позорит театр Парижа, столицы французских королей. — Не вижу причин для такого запрета, братья Максимилианы. Передайте генералу вашего ордена, который я чту, что мне привелось присутствовать на последней репетиции, изучив перед тем рукопись трагедии и не усмотрев в ней каких-либо выпадов против святой католической церкви. В отношении же бездарности этого творения, то позволю себе заметить, что трагедия эта, несомненно, ни в чем не уступает трагедиям господина Корнеля, которого ценят при дворе его величества Людовика XIV. — А «Мазаринада»? — гулким басом вмешался младший Максимилиан. — Не только авторы сатирических стишков, но даже принц Конде, сражавшийся со своей армией против войск короля, допущены ныне в Париж и будут приняты в Версале, как только его завершат отделкой и двор переедет туда. В свою очередь я, как служитель церкви, хотел бы задать вопрос вам, монахам. Пристало ли вам, отцы мои, проникать на светское представление, не совершив при этом тяжкого греха? — Вы правы, ваше преподобие, господин аббат! Но лишь ради интересов нашего святого Ордена мы решились на этот грех, заранее оговорив, какую епитимью в тысячу семьсот три поклона, назначенную самим епископом нашим, мы должны понести за это греховное деяние. Аббат Монсье лишь покачивал головой, не сочтя нужным вступать в спор с этими иезуитами, для которых достижение цели не грех. Монахи ушли от цензора, яростно сжимая кулаки, и направились прямо к генералу своего ордена. Аббат Монсье был прав, от них можно было ожидать чего угодно. Дни перед премьерой были сплошным праздником для Сирано. Мольер прибегал к нему с сообщением о необычайном ажиотаже у билетной кассы. Вероятно, благодаря отзывам герцогини де Шеврез и графини де Ла Морлиер весь парижский свет стремился на этот спектакль. О трагедии говорили в салонах, не побывать на премьере могло бы выглядеть плохим тоном, но, кроме билетов для привилегированных, и все остальные места были нарасхват. Появились даже перекупщики, как показалось вначале театральным завсегдатаям. Однако перед самым спектаклем барышников у театрального подъезда не оказалось. Билеты словно были заранее скуплены кем-то даже у них. Первый акт трагедии прошел благополучно, и публика, видимо, была довольна. Но во время второго акта, когда зашла речь о невеждах, противящихся всему новому, что отнюдь не было направлено в адрес священнослужителей, однако отцы церкви вполне могли бы узнать в представленных на сцене невеждах себя, в зале поднялся необычайный гвалт. Какие-то люди вскакивали с мест, бросали на сцену припасенные гнилые яблоки, тухлые яйца, свистели и кричали, требуя прекратить святотатственное представление. Надо ли говорить, что крикуны были достаточно пьяны и, видимо, набирались по кабакам. Снова Сирано оказался перед пьяной толпой в сотню человек, потерпев на этот раз поражение. Продолжать спектакль не было никакой возможности. Монахов, конечно, никто не видел, а крикуны стали требовать деньги обратно. Тогда разгневанный Сирано, которому касса уже вручила выручку, тут же в зале стал раздавать свои деньги в обмен на клятву тянущих за ними руки пьянчуг, что они никогда больше не посетят ни одного из его представлений. Но представлений трагедии «Смерть Агриппы» больше не состоялось. Какая-то сила принудила церковного цензора, аббата Монсье, запретить дальнейшую ее постановку. Сирано де Бержерак снова потерпел полный крах. Люди, его современники, не желали слышать о своем невежестве, хотя бы говорилось о делах столетней давности. Мольер негодовал. Друзья Сирано не решались даже утешать его. Мать его, госпожа Мадлен де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, украдкой плакала, а младший Бержерак готов был подраться с кем-нибудь, но не решался из-за старшего брата. К Сирано подошел профессор Гассенди. Он сильно постарел, полысел, но не носил парика, и взгляд его был острым, как прежде. — Друг мой, — сказал он. — Когда-то вы убедили меня в своем таланте и энергии. Увидев вашу трагедию еще на репетиции, я понял ваш замысел, который не устраивает псевдомудрых святош. Но помните, если актеров, произносящих ваши слова с подмостков, можно заглушить свистом, то написанного пером никогда еще не удавалось даже полностью сжечь. Что-нибудь да оставалось, что можно размножить. Мысль, воплощенная в трактат, неистребима. — Благодарю вас, профессор. Я по-прежнему ваш ученик. Я верю, что написать на бумаге надежнее, чем вырубить в камне. — Тогда вы знаете, как вам поступить, — закончил Гассенди. Герцог д'Ашперон, бывший свидетелем раздачи Сирано всех своих денег, предложил поэту снова вернуться к нему на службу, но Сирано отказался, он дал слово жить с матерью и не мог нарушить его. Герцог ответил, что уважает его решение. Ноде протянул Сирано свой кошелек, но не решился настаивать, едва увидел, с каким лицом Сирано вернул ему его обратно. Кола Лебре нашел минуту, чтобы шепнуть Сирано: — Если бы жив был наш кюре, он аплодировал бы твоей трагедии. Найдешь денек, приезжай ко мне в Мовьер, мы половим с тобой рыбу в Сене. Вечерами бывает прекрасный клев. Сирано молча обнял друга. Старый капитан, поглаживая седые усы, сказал на прощанье: — Жаль, отказались вы от шпаги, господин де Бержерак! Было бы совсем неплохо проткнуть кое-кого в назиданье. Стоявший тут же молодой граф Шапелль де Луилье добавил: — Твой первый секундант был бы рад, если бы ты оказал ему такую честь еще раз! Герцогиня де Шеврез и графиня де Ла Морлиер уехали, не простясь с освистанным автором злополучной трагедии.
Глава третья ИНОЙ СВЕТ
Нужно было обладать редкой волей и одержимостью, чтобы, потерпев фиаско с трагедией «Смерть Агриппы», не пасть духом и снова взяться за перо. Поселившись в доме у матери, бережно расходуя скудные, оставшиеся от отца средства, Сирано де Бержерак принялся за работу. В общей комнате, где на полках посуда потеснилась ради нужных Сирано книг, он сидел за покрытым скатертью столом с поставленным на нем переносным пюпитром, освобождая место в часы трапез. Одетый в дешевый халат, прикрыв «комнатной шляпой» облысевшую голову, без надоевшего парика, он писал страницу за страницей, откидывался на высокую спинку кресла, перечитывал их, порой заливаясь громким хохотом, и снова писал. Для него это был поединок с толпой врагов Добра, среди которых видное место занимали церковники. Требовались особые приемы, чтобы не дать им повода наложить на его новое творение запрет, как на злополучную трагедию. И, как былой опытный боец, он наносил противнику удары «шпагой слова», парировал «встречные выпады», применяя обезоруживающий, разоблачающий прием, переходя в наступление, чтобы сразить Зло. Мысленно советуясь с Тристаном, он тщательно продумал всю стратегию «литературного боя», выбрал для поединка «место» (тему), вызвал на поле «секундантов» (ценителей), толпу же зрителей (читателей) привлек событиями интригующе невероятными, чему, однако, можно и поверить. Тристан, Тристан! Ты предостерегал от всего правдивого, что сочтут за бред умалишенного! Людей, воспитанных на бездумной вере, нелепое способно позабавить, но не отвратить от книги. Чтобы сделать ее для них достоверной, надо перемешать забавный вздор с тем, что уже есть на Солярии и когда-нибудь будет на Земле! Так пусть же все начнется с этой планеты, мой незабвенный Демоний! Неважно, был ли я там вместе с тобой или только слышал от тебя о ней! Волей моей фантазии читатель полетит со мной на другую планету! Впрочем, не на Солярию, куда надо проникать через «черную дыру», проходя «полюс Вселенной», бесконечной, но замыкающейся в одной этой точке, что так убедительно показано тобой и чего, увы, не понять не только верным католикам, но даже и вольнодумцам! В межзвездной пустоте сомневался сам великий Декарт, чьи книги пришлось защищать от необузданной толпы у разожженного костра. Небосвод представлялся философу жидким, а небесные светила на нем — вихрями! Как же поверить в бездонную пустоту, разделяющую планеты! Придется выбрать цель более близкую — как бы висящую в воздухе над нашей головой Луну, всем знакомую и, казалось бы, доступную! Если на Солярии существует иной мир, то пусть на Луне перед читателем предстанет «иной свет», где все как бы «наоборот», «вверх ногами», как в зеркале с увеличительным стеклом телескопа Галилея. И пусть этот «телескоп воображения» позволит под видом «Иного Света» посмеяться над злосчастным земным миром! Выбрав литературное оружие, Сирано вступил в поединок со Злом. Он начал с путешествия в Новую Францию, однако из предосторожности избегая упоминаний об аутодафе в горах и поднявшейся из костра башне, что уже было признано ересью, Сирано решил посмешнее рассказать о невинных банках с росой, которую будто бы притягивает Солнце, как поверил тому в Квебеке губернатор Канады, вице-король и мальтийский рыцарь Монманьи. Мудрый читатель посмеется, глупец же, обладающий правом запрета, не додумается им воспользоваться. А вот из Новой Франции на Луну Сирано отправился точно так, как взлетел в межзвездном корабле вместе с Тристаном, с помощью многоступенчатых ракет, собранных в пакеты по шесть штук, воспламеняющихся последовательно ряд за рядом. И опять-таки ради маскировки он приписал установку ракет на предназначенном для полета сооружении безответственным солдатам. (Какой с них спрос!) Однако лишь читатель конца двадцатого века, когда человечество выйдет в космос, в состоянии оценить точность и реальность описанного способа путешествия в межпланетном пространстве. Не упустил Сирано момента, когда путешественник теряет свой вес из-за ослабления земного притяжения по мере удаления от Земли, предвосхитив закон, сформулированный столетием позднее великим Ньютоном! Сирано не слишком заботился о правдоподобии «прилунения», сразу ошеломив читателя тем, что на Луне он якобы попал в «земной рай», где до изгнания жили Адам и Ева. В чудесном месте и прилунение могло быть вполне чудесным! В «земном раю» на Луне Сирано сталкивается с библейскими персонажами, скрыто насмехаясь над тем, что они якобы взяты «живыми на небо». Озорная склонность юного Сирано, потешавшегося на выпускном экзамене над самим кардиналом Ришелье, проснулась в нем вновь, и он издевательски представляет колесницу Илии-пророка, катящуюся с громом по небу, в виде железной повозки, поднимаемой в небо подбрасываемым с нее вверх магнитом. Отлично понимая, что не может человек поднять сам себя за волосы, приписав Илие-пророку нечто подобное (как впоследствии расскажет барон Мюнхгаузен, якобы вытащивший себя за волосы вместе с конем из болота!), Сирано осмеивает церковные легенды, предоставляя попам непосильную задачу разобраться в предложенной им нелепице, чего не смог сделать даже сам кардинал Ришелье. Вскоре Сирано — герой рассказа — допускает богохульную шутку, за что изгоняется из рая и попадает в «иной свет», в государство разумных существ, напоминающих людей, но у которых все устроено не так, как на Земле. Ходят они не на двух, а на четырех конечностях, что, на их взгляд, более устойчиво и богоприятно, ибо опущенная вниз голова позволяет любоваться дарованными свыше благами, а не вымаливать их, вечно взирая на небо, как делают уродливо двуногие и несмышленые животные, вроде страусов. С едкой иронией сообщает Сирано, что у лунян знать и простолюдины говорят на разных языках: первые общаются музыкальными фразами, иной раз с помощью оглушительной трубы, а чернь вообще лишена голоса, объясняясь лишь жестами (как глухонемые!). Так выглядит в саркастическом зеркале де Бержерака земное неравенство, когда крестьяне и простой люд практически лишены голоса. Религиозную нетерпимость земной католической церкви Сирано-насмешник представил в лунных диспутах по поводу того, признать ли человека Земли разумным существом, если он в чем-то мыслит по-иному, чем здесь принято? И совсем «по-земному» тупые лунные жрецы, голословно отвергая всякую возможность жизни на Земле, служащей в их небе луной, в своих декретах строго требуют не признавать разумным любое разумное высказывание «маленького животного» (как там именуют Сирано), хотя оно и освоило, подобно попугаям, разумную речь. Важное место в «лунном памфлете» Сирано отводит своему учителю Тристану, Демонию Сократа, якобы встретившись с ним на Луне. Однако главное для автора — показать роль инопланетянина на Земле, где тот общался с разными людьми после Сократа, покинув Землю из-за глупости и грубости людей, впрочем, потом возвратившись туда. Чтобы объяснить читателю XVII века, как мог Демоний прожить две тысячи лет после сократовских времен, Сирано не пытается познакомить современников с тайнами парадокса времени, открытыми ему Тристаном, которые будут сочтены за бред, а предпочитает объяснить все вполне «достоверным» и привычным способом с помощью «переселения душ», когда Демоний выбирает для себя более молодое человеческое тело. Здесь не требуется убеждающих доказательств. Вполне достаточно одной лишь веры. Сирано приписывает своему Демонию те встречи с людьми, которые вместо него имели его соплеменники, просвещавшие людей (во время отсутствия Тристана, вернувшегося на Солярию). В числе этих «учеников» Сирано назвал и близких его сердцу Агриппу, Кампанеллу, а также членов тайного общества, которым посланец солнечного племени (с Солярии!) открыл многие тайны, сделав их магами. Недаром хрустальные самосветящиеся (без огня) баллоны, которые Сирано видел в подвале замка герцога д'Ашперона, луняне применяют как обычные источники света. (Надо думать, электрического!) Не удержался Сирано от сердечных строк в адрес своего Демония: «…Переезжая в Англию, чтобы изучить нравы ее обитателей, я встретил человека… он весь сердце, весь ум: сказать, что он обладает в полной мере этими качествами, из которых одного было бы достаточно, чтобы сделаться героем, это значит назвать Тристана л'Ермит». Сирано лишь ничтожно изменил имя своего Демония, выполнявшего на Земле «Миссию Ума и Сердца» Солярии. Выставляя на посмешище приверженность католической церкви приспособленному для нее теологами учению Аристотеля, Сирано живописует «лунный суд» с уничтожающей критикой «маленького животного», цепляющегося за непогрешимость земного философа, который «…очевидно, прилаживал свою философию к принципам вместо того, чтобы выводить принципы из философии. Во всяком случае он должен был бы доказать, что его принципы более разумны, чем принципы других сект». Убедившись, что «маленькому животному» запрещено спорить с критиками Аристотеля, луняне вынесли решение, что «маленькое животное» — не человек, а разновидность неразумного страуса. Так разделывается Сирано на Луне с одной из догм церкви, выступить против которой на Земле ему не дали бы. Позволяя обитателям «иного мира» высказывать их философские взгляды, резко расходящиеся с принятыми на Земле, Сирано рискованно, явно под влиянием бесед с Тристаном, повествует о таких вопросах, как вечность и безграничность Вселенной, ставя под сомнение единый акт творения как начало существования мира, который, будучи вечным, начала не имеет и не будет иметь конца. Вчерашний забияка с оскорбительной улыбкой и обнаженной шпагой в руке оказывался теперь отнюдь не меньшим задирой с гусиным пером за ухом и саркастической улыбкой на изможденном лице. Однако глубокие мысли непременно нужно было перемежать со смешными нелепостями, чтобы истинно мудрое не слишком выделялось, сходя за выдумки, также несерьезные и смехотворные. Поэтому Сирано с завидной изобретательностью стремился показать в лунном «ином мире» все «наоборот»: города он делает подвижными и передвигает их столь же глупым образом, как поднимался в небо с помощью магнита Илия-пророк. Лунные горожане, заводя пружины, заставляют спрятанные в стенах домов мехи дуть на паруса, приделанные к поставленному на колеса дому. Это все равно, что пытаться сдвинуть с места лодку, сидя в ней и дуя на ее парус, без взаимодействия с окружающей водой. Вкушение пищи Сирано заменяет на Луне вдыханием запахов. Лечение — предотвращением болезней, более того! — утверждает, что «воображение человека может способствовать его излечению» (на сотни лет предвосхищая психотерапию!). А вместо денежного обращения он допускает расплату «стихами»! Вместе с тем, может быть, из желания подчеркнуть реальность ракет, доставивших его на Луну, Сирано осмеивает иные способы, которыми якобы пользовались другие люди, достигшие, по преданиям или в воображении писателей, Луны. Так, библейский Енох, «взятый из-за своей святости живым на небо», вознесся на него с помощью металлических шаров, наполненных дымом жертвенного костра. Как известно, дым стремится вверх и потому смог унести Еноха. Этим Сирано шутя предвосхищает на столетия изобретение братьев Монгольфье, спустя сто пятьдесят лет после Бержерака открывших эру воздухоплавания (разумеется, в воздухе!). Но веселый забавник Сирано, используя привычные представления обывателей о том, что воздух распространяется до самого неба и Луна плавает в нем, рассказывает, что наполненные горячим дымом сосуды подняли Еноха до самой Луны и он, освободившись от них над райским садом, куда стремился, непременно разбился бы при падении, если бы ветер не раздувал при опускании его одежду. И опять шутник подсказал человечеству идею парашютирующего спуска, как перед тем в случае собственного полета — явление невесомости. Вспомнил он и всемирный потоп, и Ноев ковчег у него плавает над Землей у самой Луны, куда отважная дочь Ноя Ахов якобы высадилась с отцовского космического ковчега в шлюпке (в «космическом модуле», по современной терминологии!). Однако главным для Сирано в его работе было столкновение философских взглядов, которые он приписывал встреченным на Луне персонажам, включая испанца Гонсалеса из современной ему книги, англичанина Годвина. Особенно интересны представления о пустоте, отрицаемой современниками Сирано, придумавшими, что «природа не терпит пустоты!». Уместно вспомнить юношескую озорную оду Сирано де Бержерака «О пустоте», которую он прочитал при первом своем появлении в светском обществе. Теперь пустота стала для него не только символом, обличающим нравы общества, но и философским понятием, почерпнутым из его представлений о полете к Солярии через межзвездную пустоту.[121] Издевательски и в то же время глубоко гуманистически звучат страницы трактата Сирано де Бержерака, посвященные войне. Трудно представить себе более язвительный показ всей нелепицы национальной вражды на Земле, сатирически отраженной в лунных войнах, где якобы луняне следуют довольно забавному принципу: «спор допускается только между равными». Во имя этого силы каждой стороны уравниваются неким третейским судом. Здесь Сирано не удержался от того, чтобы ввести в свое повествование неназванную им инопланетянку (возлюбленную его Эльду!), которая готова была последовать за ним на Землю, а на родной своей планете с присущей ей глубиной ума разоблачала противоестественность земных войн, когда враждующие короли допускают, чтобы «пробивались головы четырем миллионам людей, которые стоят гораздо больше, чем они (короли!), в то время как сами сидят у себя в кабинетах, посмеиваются, рассуждая об обстоятельствах, при которых происходит избиение этих простаков; однако не следует мне (инопланетянке) порицать доблесть ваших добрых собратьев. Дело такое важное быть вассалом короля, который носит широкий воротник, или того, который носит брыжжи».[122] Поэтому в смехотворной войне «иного света» строго уравненные противники встречаются: раненые с искалеченными, великаны с колоссами, немощные со слабыми, ловкие с проворными, доблестные с отважными, нездоровые с больными, крепкие с сильными… «И если кому-нибудь вздумается ударить другого, а не указанного ему врага, он осуждается, как трус, если только не будет доказано, что это произошло по ошибке». Потом определяются потери и, если они равны, — бросается жребий и по вытянутой соломинке определяется победитель, но и это еще не решает исход «войны», предстоят еще диспуты: ученых с умными, знатоков со знающими, рассудительных с размышляющими. И эти победы ценятся втрое против военных. После окончательно определенной победы «народ-победитель» избирает своим королем или своего собственного короля или короля своих врагов. Выходит, и воевать было нечего! В изобилующую подводными течениями, намеками, двусмысленностями ткань трактата Сирано рассыпал те удивительные вещи, которые спустя три с половиной столетия поставят в тупик изучающих его творчество. Но он-то знал, что все, о чем он пишет, наряду с шутками, на самом деле уже существует на Солярии и когда-нибудь появится на Земле поумневших людей, овладевших и зеркалами-экранами, и звукохранящими устройствами (которые можно подвешивать к уху, как сережку, «напоминающую, — как он писал, — разрезанную пополам жемчужину, с передвигающейся стрелкой настройки»), и светящиеся (электрические!) колбы, и многое другое, воспринимаемое нами (людьми будущего для Сирано) в двадцатом столетии как удивительные предвидения. Сирано воспользовался гостеприимством герцога д'Ашперона, чтобы собрать у него в замке своих друзей и прочитать свое новое произведение. Он хотел, чтобы его послушали и философы, встречавшие в Мовьере Кампанеллу: Декарт, Пьер Ферма, Гассенди. Но Декарт жил в изгнании, появляясь в Париже лишь тайно, подвергая себя преследованиям не только церкви. К счастью, Гассенди и Пьер Ферма приехали. У герцога д'Ашперона встретились преследуемый иезуитами естествоиспытатель, философ — противник переделанного церковниками Аристотеля и прославленный юрист, поражающий мир своими математическими исследованиями. Приехал и скромный мовьерский лавочник, преданный друг и соратник Сирано Кола Лебре. Парижане: граф Шапелль де Луилье, писатель Ноде и кое-кто из былых товарищей Сирано явились все скопом прямо из какой-то таверны. Появился и нарядный Мольер, отличаясь своей царственной походкой и печальными глазами. Оживленно беседуя, все ждали, чем поразит их на этот раз неугомонный Сирано. Ему было важно услышать не только дружеские похвалы, поэтому он не возражал против того, что в таверне за графом, Шапеллем де Луильи увязался оказавшийся там случайно маркиз де Шампань (на этот раз, конечно, без графини де Ла Морлиер!). Чтение состоялось в темноватом рыцарском зале замка, где через узкие окна светлыми перегородками проникали скупые лучи дневного светила. К одной из этих светящихся полос и придвинули стол чтеца. Слушатели расположились на принесенных слугами лавках, и только подтянутый Мольер остался стоять у стены, словно наблюдая за сценическим действием из-за кулис. Герцог, Гассенди и Пьер Ферма уселись в креслах напротив стола, за которым сидел волнующийся автор. Но едва он начал читать и первый взрыв хохота потряс холодный зал, он сразу успокоился, читая с большим, как определил Мольер, искусством скрытой, но яркой, разящей насмешки. Больше всех хохотал Ноде, едва услышав знакомую ему историю с полетом в Новую Францию с помощью банок с росой, а потом — рассуждения губернатора Квебека, мальтийского рыцаря Монманьи о том, как грешные души, карабкаясь по внутренней полости Земного шара, чтобы избежать адского пламени, заставляют тем якобы, подобно беличьему колесу, вращаться Землю. Его круглое добродушное лицо тряслось, обрамленное и тройным подбородком, и прекрасными брюссельскими кружевами. Смеялись все при чтении многих мест рукописи. Восторг Пьера Ферма вызвал полет Илии-пророка с помощью подбрасываемого им же самим магнита. — Клянусь, мой дорогой Бержерак! — воскликнул маститый математик и юрист из Тулузы. — Вы, право же, неплохой физик, воспользовавшийся «доказательством от противного», применяемого до сих пор лишь в математике! — Я хотел бы, метр, познакомить вас со своим трактатом по физике, — отозвался Сирано, несколько удивив слушателей. — Вот как! — воскликнул маркиз де Шампань, по-крысиному поводя носом. — Хотелось бы узнать мнение уважаемого метра если не о всем упомянутом трактате, то хотя бы об этом новом для физики методе. И что доказывает им наш остроумный автор? — Доказывает, что не все библейские сказания опираются на опыт естествознания, господин маркиз, — ответил Пьер Ферма. — Ответ, достойный Рене Декарта, не снискавшего благоволения церкви, — заметил маркиз. — Да, пожалуй. Впрочем, с Рене мы немало спорили, но уважаем друг друга, — ответил Ферма. — Но будут ли уважать нашего автора критики его взглядов, споря с ним? И что разумеет он под «иным светом» на Луне? — допытывался маркиз. — Спорить, может быть, и будут, если смех не заглушит неприятие каких-либо мыслей, — с подчеркнутым спокойствием вставил профессор Гассенди, обменявшись взглядами с былым своим учеником Мольером. — Однако вернемся все же к нашему де Бержераку, — предложил герцог д'Ашперон. — Надо думать, шутник еще посмешит нас, — и он улыбнулся автору. Сирано стал читать дальше. Смех вспыхивал снова и снова, однако смеялись теперь не все. Кое-кто задумывался и горько улыбался. После осуждения лунянкой земных войн маркиз де Шампань заметил: — Боюсь, дорогой Сирано де Бержерак, быть может, вы и не угодили в чем-то маршалам Франции или коронованным особам Европы, но… обещаю вам сочувствие наших дам, которые оценят остроумие вашей лунной избранницы. При этих словах Сирано почему-то густо покраснел. Но ведь не мог же кто-либо из присутствующих заподозрить, что у него действительно была инопланетная избранница! В том месте, где Сирано говорил о клеточном строении человеческого организма, о «ничтожно малых и злобных животных», которые несут людям болезни, и о столь же крохотных друзьях человека, стерегущих врагов у него в крови, герцог д'Ашперон, чтобы дать отдохнуть чтецу, прервал его: — Ваши предположения о строении человеческого тела, несомненно, будут признаны нашими лекарями дерзкими и ни на чем не основанными. Если бы вы доказали, что чума передается невидимыми нам врагами, а не зловредными испарениями, вы стали бы спасителем человечества. Мог ли знать Вершитель Добра тайного общества доброносцев, что в его родной стране спустя двести лет великий ученый Пастер откроет мир микробов, борьба с которыми положит конец многим эпидемиям. — Вы еще упомянули в рукописи о лечении воображением, как бы вас не обвинили в почитании колдовства, — сказал маркиз. Сирано презрительно пожал плечами и возобновил чтение. Но вскоре сам же маркиз де Шампань прервал его рукоплесканиями: — Браво! Браво! Именно непристойности, как острой приправы к чудесному блюду, и не хватало в вашем трактате. Теперь им будут зачитываться! — И маркиз даже вскочил от восторга. — Каково! Господа, каково! Награжденные люди на его «ином свете» носят не шпагу на поясе, а изображение… детородного органа! — И он прыснул со смеха. — Позвольте мне, как юристу, возразить, — вмешался Пьер Ферма. — Прежде чем обвинить автора в непристойности, обратим внимание на возмущение, которое вырвалось у героя-рассказчика по поводу этого лунного обыкновения. Прочтите нам еще раз это место. — «Этот обычай представляется мне весьма странным, — возразил я, — ибо в нашем мире признаком благородства является ношение шпаги». Но хозяин, нисколько не смутившись, ответил: «О, мой маленький человечек! Как! Знатные люди вашей страны там стремятся выставить напоказ орудие, которое служит признаком палача… Несчастная страна, где позорно то, что напоминает о рождении, и почетно то, что говорит об уничтожении». — Браво! — снова прервал маркиз де Шампань. — Наш метр Ферма добился бы вашего оправдания в суде, в особенности если когда-нибудь судейские мантии наденут дамы! Сирано попросили читать дальше. Он закончил богопротивным высказыванием лунного безбожника, которого явившийся дьявол повлек с собой (вместе с автором-рассказчиком, слушавшим богопротивные речи) прямо в ад, находящийся, как известно, в центре Земли. И незадачливый герой рассказа на этот раз с помощью нечистой силы нежданно вернулся на родную планету. Сирано захлопнул папку из свиной кожи, содержавшую рукопись. Все глубоко задумались, и уже никто не смеялся. Пьер Ферма первый высказал общую мысль о церковной цензуре, которая вряд ли пропустит столько крамольных мест. — Разве мало был наказан безбожник «иного мира» за свои кощунственные речи, схваченный и увлеченный в ад самим дьяволом? — спросил Сирано. — В парламенте, если бы я защищал вас перед ним, мне удалось бы доказать вашу невиновность. Но вот как отцы иезуиты? — ответил Ферма. Слушатели молча качали головами. Мольер подошел к Сирано и с улыбкой произнес: — Спасибо тебе, друг, за сцену пышных похорон в наказание нечестивцу. А я-то беспокоился, найдется ли мне место у попов на кладбище. Теперь мне полегчало. Сирано печально улыбнулся. — Все можно смягчить, все спасти, — сказал подошедший к Сирано Кола Лебре.[123] — Когда ты читал о семьях на Луне, где власть переходит от выживших из ума стариков к молодым, энергичным сыновьям, которые наказывают нерадивых отцов, избивая их изображения, я вспомнил Мовьер и порку, которую устроил тебе твой отец. Я вижу, ты ему этого не простил. — Я не умею прощать, — отозвался Сирано. — В особенности когда речь идет не только обо мне, а о мрачных наших обычаях, которые надо искоренять. Гости герцога д'Ашперона разъехались. Шапелль де Луилье, Лебре и Сирано отправились в трактир Латинского квартала, Гассенди и Пьер Ферма, договорясь с Сирано о важной для них обоих встрече, в предоставленной д'Ашпероном карете отправились на постоялый двор, где остановился Ферма. Маркиз же де Шампань приказал кучеру своей кареты ехать прямо в монастырь св. Иеронима, где его уже ждали отцы Максимилианы.На Луне, на ином свете,Себя увидим в ином свете.Сирано де Бержерак
Глава четвертая СТРАНА МУДРЕЦОВ
Истинной мудрости не уместиться на Земле, она даже в пламени костра поднимает ум к звездам!В условленный с Пьером Ферма день, еще в замке герцога д'Ашперона передав метру для ознакомления свою рукопись трактата по физике, Сирано с некоторым волнением отыскивал на улице Медников постоялый двор «Не откажись от угощения!». «Какое забавное название! И чем-то знакомое!» Ба! Да это ведь тот самый трактир, где они с Ноде, прибыв в Париж в «день баррикад», оставили купленных еще в Гавре лошадей. Еще тогда ему подумалось, что где-то он уже видел подобную вывеску. Подумал об этом и забыл. А теперь… Ну конечно! Бешеная скачка с Тристаном из Парижа на восток. Одинокий постоялый двор у дороги. Призывная надпись: «Остановись и угостись!» То и другое было так необходимо! Отдых — полузагнанным коням, угощенье — путникам!» Его поднесла им «Фея постоялого двора» в ярком крестьянском платье с корсажем, с лицом мадонны и фигурой нимфы. Потом, ночью, она явилась просвечивающим призраком, но не соблазнить, а спасти гостей от ворвавшихся в трактир гвардейцев кардинала. Прощальный, чуть затянувшийся поцелуй… и перемахнувшие через ограду свежие кони!.. Безумец! Как он мог забыть? И в памяти ожили строчки им же самим написанного сонета во время путешествия с Тристаном.Демоний Сократа — Сирано де Бержераку
МЕТЕОР
«НЕ ОТКАЖИСЬ ОТ УГОЩЕНЬЯ!»Так могла придумать только женщина! И когда Сирано вошел в трактир, чтобы спросить комнату остановившегося здесь метра Ферма, он даже не удивился, увидев за стойкой расцветшую с годами, но по-прежнему прекрасную «Фею постоялого двора». Не удивился, но встревожился… — Ах, какая жалость! — всплеснула она руками, выслушав Сирано. — Метр Ферма только что вышел проводить своего почтенного гостя, аббата Гассенди. — Ах вот как! — сокрушенно отозвался Сирано, почему-то краснея. — Не откажитесь от угощения, почтенный господин! Я предложу вам кружку славного вина. Оно просветляет голову и освещает память. Ради этого, пожалуй, я и сама выпью с вами за столиком, если позволите. — Ну конечно! — охотно согласился Сирано, оправдывая себя тем, что ему все равно предстояло дожидаться. Прелестная хозяйка, приобретя ныне горделивую осанку и плавность движений, принесла кувшин вина, подсела к столику напротив Сирано и наполнила две кружки, все время пристально вглядываясь в его лицо. Извинившись, она на минуту исчезла, вернувшись с черной лентой в руках. — Дозвольте мне приложить эту ленту к вашему высокому лбу, — вкрадчиво попросила она и, не дождавшись ответа, грациозным движением приставила ленту к его переносице чуть выше бровей. — Как я счастлива, дорогой мой господин! — воскликнула она, откидываясь назад и как бы любуясь гостем. — Наконец-то я вполне узнала вас! Святая дева, благодарю тебя! Если бы вы только догадались, как я переживала тогда за вас. Да и потом тревожилась, ничего о вас не зная. Я и мысли не допускала о вашей гибели. Все молилась, молилась! И вот дождалась-таки! — Я, право, не знаю, сударыня, что вы имеете в виду… — пролепетал Сирано. — Ба! — лихо подбоченилась хозяйка трактира. — Вы не знаете, что я имею в виду! Да хотя бы коней, которых я вам подменила, чтобы они унесли вас с приятелем подальше от гвардейской погони! — Я все помню, сударыня, — опустив глаза, произнес Сирано. — Не считайте меня неблагодарным, мне просто не хотелось быть узнанным. — Но почему, почему?! — обиженно прошептала хозяйка. — Разве я так уж состарилась? — Вы прежняя мадонна для меня! — Ах оставьте, — не без кокетства ответила привыкшая к ухаживаниям трактирщица. — Оказывается, он не изменился! Все такой же женский угодник! — И снова понизив голос, спросила с заботой и укором: — Где вы были так долго? — Очень далеко. За океаном, если не дальше. Но после возвращения я побывал в вашем заведении… — Святая мадонна! Быть не может! Вы раните меня вот в эту грудь! — Я не видел вас здесь, но мне показалось, что я видел кое-кого на баррикаде. — Вот как? Вы тоже сражались вместе с народом? — Я был среди парижан, оставив вместе с другом своих лошадей вашему хозяину. — Он скончался, да примет господь его душу. — Когда мы с другом забирали лошадей, вас тоже не было здесь. — Ах, как рассказать вам, любезный гость мой! Он держал меня взаперти в чулане с самого «дня баррикад». Он хотел быть в стороне. Когда надо — с Фрондой, когда надо — с кардиналом. А я… я убегала через окошко в кладовке, чтобы петь с народом песни, верила, что народ скажет свое слово. Вы читали «Мазаринаду»? — Не только читал. — Как вас понять? — Писал. — Тсс! — испуганно приложила палец к губам трактирщица. — Я готова дать вам снова свежих коней. — Милая мадонна! Мне ничто не грозит. — Меня зовут Франсуаза. — Прекрасное имя! Дочь Франции! Поверьте, великие ее художники станут изображать вас как символ родины, как образ Свободы! — Я знаю уже, вы можете увлечь любую беднуюженщину своими словами. — Но я хотел бы совершенно обратного! — Неужели вы как все мужчины! Говорят одно, а добиваются совсем другого! — Я постараюсь объяснить, даже показать, — и Сирано коснулся спускавшихся на плечи локонов. К счастью для него, его беседа с Франсуазой прервалась возвращением Пьера Ферма. Благодушный, начавший полнеть, он вошел, отдуваясь от быстрой ходьбы. Привычно проведя рукой по своим тоже спадавшим на плечи волосам и кивнув Франсуазе, он с улыбкой подошел к Сирано. — Рад приветствовать вас, дорогой друг. Простите, что заставил вас ждать. — А как я рад приветствовать вас, метр Ферма, своего поручителя в известном вам деле! — Судя по тому, что я слышал в замке герцога д'Ашперона, вы оправдываете мои ожидания и, надеюсь, не сожалеете о принятых на себя обязательствах. И опять Сирано густо покраснел. — Я сожалею лишь о том, что не застал вашего гостя, которому хотел бы выразить свое почтение. — Профессора Гассенди? — Моего учителя, метр. — Я передам ему ваши слова не позже чем завтра, а сейчас предлагаю подняться ко мне. Вы не против, если госпожа Франсуаза принесет нам вина? — С вашего позволения, метр, я откажусь. Госпожа Франсуаза уже угостила меня. А мне хочется сохранить для нашей беседы голову ясной. С этими словами Сирано, покосившись на стойку, за которой стояла хозяйка, снял с головы парик, обнажив облысевший череп с лоснящейся кожей. Пораженный Ферма поднял брови, но промолчал. Сирано показалось, что кто-то вскрикнул у него за спиной, но он, поднимаясь вслед за Ферма по лестнице, не позволил себе обернуться, чтобы узнать, достиг ли он желаемого результата, сумел ли разочаровать в себе Франсуазу и самому уберечься от искушения. Встреча с Ферма казалась ему спасением. В маленькой комнатушке, называемой здесь апартаментами для почетных гостей, с постелью под балдахином (гордостью перебравшегося в столицу трактирщика!) и даже с тазом и кувшином для умывания в углу Пьер Ферма усадил гостя на табурет, сам устроившись на краю громоздкой кровати с резными голубками на спинке. — Вы удивили меня не столько своим памфлетом о Луне, сколько трактатом по физике. Я сам попутно со службой занимаюсь науками по душевной склонности, преимущественно математикой, но, однако, не чужд и естествознания, требующего опытов. Но какие опыты могли вы поставить, затрагивая глубочайшие вопросы о существе Вселенной, веществе, пустоте? Сирано понурил голову. Мог ли он рассказать своему поручителю по тайному обществу доброносцев о встрече там с Тристаном, общение с которым заменило ему все мыслимые опыты по естествознанию, мог ли говорить о «посещении» иной планеты Солярии или грезах о ней? Ферма сам пришел, ему на помощь, не требуя ответов на свои вопросы, а предложив Сирано послушать некоторые места из его собственной рукописи, чтобы обсудить высказанные там идеи. — Я буду читать, а вы послушайте меня со стороны и постарайтесь при этом воспринять услышанное с точки зрения своих читателей, воспитанных на общепринятых догмах. Сирано кивнул. Ферма стал читать: — «Мне остается доказать, что в бесконечном мире заключаются бесконечные миры». Опасное, я бы сказал, утверждение, — заметил Ферма, отрываясь от рукописи, и продолжал: — «Представьте себе Вселенную в виде огромного животного; представьте, что звезды являются мирами, пребывающими в этом огромном животном тоже как огромные животные, служащие, в свою очередь, мирами для различных народов, вроде нас… а мы также представляем собой миры по отношению к мелким животным, которые неизмеримо меньше нас». Ферма прервал чтение, подняв на Сирано внимательные глаза. — Как к подобной «ереси» отнесутся отцы церкви и в особенности братья иезуиты? — Со «святым орденом Иисуса» у меня, признаться, метр, несколько испорченные «денежные отношения». Но отцы церкви не смогут отрицать существования, скажем, блох, от укусов которых сами страдают и чешутся. И не так уж давно даже при королевском дворе не считалось нарушением этикета равно как обмахиваться веером при духоте, так и почесывать изящной палочкой с бантиком укушенные несносными насекомыми места. А ведь каждое из этих несносных тварей, как бы ни было оно мало по сравнению с телом, на котором гнездится, — это все-таки целый мир! Не так ли, метр? Ферма расхохотался. — И у блох могут быть свои блохи, еще меньшие, а у тех еще меньшие! — Я знаком, метр, с вашим математическим «методом спуска»,[124] где вы мыслью своей от малых величин переноситесь к еще меньшим. И так до бесконечности. Я использую ваш математический метод в общефилософском смысле, допуская существование вокруг и внутри нас целого мира мельчайших и враждебных нам тварей, наносящих нам вред.[125] — Браво, молодой человек! Я недаром поручался за вас. Вы превосходите дерзостью Джордано Бруно, который ограничивался лишь крамольным утверждением о населенности людьми иных миров. Вы же «математически» опускаетесь до непостижимо глубоких уровней природы. — Я только считал, что без математики нельзя познать мир, — скромно заметил Сирано. — Прекрасно! Итак, математика в ваших устах становится сестрой философии. Так вернемся к вашему «философскому спуску». Вы пишете: «…между ничто и хотя бы атомом такое бесконечное множество градаций, что и самому острому уму не проникнуть в них. Чтобы выйти из необъяснимого лабиринта, надо допустить наличие наравне с богом вечной материи (а тогда нет надобности в понятии бога, поскольку мир мог возникнуть без него)… как же мог хаос сам собой организоваться?» Друг мой, вы задаете здесь отцам церкви поистине коварный вопрос! А они, надо вам сказать, не любят, когда их ставят в безвыходное положение, и начинают искать выход «с факелами в руках». — Я вас понял, метр. Но страшиться их — это перестать мыслить. — В этом вас не упрекнешь, молодой философ! Вы пишете дальше: «Нужно представить себе, что бесконечная Вселенная состоит из бесконечных атомов — весьма простых и в то же время нетленных… все действует по-разному, соответственно своим очертаниям…» Я полагаю, свойствам? — Да, свойств, определяемых «очертаниями» или «строением» изначальных элементов, которые, в свою очередь, состоят… и так далее, соответственно вашему «методу спуска».[126] — Следовательно, как принято говорить в математике, — резюмировал Пьер Ферма, — человека, по-вашему, нельзя считать центром мироздания? — Позвольте процитировать самого себя из трактата «Иной свет»: «Неужели только потому, что солнце отмеривает наши дни и годы, можно утверждать, что оно создано для того, чтобы мы не натыкались лбами на стенку?» — И этот вопрос, дорогой мой философ, кое-кто сочтет за «еретический». — Так что же нееретично, метр? — Если не считать Библии в церковном толковании, то, пожалуй, что одна математика, да и то до тех пор, пока мой друг Рене Декарт не взялся доказывать математически существование бога. А в это надлежит верить бездоказательно! Сирано сокрушенно вздохнул. Ферма вопросительно посмотрел на него. — Я вспоминаю крушение своей трагедии «Смерть Агриппы», где я ополчился на бездумные верования, — объяснил Сирано. — Конечно, восстала церковь! Рене Декарт тоже поплатился, попав в немилость к его святейшеству. Впрочем, не вы ли защищали со шпагой в руке творения Декарта от костра изуверов? — Я уже больше не беру шпаги в руки, заменив ее пером. — Но перо у вас не менее разящее и куда более опасное, чем былая шпага, судя по уже написанным памфлетам и трактатам. — Я уже задумал новый трактат. — Не будет ли он столь же еретичным? — Разве так уж против истинной веры показать рядом два общества: одно, похожее на наше, земное, где царит несправедливость, и в противовес ему — страну мудрецов, руководимых только благом людей? — Тогда учтите, что «несправедливость — обратная сторона выгоды». — Спасибо, метр, за прекрасную мысль! — Я, как юрист, хотел бы уберечь вас от гонений и запретов, что следует ожидать со стороны церкви и сильных мира сего, оберегающих свою выгоду. — О метр! Я потерял лучшего друга и советника, с которым вы свели меня в тайном обществе доброносцев, теперь я чувствую замену в вашем лице! — Я всего лишь даю вам «юридические советы», как избежать осложнений. Живописуя царство несправедливости, представьте его хотя бы «царством птиц», что ли, дабы люди формально не могли быть на вас в претензии. — Царство птиц? Как в басне! Прекрасная мысль! Благодарю вас, метр! Вы наставляете меня, как ритор! Я постараюсь нарисовать такого «царя-орла», который воплотил бы в себе все ужасы земной тирании и деспотии! — Оставшись при этом неуязвимым, — с хитрецой вставил Пьер Ферма. — И как контраст с этим злобным «царством птиц», — увлеченно продолжал Сирано, — я нарисую страну мудрецов, руководимых не выгодой, а общим благом людей. И в их числе я вижу незабвенного Томмазо Кампанеллу. — Страна мудрецов? Где вы нашли ее? — На Солнце, дорогой метр. — Не слишком ли там жарко? — Зато нет темноты. Это символ, конечно!.. Недаром несравненный Томмазо Кампанелла назвал свой Город «Городом Солнца». У меня же не только страна, а планета, названная «Солнцем», «Солярией»! — Может быть, среди ваших мудрецов найдется место и для математиков! Их чистую науку нельзя не уважать. — Разумеется, метр! Тристан, готовя меня стать философом, в первую очередь приобщил своего ученика к математике. И даже был доволен им. — Прекрасно! Вы открываетесь мне еще с одной стороны. Не дать ли вам, как другим нашим математикам, одну коварную математическую задачу: доказать простенькую с виду теорему. При вашем согласии, разумеется. — Охотно попытаюсь это сделать, если мои способности окажутся достаточными. — Обычно я задаю свои математические этюды, зная их решение, как это делают шахматисты в своих красивых шахматных этюдах. Однако сейчас я еще не знаю, как доказать очевидное: Нельзя разложить в целых числах ни куб, ни квадрато-квадрат и вообще никакую степень больше двух на два числа в той же степени.[127] Мне удалось доказать это лишь для квадрато-квадратов. — Значит, это не так-то просто, метр. Не сломать бы мне зубы об этот орешек. — Чтобы узнать, что внутри ореха, надо его раскусить. Если вы решаетесь на это, то условимся о встрече здесь через неделю. И очень хотел бы тогда же узнать побольше и о вашей стране мудрецов. Сирано был рад увидеться с Ферма еще раз. При этом он сам себе не сознавался, что возможная встреча с Франсуазой так же влекла его сюда. Однако сейчас, провожаемый по лестнице Пьером Ферма, он задержался на ступеньках, видя, что Франсуаза собирается отлучиться из-за стойки. Он выждал несколько мгновений и проскользнул к выходу, надевая на ходу шляпу на свой злосчастный парик. Проводив гостя, Ферма заказал вернувшейся хозяйке жареного цыпленка на обед. Когда же она, чем-то расстроенная, принесла ему тушеной баранины, он лишь поднял брови и ничего не сказал. Он по роду своей основной деятельности умел разбираться в человеческих душах, подумав с улыбкой, что решение математической задачи на этот раз, быть может, послужит человеческим чувствам. И не ошибся.
Глава пятая ТАЙНА СТЕПЕНЕЙ
Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать.Как известно, после окончания Тридцатилетней войны в Европе по опустошенным странам бродили разбойничьи шайки под видом нищих, бродяг, отслуживших солдат-наемников и странствующих актеров, в том числе и компрачикосов, похищающих или покупающих детей, чтобы, уродуя их, приспособить малышей для привлекающих толпу зрелищ, перепродавая потом уродцев как шутов или «акробатов без костей». Одной из жертв этих негодяев оказался маленький Жан, худенький, робкий, забитый и изголодавшийся французик из Эльзаса. Его за небольшую мзду продали кочующим «артистам» отчаявшиеся родители, чтобы прокормить остальных шестерых детей. Изуверы подготовили Жана для удивительного представления в расчете вызвать восторг зрителей. Им объявят о сверхъестественной остроте слуха мальчика, который услышит, несмотря на поднятый зрителями шум, сказанные кем-нибудь из задних рядов шепотом слова, которые услышать невозможно! Непритязательная толпа шумела, кричала, аплодировала, стучала ногами и скамейками, орала, оглядываясь назад на вставшего в задних рядах и что-то шепчущего шутника. И ликовала, когда мальчонка с птичьим личиком, остреньким носиком и глазами-бусинками, стоя на подмостках, слово в слово повторял сказанное, порой даже по-чужеземному. Озорники потешались, ругаясь на языке сарацинов или турок, а то и произнося непристойности по-французски, мальчик, не понимая даже смысла мерзостей, безошибочно их повторял. Мужчины и женщины валились с лавок, катались по полу в исступленном хохоте. Балаганщики были довольны: толпы ломились к ним и мелкие монеты текли звонкими ручьями. Как-то на диковинное ярмарочное представление забрел любопытствующий монах-иезуит из монастыря св. Иеронима, отец Максимилиан. Единственный среди простодушных зрителей, он понял, что мальчик вовсе не обладал феноменальным слухом, а попросту совершенно глух. Прикинувшись разгневанным, хитрый иезуит явился в балаган и срывающимся фальцетом пригрозил обманщикам разоблачением, ибо мальчик, судя по его произношению, со дня рождения слышал, научившись правильно говорить, а слуха был лишен злодейски своими хозяевами, которые хотели заставить его, ставшего глухим, научиться безошибочно различать звуки по движениям губ. Предводитель шайки струсил при одном упоминании всесильного Ордена Иисуса и поспешно согласился уступить за сходную цену мальчика монастырю. (Разумеется, при клятвенном обещании монаха молчать о раскрытой им тайне.) Так щуплый глухой Жан стал сначала служкой, а потом послушником в монастыре св. Иеронима. Отец же Максимилиан-старший (к тому времени появился и Максимилиан-младший) возвысился до казначея и у самого генерала Ордена был на хорошем счету. Шло время. Монахи усердно готовили мальчика к предназначенной ему роли, заботясь прежде всего о воспитании в нем фанатически преданного иезуитам католика. Отец Максимилиан, обладая добродушным лицом и елейным голосом, с завидной артистичностью разыгрывал отеческое отношение к приемышу, окружая его заботой и даже лаской. Неудивительно, что вскоре он стал для него воплощением доброты и святости. Истово верующий юноша готов был на все ради своего спасителя, избавившего его от побоев и унижений в преступной шайке. Наконец наступила пора применить необыкновенные способности заполученного иезуитами послушника. Уверенный, что он служит святому делу, глухой послушник старательно караулил у дома матери Сирано де Бержерака. И когда тот появился там, Жан, узнав по описаниям характерный нос, тотчас сообщил о появлении вольнодумца отцам иезуитам. Дальнейшее поручение следить за каждым шагом безбожника, оскорбившего святой орден и названого отца Жана Максимилиана-старшего, узнавать каждое произнесенное Сирано слово Жан воспринял как выполнение священного долга. Взамен потерянного слуха у него выработалось некое «шестое чувство», позволявшее ему безошибочно ориентироваться на улицах. Это позволяло ему незаметно всюду следовать на почтительном расстоянии за Сирано. Однажды, сопровождая так его, он оказался под лесами строящегося дома рядом с трактиром «Не откажись от угощения!». Прочесть эту вывеску Жан не умел, но то, что Сирано завернул в трактир, заметил и тотчас же проник туда следом, устроившись за дальним столиком так, чтобы видеть губы Сирано и беседующей с ним трактирщицы. Произнесенное имя Гассенди напомнило Жану, что отец Максимилиан говорил о нем как об изгнанном из Экса иезуитами профессоре, пытавшемся в своих лекциях по философии разлагать студентов идеями язычника Эпикура. Жан сразу насторожился, а когда узнал, что речь идет о бегстве Сирано от гвардейцев его высокопреосвященства, он восхитился прозорливостью отца Максимилиана, угадавшего в Сирано опасного преступника. Мог ли знать несчастный глухой истинную сущность происшедшего в Париже, а потом в Альпах несколько лет назад! Появление судейского из Тулузы, метра Ферма, заронило у Жана подозрение, что перед ним заговорщики, замышляющие недоброе против церкви и короля. К великому его сожалению, они вскоре же укрылись в комнате приезжего наверху, и Жан не мог видеть их губ. Но и того, что Жан успел узнать, было немало. Из беседы Сирано с Франсуазой он понял безнравственность хозяйки, убегавшей через окошко от законного мужа, чтобы бунтовать с чернью на баррикадах, не говоря уже о ее посетителе, бежавшем с ее помощью от преследователей, посланных кардиналом. Когда «заговорщики» расставались, они произносили скорее всего тайные слова, упоминая какие-то степени. Отец Максимилиан, выслушав донесения Жана, заметил, что под степенями, несомненно, разумелись титулы владетельных особ, против которых замышлялось злодеяние. Отец Максимилиан похвалил послушника за усердие и пообещал, что в случае дальнейших успехов он свезет Жана к знаменитому лекарю в Лионе, который сможет вернуть ему слух. Радости Жана не было границ. Впрочем, его усердие умножать не требовалось. Через неделю, даже ранее условленного часа, он уже был в трактире Франсуазы и видел, как обрадовалась она заблаговременному, кстати сказать, приходу Сирано де Бержерака. Она усадила гостя за столик, хорошо видимый Жану, и сказала с укором, который можно было угадать по тому, как складывались ее губы: — Отчего вы так быстро исчезли в прошлый раз? Или я вам чем-то не угодила? А ведь в былое время, даже очень спеша, вы все же очень хорошо попрощались со мной! Или забыли? Сирано покраснел, чего Жан объяснить не мог. — Моя Мадонна! Могу признаться вам, что насколько я торопился в прошлый раз покинуть незамеченным ваш дом, настолько теперь я стремился в него, чтобы увидеться с вами. — Как понять вас, господин? Вы всегда говорите такими загадками. — Вы правы, Франсуаза, в отношении загадок, ибо все время, пока я ждал желанной встречи с вами, я посвятил решению загадок. — Ну вот еще! — воскликнула Франсуаза. — Вам придется объяснить мне это попроще. Я ведь из крестьянской семьи, у нас в доме была всегда одна загадка: как прокормить ребятишек, а нас было одиннадцать. Вот меня и отдали трактирщику, который, спасибо хоть за то ему, перебил меня у бродячих артистов. Жан вздрогнул при этих словах, но решил, что враг человеческий хочет испытать его готовность служить монастырю и богу. К величайшей досаде Жана, Франсуаза наклонилась к Сирано и они стали шептаться так, что их губ не было видно. О чем они могли говорить? Жан поспешно пересел за другой столик и вновь стал понимать их загадочный разговор: — Как же вы могли подумать, чуткий господин, что число волос на голове определяет счастье человека? — Простите, милая Мадонна, я хотел уберечь вас от своего уродства, от себя во имя вашего же счастья. — А вы знаете, что такое счастье? — Хотел бы знать, моя Мадонна! — Так вы хотите знать, в чем счастье? Я отвечу вам, потому что никогда его не имела и лишь мечтала о нем. И узнала. — Мадонна! Вашими устами заговорит сама истина! — Это взаправду истинно, что я вам скажу. Я узнала это там, на баррикаде. Счастье — это Свобода, Равенство, Братство, — и совсем тихо для одного лишь Сирано добавила, но Жан все равно уловил, — и Любовь… — Так вот в чем Счастье! В Свободе, Равенстве и Братстве? — И в Любви, — теперь уже громко добавила Франсуаза. — Вы постепенно открываетесь мне во всей своей подлинной красоте, мадонна Франсуаза! Я боюсь стать слишком частым гостем у вас. — Почему гостем? Почему только гостем? — краснея и опуская глаза, промолвила Франсуаза и отвернулась, так что Жан перестал ее «слышать». И тут в трактир вошел к назначенному часу метр Ферма и сразу же опять, к досаде Жана, увел Сирано к себе наверх. Но если бы каким-либо чудом Жан смог перенестись в комнату Ферма, все сказанное там показалось бы ему иносказаниями, а написанное, если бы он даже знал грамоту, — тайнописью! — Так что вы уяснили, друг мой, за это время? — То, что все величины в вашей теореме должны отличаться от нуля. — Ну это само собой разумеется. Что же еще? — Пока, метр, мне, безусловно, ясно, что квадрат со сторонами в целых числах можно разделить на два квадрата тоже в целых числах, равно как и линию на два отрезка без остатка. В обоих случаях «плоскостных фигур», то есть умещающихся на плоскости. И в том я усматриваю характерное свойство плоскостных фигур. Этими свойствами уже не обладают ни куб, ни квадрато-квадрат, ни невообразимые фигуры более высоких степеней, представить которые недоступно человеческому уму. — Браво! Вы прекрасно выразили свойства «плоскостных мест»! Познали сокровенную красоту чистой математики! — Математика действительно прекрасна, метр. Именно поэтому она должна обладать и такой особенностью, присущей всему прекрасному, как симметрия! — Что вы имеете в виду? — насторожился Ферма. — Я убежден, что диофантово уравнение степеней должно иметь целочисленное решение не только для линий и квадратов, но и для степеней минус единица и минус два. — Убеждены? — с лукавством воскликнул Ферма. — Убежденности мало, математика требует доказательств. — И он пододвинул Сирано лист бумаги, обмакнул гусиное перо в чернильницу и протянул его Сирано. — Доказывайте! — Я воспользовался уроками моего ритора и кое-что вывел дома. Постараюсь сейчас вспомнить. И он стал писать на бумаге ряд формул.[128] — Так что же вы тут написали, мой друг? — спросил Ферма, беря в руки исписанный листок. — Мне кажется, — скромно заметил Сирано, — что ваша теорема не потеряет от некоторого уточнения. — Уточнения? Вы хотите уточнять точную науку? Э, мой молодой друг! Мне на радость и удивление, вам удалось решить мою задачу. Однако, — поднял он палец, — лишь наполовину! Угадали «подводную часть» моего загадочного корабля, а мачты с раздутыми парусами остаются в тумане. И вы не знаете метра Ферма! Этот хитрюга любит озадачивать людей своими математическими этюдами. Он, видите ли, близок к шахматам, играл и с Рене Декартом, и с кардиналом Ришелье, и особую склонность имеет к древним «мансубам», шахматным задачам, испытывает наслаждение, решив их. Так вот, он, этот метр Ферма, не хочет лишать наслаждения математиков, которые, самостоятельно найдя открытое и скрытое Пьером Ферма, получат истинную радость открывателей. Разве это так уж худо? — Напротив, метр! Это прекрасно! Но это означает, что вы знали об отрицательных степенях? — Разумеется, мой друг! Они присутствуют в скрытом виде в моем кратком, верном и лаконичном, как все в математике, утверждении о неразлагаемости в целых числах степеней больше квадрата. — Как же это может быть? Отрицательное скрыто в положительном? — Это не более сложно, чем только что сделанный вами вывод. Впрочем, продолжим нашу беседу на языке формул. — И он пододвинул к себе лист бумаги с писчими принадлежностями. — Я для вашего удобства тоже воспользуюсь обозначениями Декарта, а не привычными из алгебры Виета. — И на бумаге под его пером стали появляться аккуратно выписанные строчки формул.[129] — Достаточно, мой друг, привести дроби к общему знаменателю и отбросить его. — Как видите, — продолжал Ферма, — путем несложных преобразований мы снова приходим к исходному выражению с положительными степенями, хотя начали с отрицательных. Не правда ли? К тому самому выражению, когда целое число, возведенное в степень, может разложиться на два целых числа в той же степени, лишь когда степень эта не больше квадрата.[130] Нельзя представить себе ничего более очевидного, но как трудно это доказать. Не знаю, когда мне это удастся? Вот и вы пытаетесь в своем трактате доказать очевидную мудрость — жить не по праву силы, а по справедливости, противопоставляя «царство хищных птиц» стране мудрецов. — Поистине, метр, доподлинно очевидное все же невидимо для закрытых глаз. — Что ж, открыть на это людям глаза — одна из главных задач доброносцев, вынужденных пока что держать свои намерения в тайне. Однако не продолжить ли нам нашу беседу внизу, за трактирным столом? Госпожа Франсуаза обещала мне угостить нас с вами особым обедом, приготовленным с любовью. — С любовью? — насторожился Сирано. — Очевидно, она любит готовить вкусные блюда, — с лукавой улыбкой сказал Пьер Ферма и похлопал Сирано по плечу. Они спустились вниз, где их уже ждала взволнованная Франсуаза. Жан пристально наблюдал за вернувшимися «заговорщиками», стараясь хоть что-нибудь уловить из оброненных ими слов. Франсуаза сама прислуживала за столом, обменявшись с Сирано взглядом, она потом, подходя к столу гостей, не поднимала глаз. — Итак, дорогой мой друг! — начал Ферма, поднимая кружку вина. — Я предлагаю выпить за отрицательные степени! — За разложение степеней, метр! — Ваши кушанья, госпожа Франсуаза, заставляют забыть обо всем, даже о том, что особенно нужно помнить толстеющему человеку! — говорил Ферма, уплетая жаркое. Жан старался уловить тайный смысл даже в этих словах. А когда Сирано, поднимая следующую кружку за Франсуазу, которую сравнил с мадонной, говоря, что она, казалось бы, далекая от математики, открыла ему поразительную по своей точности и выразительности формулу, и повторил ее: «Счастье — это Свобода, Равенство, Братство… и Любовь», Жан понял, что заговорщический разговор с лозунгами черни, бушевавшей на баррикадах, продолжается. Отец Максимилиан, которому он потом постарался передать все это, заметил: — Отрицательные степени? Это, надо думать, отнятые мятежниками титулы и состояния у высокородных господ. А формула их счастья — это призыв к мятежу, поползновение на божественные устои власти и государства. Мы на верном пути, мой добрый Жан! Что же еще говорили смутьяны? — Они прощались, отец мой. Судейский возвращался в Тулузу. А Сирано де Бержерак обещал подготовить и прислать ему письмо с доказательством чего-то, что он надеялся доказать, и с трактатом о государствах солнца. — Это несомненный памфлет, и теперь уже не на кардинала Мазарини, а на самого короля Людовика XIV, которого уже называют Солнцем. Жан, издали следуя за Сирано, когда он покинул ставший ему таким родным трактир «Не откажись от угощенья!», отметил необычайную задумчивость «заговорщика», шедшего с опущенной головой. Из-под стропил строящегося рядом с трактиром дома Жан некоторое время наблюдал за Сирано, потом проводил его до самого дома, где Бержерак уединенно жил вместе с матерью и младшим братом. Что делал, о чем писал Сирано, тень которого виднелась на стене через окно, Жан не знал и узнать не мог. Не узнали об этом, к несчастью, и ученые всего человечества, напрасно мучившиеся над вопросами, занимавшими в те дни Сирано де Бержерака. Своими трактатами «Иной свет, или Государства и империи Луны» и «Государства Солнца» (считавшегося незаконченным) Сирано де Бержерак как бы подготовил почву для восприятия лозунгов Великой французской революции. Ни о чем этом Сирано, конечно, не думал, он искал математическое выражение того, что сказала ему Франсуаза, и живописал жизнь в стране, где все мыслили бы так, как Томмазо Кампанелла.Народная мудрость
Глава шестая НЕСКАЗАННОЕ СЛОВО
Мысль изреченная — есть ложь!Кардинал Мазарини, неутомимый и полный энергии красавец, встал с постели, как всегда, рано и после утомительной, но необходимой для его сана молитвы в присутствии прислуживающего ему капуцина направился в свой деловой кабинет для неустанных трудов во имя короля и блага Франции. Если блистательный «Пале-кардинал» (дворец Ришелье) как бы олицетворял собой яркий, безудержный нрав всесторонне образованного, дерзкого, отважного, коварного и жестокого герцога Жана Армана дю Плесси, кардинала Ришелье, то совершенно иным был дворец его преемника, сына сицилийского мастерового, былого камердинера, солдата, монаха, проникшего в свиту папского нунция. Замеченный Ришелье, став его секретарем и незаменимым помощником, он наследовал вместе с кардинальским титулом и эту власть патрона. Парадные комнаты его дворца, куда направлялся Мазарини, отличались намеренной простотой и аскетической строгостью, как и он сам, сочетающий щегольство с показной скромностью кардинальской одежды, алая подкладка которой впечатляла не меньше пурпурной мантии его ослепительного предшественника. Мазарини обычно избирал путь в свой кабинет через роскошные, но для всех закрытые холодные залы, проходя через которые он равнодушно скользил взглядом по золоченым корешкам редких книг своей знаменитой библиотеки, распроданной было Фрондой, но восстановленной теперь ее владельцем, который, умело скрывая свое невежество, никогда не раскрывал дорогих переплетов. С таким же равнодушием проходил он и мимо потускневших от времени бесценных картин великих художников в золоченых рамах, с пошлой безвкусицей как попало развешанных в галерее, ведшей в просторный зал, заваленный сложенными в штабеля персидскими коврами, между которыми оставлен был лишь узкий проход в небольшую комнату, где Мазарини обычно задерживался, с наслаждением любуясь золотыми украшениями, бельгийскими кружевами и драгоценными камнями, знатоком которых себя считал. Из этой «сокровищницы» он переходил в другую, где на столе стопками красовались сложенные бумаги — закладные записки должников, которых кардинал ссужал деньгами под ростовщические проценты. Пройдя этим путем и как бы ощутив свое многомиллионное могущество, Мазарини через низкую потайную дверь проник в свой рабочий кабинет, где его должен был навестить для очередных наставлений юный король Людовик XIV, послушно выполнявший волю матери как в изгнании, так и в обретенной вновь столице. Королю пришлось, морщась от тяжелого воздуха, пройти через тесную приемную, где, как и при Ришелье, толпились вельможи и солдаты, торговцы и монахи, а также магистратские, судейские и прочие чины, прибывшие за получением из рук кардинала дипломов на свои должности, приготовив для вручения мзду, положенную курьеру, обычно такие дипломы доставлявшему, чем Мазарини отнюдь не брезговал. Низко кланяющийся капуцин подобострастно ввел в кабинет юного короля, который привычно подошел под благословение своего первого министра и наставника. — Ваше величество, — звонко начал Мазарини, — вам надлежит подписать ряд указов, почтительно подготовленных мною в расчете привлечения в наш лагерь былых врагов, доблестно разгромленных Тюреном при взятии Парижа. — Что это? — с опаской спросил Людовик XIV и поморщился. — Опять тюрьмы, казни? — О нет, — покойно произнес Мазарини. — Всему свое время, ваше величество. Привлеченный на нашу сторону враг стоит десяти казненных, ибо не просто сойдет с нашего пути, а встанет на нем впереди нас, чтобы ради собственной выгоды истреблять былых своих соратников, верно служа отныне вашему престолу. — Чем же этого можно достигнуть, ваше преосвященство? — Милостью и всепрощением, ваше величество, прославлением вашего милосердия. И упомянутой мной выгодой, которую извлекут прежние наши противники, перейдя к нам. — Мои или ваши? — не без хитрецы спросил юноша. — Посвятив себя величию вашему, я не могу отделить врагов своих от врагов ваших, но хочу и тех и других сделать покорными слугами короны. — Поистине я не устаю учиться у вас, мой наставник! — По моему совету вы простили принца Конде, вы позволили бежавшему из тюрьмы кардиналу Рецу вернуться во Францию частным лицом. Пусть пишет мемуары. Принц же Конде станет блюстителем дворцового этикета, который вы жестоко введете для обожествления короля и укрепления трона.[131] Поэтому нижайше прошу ваше величество подписать несколько указов о помиловании и награждении. — О награждении? — удивился Людовик XIV. — За что? Кого? Опять того же прощенного только что принца Людовика II Конде? Вы не ошиблись, кардинал? — Так надо, ваше величество. Вы наградите его не столько за его заслуги, сколько для его стараний и нашей пользы. И тут Людовик XIV хмыкнул и произнес фразу, вошедшую впоследствии в историю, поскольку он повторял ее не раз: — Награждают не за что-нибудь, а для чего-нибудь. — Мудрейшие слова, ваше величество! Они прославят короля Франции в веках! Юноша усмехнулся, понял, что наставник доволен своим учеником. И, сев в предложенное первым министром кресло за его столом, стал послушно подписывать один за другим указы. Мазарини стоял за его спиной и забирал обретшие силу бумаги, передавая их капуцину. — Вот теперь о вас, ваше величество, будут говорить как о милостивейшем из всех государей, — с поклоном произнес Мазарини. — А о вас как о мудрейшем министре, которому мне никогда не найти замены, — ответил юный король, вставая. Мазарини проводил его только до дверей кабинета, и юный король вынужден был, снова морщась, идти, чуть ли не проталкиваясь следом за капуцином, раздвигающим впереди него толпу ожидающих приема. И лишь на внешней лестнице он очутился в окружении ожидавшей его свиты. Через несколько минут королевская карета со скачущими рядом блестящими всадниками загромыхала по булыжной мостовой. Мазарини стоял у окна, наблюдая за отъездом короля. Какие всходы дадут зерна, брошенные им в душу юного монарха? Резко отвернувшись от окна, он дал знак стоящему в выжидательной позе капуцину, и тот ввел в кабинет двух скромных монахов из монастыря св. Иеронима, чем-то похожих друг на друга. Кардинал уже знал, что это иезуиты, всегда стремясь поддерживать с этим опасно влиятельным Орденом взаимовыгодные отношения. — Ваше светлое высокопреосвященство! — сладким тенорком начал отец Максимилиан-старший. — Во имя господа нашего всемилостивейшего и его величества короля, опирающегося на мудрость праведных слуг своих, мы прибегаем к вашей незамедлительной помощи, как высшего стража короны, дабы пресечь греховные замыслы врагов государства и церкви, вероотступников и негодяев, известных Ордену. Кардинал принимал монахов стоя, прижав к груди украшенный бриллиантами крест. — Во имя Христа, спасителя нашего, готов выслушать вас, верные служители святой католической веры. — Отец Максимилиан поведает вашему светлому высокопреосвященству о делах столь же греховных, сколь и опасных, — мрачным басом присовокупил младший Максимилиан. — Я внимаю вам, как слову, господом внушенному. — Нам удалось установить, ваше светлейшее высокопреосвященство, — вступил снова Максимилиан-старший, — есть вероотступник, уже не раз уличенный и остановленный церковью в своих попытках порочить духовный сан служителей церкви или основы их веры, опирающейся на канонизированное учение древнего философа Аристотеля. К греховной насмешке вольнодумец тот стремился в своей бесстыдной комедии «Проученный педант» и в еретической трагедии «Смерть Агриппы», а также в злобных стишках против вашего светлого высокопреосвященства и даже ее величества королевы-матери, в грязных памфлетах, включенных в недостойную «Мазаринаду». Ныне же этот негодный Сирано де Бержерак совместно с приезжим судейским из Тулузы метром Пьером Ферма замышляет недоброе в кабачке «Не откажись от угощения!», как удалось выследить нашему верному послушнику, который, будучи лишен слуха, умеет понимать слова по движениям губ, о чем мы и спешим донести вашему светлому высокопреосвященству как опоре престола и церкви. — Полагаем необходимым схватить и казнить заговорщиков, — мрачно добавил младший иезуит. Мазарини не повел и бровью, лишь переложил крест на груди. — Святой Орден Иисуса отличается решительностью своих действий, — задумчиво произнес он, — что нельзя не оценить. Но… сейчас, отцы и братья мои, иное время, чем в год трагедии на улице Медников. — Время иное, ваше светлое высокопреосвященство, — пробасил Максимилиан-младший, — но место то же, улица Медников. — Вот как? Та самая, где кинжал иезуита-мученика Равальяка пронзил грудь короля Генриха IV? — Именно так, ваше светлое высокопреосвященство. Он вскочил на подножку открытой королевской коляски именно на улице Ферронвери (Медников), где находится и кабачок, место сбора заговорщиков. И в этом надо видеть перст божий! — елейно произнес Максимилиан-старший. — Перст божий! — задумчиво повторил Мазарини. — Воистину так! — гулко прозвучал голос Максимилиана-младшего, — ибо приняв все мучения, Равальяк не смог назвать своих сообщников, руководимый лишь перстом божьим. — И добавил многозначительно: — Недаром регентство матери малолетнего Людовика XIII королевы Марии Медичи после удара Равальяка привело к великой деятельности вашего предшественника, его высокопреосвященства кардинала Ришелье, а вслед за ним и вашу высокую и незаменимую для Франции деятельность. Мазарини мог бы усмехнуться, но лицо его осталось величаво спокойным, даже строгим. — Не хотите ли вы оправдать в моих глазах злодейское убийство короля? — Боже упаси, ваше светлое высокопреосвященство! — воскликнул Максимилиан-старший, укоризненно взглянув на своего спутника. — Но если бы вы выслушали все, что рассказывает наш глухой, но божьей волей «слышащий» без звуков разбойные слова злоумышленников, то пришли бы в священный ужас, подумав о средствах предотвратить готовящееся злодеяние на улице Медников. — Воистину неотвратим перст божий, отцы и братья мои, — сказал наконец кардинал. — Нам известен былой дуэлянт и убийца Сирано де Бержерак, поднявший оружие против мирных монахов у Нельской башни, воспрепятствовав сожжению книг философа Декарта, осужденных буллой папы; нам известны и гнусные памфлеты Сирано де Бержерака, направленные против нас и ее величества благочестивой королевы Анны. Однако, восстановив в Париже справедливость, мы не сочли нужным преследовать его, ибо волей небес он наказан тяжелой и неизлечимой болезнью. — И все-таки, несмотря на это, ваше светлое высокопреосвященство, — вставил мрачно Максимилиан-младший, — он снова поднимает свою облысевшую в больнице доктора Пигу голову. — Я вижу, — усмехнулся Мазарини, — что ничто не скрыто от зоркого ока вашего высокого Ордена. — Ничего, ваше светлое высокопреосвященство, — подтвердил старший монах, опустив глаза. — Потому мы и надеемся, что через вас, служителя короны и церкви, господь обрушит свою кару на обнаруженных преступников, — добавил басом младший монах. — Ценю ваше усердие, братья по вере, — внушительно начал кардинал. — Передайте генералу вашего Ордена наше удовлетворение, однако… высшие соображения, которые руководят сейчас его величеством королем Людовиком XIV, не позволяют нам схватить и бросить на эшафот упомянутых вами уже достаточно провинившегося Сирано де Бержерака и ловкого судейского Пьера Ферма, выгородившего убийцу-гугенота в судебном заседании Тулузского парламента и способствовавшего выигрышу иска грязных крестьян против высокородных господ. Монахи переглянулись. — Если вашим светлым высокопреосвященством руководят высшие соображения, то можем ли мы сообщить о них генералу нашего Ордена? — вкрадчиво спросил казначей монастыря св. Иеронима. — Передайте брату моему, генералу вашего Ордена, что ныне наступила пора милостей короля, которую нельзя омрачать хватаньем кого-либо по указу короля, простившего и даже наградившего только что принца Конде, стоявшего во главе войск, препятствовавших возвращению его величества в Париж. Можно ли снизойти от имени нашего всемилостивейшего короля до подозрений начисто глухого, по вашему признанию, послушника и казнить какого-то стихоплета и судейского из Тулузы? — Великая мудрость глаголет вашими устами, ваше светлое высокопреосвященство, — закатив вверх глаза, заговорил Максимилиан-старший. — Но что же посоветуете вы делать слугам вашим из нашего ордена, не услышанным в своем рвении предотвратить несчастье, нам, напрасно стоящим у двери, в которую ломятся убийцы. — Не вы ли, отцы и братья по вере, упомянули о персте божьем? Велика милость святого в своей юности короля, но милость господня еще выше, — и кардинал многозначительно поднял палец. — Будем молить господа о помощи! Ибо вам известно, что все в Его высшей власти, все случающееся на земле: будь то в давнюю Варфоломеевскую ночь или в печальный день на улице Медников, чего, надо думать, он не допустит ныне в Париже в милостивейшие дни Людовика XIV, — предостерегающе заключил кардинал. Монахи поникли головами. — Истинно так, ваше светлое высокопреосвященство, — вместе произнесли они. — Все в божьей власти. — Все! — ясным, чуть повышенным голосом подтвердил Мазарини. — Решительно все во власти господней, даже… несчастные случаи в любом месте Франции, даже на той же улице Медников. Монахи переглянулись и, низко кланяясь, не поворачиваясь спинами к кардиналу, пятясь, вышли из кабинета. Через толпу ожидающих приема они шли уверенными шагами, зная, что надлежит им делать, «услышав» невысказанное слово мудрейшего из мудрых отцов церкви и государства, чего не уловил бы и глухой послушник Жан.Тютчев
Глава седьмая ПОСЛЕДНИЙ СОНЕТ
Если нельзя бросить голову на плаху, можно бросить плаху на голову.Дни неистовой, вдохновенной работы настали для Сирано де Бержерака послевстречи с метром Пьером Ферма. Он жил как бы в четырех измерениях: как философ, ищущий причины всеобщего Зла; как писатель, создающий картину мудрой жизни счастливых людей, противопоставив ее мрачному царству хищных птиц; как поэт, очарованный внешней и внутренней красотой Франсуазы; и наконец, как математик, увлеченный, казалось бы, такой простой, но неразрешимой задачей метра Ферма. Чтобы понять все четыре грани Сирано, нужно отыскать их общие корни. Утро он уделял мудрости, завершая свой трактат «Государства Солнца» (считающийся незаконченным!). С яркостью и сарказмом баснописца наделял он злобных птиц человеческими пороками и позволил коронованному тирану-орлу приговорить автора повествования к лютой казни, счастливо избежав которую тот попадает в страну мудрецов, где находит среди философов незабвенного Томмазо Кампанеллу. И тот показал пришельцу с Земли воплощенную на планете «Солнце» мечту, получившую на Земле, начиная с «Утопии» Томаса Мора, название коммунистической. Для счастливцев, живущих в таком обществе, земные злодеяния так же далеки и чужды, как людям птичьи нравы. Ежедневный четырехчасовой труд на благо общества стал любому мудрецу необходимым, как дыхание. Свободное время предназначалось самоусовершенствованию, наукам и искусству. Разумное самоограничение позволяло каждому получать бесплатно все, для жизни необходимое. Богатство как избыток потребного потеряло всякий смысл и презиралось бы, стремись хоть кто-нибудь к этим излишкам в условиях всеобщего изобилия и отсутствия ненужного там денежного обращения. И отпали сами собой споры, вражда и войны. Не из-за чего стало воевать и убивать друг друга. Вообще убийство, одна мысль о чем приводила мудрецов в содрогание, противоречило самой сущности людей той страны. Тем более что им удалось найти способ получения пищи и утоления голода без пожирания трупов убитых для этой цели живых существ (как на Солярии, для Сирано незабываемой!), и счастье всех людей покоилось там на свободе, равенстве, братстве и всеобщей любви друг к другу. И не поповская лицемерная «любовь к ближнему» внушила Сирано облик мира «Солнца», а формула Франсуазы, простой француженки из крестьянской семьи, мечтавшей со знаменем в руках на баррикаде о всеобщем счастье.[132] Эта «формула Счастья» воплотилась у Сирано в его светлую мечту, представляясь ему яркой, наполненной внутреннего содержания и вместе с тем строгой и точной, как математическое выражение. И, отложив последние страницы трактата, он, словно продолжая его, погружался в дремучий лес цифр, отыскивая тропы закономерностей, ведущие к решению хитрой задачи Ферма. Тупик досадных неудач искушал его надменной мыслью, что «задача Ферма» не имеет практического смысла и подобна развлекательным ребусам, какими тешатся в гостиных.[133] Однако скоро эти малодушные сомнения вытеснились ощущением близости волнующего открытия! Если бы удалось восстановить искания Сирано, то они предстали бы аккуратными строками равенств и неравенств, получающихся при сложении двух наименьших чисел в возрастающей степени и сравнения их суммы с ближайшим значением целого числа в той же степени. То есть увидели бы анализ разложения степеней с выявлением получающихся, тоже наименьших остатков. И Сирано рассуждал, подводя итог своим исследованиям: отрезок прямой линии естественно разделится на два меньших отрезка, ибо все целые числа, выражающие размеры отрезка, возведены лишь в первую степень, то есть неизменны. Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника нацело делится на квадраты катетов (тоже в целых числах) в соответствии с теоремой Пифагора. Куб же, уже пространственная фигура с размерами в целых числах, может разделиться на два меньших куба со сторонами в целых числах, однако уже с остатком, равным двум! То есть практически он делится не на два, а на четыре куба, поскольку два дополнительных кубика со сторонами, равными единице, и уложатся в остаток, равный двум! А вот квадрато-квадрат, фигура сверхпространственная, тоже делится нацело, но уже на шесть квадрато-квадратов (при остатке = 64!). Дальше же еще занимательнее и многозначительнее! Пятая степень (при остатке = 2002) разлагается нацело на 13 целых чисел в пятой степени! Шестая (при остатке = 69 264) — на 48 целочисленных слагаемых в шестой степени! Становится совершенно очевидным, что число членов многочлена, состоящего из целых чисел в той же степени, что и разлагаемое целое число, растет вместе со степенью и никак не может равняться двум, что и требовалось доказать в предложенной Пьером Ферма теореме! О каких же двух слагаемых в той же степени, что и их сумма, может идти речь, начиная с куба? Нужны ли еще доказательства? И Сирано горько пожалел, что метр Ферма далеко в Тулузе, куда ему не добраться без коня и денег! А нельзя ли вывести для Ферма формулу, которая отразила бы закономерности, полученные при анализе цифр, притом ввести в формулу лишь одну переменную — показатель степени! С исступленной настойчивостью принялся Сирано за работу! Формула далась не сразу. Лишь после бесчисленных попыток достиг он желанного ее изящества. К величайшей своей радости, он увидел, что математическая формула как бы совпадает по форме с определением счастья Франсуазы. И Сирано назвал свою находку «Формулой Франсуазы»! (2n + 1)n = (2n)n + (2n — 1)n + 8n(n — 1)/(n — 2)n. «Счастье — свобода, равенство, братство, любовь!» Почему только до четвертой степени верна формула? Какую закономерность Природы она отражает? Четвертая степень! Если куб — высота, ширина и длина, то квадрато-квадрат требует еще одного пространственного измерения! И тут Сирано вспомнил о Тристане, о его объяснении свернутой в неком четвертом пространственном измерении Вселенной! Эврика! Нежданно, блуждая в лесу степеней, он получил математическое подтверждение существования четырех измерений нашего пространства! И Сирано вдруг пустился в пляс по комнате, насмерть перепугав вбежавшую мать и удивив появившегося в дверях младшего брата. Сирано кинулся на шею матери и стал покрывать поцелуями ее уже морщинистое лицо. — Нашел! Нашел! — вне себя от восторга кричал он, подобно древнему Архимеду, выскочившему из ванны с пониманием закона, названного потом его именем. И он закружил Мадлен по комнате. — Остановись же, остановись, Сави! У меня сердце разорвется, — умоляла мать. — Виват! — восклицал Сирано и, обращаясь к брату, стал говорить, хотя тот и не подготовлен был, чтобы понять его. — Ведь никто же не удивляется, что замкнутость Вселенной подтверждается математически при сечении конусов, соприкасающихся вершинами на общей оси. Это доказал Ферма, поворачивая секущую плоскость. Когда она параллельна основанию конусов — получаем окружность, повернем немного — и увидим эллипс, поворачивая еще… ну, поворачивай, — тормошил Савиньон юношу. — Что поворачивать? — спрашивал тот. — Плоскость! Плоскость! Ну как ты не понимаешь? По мере поворота секущей плоскости на ней появится все удлиняющийся эллипс. А когда плоскость станет параллельной образующей конуса, ось эллипса как бы уйдет в бесконечность и второго закругления эллипса не будет видно. На плоскости останется лишь часть эллипса в виде параболы! — Я обязательно когда-нибудь пойму это, — пообещал юноша. — И ты поймешь, что стоит еще немного повернуть секущую плоскость, и эллипс вернется к нам с противоположной стороны, но теперь уже в виде гиперболы! И минус бесконечность оказывается равна плюс бесконечности, которые едины, находясь на противоположной точке исполинской сферы или какой-то другой замкнутой фигуры (он вспомнил объяснение Тристана о кольце Вселенной с внутренним отверстием, равным нулю!). — Как я бы хотел это понять! — Не все поймут, не все сразу поймут, но метр Пьер Ферма, конечно, поймет! Наш мир, наша Вселенная распространена еще в одном направлении (измерении!), в котором и замыкается! И «формула Франсуазы» неумолимо утверждает это, иначе она не давала бы для разложения степеней верный результат для всех четырех степеней! Виват! Матушка, не угостишь ли ты нас по этому поводу вином? Он увидел, как смутилась Мадлен, не имевшая в доме никаких запасов, ее выручил стук в дверь. — Войдите, — крикнула она, — не заперто! Но стук повторился. — Входите, кто бы вы ни были! — закричал Савиньон. И опять раздался настойчивый стук. — Что за чертовщина! — воскликнул Савиньон и, подбежав к двери, распахнул ее. На пороге стоял незнакомый молодой человек с узким лицом, птичьим носиком и поблескивающими черными глазками. — Мне поручено сказать господину Савиньону Сирано де Бержераку, — пожалуй, слишком громко для комнаты произнес он, — метр Пьер Ферма из Тулузы прибыл в Париж, будет ждать его завтра в полдень в трактире «Не откажись от угощения!», что на улице Медников. Произнеся это и как бы оборвав себя, незнакомец резко повернулся и зашагал прочь. — Куда же вы, куда? — закричал Савиньон. — С такими хорошими вестями гонцы так просто не уходят! Но незнакомец даже не обернулся. — Беги, догони его, — сказал Савиньон брату. Но Мадлен остановила младшего сына. — У нас нет ни пистоля, чтобы наградить его за известие, как бы оно ни было желанным, Сави. Савиньон поник головой, еще некоторое время провожая глазами удаляющуюся по улице фигуру. Внезапно фигура обернулась и крикнула: — Мне так приказано передать! — И скрылась за углом. — Прекрасно приказано! — потирая руки, говорил Савиньон. — Прекрасно приказано! Вы великолепно приказали, метр Ферма, и я постараюсь завтра обрадовать вас! Мать радостно смотрела на старшего сына. Она так хотела ему счастья. Она даже сказала это слово. Савиньон в ответ воскликнул: — Счастье? О, я знаю его суть. Мне рассказала об этом несравненная мадонна, которую я завтра увижу. — Дай-то бог, — промолвила Мадлен, вознося мысленно молитву. — Я так желаю тебе с ней счастья! Как это матери умеют читать в сердцах детей, хотя бы те и не проговорились о своих чувствах. — Как ее зовут, Сави? — спросила она. — Франсуаза! Я посвятил ей математическую формулу, но сегодня ночью посвящу ей сонет! — Как хорошо. Ты давно не писал сонетов, а они у тебя всегда такие сердечные, за душу трогающие. — Не знаю, не знаю, чью душу они тронут, но свою душу я в него вложу. И после бессонной, но радостной ночи Сирано сложил свой сонет, переписав его на лучшей бумаге, подаренной еще герцогом д'Ашпероном.По Макиавелли
ДЕНЬ БАРРИКАД
(Франсуазе)
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ
Отрицая бессмертие, обрел его.Сирано де Бержерак заботой друзей, главным образом Кола Лебре, был похоронен в родном местечке Мовьер, рядом с могилой старого кюре, своего первого наставника. Похороны были скромные. Новый кюре предусмотрительно опоздал на кладбище, боясь мести иезуитов. Шел унылый дождь. Гроб, украшенный не цветами, а принесенными крестьянами спелыми колосьями былого урожая, опустили в свежую мокрую яму, когда, разбрызгивая лужи, подъехали одна за другой две кареты. В одной вместе с Ноде прибыл герцог д'Ашперон, а в другой — неизвестная знатная дама. Поспешивший к ней навстречу галантный Ноде помог ей, как старой знакомой, сойти на землю и, обходя грязь на тропинке, повел ее к могиле, на краю которой стояла Франсуаза. Платных плакальщиц не нанимали. Только сестра Савиньона, монашенка, рыдала за всех и от всего сердца, заменив разбитую ударом при известии о гибели сына его мать Мадлен де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак. Ее выхаживал младший сын. Несмотря на слезы, Франсуаза, тоже рыдая, украдкой взглядывала на скрытое мантильей лицо незнакомки, и когда та, чтобы вытереть платком заплаканные глаза, приоткрыла мантилью, успела заметить жаркую красоту испанки, снова скрытую за мантильей. Немногие друзья прямо с кладбища отправились к Кола Лебре, в его лавочку, рассуждая по дороге, кто бы это могла быть. Называли принцессу Монпансье, графиню де Ла Морлиер, старую баронессу де Невильет или даже герцогиню де Шеврез. Для Франсуазы все они были одинаково ненавистны, и она даже на холмик, возникший над могилой, смотрела с неукротимой ревностью. Незнакомку узнал только один писатель Ноде, который даже герцогу д'Ашперону не сказал об этом, больше того, он не решился бы признаться в том самому Сирано, встань вдруг тот из могилы. Молча ехали они с герцогом д'Ашпероном в его карете вслед за каретой незнакомки. — Какой был человек, ваша светлость! — вздохнул Ноде. — Какой человек! Монахам так и не удалось уломать его. — Сломать его им удалось, — отозвался герцог, — но не сломить. Я помогу Кола Лебре издать его трактат. Тогда о нашем Сирано можно будет сказать: «ОТРИЦАЯ БЕССМЕРТИЕ, ОН ОБРЕЛ ЕГО». — Как жаль, что его так широко задуманный трактат «Государства Солнца» остался незаконченным. — Будущие поколения закончат его, — задумчиво произнес Великий Вершитель Добра. — Мечта о светлом непременно осуществится, если человечество не истребит само себя. Однако, друг мой Ноде, вы в своей неисправимой галантности расточаете любезности даже незнакомым дамам, — неожиданно переменил тему разговора герцог д'Ашперон. — Нет, почему же… — начал было Ноде, но осекся. Герцог д'Ашперон понимающе улыбнулся и, откинувшись на спинку сиденья, замолчал. Кареты въехали в Париж.Герцог д'Ашперон, Великий Вершитель Добра
ЭПИЛОГ
Умер герой, умер философ, умер поэт! Молва приписывала ему прежде всего черты забияки-дуэлянта, становясь в тупик перед нежданной переменой, когда он оставил шпагу для науки, литературы, поэзии. По-разному старались это объяснить различные биографы, подчас пренебрегая одной из самых удивительных загадок, связанных с Сирано де Бержераком, его поразительными знаниями достижений нашей цивилизации, так далекой для XVII века. При этом без всякого внимания относились к свидетельствам самого Сирано де Бержерака, уверявшего в своих трактатах, что со всеми удивительными вещами, которые должны были поражать его современников (но поражают и нас три с половиной столетия спустя), его познакомил… инопланетянин… В прологе к последнему роману о Сирано я рассказал о своей несостоявшейся встрече с французским журналистом, которую автор с помощью воображения представил себе. Но я остался бы в долгу перед читателем, если бы не рассказал о подлинной встрече с французским писателем, которая все-таки состоялась, когда роман уже был завершен. Она состоялась осенью 1984 года в Доме дружбы, но не в самом особняке, принадлежавшем когда-то Савве Морозову, а в примыкающем к нему здании, ставшем филиалом Дома дружбы, в уютной гостиной с располагающей к беседе мягкой мебелью. Мы вчетвером, три писателя-фантаста и бывший редактор журнала «Изобретатель и рационализатор», представитель Союза журналистов СССР Рем Щербаков, ждали приехавшего из Парижа заместителя главного редактора популярного журнала «Сьянс э ви» («Наука и жизнь») господина Жана Рене Жермена. Французские гости задерживались в Звездном городке, где их радушно принимали космонавты. По телефону сообщили, что они уже выехали, а их все не было. Один из моих друзей сидел, как на угольях, у него были какие-то дела, и он, увы, ушел, так и не дождавшись французов, вернее француза и его советского провожатого, служившего ему переводчиком. Впрочем, переводчика ему даже и не требовалось. По какому-то совпадению или наитию (прошу читателя поверить мне безусловно, что пролог был написан почти за год до этой встречи!) Жан Рене Жермен говорил по-русски (как мой воображаемый Жюль де Вернон из пролога) и тоже был женат на француженке русского происхождения! Обо всем этом я узнал, когда наш гость уже беседовал с нами: со мной и с представителем Союза журналистов и моим соратником фантастом-философом. Его особенно интересовал вопрос о внеземных цивилизациях, о возможных контактах гостей из космоса с нами теперь или в древности. Его интересовал еще весьма щекотливый вопрос: верим ли мы, советские фантасты, в то, о чем пишем? То есть признаем ли мы реальность своих фантастических допущений? Фантаст-философ, косясь на включенный гостем магнитофон, ответил, что литература есть литература, у которой свои законы вымысла, и он не считает себя больше, чем литератором. Я ответил, что пишу свои научно-фантастические романы, твердо уверенный в их реалистичности, касаются ли они космических контактов, технических достижений будущего или исторических событий. Рене Жермен словно ждал этих слов и сразу перешел на Сирано де Бержерака. (Я не говорил нашему французскому гостю, что занят этой романтической фигурой.) — Знаете ли вы, — спросил меня господин Жермен, — что Сирано описал и электрические лампы, и радиоприемник, и даже телевизор? Может быть, не подозревая о назначении описанных вещей, — добавил он. О нет! Здесь у меня твердое представление о Сирано де Бержераке, весельчаке, насмешнике и провидце. Смеяться-то он смеялся, однако предвидел будущее для того, чтобы осмеять свою современность (кстати говоря, кое в чем перекликающуюся даже с нашим временем!). Жан Рене Жермен с гордостью отозвался о французском поэте Эдмоне Ростане, воспевшем в своей знаменитой трагикомедии «Сирано де Бержерак» легендарного героя. — Впрочем, — заметил он, — Ростан скорее занял для своего романтического персонажа это имя, не претендуя на изображение его точной биографии. А вы? — спросил он меня, уже зная о моей работе. — Следую примеру вашего классика, господин Жермен. Но вижу своего Сирано де Бержерака не только драчуном с длинным носом, но и философом, писателем, героем своего народа, поэтом, наконец! — А его загадочные знания? — Мой роман о Сирано де Бержераке, вернее, два романа о нем потому и являются научно-фантастическими, что допускают фантастическую гипотезу, объясняющую происхождение этих загадочных знаний, впрочем, не более фантастическую, чем предложил сам Сирано, описывая свою встречу с Демонием Сократа. — С инопланетянином? — живо спросил Жермен. — Значит, вы действительно верите в инопланетян? — «Которых… видел д'Артаньян», как пошутила наша газета «Комсомольская правда», дав в 1982 году такой заголовок к беседе со мной. — Как так д'Артаньян? — удивился француз. — Так ведь д'Артаньян и Сирано были современниками. И кто знает… — Ах да! — рассмеялся Жан Рене. — Это очень хорошо звучит по-русски. Как это сказать? В рифму… Стихи, которые вы сочиняли за Сирано де Бержерака. — Но которые мог бы сочинять герой романа, каким представил его себе фантаст. — И вы верите, что Сирано мог общаться с инопланетянином? — Не верю, а убежден. И это правда! Однако в остальном образ Сирано отнюдь не документален, принадлежа гипотетическому персонажу фантастического произведения.1982–1985 гг. Москва — Переделкино
Александр Казанцев Дар Каиссы
ПРОЛОГ
Жадет разум человеческий. Он не может ни остановиться, ни пребыватъ в покое, а прорывается все дальше.Ветер пронесся над городом. Он столбами закручивал пыль на немощеных улицах, белыми чайками, никогда сюда не залетавшими, гнал над речкой бумажки. В печных трубах домов, не переведенных еще на нейтральное отопление, нечистой силой выл, как в старых русских сказках. Деревья в городском саду гнулись, трепеща ветками. За далеким лесом на том берегу громыхало. Но дождь не начинался. Железную урну в городском саду повалило и покатило по чисто выметенной дорожке. За ней гнались два листка бумаги. Один из них застрял на скамейке с изрезанной перочинными ножами спинкой.Ф. Бекен
Капитан милиции Гусаков тяжелым шагом вошел в кабинет. — Так вот, капитан, — майор Степин поднял глаза от новой папки с тремя одинаковыми бумажками. — Дело нешуточное. Как-то в погранотряде взяли мы нарушителя. Смотрел ясными глазами и клялся международной солидарностью. И обнаружли при нем всего лишь шахматную задачку. Был у нас один мастак по шахматам, вроде вас, Гусаков. Знаю, вы у заезжего сеансера партию выиграли. Пограничник решил задачку, и кодом она секретным оказалась.. Вот так. Понятпо? — Ясно, товарищ майор. Посмотреть бы ее. — Другую задачку покажу. Для того и вызвал. Чепе! Офицер Гусаков был по партийной линии направлен из армии на следовательскую работу и слыл уже в новом деле докой. — Вот, — сказал Стенин, вынимая из дела бумажку. — Изучите. Потом куда следует передадим.
В городском саду было по-утреннему тихо, безлюдно. Ничто не напоминало вчерашнего ветра. Дворники подметали дорожки и косились на капитана милиции, грузно шагавшего к обрыву. В воздухе несло с реки рыбой и чуть попахивало дымком. Это от заводской трубы на том берегу. В глубине сада ее не увидишь из-за разросшихся деревьев, которые сажал здесь в пионерские годы сам же Ваня Гусаков. Внизу плескались в воде ребятишки, вырвавшиеся на лето из школы. Вот и скамеечка с вырезанными на спинке именами: «Ваня + Катя», «Маша с Юрой». Вечерами здесь сидят влюбленные парочки. Гусаков устроился на скамейке и погрузился в изучение «листовки». Листок ученической тетради по арифметике. На клеточках старательно заштрихована доска и нарисованы шахматные фигуры (рис.1). Детским почерком сообщалось, что «белые начинают и делают ничью», а также по какому адресу следует прислать правильное решение и отзыв на произведение. Иван Тимофеевич еще некоторое время посидел, внимательно изучая «листовку», потом направился по указанному в ней адресу. Дверь открыл мальчик лет тринадцати, с подвижным лицом и поразительно живыми карими глазами. — Каникулы, значит, — сказал Гусаков, здороваясь. Мальчик тряхнул запущенными волнистыми волосами. — Та-ак, — тянул Иван Тимофеевич, оглядываясь вокруг. — Человек я у вас новый, временный. Кто у вас тут проживает, кто прописан и все такое? — Здесь Куликовы живут. А я — Костя, в седьмой класс перешел. — Это хорошо, — кивнул Иван Тимофеевич, осмотриваясь в передней. — Адрес тут ваш дан… и будто бы ничью можно сделать. Мальчик вспыхнул: — Неужели вы из-за этого? Вы первый! Честное пионерское. Еще никто не решил. Я не думал, что так трудно. — А там ничьей вовсе и нет, — заявил Гусаков. — Как так нет? — запротестовал мальчик. — Давайте я сейчас вам покажу. Вы проходите в комнату, я шахматы мигом расставлю… Иван Тимофеевич сел на стул, рассматривая обстановку чисто прибранной комнаты, Темная полированная мебель. А кровать совсем светлая. Над ней фотография летчика. Мальчик расставил на шахматной доске знакомую Гусакову позицию: — Вот смотрите. Черного короля надо запереть, чтобы он не выпустил свою ладью, — 1. КеЗ! — Это мы понимаем, — кивнул Иван Тимофеевич. — А мы твоего коня пешечкой турнем — 1…d4! He угодно ли убраться? — Так в этом все и дело. Теперь белые играют 2. Kf5. Мальчик залез обеими ногами на стул. Встал на коленки. — Ишь, какой хитрый. Хочет меня на вилку подцепить. Не выйдет, молодой человек. У нас еще есть порох… на базе снабжения. Пожалуйста: 2…h4! Костя даже подскочил от возбуждения и с размаху поставил коня на g3. — В этом соль! После 3. Kg3 вам нечего делать (рис.2). — Как нечего? Взять коня можно, а можно и мимо пешкой проследовать. — И прекрасно! Если пройдете пешкой, я возьму ладью конем, вы заберете коня, а я встану королем на f2, и вам пат. Заметьте, черным пат! А если возьмете коня пешкой — 3…hg, то 4.Кре2!, и теперь любой ход черных ведет к пату или белым или черным. Еще два пата, всего три! Смотрите: 4…g2 5.Kpe1, и черным еще раз пат. А если 4…Kpg2, то сразу пат, но белым! Гусаков некоторое время смотрел на доску. — Так… взаимопат, говоришь? А теперь, чтобы мы с тобой взаимно пат получили и с ничьей разошлись, скажи-ка мне, друг Костя, зачем ты эти листовки придумал? — Как зачем? — удивился Костя. — Чтобы люди знали. А если бы я картину нарисовал в нескольких экземплярах и по воздуху пустил? Это тоже плохо? — Вот это мы сейчас и разберем. Выходит дело, устроил ты собственную воздушную газету с бесплатным распространением. Что ж, тебе подписных изданий мало? — Я боялся в журнал послать. Забракуют еще… — Ишь, ты! С гонором мы! Неудач боимся! Иван Тимофеевич подметил, как быстро меняется у мальчика выражение лица. Смущенный, тот поспешно складывал шахматы. — А я думал, вы решили. — Я и решил. Еще на скамейке в саду решил. Но не все. — Решили? Так чего же я вам показывал? Вы уже знали? — Знал, да не все. А чтобы узнать, и сказал, будто ничьей тут нет. Подзадорил тебя малость. В передней хлопнула входная дверь. В комнату с кошелкой в руке быстро вошла худощавая, начинающая седеть женщина с усталым лицом, но такими же живыми глазами, как у Кости. — Здравствуйте, гражданка Кулакова. Я ваш новый участковый уполномоченный. Зашел познакомиться. — Пожалуйста, садитесь, я сейчас…— и она засуетилась. — Ты что же, задачку эту сам сочинил? — обратился к Косте Иван Тимофеевич. — Сам, — признался Костя и встряхнул шевелюрой. — Постричься бы следовало. — заметил Гусаков. — Я уж твержу ему, твержу! Прямо не знаю, что делать. Мода какая-то дикая…. — Стариннейшая, — отозвался Гусаков. — В средние века так щеголяли. И в прошлом веке так носили… и в каменном тоже. А вот в армии не положено. Потому… гигиена… — Я голову часто мою! — вступил Костя. — А стричься сам буду. В парикмахерскую ни за что не пойду: там окромсают — уши потом торчать будут. — Вот ведь почему парикмахеры нынче простаивают, — вздохнул Иван Тимофеевич. — Ну вот я и освободилась, товарищ уполномоченный. Чем могу быть вам полезной? Я — Куликова Серафима Ивановна, учительница. Живем вдвоем с сыном. — А он в дымоход кирпичного завода лазает. Маме потом штаны, рубашку стирать… А вот ботинки самому бы надо очистить от глины. В передней два дня, поди, ждут. Костя стоял оторопелый, опустив голову. Серафима Ивановна прижала руки к подбородку и с укором смотрела на сына. — Я знала, что так кончится, что эти его выдумки… — Выдумка здесь есть, это верно. — согласился Гусаков. — Как вы узнали? — прошептал Костя. — Видишь ли. Костя, сидел я на скамеечке в парке и сразу две задачки решал: одну шахматную, а другую — откуда твои листки вылетели и как их ветром понесло? И тут дымком потянуло, понимаешь? — Из кирпичной трубы! — воскликнул Костя. — Вот именно. — подтвердил Иван Тимофеевич. — Иногда ветер дым к земле жмет, в том же самом месте, где листовку в парк занес. Листовки в воздух вчера вылетели. Завод эти дни не работал. Ветер в воскресенье был с той стороны. Листовки свободно могли через речку перелететь. — Ничего не понимаю, — призналась Серафима Ивановна. — Вы костюмчик ему чистили вчера? — Чистила. Как трубочист перемазался. — Еше бы. В дымоход ведь надо было забраться. — Зачем?! Зачем?! — в ужасе воскликнула Серафима Ивановна. — Трубы почему длинными делают? Чтобы тяга в них была. И даже когда завод стоит, в трубе тяга все равно есть. Особенно в ветренный день. За счет разности температур воздуха на вершине трубы и у ее основания. Это потому, что теплый столб воздуха, наполняющий трубу, легче такого же столба снаружи. И если теплый воздух наполнит трубу, то наружный его и вытолкнет вверх. Попросту — тяга. — Откуда вы все это знаете? — удивилась учительница, рассматривая пожилого милиционера. Иван Тимофеевич улыбнулся: — От отца знаю. В партизанах он был. Из этой же самой кирпичной трубы завода он листовки в город через речку по ветру пускал. Никак гитлеровцы но могли догадаться, откуда они летят. Эсэсовцы из себя выходили. Об этом потом писали. Вы могли прочитать. — Я не читал! — воскликнул Костя. — Значит, на выдумку ты мастак, друг Костя. Взаимопат ты отменный выдумал. И с использованием тяги знатно у тебя получилось. А если до тебя люди так делали, ты гордиться этим должен. Выходит, правильно выдумал! И не вздумай тужить, если этюд твой с предшественником окажется или с побочным решением. И еще я тебе скажу: от проигрышей в шахматы человек сильнее может стать. Закалять характер шахматами надо, вот что! «Характер состоит в энергичном стремлении к достижению целой, которые каждый себе указывает». Это Гете сказал, великий поэт и знаток людей. — Сначала я думал, вы — шахматист, потом — что Шерлок Холмс, а вы, оказывается… — Ну что я! О тебе речь идет. Выдумка — великая вещь. Когда отец мой в Великую Отечественную из кирпичной трубы прокламации против фашистов запускал, его выдумка была отличной, потому что нужна была. А твоя выдумка вроде бы та же самая, а зачем, спрашивается? Чтобы слабость твою прикрыть? В шахматный журнал этюд свой послать не решаешься, ветру судьбу вверяешь — пусть, мол, люди листовки поймают и шахматные задачки решают. Нет, брат. Если хочешь тягу использовать, то как-нибудь по-другому, чтобы людям польза была побольше. — Там в трубе тяга такая сильная, что вентилятор закрутится. — Вот это славно, сынок. Вентилятор — это уже машина! А машины людям служат. Так извините меня, граждане хорошие. Разрешите откланяться. Прощаясь в передней, Иван Тимофеевич спросил Костю: — Так сколько ты «листовок» через трубу запустил? — Сто семь штук. — А ответов кроме моего, значит, нет? — А мне больше и не надо! Спасибо вам. Большое спасибо! — Это за что же? Что не штрафую? — Нет, за тягу. — Ах, за тягу! Ну, давай, давай! Растите сыночка, Серафима Ивановна. Будьте здоровы. И капитан милиции Гусаков тяжелым шагом вышел из квартиры Куликовых, не подозревая, какой переворот совершил в юной душе. Серафима Ивановна, сама не зная почему, заплакала, по-матерински отгадав значение случившегося для судьбы сына.
Часть первая. ТЯГА
Игра — это говорливая человеческого сердца.Карел Кpупский, польский пропагандист шахмат
Глава первая. ПЕРЕПОЛОХ НА НЕБЕ
Вращавшийся зал ресторана рывком остановился. Вика даже качнулась вперед. Она видела, как перепуганные люди вскакивали с мест, даже опрокидывали стулья. Вика посмотрела в окно, и ей стало жутко. Далеко внизу сквозь туманную сетку дождя неясно проступал как бы архитектурный макет города с многоэтажными коробочками домов. Настольные лампы вдруг зажглись, потом тревожно замирали и все разом погасли. Люди бросились к выходу. Началась давка. Очевидно, лифты ни работали. Вике стало совсем не по себе. Она вдруг ощутила, что находится на огромной высоте, что до земли сотни метров! Ей тоже хотелось вскочить, но было совестно соседей по столицу. Конечно, Останкинскую телобашню ветер, так дувший внизу, теперь отчаянно раскачивает, валит, сейчас сломает!.. Хорошо, хоть Кати нет: она совсем бы перетрусила! Вика посмотрела через окно вниз. Ей показалось, что она летит на снижающемся самолете и сейчас врежется в едва различимые в тумане дома. Какая-то женщина истерически закричала. Все началось неудачно еще внизу. Вике Нелидовой надоело ждать и всматриваться в прохожих, чтобы еще издали увидеть Катю. Подружки не было. Вика металась по панели, перепрыгивая через рябые от порывов ветра лужи. Ветер становился таким сильным, что Вика непроизвольно запрокинула коротко стриженную голову, чтобы убедиться, не раскачивается ли Останкинская телевизионная башню. Капюшон, накинутый от дождя, сполз на затылок. Низкие облака неслись пенным потоком, скрывая шпиль башни. Все положенные сроки прошли, а Катя но появлялась. У Вики характер был решительный, и ее поступки, особенно в плохую погоду, не прогнозировались. Она разорвала в клочья Катин билет в ресторан «Седьмое небо». Обрывки билета, который можно было бы кому-нибудь отдать, подхватило и понесло над лужами, а Вика «наперекор стихии», запахнув свой плащик, направилась в башню. Ветер сразу исчез. Но Вика была слишком раздражена. Ну что это за подъем на огромную высоту в «герметически закрытом» лифте? Как будто к себе домой на четырнадцатый этаж! Внизу вошла, вверху вышла — не поверишь, что до земли сотни метров. Вот в Париже, говорят, на Эйфелевой башне, хоть она и пониже Останкинской, ощущений будто бы больше. Пересаживаешься из одного открытого лифта в другой. Через решетчатые фермы все видно, голова кружится, и пятишься на соседей. А здесь что? Вышла из лифта и шагнула… в зал ресторана. Ветра никакого. Скатерти на столиках, официанты с подносами, снедью пахнет. Одно утешение, что зал этот круглый и вращается. А через окна (только через окна!) можно смотреть вниз. Вообще-то это здорово, если бы вместе с Катей! Сидишь за столиком и медленно едешь, как в вагоне. Смотришь па Москву, как с облаков (вот уж верно — с «седьмого неба»!). И будто на макет города. Тут Вика вовсе расстроилась. Макет города с коробочками домов она не видела. Во-первых, из-за туманной мглы и сетки дождя, а вовторых — место ее было у самого прохода. Хорошо, какой-то юнец с запущенными волосами (платьице бы на него напялить!) уступил ей место у окна. Правда, скоро выяснилось, что сделал он это не ради Вики и ее смородиновых глаз и даже не из воспитанности, а из-за того, что ему нужно было сесть рядом с седым дядькой, чтобы — тут уж Вика едва не задохнулась от возмущения — играть в ресторане Останкинской телебашни в шахматы! Четвертым за их столиком оказался какой-то турист. Его привел важный метрдотель с угодливыми движениями. Был турист опрятным, выутюженным, в модном пестром галстуке и с диковинным значком на пиджаке без лацканов. У него было надменносерьезное лицо. Он с почтительной улыбкой поздоровался и сказал, отчетливо произнося слова: — Покорнейше благодарю. Сочту за честь разделить трапезу. Он заинтересовался карманными магнитными шахматами в изящной книжечке, развернутой на скатерти длинноволосым. Но Вике познаний в шахматах не хватало, чтобы оценить красоту, скрытую в расставленной на доске позиции. Вика почувствовала себя на положении глухой на симфоническом концерте, которая только и видит, что движение смычков, раздвижных труб и взлетающих медных тарелок. — Ну, друг Костя, порадовал этой встречей. Хорошо ты меня разглядел, а я тебя ни за что бы не узнал. Ишь, каквымахал! — Акселерация, Иван Тимофеевич. Папа мой невысокий был, но летал высоко. А маму вы видели. — Акселерация, говоришь? И то верно. Только разобраться в этой штуковине ни в науке, ни у нас в милиции не могут. «Милиция!» — мысленно фыркнула Вика, прислушавшись к разговору «одержимых». Сосед-турист посмотрел на нее, стремясь встретиться взглядом. — А вы теперь на пенсии, Иван Тимофеевич? — На пенсии. Кадрами заправляю на хлебозаводе в Заречье. — Знаю! Там тоже труба. Только у кирпичного выше. — Трубу твою помню. А ты, случаем, не листочки с шахматными задачками запускать отсюда хочешь? — Нет, нет! Теперь меня в шахматных журналах печатают. И за рубежом тоже. Я ведь мастер по шахматной композиции. Вот у меня значок. Не заметили? — Заметить-то заметил. Думал, за альпинизм или за пещеры какие. К дымоходам ты смолоду склонность имел. Молодой рассмеялся: — Взаимопат вспомнили? И про тягу, о которой сказали? — А как же? Там цугцванг получался. — Цугцванг— великая вещь! Я и в жизни чувствую, что обязан найти ход, что-то большое сделать. Хотите, расскажу и покажу? — Давай, давай! Только как это кони ходят? Давненько я… — Знаем мы вас!.. Молодой человек достал карманные шахматы и предложил сидевшей с ним рядом Вике пересесть на его место к окну, а сидевшему напротив туристу — рядом с ней, чтобы самому вместе с седым дядькой рассматривать шахматную доску. Вика сразу обрадовалась окну, но в нем мало что было видно из-за тумана и сетки дождя. Она перевела взгляд на шахматы. — Какая неудачливая погода, — сказал турист и скучающе уставился на шахматную доску. — Ничья, значит? — спросил пожилой дядька. — Ничья, — подтвердил тот, кого называли Костей, — Никак мне не давался этот этюд. Дважды за него отличия присуждали — золотую медаль конкурса ФИДЕ, потом приз Руставелиады. — И оба раза мимо проехало? — Нет, за Шота Руставели я приз получил, но зря: этюд с дыркой оказался неверным. Я бы его бросил, если бы он не был кое с чем связан у меня в жизни. Помните, идею мне подсказали? — Неужто ты про тягу? Турист равнодушно отвернулся, но чуть наклонил голову, словно услышал далекий звук. Вика это отметила ц стала изо всех сил смотреть на шахматы, стараясь разгадать отраженную там судьбу ее молодого соседа. — Это последняя переработка 3, — объяснял он. — Понимаете, здесь надо сразу играть 1. Сс2. А тяга… — Стоп! — остановил Костю пожилой дядька. И тут Вика качнулась вперед. Вращающийся зал, словно по команде седого дядьки, остановился. Вика уперлась в стол обеими руками, глядя в лицо пожилому соседу. — Спокойно, — сказал он. — Должно быть, ток отключили. — Как это можно? — возмутилась Вика. — Вы посмотрите, что творится! — и она кивнула в сторону образовавшейся около лифтов толпы. — А вы не туда смотрите, а сюда. В шахматах понимате? — Слишком мало. — Завидное самообладание, — заметил турист. Его лицо потеряло выражение надменности, оставшись серьезным. Казалось он с интересом изучал происходящее. — Высота-то какая! — неуверенно произнесла Вика. — Для того и поднимались, — заметил старший. — А я из-за вас сюда, на верхотурье, Иван Тимофеевич… — возбужденно сказал молодой. Глаза его стали еще ярче. — Из-за меня? Да ты ж меня десять лет не видел. Значит, ежели я слоном на с2 пойду, ты 1…d3 сыграешь, и придется мне 2. Cb1 отступить? — вслух размышлял седой дядька. — Я случайно здесь оказался. В отпуске. К родственникам заглянул на бывшую Мещанскую. Они мне и билет сюда достали. — А здесь гала-представление! — кивнул молодой на лифты. — Прошу спокойствия, — убеждал там метрдотель. — Возьмите пример с семнадцатого столика. Шахматы!.. — Слоном отступить на b1? — спросил Костя. — Тогда черный король ринется через образовавшуюся на d4 брешь, чтобы попасть на Ь2 и забрать вашего слона (4). Турист прислушался к галдежу в зале и сказал: — Разъяснение: не авария, а преднамеренное отключение. — Энергии? — переспросил Костя. — Энергия — великая вещь! Показатель развития цивилизации. — Ты мне цивилизацией зубы не заговаривай, — сказал седой. — 2…Крс6, говоришь? Тогда мы тоже королем побежим: 3. Kpg2, ты -Kpd5, мы -4. Kpf2, ты — в дырку Kpd4, а мы конем шахнем — 5. Ке2+! (5) — Не выйдет, Иван Тимофеевич. Смотрите: 5…de 6. Кр : е2 КрсЗ 7.Kpd1 Kpb2 8.Се4 с3! (6) Нельзя брать пешку а2 из-за Крс2 с ничьей! Поэтому 9. Cf5 с2+ 10.С:с2 Кр:а2! (7) Теперь можно, потому что поле с2 заблокировано белым слоном. 11. Kpc1 Cb2+ 12. Kpd1 Ce5 13. Kpc1 Cf4+, и черные выигрывают. Официант с героическим видом исполняющего долг человека пробивался сквозь гудящую толпу, неся поднос над головой. — Подождите, сюда ставьте, — предложил ему Иван Тимофеевич, отодвигая тарелки. — Мне в особом блюде разобраться надо. — Все в порядке, — объявил молодой бородач «типа геолог», усаживаясь за соседний столик. — Вертолетами спускать будут. — Я лучше на парашюте спрыгну, — бодрясь, сказала Вика. — Позиция обещающая, — оглядев зал, отозвался Костя. — Недохватка энергии, возможно? — предположил турист. — Энергетический кризис — это модно… — Не с ветром ли связано? — спросила Вика. — С ветром? С ветром была связана энергетика наших предков, — заговорил Костя. — Паруса, ветряные мельницы. Голландия в петровские времена стала самой энерговооруженной страной в Европе благодаря ветрякам. — О-о! Нидерланды! Конечно, — почтительно подтвердил турист. — А что делают сейчас в мире? Сжигают топливо: деревья живые или ископаемые (в виде каменного угля, торфа), опять же нефть или подземный газ. Преступление! — Да ты никак Прометея, похитившего у богов огонь с неба, под суд отдашь? — Нас судить будут. Потомки. — Это почему же? Вика поняла, что молодой человек затеял этот разговор ради нее, чтобы отвлечь. Он с чуть напускным жаром заговорил об энергии Солнца. Об установившемся равновесии, когда планета использует на биопроцоссы и излучает в окружающее пространство ровно столько энергии, сколько получает ее от Солнца. Сжигание топлив, то есть освобождение законсервированной солнечной энергии былых времен, нарушает установившийся режим, ведет к перегреву планеты. В зал торжественно вошла вереница официантов в белых куртках. Каждый нес подсвечник с зажженными свечами. — Как романтично! — воскликнула Вика и посмотрела на Костю. — Изобретя огонь, люди не думали, как он опасен. — Это весьма правильное суждение, — заметил турист, который поначалу слушал рассеянно, а теперь заинтересовался. — Вот именно! Это всякий знает, — обрадовался Костя. — Всякий, всякий! — закивал турист. — На то и живем, чтобы за грехи каяться. — Каяться мало! Надо прекратить сжигание всякого топлива. Иван Тимофеевич откинулся на спинку стула, достал сигареты. — А закурить можно? Земля не перегреется? Но Костя не шутил. Он стал доказывать, что достаточно поднять температуру планеты на два-три градуса за счет дополнительной энергии, получаемой не от Солнца, и человечество окажется перед катастрофой. — А ты случаем не перегрелся, а? — осведомился Иван Тимофеевич. — Может, суп горячий? — Нет, суп не такой уж горячий. — Суп не горячий? Вам тотчас заменят, — сказал метрдотель, обходивший все столики и сам устанавливавший подсвечники. — Нет, нет, речь не о том, — успокоил его Костя. — Энергия отключена в связи с переходом на новый кабель. К концу «смены» посетителей лифты заработают, — заверил метрдотель, услужливо улыбаясь. — Дело в парниковом эффекте, — сказал Костя, созерцая широкую спину отошедшего метрдотеля. — Из-за углекислоты. — Это как же так? — поинтересовался Гусаков. — А как в оранжерее, — внезапно вмешалась Вика. — Стекло пропускает солнечные лучи, а тепловые с грядок задерживает. Углекислота, накапливающаяся в атмосфере, вроде стекла. Чем се больше будет, тем стекло как бы толще. Все три соседа удивленно взглянули на Вику. — Это у меня роль была такая, — встряхнув волосами, бодро сказала она. — В спектакле. Вика не шутила. В Московском энергетическом институте, где она училась, действительно репетировали инсценировку какого-то фантастического рассказа. — Очень приятно оказаться рядом с артисткой на такой московской высоте, — сказал турист, поправляя галстук. — Заслуженной, поди, — лукаво буркнул в усы Гусаков. — А как же! — рассмеялась Вика. — Непременно «заслуженная артистка без публики». — Заслуженная артистка республики, — почтительно улыбнулся турист. — Какой театр, осмелюсь узнать — Театр имени Сатира, — выпалила Вика, готовая прыснуть от смеха — Театр Сатиры? Мечтаю туда попасть. Костя с Иваном Тимофеевичем переглянулись. Они-то все paccлышали. Чтобы не заострять на этом внимания, Костя стал увлеченно говорить о том, что люди дымят миллиардами труб, разъезжают в миллионах автомобилей, отравляя воздух. безжалостно уродуя родную планету. Возрастет ее температура на два-три градуса — и начнут таять арктические и антарктические льды! Уровень океана так поднимется, что моря затопят современные порты и даже целые промышленные страны, а на месте ныне плодородных земель образуются пустыни. — Весьма неприятное пророчество. — заметил турист. — Оно не может не тревожить специалистов, экспертов. — Что же теперь, цивилизацию на замок? Вернуться в каменый век? Голый человек на голой земле? — нахмурился Гусаков и кивнул на горящие свечки. — Нет. Иван Тимофеевич. Люди сберегли бы свою планету, если бы использовали только излучаемую Солнцем энергию. — В гидростанциях, например, — подсказала Вика. И на немой взгляд Кости шутливо ответила: — Я играла русалку, застрявшую в гидротурбине. В огне свечей стриженая головка Вики казалась бронзовой. — Очевидно, волосы тогда у вас были длинные и в водорослях? — пошутил Костя. — Да, даже длиннее ваших. Парик надевала. И теперь могу! — Не стоит! У вас изменится стиль. А насчет гидростанций вы правы. Солнечная энергия испаряет воду, поднимает ее, создает напор в реках. Но гидростанции стоят дорого. Возникают моря на мeсте плодородных земель. Пропадает рыба. Исчезает икра. Меняются местные климатические условия. — И не всегда в лучшую сторону. — подхватила Вика. — Есть другой способ использования солнечной энергии. — Полупроводники? — спросил турист. — Читал: еще академик Иоффе из Ленинграда подсчитывал, что среднеазиатских пустынь вполне достаточно для энергоснабжения всего мира. Полагаю, будет слишком дорого. Бизнес не для всех стран. — Можно без полупроводников, — сощурился Костя. — Наши предки куда расчетливее использовали солнечную энергию. Для них сегодняшняя погода — просто выгода! — Ах, ветер, — кивнул турист. Вика невольно поежилась, вспоминая, как ждала Катю. — Очень капризно, неустойчиво, — закончил турист. — Это не мешало морякам под парусами бороздить океаны, а о Голландии я уже говорил. — Хотите опять ветряки? — почтительно осведомился турист. — Нет! Вопрос можно решить куда более кардинально. — Стоп! — сурово оборвал Гусаков. Вика даже невольно снова качнулась на туле, словно зал вздрогнул. Но на самом деле все оставалось на местах. — Я решилтаки твой этюд с новым взаимопатом. Взгляни, верно ли? — и он придвинул к себе подсвечник. Костя наклонился над доской. Иван Тимофеевич стал передвигать фигурки. И в этот момент гул прошел по залу. Зажглись настольные лампы, и Вика с неохотой задула свечи. — Поехали!-сказал Иван Тимофеевич. — Значит, выходит, не конем на пятом ходу идти на е2. а самим батькой на е1. чтобы диверсанта, что сквозь дыру d4 пролез, придержать — 5. Kpe1 (8) — Диверсанта? — деланно рассмеялся турист, тоже теперь заинтересовавшийся позицией на доске. — За траву не удержишься. Черный король, диверсант, как вы сказали, обязательно проскочит на b2. — Пуская, пускай! Мы его для виду пропустим, заманим. Вот так: 5…Kpс3 6. Kpd1 Kpb2 7. Ке4. Мы кавалерию подтянем пограничную! Благо она и при танках осталась. 7…Кр : b1 8. Кc3+! — Отдаете коня? — удивился турист. — Попробуйте скушайте. 8…С : c3 — и белым пат. — Хвала! — восхитился турист. — А если не брать коня? — Тогда 8…Kpb2 9. Kpd2 — и черным пат! — Вы — волшебник шахмат, маэстро! Это ваш этюд? Я восхищен и буду демонстрировать его всюду! Но как вам удалось разрешить его так быстро? — обратился турист к Гусакову. — Знал что искать. Взаимопат. — И это все совсем верно? Я слышал, переделка прежнего? — Говорят, шахматный этюд — это позиция, в которой авторский замысел еще не опровергнут. — солидно начал Гусаков… и рассмеялся. Вика смотрела в окно. Дождь кончился. Насколько хватал глаз, в дымку уходил раскинувшийся внизу исполинский город. Вика снова парила над ним. И вдруг внизу огненными гирляндами вспыхнули уличные фонари. Вика даже захлопала в ладоши. Люди поднимались из-за столиков и направлялись к лифтам. Вике жаль было уходить. Но се соседи по столу, обсуждая шахматную позицию, встали. Турист восхищался. — В этом этюде то отменно, что все фигуры к патовой позиции со всей доски стянулись, — говорил Иван Тимофеевич. — Не все, — возразил Костя. — Слон на а1 стоит. Никак я не мог заставить его туда прийти. От этого и побочные были. — Это хороню, что ты сам так оцениваешь. Но успокаивайся, пока не достигнешь. И не только в шахматах. — Достигну! Вот увидите, достигну! Тяга… — многозначительно сказал Костя. На улице уже стемнело. Ветер совсем стих. И тучи не цеплялись больше за шпиль башни. Огни на ней казались звездами, но не мерцали. Костя и Иван Тимофеевич смотрели вверх и говорили о чем-то непонятном. — Трубу бы такую, — заметил Гусаков. — Вот где была б тяга! — Что вы! Выше надо. Раза в два! — О чем вы? — спросила Вика. Ей было досадно, что она и в шахматах, и, видимо, еще в чем-то ничего не понимает. — О парашюте, — живо отозвался Иван Тимофеевич, заметив рядом с Викой туриста. — Вместо лифта трубу бы сделать до самого «Седьмого неба». И чтоб в ней тяга. Подхватит парашют — и доставит вас наверх. Там стропы отстегнете — и к столику. Вика рассмеялась: — А вы тоже выдумщик. — А как же? Мы тоже «заслуженные без публики». — Из театра имени Сатира? — С театра военных действий против слепых сил природы иi неразумного человечества! — пришел на помощь старшему другу Костя. — Был очень счастлив узнать столь много интересного и красивого, — сказал турист, опять почтительно улыбаясь. — Вика! -раздался рядом тоненький голосок. — Я тебя так долго жду. Даже стемнело. Промокла вся. Теперь кашлять буду. — Катя! Л я твой билет изорвала. Не опаздывай. Ну, ничего. Мы я другой раз сюда на парашюте поднимемся. — На парашюте? — удивилась девушка. — Я сейчас тебе псе расскажу. До свидания, рыцари заоблачных замков! — Подождите! Куда? — закричал Костя, кидаясь вслед удаляющимся девушкам. — Я с вами! Гусаков и турист в плаще с декоративными матерчатыми погончиками некоторое время стояли молча. — Я хотел бы вам рассказать. — предложил турист, — если вы ничего не имеете против, об одном случае в американском провинциальном кинематографе. Гусаков молча кивнул. — Во время фильмования в кинозале вдруг зажегся спет. Перед экраном появился администратор и вежливо сообщил публчике, что у них в театре происходит сегодня учебная тpeвoга, позволяющая проверить, как быстро зрители могут быть эвакуированы в убежище. (В ту пору в Америке часто пугали советской угрозой.) Только следует прихватить с собою стулья для продолжения сеанса в бомбоубежище. Все посетители кинематографа не слеша, без всякой толкотни стали выходить со стульями на улицу. и только там замечали, что здание снаружи объято огнем. Так были спасены все люди… и стулья. — Почему вы мне это рассказали? — осведомился Гусаков. — Так. Для аналогии. Версия о смене кабеля могла предотвратить панику. Не так ли? Гусаков не ответил, только чуть неприязненно взглянул на туриста. Турист распрощался. Лицо его снова стало серьезнонадменным.Глава вторая. ТРУДНОЕ ЗАДАНИЕ
Инженер ван дер Ланге впервые приехал как турист в Советскую Россию, идя навстречу желаниям матери и расчетам отца. Его мать, Марину Макарову, во время второй мировой войны гитлеровцы вывезли из Смоленска в Германию, силой заставив работать на рейх вместе с другими иностранными рабочими. Там она и встретилась с веселым, предприимчивым великаном Максом ван дер Ланге, электромонтером. Был он младшим сыном фермера из Арнема и в детстве помогал отцу выращивать тюльпаны. Макс и Марина поженились еще в лагере для подневольных рабочих. После же освобождения английскими войсками Лахена, близ которого находились концлагеря, супруги перебрались в Голландию. Там тюльпанами вместо отца теперь занимался скупой и расчетливый Ян ван дер Ланге. Помощи брата, умудрившегося жениться даже в плену, ему не требовалось. Голландия издревле поставляла здоровых и трудолюбивых мужчин во все страны света. Недаром даже город Нью-Йорк был назван его основателями Нью-Амстердам. И Макс ван дер Ланге с женой и двумя дочерьми отправились за океан, в Канаду. Маленький Саша, как звала его мать, родился в Монреале. Мать, как и дочерей, выучила его русскому языку, на котором говорили в семье все, даже Макс, которого Марине все же не удалось уговорить отправиться по примеру других голландских семей, где жены были русские, в Советский Союз. Макс ссылался на то, что кто-то вернулся оттуда обратно, и для неги этого достаточно, чтобы не рисковать. К тому же в Канаде ему повезло, и он даже сумел открыть собственную контору по продаже электрических бытовых приборов. И дело расцветет, когда вырастет сын. Пять дочерей не в счет. Саша ван дер Ланге рос в Канаде, имея о России очень смутное представление. Он совершенствовал свой русский язык в колледже и в русских семьях. Отец считал, что знание языка — это капитал, который со временем надо пустить в дело. И когда Александр ван дер Ланге по окончании политехнического института получил диплом инженера, отец собрал денег для его туристской поездки в Россию. Эту мысль Макс ван дер Ланге вынашивал еще с Монреальской международной выставки, показывая там сынишке удивительные достижения заокеанской страны, где сумели и переломить хребет немецкому фашизму, и первыми взлететь в космос, и покорить атомную энергию. «От них всего можно ожидать», — вразумлял сына Макс. У молодого инженера ван дер Ланге был к Советской России еще и особый интерес — как к шахматному Эльдорадо, родине шахматных корифеев, перед которыми преклонялся любитель шахмат Саша ван дер Ланге. Однако когда иностранный турист из Канады Александр ван дер Ланге предпринял энергичную попытку отыскать «шахматного маэстро», случайного соседа по ресторанному столику, то справедливости ради надо сказать, что им руководила не только любовь к шахматам. Где же искать шахматиста, как не в Центральном шахматноем клубе? И Александр ван дер Лапге направился в привлекательный особняк на Гоголевском бульваре. Во всяком бизнесе должно быть везение, иначе нет бизнеса! В большом, со вкусом отделанном зале клуба проходил решающий тур какого-то турнира. И одну из центральных партий, которая демонстрировалась на доске с магнитными фигурами, играл знакомый «маэстро». Инженер ван дер Ланге осторожно сел на свободный стул в одном из последних рядов. Велико же было его изумление и даже, пожалуй, радость, когда он увидел рядом с собой «заслуженную артистку республики из театра Сатиры», с которой обедал на московской высоте. Он расплылся в почтительной улыбке. — Вот и хорошо, что вы здесь, — сказала Вика. — Будете мне объяснять, что там происходит, — и она кивнула на доску. — А то все ахают и охают, а я… — и она выразительно боднула крутым своим лбом воздух. — О, непременно! С большой охотой. Зовите меня Александром Максимовичем, пожалуйста. Ему очень хотелось спросить у своей случайной знакомой, что привело ее сюда, если она далека от шахмат, но он, с присущим ему тактом, сдержался, решив, что полезнее самому делать выводы из всего, что удается наблюдать. Александр Максимович изучающе посмотрел на демонстрационную доску. В зале слышался шорох. Зрители вполголоса обсуждали положение в партии. Иностранцу захотелось посмотреть на неравнодушных зрителей, и он сразу увидел впереди себя того самого седого человека, которому маэстро показывал свой этюд со взапмопатом. Александр Максимович наклонился к «артистке»: — Вам не хочется подсесть вон к тому господину? Он был тогда с нами «на высоте». Иван Тимофеевич Гусаков решил перед отъездом отыскать здесь, в клубе, Костю Куликова и проститься с ним. Он сразу узнал и Вику, и иностранного туриста и недовольно хмыкнул в седые усы. При этом подвинулся, чтобы те могли сесть рядом. — Что вы скажете? Как у него? — кивнула на демонстрационную доску Вика. Там стояла вот такая позиция (10). Черными играл Куликов. — Мне кажется положение черных безнадежным, — заметил Александр Максимович. — К тому же оба в цейтноте. Не осталось времени на обдумывание ходов. А вы как полагаете? — обратился он к Гусакову. Иван Тимофеевич молчал, только сопел. — Ну! — требовательно произнесла Вика и даже толкнула своего пожилого соседа локтем. — Ну же! — Не понимаю, что тут думать, — размышлял вслух иностранец, — Ведь надо успеть сделать пять ходов. Однако белая пешка неудержимо проходит в королевы. — В ферзи, — недовольно поправил Гусаков. — Это даже я вижу, — призналась Вика. — И королю ее не догнать? Костя Куликов сидел откинувшись на стуле и смотрел куда-то поверх головы противника, который при острой нехватке времени загадочно задумался над очевидным, казалось бы, ходом. Это был очень полный человек с красивыми чертами холеного лица и огненными цыганскими глазами. Из таблички, приколотой к столику, зрители знали, что это мастер Сергей Верейский, партии которого были знакомы Александру Максимовичу по шахматным журналам еще в Канаде. Вика с трудом сидела на месте. — Почему он не ходит пешкой? — все спрашивала она. И противник Кости Куликова наконец сделал ход, щелкнув кнопкой шахматных часов: 35. h4. Вздох облегчения, а может быть, тревоги пронесся по залу. Куликов сразу ответил 35…КрЬЗ и тоже щелкнул кнопкой часов. — Извините, тут еще покумекать надо, — глубокомысленно заметил Гусаков. Мастер Верейский небрежно подвинул короля к своей пешке — 36. Kpc1 — и так же небрежно потянулся к часам. — Ага! — торжествующе процедил сквозь зубы Гусаков. — Страшно стало? Мы своего ферзя с шахом бы поставили. Но… как это наш Костя доигрался до этакого? — Ну нет! Позиция еще не труп. Уверен, наш этюдист найдет что-нибудь изобрести. — Изобрести? — повторил Гусаков и покосился на соседа. — Посмотрите, извольте посмотреть! — зашептал тот. Куликов сыграл 36… Кра2. — Не оставляет его в покое, — заключил Гусаков. — Пешке что противопоставить надо? Известно что — опять же пешку! — Это справедливо, но мне пока расчет неясен, — усомнился Александр Максимович. — Кажется, белые раньше поставят королеву. — Ферзя, — раздраженно поправил Гусаков. — Простите, детская привычка есть вторая натура. — Первая, — почти огрызнулся Гусаков. Он нервничал, и Вика ощущала это всем телом. И, может быть, потому сама она не могла совладать с собой, хотя и плоховато разбиралась в происходящем на доске. Да и чего это она так распсиховалась? Кто ей этот длинноволосый юноша? Брат? Сват? Катя узнает — засмеет! И все-таки Вика смотрела на демонстрационную доску не отрываясь. Мастер Верейский невозмутимо двинул пешку к последней горизонтали — 37. h5; b5 — быстро ответил Куликов и встал, смотря на позицию сверху, потом перевел взгляд на большую висячую доску, где демонстратор передвигал длинной палкой его пешку «Ь». Костя словно сверял положение на двух досках. — От исхода этой партии зависит, наберет ли он норму мастера, — заметил Гусаков. — Ничья ему нужна, как яхте ветер, чтобы в большое плавание выйти. — Прошу простить, — удивился Александр Максимович. — Я полагал, Куликов уже маэстро. — По шахматной композиции. А тут он дубль хочет устроить: и по практической игре тоже мастером стать. — Похвально, весьма похвально. Мне очень импонирует этот молодой человек. — Вы знаете, и мне тоже! — вдруг выпалила Вика и сердито закусила губу. И вечно ее заносит на поворотах! Иван Тимофеевич посмотрел на нее с ласковым пониманием. Мастер Верейский тем временем небрежно передвинул свою неотвратимо рвущуюся в ферзи пешку — 38. h6; b4 — сразу ответил Куликов. 39. h7 аЗ 40. ЬЗ I2 — пожертвовал пешку Верейский; 40…Kpal, — не думая, отказался от нее Куликов. Ходы эти были сделаны так быстро, что демонстратор уже поз/ке стал показывать их зрителям. — Уфф! — сказал Гусаков и полез в карман за платком, чтобы вытереть лоб. — Все, — сказал он. — Теперь белые запишут свой ход. Партия откладывается. — Вот как? — разочарованно протянула Вика. — Они не закончат? — Сейчас мы Костю порасспросим, что он думает, — пообещал Иван Тимофеевич. Костя Куликов стоял засунув руки в карманы и смотрел, как трудится демонстратор. Потом отошел от столика и оказался среди зрителей. Увидел Вику, обрадовался, засиял. И тут перед ним появился Гусаков. — О! Иван Тимофеевич! — воскликнул Костя. — Я так обрадовался! — Вижу, — усмехнулся Гусаков. — Только чему тут радоваться? ферзя сейчас поставит. Костя многозначительно поднес палец к губам и указал глазами на недовольного шумом длинноносого судью. Он осуждающе посматривал в зал от столика, за которым сидел задумавшись мастер Верейский. — И чего он думает! — прошептала Вика. Костя сделал вид, что только теперь увидел ее. Снова расцнел в улнбке: — Вот не думал!.. — Я тоже не думала. Не думала, что вы так с треском проиграете. — Уверяю вас, вы недооцениваете изобретателя, — сказал с почтительной улыбкой Александр Максимович. — А, и вы здесь! — узнал туриста Куликов. — Полный стол! Что заказывать будем? — улыбаясь, спросил он. — Идея очень хороша. Кажется, совсем недалеко отсюда расположен великолепный ресторан «Прага»? Не рассмотреть ли нам там вашу позицию? — Отчего же? — согласился Гусаков. — Заодно меня проводите. Так случилось, что все четверо, встретившиеся на Останкинской телебашне, вновь оказались за ресторанным столиком и снова с развернутыми магнитными шахматами на белоснежной скатерти. — Так вот почему нельзя ставить королеву, пардон, ферзя? Как это вы показали? (12) — и Александр Максимович стал переставлять магнитные фигурки. — Если 41. Ь8Ф, то а2 42. Kpd2 Kpb2 43. Фа8 13, и что же теперь? — А теперь 43…а1Ф. — Так ведь 44. Ф : d4+ и разгром! Не правда ли? — Вовсе нет, — рассмеялся Костя. — Как так, позвольте узнать? — А чего ж тут узнавать-то? И так видно, — сказал Иван Тимофеевич и передвинул короля — 44…Кр : ЬЗ. — Пожалуйте бриться. Можете скушать ферзя на а1, или, как вы говорите, королеву 14. — И будет пат черным! — обрадовался Александр Максимович. — Я же говорил, что этюдист непременно что-нибудь изобретет. Ведь вы же прирожденный изобретатель? Не правда ли? — Да, я рассчитывал на этот пат, — сказал Костя. Вика восхищенно смотрела на него. — А теперь рассказывайте. — О чем? — Про то, как на парашюте подниматься будем в поднебесные башни-трубы. Я ведь правильно поняла ваши секретничанья? — задорно говорила она. — На парашюте? Вверх?-удивился Александр Максимович. Гусаков нахмурился. — Я имел в виду совсем не парашют, — смущаясь, начал Костя. — Я имел в виду тягу в трубе за счет разницы температур у ее вершины и у основания. Из-за этого в трубе возникает поток воздуха — тяга, и даже очень ощутимая. — Для поднятия парашютов? — поинтересовалась Вика. — Нет. Для вращения ветротурбин. При высоте трубы, скажем, в километр, при диаметре ее десять метров мощность турбины будет двадцать тысяч киловатт. — Ну, брат, и болтун же ты! — рассердился Иван Тимофеевич, отворачиваясь от молчаливо слушавшего Александра Масимовича. — И вовсе не болтун, — рассмеялся Костя. — Все подсчитанопересчитано. Перевернем энергетику Земного шара! Вот он рычаг, о котором мечтал Архимед! Не тепловые, не атомные и не гидростанции будем строить, а километровые трубы, всюду… Они ничему не помешают! Будут стоять, как исполинские деревья, и в любом месте дадут энергию, ту самую энергию, которую Солнце шлет на Землю, вечную неиссякаемую энергию. И никакого перегрева планеты! Вы сами меня, Иван Тимофеевич, натолкнули на эту идею, еще в детстве. Помните, тяга в трубе, вентилятор? А где вентилятор, там и турбину поставить можно. Вопрос количественный. Все просто. — А как же сооружать столь высокую трубу? — облизнув пересохшие губы, спросил инженер ван дер Ланге. Сердце у него так колотилось, что он прикрыл грудь салфеткой, чтобы не слышно было. Ведь на Западе энергетический кризис! «Поистине, бизнес — это прежде всего везение!» — Ничего особенного, — отозвался Костя. — Останкинскую башню построили. В Польше еще выше строят. А японцы обратились к строителю Останкинской телебашни, инженеру Никитину, с просьбой помочь выстроить дом в километр высотой. Только Никитин доказал им невыгодность такого сооружения. — Вот видишь, — назидательно сказал Гусаков. — Это для дома невыгодно, — не сдавался Костя, — а для вездесущей электростанции, бестопливной, бесплотинной… во имя спасения планеты от перегрева и отравления атмосферы… в особенности за рубежом, где с этим считаться не хотят… Вика снова, как на телебашне, залюбовалась живыми, горящими глазами Кости и волнистыми его волосами (как у принца!). — У меня диплом на другую тему был, а сейчас… я к своей мечте вернусь. — Мечта о трубе поднебесной? — почему-то шепотом спросила Вика. Костя кивнул и увлеченно продолжал: — На километровой высоте всегда зимняя температура, а у подножия трубы даже зимой теплее, не говоря уже о лете! Поэтому столб воздуха в трубе легче, чем в атмосфере, снаружи. И давление, создаваемое разницей этих весов, выталкивает внутренний столб воздуха — в трубе появляется вертикальный ветер, который и будет вращать турбину. Иван Тимофеевич даже плюнул от возмущения. — Ну и язык же у тобя… без костей, — сказал он. Потом, косясь на иностранца, стал уверять Костю во вздорности его идеи. — Ведь подумать только — километровая махина! Это какая же жесткость нужна? Говорю, язык без костей. Александр Максимович coглаcнo кивал, и это немного успокоило Гусакова. Но тут coвсем некстати вмешалась Вика. — Кстати, про жесткость и… про язык, как вы тут сказали. A вы знаете «тещин язык»? — обратилась она к Косте. Тот смутился. — Да я не женат. — Это видно. А игрушку такую — «тещин язык» знаете? — Ах, бумажная трубка, свернутая? Подуешь в нее — и развернется. — И даже стоймя поднимается, — подсказала Вика. — Да, и вертикально, — согласился Костя. — Так чего же вам еще надо? — Как чего? — А еще изобретатель! Километровые трубы, как деревья, всюду сажать хочет, — издевалась Вика. — Так то же твердые трубы! — А зачем вам неприменно твердые? Делайте «тещины языки» из мягкого материала. Вертикальный ветер у вас в трубе появится, он и надует ее, поставит стоймя. — Слушайте! Заслуженная артистка без публики! Да вы кто такая? Я вам инженерное звание присваиваю! Вы понимаете, что сказали! — Только женщина и придумает такое! — покачал головой Иван Тимофеевич. — Юбку выдумала в километр высотой. Вот уж архимакси! Вы их не слушайте, — обратился он к иностранцу. — Нет, почему же? — отозвался тот и залпом выпил стакан нарзана. — При энергетическом кризисе такие идеи ценны. — Вы же соавтором моим становитесь… по проекту! Эх, если бы вы не были артисткой! — сокрушался Костя. — Буду инженером, только для вас, — лукаво заверила Вика. — Когда доигрывание-то? — хмуро осведомился Гусаков. — Завтра утром. Ведь воскресенье. — Стало быть, утром и увидимся. У меня поезд вечером. В понедельник — на работу.Глава третья. ДОСКА-РАЗЛУЧНИЦА
Костя Куликов непоправимо опаздывал на доигрывание пар тии с мастером Верейским, чего с ним прежде никогда не случалось. Он весь был под впечатлением вчерашнего. Он провожал поздно вечером Вику до ее дома, высокой башни, которая, несмотря на то что была четырехугольной, напоминала ему «их трубу». Да, он теперь так называл задуманное им сооружение. Они с Викой смотрели на четырнадцатый этаж, где она жила, и воображали, как вертолет поднимет их мягкую трубу и как появится в ней тяга. Тогда надуется, выпрямится небывалый столб, взовьется исполинским «тещиным языком» под самые облака! Когда Вика показала Косте окно своей комнаты, там в стекле сверкнуло солнце. Пора было расставаться, а они еще так мало узнали друг друга… Если бы потребовалось написать о жизни каждого, то все уложилось бы в несколько строчек: родился, учился, кончил школу, потом институт (а Вика еще не кончила!). Говорить же об этом можно было без конца! И всякие мелочи представлялись очень важными и интересными. Вика с Костей бродили по пустынным вымытым улицам. Пешеходов не встречалось, дворники еще не появлялись. Редкие машины проносились с шуршанием шин, стыдливо торопясь исчезнуть с глаз парочки. Завернули за угол и увидели странную картину. Во дворе огромного строящегося дома приютился жалкий деревенский домишко с садом. Сквозь выломанные рамы проглядывала стена с рыжими обоями. Под окном стояла скамеечка, а перед нею цвела сирень. Ее, должно быть, хотели сохранить для сквера. Вика пожелала посидеть здесь. Когда они сели, на подоконнике показалась кошка. — Кисонька, бедная! — сказала Вика. — Жильцы уехали, тебя бросили! — Кошки привязываются не к людям — к месту. Может, она вернулась? — предположил Костя. — Что ты! Она же тощая! Я возьму ее с собой, — решила Вика и поманила кошку. Та мяукнула и перебралась с подоконника на плечо к Вике. Костя восхитился, хотя сам он драных котов не любил. Кошка терлась о Викину щеку, а Костя, завидуя ей, думал: какого же друга он себе приобрел! Нет, он не просто влюбился, что с ним бывало не раз, — он нашел свою вторую половинку, словно каждый из них предъявил другому часть древней разломанной геммы. И половинки целого сошлись. Сошлись, чтобы быть теперь вместе! И заявку на изобретение написать надо вместе: «Мягкая труба, надуваемая вертикальным ветром, возникающим из-за разницы температур у вершины трубы и ее основания, который в состоянии вращать ветротурбину, что служит использованию солнечной энергии». Какое изящное инженерное решение! Куликов и Нелидова! Каково? Так будет стоять на экспертном заключении с красный уголком, а потом и на авторском свидетельстве! К себе в комнату, которую Костя снимал в одном из арбатских переулков в ожидании, что ему, аспиранту, когда-нибудь дадут жилплощадь, он пришел скорее «рано», чем «поздно». Город уже проснулся. Вики не было, но она по-прежнему была с ним. Ложиться спать Костя не стал. Вместо этого сел за стол, достал бумагу и принялся сочинять «описание изобретения». Отложенную партию с мастером Верейским он так и не посмотрел. Описание не ладилось. Хотелось найти такую формулу изобретения, которую бы никто не смог обойти. Вот как Зингер нашел: «игла с отверстием у острия». И оказалось, что ни одна конструкция швейной машины не могла обойтись без этого запатентованного Зингером элемента. Костя спохватился, когда о завтраке уже нечего было и думать — лишь бы добраться вовремя до Гоголевского бульвара. А еще надо позвонить Вике, сообщить ей, что он уже начал писать заявку и что всю ночь думал о ней. Впрочем, ночью они вместе гуляли: сирень, скамеечка, кошка… Вики дома не оказалось. Ее мама все спрашивала, что ей передать. Заботилась о дочке! Костя сказал, что передавать ничего не надо, то есть надо… — Скажите ей, что заявка на изобретение написана. — На изобретение? — поразилась Нелидова, — Это что же, ночные скитания изобретательской деятельностью называются? — Нет, что вы! — воскликнул смутившийся Костя. Но объяснять суть изобретения по телефону было трудно, да и времени не оставалось — цейтнот! К тому же тон у Нелидовой мало располагал к технической беседе. В шахматный клуб Костя прибежал запыхавшись. Ни на кого не смотря, он прошел через зрительный зал к столикам, мельком взглянув на демонстрационную доску. На ней была отложенная позиция (15). Все ясно! Коварного пата после взятия ферзя на а1 мастерпрактик не учел. Этюд! И вдруг Костя похолодел. Он посмотрел на позицию глазами этюдиста и почувствовал, что ему не по себе. Вика, Александр Максимович и Иван Тимофеевич, сидевшие на своих вчерашних местах, заметили перемену в лице Кости, но не поняли, чем она вызвана. Длинноносый судья подошел к столику, за который уже сел Костя Куликов. Мастер Верейский опаздывал. Судья, не дожидаясь его, вскрыл конверт, назвал демонстратору записанный ход и бесстрастно пустил Костины часы. Демонстратор долго возился, отыскивая нужную фигуру (15). Потом длинной палкой передвинул пешку на h8, наконец снял ее совсем и потащил наверх палкой другую фигуру. Когда она водрузилась на верхней правой клетке, зал ахнул. Это был не ферзь, а конь! 41. h8K! И тут появился мастер Верейский. Он шел по проходу, раскланиваясь со знакомыми, щегольски одетый, в выутюженном костюме и ослепительно-белой рубашке, с небрежно расстегнутым воротником, спокойный, красивый, уверенный, только слишком полный. Костя никак не мог взять себя в руки. Его шахматные часы отсчитывали последние минуты партии. Мастер Верейский вежливо поздоровался с Костей и, как тому показалось, улыбнулся чуть насмешливо. Костя понял, что ничего тут не поделаешь, надо играть. И он сделал очередной ход — 41…Кра2. Верейский, как и следовало ожидать, сыграл 42. Крс2: Kpa1(16) — сразу ответил Куликов, грозя запатоваться следующим ходом. Но неумолимый мастер Верейский, ненужно щурясь, сделал ход 43. Kg6 и откинулся на спинку стула. Теперь попытка запатовать себя путем 43…а2 ни к чему не вела. Белые пойдут 44. Kpc1, к черные вынуждены будут взять вновь появившегося на доске коня. Белая же пешка, ощутив свободу, ринется в ферзи. Пата черным уже нет! Машинально прикинув все это в уме. Костя Куликов сделал выжидательный ход — 43…Кра2. Самодовольный Верейский передвинул коня: 44. Kf4: Kpa1 — быстро ответил Костя, и снова несносный белый конь встал под удар пешки, но теперь на другое поле — 45. Кеб: Кра2 (17)— беспомощно метался Костя. У него не было выбора ходов! Ему уже все было ясно, но он хотел доиграть до завершения найденной партнером комбинации, как и полагается в этюде. Верейский демонстративно задумался, словно не видел, что надо брать конем пешку d4, что-то еще проверял, хотя и проверять было нечего. 46. К : d4 — наконец решился он. 46…Kpa1 — все с той же фатальностью пошел несчастным своим королем Костя. 47. Ке6! — Верейский в третий раз поставил своего коня под удар пешки, и теперь белая, ничем не сдерживаемая пешка беспрепятственно отправится в ферзи, неся Косте Куликову обидное поражение. Костя встал, пожал счастливому Верейскому руку и сказал: — Поздравляю. Вы составили за доской настоящий этюд. — А как же иначе с вами, этюдистами, играть? — ответил мастер Верейский. — Экзаменовать вас надо, — и он покровительственно похлопал Куликова по плечу. Да, строгий экзаменатор «наказал» Костю за намерение «выиграть дубль», стать дважды мастером. Но не только звания мастера шахматной игры не добился Костя в этом турнире. По крайней мере в собственных глазах, он терял и звание мастера по шахматной композиции! Как же он не увидел сам этого этюда превращением пешки в слабую фигуру? Ну хорошо, мастер Верейский! Я отвечу вам по-особенному! Составлю этюд на тему превращения в слабую фигуру, но такой, чтобы он стоил сегодняшнего поражения! Костя яростно смотрел на опустевшую демонстрационную доску без фигур и прикидывал на ней мысленно схему будущего этюда. Ему так страстно хотелось «отплатить» Верейскому, что он не представлял себе ничего другого, кроме мата, который даст противнику превращенный конь. И тут кто-то тронул Костю за локоть. Он резко обернулся и увидел Вику. Но она стояла поодаль, а за локоть его взял Иван Тимофеевич. — Вот так, друг Костя, — сказал он многозначительно. Подошел и канадец. — Я восхищен этой партией. Как остроумно заставили вы его отказаться от королевы и взять себе коня! Меня вчера очень заинтересовал пат, который случился бы при ферзе белых. — Да, да, конечно! — кивал Костя, думая о чем-то своем. — Впрочем, в этюде так и полагается. Играть должны обе стороны. И изобретательно играть. — Натурально, — согласился ван дер Ланге. — В Москве я убедился, что шахматы помогают изобретателям. И тогда подошла Вика, иронично глядя на Костю. — Я же вам сказала вчера, что вы с треском проиграли. — Проигрывают всегда с треском, -примирительно заметил Гусаков. Подошел мастер Верейский, окинул Вику оценивающим взглядом знатока. — Вы бы хоть познакомили меня, Куликов, со своими болельщиками. Не всем так на них везет! — притворно вздохнул он. — По-моему, я вас где-то видел, — обратился он к Вике. «Сейчас она скажет про „заслуженную артистку без публики“, — зло подумал Костя. По Вика ничего этого не сказала, а просто по-женски (и еще как по-женски!) засмеялась. Верейский тоже засмеялся, и они отошли с ним в сторону, болтая, как давние знакомые. — Ну, друг Костя, бывай здоров. Пойду собираться на поезд. У вас в Москве такая спешка… Ну и я, как все, тоже ничего не успеваю сделать. Магазины напоследок откладывал, а они, глянь, сегодня закрыты — воскресенье. Вот так, брат. — Есть проигрыши, которые должны доставлять внутреннее удовлетворение, — сказал Александр Максимович. — Я ему поставлю мат, будьте уверены… конем! — сказал Костя Куликов. — Кому? — поинтересовался ван дер Ланге. — Кому, кому… — раздраженно повторил Костя. — Всем! Этюд такой составлю для всех. Сейчас пойду делать. — Поспешай медленно, — пожимая ему руку, сказал Гусаков. Инженер ван дер Лаиге радушно распрощался с Кулаковым. — Я верю, что ваши идеи создания энергетических ветровых труб скажут свое слово в энергетике, я ощущаю в них бизнес! К Пике Костя не подошел. Она продолжала болтать с красавцем толстяком. Костя через две ступеньки сбежал вниз по мраморной лестнице. На стенах висели таблицы турнира, в котором он мог бы, но но заработал звания мастера шахматной игры. Дома он поставил шахматную доску на черновики заявки в Комитет по изобретениям и открытиям на имя К. Л. Куликова и В. В. Нелидовой (ее звали Виктория Викентьевна). Все последующие дни Костя был сам не свой. Ни одно поражение за шахматной доской (а их, конечно, было не мало!) не заставляло его так остро переживать чувство досады. Но не то было причиной, что он недотянул пол-очка до мастерской нормы. Ощущение позора было вызвано, конечно же, тоном Вики, а потом ее непринужденной болтовней с победителем. И Костя яростно работал над задуманным этюдом, в котором запланировал «мат конем своему обидчику». Он был убежден, что Верейский встречается с Викой, может быть, ходит с ней вместе по пустынным предрассветным улицам, сидит на скамеечке, гладит бездомную кошку. Нет, обрывал сам себя Костя, такой бродить, подобно ему, по улицам не станет… Первый раз Костя Куликов составлял шахматный этюд, воображая перед собой реального противника. И ни разу он не позвонил Вике. И Вика тоже ни разу не позвонила ему, хотя он дал ей в то утро номер своего телефона. Напрасно бросался он в коридор на каждый звонок. Соседи это даже заметили. В институте начинались летние каникулы, загрузки особой не было. Костя ходил в библиотеку и просматривал все, что мог найти о ветряках, ветротурбинах и дымовых трубах, досконально изучил все методы их расчета, включая даже ветряные мельницы. В читальном зале он удивлял многих, замечавших на столе рядом с книгой, которую он изучал, раскрытую шахматную доску с магнитными фигурками. Но никто не мешал Косте Куликову. Никто не мешал, и иикто не помогал… и даже не интересовался им. Единственный человек, который все же вспомнил о нем, был Александр Максимович ван дер Ланге. Он добыл через шахматный клуб телефон мастера Куликова и позвонил ему, чтобы проститься. Его туристская поездка в СССР заканчивалась. Он побывал в Ленинграде, Киеве, Самарканде и теперь возвращается в Канаду. — В Средней Азии было очень жарко, — говорил он. — И я размышлял там о ваших энергетических трубах. Жаль, у нас в Канаде нет таких жарких мест. Однако для деловых целей это не имеет значения. Мир велик, жарких мест в нем много. И в заключение он спросил о задуманном Костей этюде. Только он вспомнил об этом! Он, а не Вика!.. Костя Куликов, желая быть вежливым, согласился на прощальную встречу в шахматном клубе, пообещав канадцу показать свое новое произведение. Александр Максимович ван дер Ланге был одет в какой-то немыслимый по расцветке спортивный костюм, какие, очевидно, носят у них там, за океаном. Галстук был бабочкой, что особо подчеркивало его обычное надменно-серьезное выражение лица. Канадец встретил Костю почтительной улыбкой и сразу же сделал удивленные глаза, разглядывая Куликова. — Да, да, я постригся, — смущенно признался Костя. — Надоела мне эта грива. — Вы стали какой-то другой. — Нет, все тот же, только с виду другой. Костя остригся «под польку» на другой же день после поражения, тщетно прождав Викиного звонка. Он снял свою пышную шевелюру, потому что ему показалось, что она нравилась Вике. Недаром на прощание она запустила в нее свои пальцы в «первое их утро»… — Без длинных волос вы стали старше, строже. Ну да бог с ней, с модой, — говорил Александр Максимович, усаживаясь рядом с «шахматным маэстро» за выбранный ими столик. — Я привык, что вы показываете позиции на магнитных шахматах. — заметил он. — Сегодня играю за столиком, — мрачно пообещал Костя. — Чтобы дать ему мат. — Кому? — Вот ему. — указал Костя на пустующий стул. — А-а! — понимающе протянул ван дер Ланге. На доске перед ним стояла вот такая позиция(18). — Белые начинают и выигрывают! — объявил Костя. — Вы позволите мне подумать? — попросил Александр Максимович. Костя встал и прошелся по залу, где за столиками любители шахмат играли легкие партии или анализировали сыгранные мастерами и гроссмейстерами. У некоторых досок он останавливался ет задумывался. Через некоторое время он вернулся к своему столику. — Ну как? — спросил он. — К сожалению, это, очевидно, слишком трудно для меня. Черные успевают провести ферзя и добиваются вечного шаха. Сдаюсь. — Сдаваться не вам надо, — решительно сказал Костя, с размаху садясь на стул, — 1. d7. — Это просто, — сказал канадец. — но у него, — и он посмотрел на пустой стул, — есть кое-какие возможности: 1…с5+ 2. Кр : f5 Cc7, и белая пешка задержана. Я правильно говорю? — Правильно. Но… продолжение следует. 3. К : с7. — О-о! Он не будет брать вашего коня, а возьмет пешку 3…ab (19) и поставит ферзя с шахом. — 4. Kd5+! — Объявляя шах, Костя даже стукнул конем по доске. — Это не так страшно. 4…Крс6. — 5. Кре6! — Как? Вы пропускаете его в ферзи? — Конечно! 5…Ь1Ф (20) 6. b5+. — Я все еще не понял. Неужели нельзя взять пешку? Если не королем из-за вилки конем на с3, то королевой? У нее будет достаточно простора шаховать белого короля, — Берете пешку ферзем? Пожалуйста! 6…Ф : Ь5 7. d8K мат! (21) — Ах, вот как! Конем, вновь рожденным конем мат? Ха-ха-ха! Восхитительно! Вы отомстили конем за коня. Но признает ли он? Ведь стул пуст. — Это неважно! Важно, что вы признали, что все истинные любители шахмат признают эту красоту. — Это в самом деле красиво? — послышался такой знакомый Косте голос. — Хочу понять шахматную красоту! Половину египетского царства за это! Он оглянулся. Вика! Александр Максимович вскочил со стула, уступая место даме. — Бьютефал, как говорят у меня на родине. Надеюсь, вы извините меня, маэстро, за то, что я предупредил нашу поднебесную спутницу по поводу демонстрирования вами вашего нового произведения. Согласитесь, что у посетителей «Седьмого неба» на это есть особые привилегии. — Жаль, Ивана Тимофеевича нет, — улыбаясь, сказала Вика. — А это хорошо, что ты постригся. Ты, оказывается, старше, чем казался. Ну, как заявка? — Я все… все тебе расскажу, — пролепетал Костя, оглядывая зал. Но того, кого он боялся здесь увидеть: в шахматном клубе не было.Глава четветая. ЧЕРНЫЙ УГОЛОК
Косте все время хотелось петь, хотя певцом он никогда не был. Улицы города казались ему нарядными, автомашины яркими. Прохожие веселыми, хотя вместо ответной улыбки он порой встречал недоуменный взгляд. Так ведь не могли же все они знать, что творилось у него на душе! А там ликовала Вика! Они с ней вдоль и поперек исходили павильоны Выставки достижений народного хозяйства, многие московские парки, побывали даже на выставке собак (до чего же умны и хороши псы!), потом на художественной выставке (нет, стремление взрослых подражать детскому рисунку не трогает сердце!), в театрах посмотрели гастролирующие труппы с периферии (и некоторые нс хуже столичных!). И всюду было чудо как хорошо! Особенно когда провожаешь Вику домой. Но удивительно много в Москве прохожих, даже в предрассветное время! Из Комитета по изобретениям и открытиям пришло уведомление о получении заявки на изобретение «энергетической трубы» от Куликова и Нелидовой. Теперь требовалось выполнить эскизный проект сооружения и… составить в честь этого шахматный этюд! С Викой было много споров. Чтобы вертикальный ветер ставил мягкое (по замыслу Вики) сооружение стоймя, требовалось или сделать трубу конической, когда сужающийся диаметр создаст подпор воздуха, достаточный для натяжения материала оболочки (зто предлагал Костя), или поместить внутри трубы парашютики, которые через стропы и прикрепленные к ним обручи поднимали бы ее (так предлагала Вика). Парашютики были ей дороги, потому чко о них говорили у подножия Останкинской башни в первый день знакомства Вики с Костей. Костя же, придумывая какие-то там завихрения из-за парашютиков внутри трубы, просто недостаточно ценил их первую встречу! В виде компромисса было решено заменить парашютики обтекаемыми яйцеобразными «поплавками», которые поднимались бы ветром без завихрений. Из-за этого технического спора соавторы едва не поссорились. Помирил их лишь поцелуй, прерванный шагами несносного прохожего. И еще увлекла Костю идея нового этюда. В шахматных задачах есть тема «прокладки пути», ее называют «бристольской». Суть ее — в парадоксальности первого хода: белая дальнобойная фигура уходит на край доски, выбывая из игры, но освобождая путь другой фигуре, завершающей замысел. Идея эта в сознании Кости своеобразно преломилась. Поток воздуха устремляется в небо, и за ним следом поднимается вся труба. Пусть белый слон уподобится потоку воздуха, устремляющемуся в небо, а вслед за ним последует белый король, олицетворяющий собой все сооружение. Так техническая и шахматная идеи переплетались в уме изобретателя, и однажды, придя на свидание с Викой, он принес eй свое новое произведение. На скамеечке за забором стройки, в их «черном уголке», как из-за цвета бревен недоломанного домика называла их местечко Вика, было уютно, но темновато. Свет уличного фонаря едва проникал сквозь листву сирени. Все же при некотором напряжении можно было разобрать позицию на карманных шахматах (22). — Понимаешь, Вика, надо выиграть! — говорил Костя. — Но как? Две лишние сдвоенные пешки при разноцветных слонах мало значат. — Ты закончил эскизный проект? — вздохнув, спросила Пика. — Нет, остались кое-какие чертежи. — Так зачем же шахматы? Ведь заключения эксперта нужно ждать со дня па день. — Но ты посмотри. Ты поймешь! — убеждал Костя. — Хорошо, — еще раз вздохнула Вика. И он стал показывать, переставляя фигурки: — 1. Ch8! — очень странный ход. Но смысл его в тoм, чтобы дать дорогу белому королю к полю g7. 1…Kpb7 2. Kpb2, нападая на черного слона и выигрывая темп! 2…С : d3 3. Крc3 (23), снова нападая на черного слона и снова выигрывая темп, теперь уже надежно обогнав черного короля! 3…Cf5 4. Kpd4 Крс6 5. Kpe5 Kpd7 6. Kpf6 Kpe8 7. Kpg7(24). Гонка королей закончилась! Цель достигнута, белый король отрезал черного от проходных пешек. Теперь: которая из пешек добежит первой? 7…c5 8.h6 е4 (25). Черные пытаются использовать то, что белый слон загнан в угол и заперт собственным королем, но белые успевают парировать последнюю угрозу противника: 9. h7 еЗ 10. Kph6 e2 11. Cc3 — и выигрывают. До тебя дошло? — Что может до меня дойти? Что ты страдаешь шахматным запоем? — Как ты сказала? Шахматным запоем? Ты с ума сошла! — Конечно! Если девушка на свидании с возлюбленным позволяет ему передвигать шахматные фигуры, конечно же, она сошла с ума. Никакая женщина в здравом уме не позволит этого! — Но ты ведь мой друг! Самый близкий друг! Как ты можешь? — Что я могу? Я ничего не могу! Я не могу даже заставитъ уважать себя. Костя смущенно спрятал карманные шахматы. — Я думал, ты поймешь, что это красиво, парадоксально. — В этом весь и парадокс, — горько сказала Вика. — Казалось, шахматы свели нас вместе, но они же и разъединяют. — Но я не хочу этого! — воскликнул Костя. — А я, кажется, уже хочу. — Ну, знаешь ли… Я все пытаюсь представить себе, что ты за человек!.. — Это так просто, — усмехнулась Вика. — «Женщина — лучший друг человека». И даже шахматиста. Ведь ты это имел в виду, говоря о том, что я самый близкий друг? Слон идет в угол… — Не смейся. Мне напрасно казалось, что ты хочешь постигнуть шахматы, чтобы нам стать еще ближе. Вика не слушала, думая о своем, наконец сказала: — Говорят, в Древнем Египте была удивительная женщина-фараон. Хатазу или Хатшепсут. Не разберу, в каком родстве или вражде она была сразу с тремя Тутмосами, первым, вторым и третьим. Но о ней говорили, что она красивее Нефертити, мудрее жрецов, зорче звездочетов, смелее воинов, расчетливее зодчих, точнее скульпторов и… ярче самого Солнца! Костя залюбовался Викой. Он готов был именно к ней отнести все необыкновенные качества древней царицы. — Я и говорю: ты — сфинкс. — А ты — свинтус! До сих пор не закончил проекта! Лучше бы я взялась за него! — Я сделаю. Непременно сделаю. — Завтра ты придешь к нам. Должна же я представить тебя своим! Принесешь проект, и мы покажем его папе. Он большой инженер. Когда Костя заканчивал общий вид своего сооружения, им овладел такой прилив радости, что он стал кружиться но комнате, изредка подбегая к столу и оглядывая чертеж, чтобы мысленно представить себе столб, дерзко упирающийся в облака. Он даже нарисовал их на ватмане (в некотором роде вольность!). Сегодня вечером предстоял визит к Нелидовым. Костя аккуратно свернул листы ватмана и спрятал их в картонный футляр дли чертежей. Потом принялся приводить себя в порядок, словно от его внешности, которой он никогда не придавал значения, сейчас что-то зависело. Он пристально рассматривал себя в зеркала. Хорошо хоть постригся из-за этого проигрыша, а то его приняли бы черт знает за кого с отпущенной гривой! Выбрит тщательно. Ямка на подбородке заметна. Не отпустить ли бородку. Впрочем, опять скажут — мода! Пожалуй, уши немного торчат, но тут уж ничего не поделаешь, и лицо кругловато. Ну и что? Русские люди круглолицы… Потом он трудился с утюгом, отлично отгладив свой единственный выходной костюм. «Как жених пойду — усмехнулся он. — Даже галстук бабочкой надену, как у Александра Максимовича при прощании. Кстати, где его письмо? Пишет, что пытается заинтересовать деловые круги Канады идеей Куликова об энергетической трубе. А кто его просил об этом? И вот еще одно письмо, от Гусакова. Иван Тимофеевич, словно прочитал письмо канадца, спрашивает, получено ли авторское свидетельство на трубу. Советует ставить вопрос о патентовании за рубежом. „Уведут, как пить дать уведут у тебя из-под носа твою идею, — мрачно заключал он. — Потому болтлив ты не в меру при иностранном гражданине. Кто его знает, как он использует услышанное“. Милый Иван Тимофеевич! Он остался в душе милиционером, наблюдательным и подозрительным. С авторским свидетельством и патентом за рубежом все будет в порядке! „Побочных решений“ не предвидится! И тут Костя вспомнил шутливые слова Ивана Тимофеевича, что шахматный этюд — это „позиция, в которой авторский замысел пока не опровергнут“. Но он отогнал от себя эти мысли и облачился в выутюженный костюм, нацепив галстук бабочкой. Получился жених хоть куда! Костя улыбнулся сам себе. Забрал футляр с чертежами и отправился к знакомой четырнадцатиэтажной башне на недавнем краю города, а теперь в одном пз его новых центров. В лифте Костя поднимался с бьющимся сердцем. Дверь ему открыла Вика. Радостная, возбужденная, она казалась школьницей десятого класса, а не заканчивающей курс студенткой. — Мама, мама! Костя пришел! Посмотри же на него! Только надень на всякий случай темные очки… Агния Андреевна Нелидова, статная дама со строгим, увядающим лицом, носила высоко взбитую прическу, напоминавшую начало двадцатого века. Только платье на ней было без шлейфа. — Здравствуйте, Константин… Афанасьевич, кажется? — Какой он Афанасьевич? Просто Костя. — Как же можно так сразу — «Костя»? Нaдо прежде познакомиться, поговорить, кое-что выяснить, пока Викентий Петрович вернется из министерства. В окно мы сразу увидим его черную «Волгу». Вика, ты займись по хозяйству, чтобы мужчинам не ждать. Этого никогда не следует допускать, а мы побеседуем с Константином Афанасьевичем. Агния Андреевна говорила властным тоном, не терпящим возражений. — Беседуйте, если это вам так необходимо, — заявила Вика и, вскинув подбородок, вышла пз комнаты. — Присаживайтесь. Вот в это кресло. А на этом всегда Викентий Петрович сидит. Привычки надобно уважать. Так будем знакомы. Вы, значит, и есть тот самый «изобретатель», который до рассвета со своей соавторшей обсуждает технические пpoблемы на улице в любую погоду? — Тот самый. — смущенно признался Костя. — Я. конечно, не могу судить о вашей затее. Вы, кажется, принесли чертежи? Их посмотрит Викентий Петрович, а я, если вы, конечно, позволите, порасспрошу вас. Значит, вы не москвич? Ваши родители с периферии? — Да. — сказал Костя и назвал свой родной город, — Мама там заслуженной учительницей стала. Три года до пенсии теперь… — А сыночек уже выучился, но к маме не возвращается, Нe так ли? — Там видно будет, — неопределенно ответил Костя. — Мама ваша — героиня! Поднять одной сына — я зедь знаю о трагической смерти вашего папы. — поднять одной сына непросто, ох непросто! Мы с Викой и то мучаемся. — Папа был летчиком-испытателем. Осталась пенсия. — Видите! Он героически служил своей Родине там, у вас в городе, в захолустье. А нынешняя молодежь, вы меня извините, непременно стремится зацепиться за Москву. Девушки, подружки нашей Вики, поверите ли, специально замуж выходят, чтобы получить московскую прописку и остаться после распределения в Москве, даже ребеночка спешат завести… Костя почувствовал, что уши его краснеют. Он смотрел в пол, готовый провалиться через все этажи. — Я. конечно, не о вас, вы не подумайте. Мы живем в тесноте, только две комнаты. Мы уступили Вике одну комиату, пока она учится, разумеется. А у вас какие планы? — Я в аспирантуре. — Комнату снимаете? Прописаны временно? — Временно. — Я так и думала. Ох уж эта молодежь! Хлопнула входная дверь. — Ну вот и Винентий Петрович! Просмотрели мы с вами его черную «Волгу». Викентий Петрович! У нас гость. Викин изобретатель. — И шахматист, если не ошибаюсь? — приятным баритоном произнес, входя в комнату, Нелидов. Приподняв плечи, он держал какой-то сверток в одной руке и зажженную сигарету в другой. Выражение лица у него было такое, словно он отмахивался от угодливых приветствий. Он не был толстяком, но его холеное, красивое лицо почему-то напоминало Косте его недавнего противника — мастера Верейского. — Не вставайте, не вставайте! Вот тут кое-что для нашeй встречи. Хозяюшки, уж вы потревожьтесь по древнерусскому обычаю. О-о! Что вижу? Футляр с чертежами? Люблю международный инженерный язык! Константин Афанасьевич, если не ошибаюсь? — Костя, просто Костя, — пробормотал смущенный гость. — Костя так Костя! Давайте раскрывайтесь полностью. Вот здесь на столе. — Что ты, Вика? Мы здесь на стол накрывать будем… — У нас двое Вик, как изволите видеть, — рассмеялся Викентий Петрович. — Вика — он, то есть я, и Вика — она, дочь, выходит. Люблю путаницу! Обожаю! На зов матери всегда вдвоем откликаемся. В этом есть некая прелесть! Итак, превосходящие силы противника оттеснили нас на журнальный столик. Вы уж извините, живем в тесноте, но министерство скоро даст мне трехкомнатную квартиру. — Пожалуйста, не витай в небесах! — вмешалась Агния Андреевна. — Говорить надо только о том, что имеешь. Викентий Петрович склонился в почтительном поклоне, потом махнул на отвернувшуюся жену рукой и стал освобождать журнальный столик. Поставил на пол вазу, настольную лампу. — Меня всегда возмущают принятые нормы: столько-то метров на человека. Не метры на человека, а по комнате на каждого члена семьи! У вас сколько комнат квартира? — Ноль, — ответил Костя. Викентий Петрович схватился за бока и шумно захохотал. — Прекрасно! Начинаем с нуля! Я тоже начинал с нуля, а вот поднялся… на четырнадцатый этаж. Новую квартиру брать буду не выше третьего: скоро годы начнут сказываться. Подождите. — остановил он Костю, начавшего было развертывать чертежи. — Покажите-ка сперва мне ваше шахматное произведение. Я, конечно, шахматист не такого ранга, как инженер, но о ваших этюдах наслышан, прежде всего от дочери, да и в печати встречал. Костя совсем смутился. Его подавлял самоуверенный тон хозяев, которые, разговаривая, слышали лишь самих себя, а не собеседника. Костя достал карманные шахматы и показал Викентию Петровичу свои последний этюд, который «не дошел» до Вики. — Любопытственно, весьма любопытственно! — говорил Викентий Петрович. — Как вы сказали? Тема «прокладки пути?» Слон уходит в угол… — Опять слон уходит в угол? — послышался голос Вики. — Кажется, я стану слоном и уйду в угол. Костя раздраженно захлопнул книжечку. — Я вам покажу потом, отдельно, — предложил он хозяину. — Как вам будет угодно, — отозвался Викентий Петрович, закуривая. — Не курите? Много теряете. Лишаете себя ощущений, а ощущения — основа бытия. Живое отличается от неживого тем, что ощущает. Вот так-то. Ну, показывайте. Труба до неба? Мне Вика рассказывала. И он начал придирчиво расспрашивать Костю о всех деталях его замысла. Воздушные поплавки со стропами, которые должны поддерживать сооружение силой вертикального ветра, ему не понравились. — Сыро, очень сыро, — резюмировал он. — Я бы лучше сделал уменьшающийся диаметр трубы. Это более инженерное решение. — Я тоже так думал, но Вика… — Не будьте у женщин под башмаком. Делайте только вид… Уступайте им во всех мелочах, но в серьезном… — и он многозначительно выпустил клуб дыма. В передней раздался мелодичный звонок. Вика побежала открывать и вернулась с письмом в руках. — Вот Костя не получил ответа из Комитета по изобретениям а я получила. Заказное. — Вероятно, мне тоже пришло. — Посмотрим. Прошу внимания! Оглашается признание! — шутливо возвестила Вика. Она разорвала конверт и вынула письмо. — Черный уголок, — сразу увидел Костя. — Что? При чем тут наш «черный уголок»? — удивилась Вика. — Отказ всегда пишут на таком бланке, — пояснил Костя. Викентий Петрович взял из рук дочери письмо с заключением эксперта и прочитал решающий абзац: «В связи с тем что предложенная система представляет собой модификацию вечного двигателя — использование рассеянной в среде энергии, — заявка рассмотрению не подлежит». — Кто подписал? — хмуро спросил Костя. — Эксперт. Какой-то инженер С. А. Верейский. — Все тот же мастер Верейский! Надо же! — и Костя, взяв письмо из рук хозяина, стал читать его, морща лоб. — Я прошу мужчин к столу! — пригласила Агния Андреевна. — Терпеть но могу, когда делами начинают заниматься, не замечая, что стол накрыт. Костя повернулся к Вике. Она смотрела на него так же неприязненно, как и после его проигрыша тому же Верейскому. Косте стало не по себе.Часть вторая. ВЕТЕР
Жизнь сама Сном, движеньем, шумом Даже тенью в людских глазах Вызывает во мне Думы. О шахматных делах.А. Безыменский. «Шахматы»
Глава первая. MAT «ЧЕРНОМУ ЭКСПЕРТУ»
Уже несколько месяцев вилась дуэль между Костей Кулаковым и экспертом Верейским. Если вспомнить о шахматах, то партия по переписке тоже тянется не один месяц. Между противниками не стоит шахматный столик с неумолимыми шахматными часами — виновниками стольких просчетов и зевков. Cвой ход можно обдуматьь в тиши кабинета или в шахматном клубе с друзьями-советчиками, на лоне природы или в библиотеке, где легко по любому литературному источнику установись, как в пoxoжем положении сыграли корифеи и что из этого вышло. Однако партии по переписке бывают от этого не менее острыми и драматичными, чeм cыгpанные с часами в зале перед публикой. Мастер по шахматам Верейский и мастер по шахматной композиции Куликов вели переписку так, словно играли решающую для каждого из них партию. И каждый был настроен по-боевому, непримерим, настойчив, начитан и изобретателен. И ни тот ни другой не желал уступить. Но в их письмах не было шахматных ходов — речь шла об энергетической трубе. Первым удар нанес Верейский. Он стремился получить решающее преимущество «в дебюте», утверждая, что попытка добыть энергию из рассеянного в воздухе тепла обречена, ибо противоречит второму принципу термодинамики. Идея «подобного вечного двигателя») рассмотрению не подлежит. Письмо эксперта на бланке с черным уголком вызвало взрыв ярости у Вики. Она заявила: — Понятно! Черный эксперт вещает, что «этого не может быть, потому что не может быть никогда!» Кстати, это из «Письма к ученому соседу». Антон Павлович Чехов! Но «игру» с требуемым хладнокровием продолжал Костя. Он послал эксперту официальное возражение авторов: «Определять изобретение как антинаучное неверно. Речь идет не просто об использовании рассеянного в атмосфере солнечного тепла. а об использовании энергии Солнца. Воздух у поверхности земли обладает более высокой температурой, чем на высоте, скажем. километр. В природе практически существует температурный перепад, его надо суметь использовать. Этот перепад подобен искусственно создаваемому за счет сжигания горючего в тепловой машине, работающей по циклу Карно. Разница лишь в том, что в предлагаемой схеме роль нагревателя играет не топка парового котла или камера сгорания, а Солнце, нагревающее поверхность Земли и прилегающие к ней слон воздуха. «Холодильник» же (верхние слои атмосферы) охлаждается не с помощью градирни или радиатора автомашины, а влиянием космического пространства. Таким образом, ничего антинаучного в предложенном изобретении нет». Вика подписывала вместе с Костей ответ эксперту и говорила: — Где ты научился такому самообладанию? Я бы просто обругала этого несносного толстяка. А еще глазки мне строил! — В шахматах не приняты кулачные варианты. Ругань — аргументация неубедительная. Противника надо обезорyжить, получить позицонный перевес и разгромить. — Ты — прелесть! Начинаю уважать твои шахматы! Bика покзала переписку с экспертом отцу. И в один из вечеров, когда Костя, зачастивший к Нелидовым, был у них, Викентий Петрович как бы невзначай спросил: — Ну как партия с экспертом? — Что ж, — усмехнулся Костя, — партия как партия. Из дебюта вышла. Преимущества противник не получил и, пожалуй, переходит от нападения к защите. Викентий Петрович долго смеялся. Потом, красиво сощурясь, сказал: — Пре-вос-ходно! Вы, друг мой, склонны разделить борьбy с экспертом на шахматные стадии: дебют, миттельшпиль, эндшпиль? — Шахматы отражают некоторые жизненные ситуации, — отозвался Костя. — Возможно, возможно. Однако я посоветую вам иметь в виду три ступеньки пьедестала признания нового. На первой высечено: «Это антинаучно». И все тут! Поворачивай назад. Ежели устояли, поставили на первую ступеньку ногу, то на второй прочтете: «Это необоснованно». Тут уж придется попотеть с техническими деталями. Все предусмотреть, опровергнуть всякие обидные возражения и сомнения, терпеливо предолевать непонимание, порой тупое, даже злонамеренное, оскорбительное. Ну, а ежели и это пройдет, то… — Что же тогда? — заинтересовалась Вика. — Кажется, уже больше нечего ждать. — Не стоило бы вам говорить, охлаждать ваш пыл, но уж все-таки скажу, в образовательных целях. Давайте я налью всем по рюмочке венгерского токайского. Имейте в виду — любимое вино царя Петра Великого! Он заказывал своей Катеринушке везти с собой бутылки в любой поход. Так вот. Ваше здоровье! За «мат эксперту»! До дна, до дна! Не то не сбудется. Вика поставила пустую рюмку, пристально глядя на отца. — Мат эксперту будет, — мрачно пообещал Костя, выпивая свою. — Но прежде он вас огорошит. — Чем? — Тем, что это давно извести о. И нет тут никакой новизны. Вот вам и третья ступенька. — Нет уж позвольте! — запротестовали Костя с Викой. Викентий Петрович откинулся на спинку кресла и словно оценивал, насколько соавторы подходят друг к другу. Потом сказал: — От души желаю, чтобы Комитет по изобретениям и открытиям преподнес вам свадебный подарок. — Боюсь, что в глубокой старости нас во Дворец бракосочетания не пустят! — запротестовала Вика. Однако само собой получилось так, что дальнейшая судьба молодых людей зависела теперь от исхода затянувшейся дуэли. Партия с инженером Верейским продолжалась. Конечно, на его стороне была «грубая сила», положение судьи на ринге. Миттельшпиль складывался по предсказанному Викентием Петровичем плану: «Предложение необоснованно и выгод не сулит». Верейский написал, что «энерготруба не способна к регулярной работе, ибо тепловой перепад всегда различен: в ясный день или непогоду, летом и зимой, днем и ночью. А потому рассчитывать на сколько-нибудь серьезное применение предлагаемой установки нельзя». Вика старалась вывести Костю из спокойного состояния. Все же ответ был сдержанный: «Энерготрубу нельзя рассматривать как единичное сооружение. Множество таких установок на всем Земном шаре будет объединено Всеобщим Энергетическим Кольцом, средняя мощность которого окажется постоянной. Энерготрубы можно сочетать с другими установками использования солнечной энергии, излучаемой на Землю в одинаковом количестве в любое время года». Эксперт не без сарказма указал на «изобретательскую наивность» соавторов, ибо расчет на огромное число энерготруб делает рассматриваемое предложение столь фантастичным, что его трудно использовать даже в научно-фантастическом романе. Вика вспылила. Составление ответного письма «турецкому султану», как она теперь называла толстого эксперта, Вика взяла на себя. Она заставила Костю и хохотать и гневаться, как заправского «лыцаря с чубом» с картины Репина, когда соавторы сочиняли очередное письмо, полное скрытого яда. «Эксперт, отрицая предлагаемый переворот в энергетике, может быть, хотел бы уподобиться Резерфорду, отрицавшему применение атомной энергии, которую сам же открыл? Однако стоит вспомнить, что категорические суждения о якобы непреодолимых рубежах техники всегда терпят крах». Как известно, турецкий султан не вступал в эпистолярную полемику с запорожскими казаками, а попросту хватался за ятаган. Разгневанный эксперт тоже ухватился… за крючок и прицепился к тому, что изобретатели используют запрещенный прием, привлекая как аналогию атомную энергию. «Запорожцы» хохотали и старались превзойти самих себя в выдумке очередного хода. И Костя действительно превзошел, на то он и был этюдистом. В письме эксперту говорилось, что «великий ученый Резерфорд совсем не зря исключал возможность использовать ядерную энергию в технике. Но это не ошибка ученого, а дальновидность гуманиста! Понимая, к чему может привести использование расщепления ядра, и желая предохранять человечество от гибели, Резерфорд пытался увести ученых с опасного пути. Однако есть ли такие основания у эксперта?» Тут «турецкий султан» совсем не выдержал. За такие слова «на кол сажать надо!» В резкой форме он указал изобретателям, что «никому не дано права на домыслы и вольные толкования мыслей великих ученых, сделавших эпохальные открытия». Вика торжествующе показала отцу переписку с экспертом. Викентий Петрович развел руками. — Ну и ну! У нас в министерстве за такую, с позволения сказать, переписку знаешь, что было бы? Впрочем, честное слово, мне вге больше нравится твой Костя. Право же, недурная гипотеза о мотивах Резерфорда! Дерзкая, но уважительная к имени ученого. Правда, как это можно допустить, будто тонкий ум, проложивший дорогу к овладению ядерной энергией, так вульгарно заблуждался, не видя ясных перспектив? Пожалуй, на его месте я поступил бы так же. Прикинулся бы слепцом. Как ты думаешь, Агния Андреевна? — Ничего я не думаю. Боюсь только, как бы дочь наша не была несчастлива, выйдя замуж за изобретателя. — Изобретатель — это звучит гордо! — дразнящим тоном произнес Викентий Петрович. — Ну уж и «гордо»! Пока что просто «бодро». А как дальше будет звучать, без жилплощади и солидного положения, право, не знаю. Во всяком случае, наша с тобой жизнь вошла в колею, когда ты наконец бросил изобретать. — Вовремя остановиться — это великая вещь! — назидательно заметил Викентии Петрович и пододвинул к себе тарелку с приготовленной по особому способу уткой. Агния Андреевна готовила ее в оберточной бумаге, начинив сметаной и помещая в духовку. Обильный сок оставался внутри необыкновенно вкусного мяса. Вика резко отодвинула от себя тарелку. Глаза ее метали молнии. Может быть, Костя нашел бы сейчас, что она в самом деле походит на древнюю египетскую царицу Хатшепсут?.. Все же Костя не удержался и перевел «партию» с Верейским на шахматную доску. Он задумал этюд на «посрамление грубой силы». Пусть у черных будет огромное материальное преимущество, которое окажется бессильным против изобретательности белых. Постепенно, ход за ходом (он составлял этюды с конца, от завершающей позиции, стремясь содержательной борьбой прийти к ней) положение оттачивалось на его доске. Черные, несмотря на своего лишнего слона и ферзя за ладью белых, вынуждены были подчиниться воле противника и, защищаясь от грозящего мата, занять своими мощными фигурами поля вокруг короля, дав возможность слабой пешечке нанести решающий удар. Этюд обещал получиться красивейшим произведением. Костя даже вспомнил о канадце ван дер Ланге. Ему бы показать этот набросок, он сумел бы оценить! Кстати, давно нет от него никаких известий. Сумел ли он заинтересовать деловые круги за океаном энергетической трубой? В каком положении оказался бы Костя Куликов, который ведет нескончаемый спор с экспертом по поводу заявки на изобретение, если бы канадский инженер появился вдруг перед ним? Пришлось бы показывать ему вот эту позицию: «Белые начинают и выигрывают». И Костя расставил на доске свой новый этюд (26). Или показать канадцу, что пишет Верейский? В последнем письме он возражал против «парусности» трубы, приводил математический расчет, доказывающий, что сил внутреннего ветра окажется недостаточно, чтобы удержать сооружение в вертикальном положении при сильном боковом ветре. Костя ответил ему, что при детальном конструировании могут быть предусмотрены несущие плоскости, подобные самолетным крыльям. Благодаря выбранному углу атаки при ветре появится несущая сила. Она поддержит сооружение и не даст ему упасть. Труба сама установится в равновесии под нужным углом. Что ж, партия с экспертом перешла в заключительную стадию. Костя перевел глаза на шахматную доску. Чем не получившаяся в жизни позиция? Черными играет эксперт. У него ферзь за ладью и лишний слон, как бы знаменующие право безапелляционного суждения. За нами право первого хода! 1. ЛЬ7+ Кра6 2. Kpb8, грозя матом на а8. Приходится черному ферзю вметаться. 2…Фb8+ 3. Крс7. Теперь, казалось бы, черный эксперт получил передышку. Непосредственной опасности вроде нет. И, не теряя времени, черные могут пожертвовать слона в виде решающего «возражения» и развязаться. 3…С : d5 (27). Но не тут-то было! У белых припасено «контрвозражение»! Не угодно ли? 4. а8Ф+. Да, да, уважаемый черный эксперт! Вам жертвуют ферзя. Брать необходимо. У вас ведь такое подавляющее преимущество «безапелляционности»! Грубая сила! Хочу приму, хочу отвергну. И на всякий ход изобретателя есть свой «противоход». А как теперь? Взяли ферзя? 4…Ф : а8. Прекрасно! Продолжим комбинацию. 5. ЛЬ6+ Кра7 6. Ь5. Что? Неприятно? Отдавать ферзя не хочется? Жалеете, что слон останется под ударом? Ничем не могу помочь. Конечно, угроза мата ладьей на а6 -очевидна. Пожалуйста, защищайтесь, подтягивайте слона. 6…Cb7 (28). Единственное! Теперь апофеоз! 7. Ла6+ С : а6 8. b6Х. Мат! Мат эксперту, мат черному эксперту! Ах, если бы Вика могла понять эту красоту! Одновременно зазвонили телефон и звонок в передней. Телефон висел в коридоре у входной двери. Костя одной рукой снял трубку, другой открыл замок. Почтальон передал ему письмо из Комитета по изобретениям и открытиям. Звонил же Нелидов. Звонил из министерства, а не из дома. Этого еще не бывало! — Константин Афанасьевич? Очень рад, что застал. Как самочувствие? Прекрасно! Так вот. Вам необходимо срочно приехать ко мне в министерство. Секретарша встретит вас, проводит. Повторяю: очень важно. Действуйте, как в цейтноте. Привет. Жду. Что такое? Разве так договариваются о свадьбе? А от Вики звонка нет. Или она не в курсе замыслов отца? Он, конечно, на ее стороне. Тянет Агния Андреевна… Костя стал спешно одеваться, как полагается жениху (который уж раз!). И невольно косился на шахматную доску с матом, который он объявил эксперту. И тут он вспомнил о полученном письме. В нем сообщалось, что «предлагаемое сооружение не представляет новизны и не может быть признано изобретением, поскольку было предложено еще Гюнтером для энергетических целей». Костя даже присвистнул. До чего же прав оказался Нелидов! Должно быть, не зря он сидит на высоком месте в министерстве! Третья ступенька к признанию нового, как он и предсказал. Все по правилам. Теперь — «это давно известно». Так чего же вы, уважаемый черный эксперт, морочили нам головы с антинаучностью, потом с невыгодностью и невыполнимостью сооружения? А оно, видите ли, давно известно! Да, Нелидову это будет интересно показать. Он любит, когда оказывается прав. И Костя помчался в министерство, захватив с собой последнее письмо эксперта и, конечно, шахматы в изящной книжечке. Велико же было его изумление, когда в приемной высокого начальника, куда проводила его хорошенькая секретарша, он увидел… Александра Максимовича ван дер Ланге. Тот поднялся ему навстречу со знакомой Косте почтительной улыбкой на надменно-серьезном лице. — Товарищ Нелидов сейчас прервет заседание и примет вас, — многозначительно объявила секретарша. Канадец почтительно кивнул. Костя оторопело стоял посередине приемной. Из кабинета через двойную обитую дверь выходили озабоченные солидные люди с колодками орденов и медалями государственных премий. Нелидов с радушным видом сам вышел в приемную. На лице его под гостеприимной улыбкой угадывалась смесь довольства и занятости.Глава вторая. РЕВАНШ
— «Электрик пайп компани», что я имею честь представлять, — начал инженер ван дер Ланге, когда Нелидов не сел за свой письменный стол, а опустился в мягкое кресло напротив гостя. Костя Куликов устроился рядом на стуле, — эта компания уполномочила меня приобрести лицензию на право использования сделанного господином Куликовым и его соавтором изобретения «Энергетическая труба». Я полагаю, что дальнейшая совместная советско-американская разработка плодотворной технической идеи родившейся в вашей стране, поможет грядущей революции в мировой энергетике. Костя внимательно следил за выражением лица Викентия Петровича. Оно излучало гостеприимство и деловой интерес. Ни один мускул не дрогнул на нем при упоминании о лицензии А ведь он прекрасно понимал, что ни о какой лицензии пока и речи не могло идти при отсутствии не то что заграничных патентов, но даже авторского свидетельства в СССР. И только глаза его чуть-чуть скосились на Костю. Костя решил, что Викентий Петрович мог бы быть неплохим шахматистом, так умея владеть собой. Когда канадец изложил свое предложение, Нелидов расплылся в улыбке. — Будущее человечества — в совместной деятельности передовых стран как в космосе, так и на Земле. Как известно, первые шаги в этом отношении принесли людям немало пользы. Мы ценим интерес вашей фирмы к новым идеям в области мировой энергетики. Перспектива энергетических труб — в их массовом применении в различных климатических зонах. — О да! — отозвался канадец. — Потому наша компания и называется «Электрик пайп компани». Повсеместное сооружение энергетических труб потребует их соединения Всемирным Электрическим Кольцом высокого напряжения. Ясные дни в одном месте будут компенсировать непогоду в другом; лето в Северном полушарии — зиму в Южном. Надо стремиться к тому, чтобы суммарная мощность Электрического Кольца была бы более или менее постоянной, как неизменно солнечное излучение. — Совместное решение таких грандиозных технических задач возможно лишь при дружбе и сотрудничестве различных стран, — с подчеркнутой значительностью заметил Нелидов. — О да, — согласился ван дер Ланге. — Я уже научился немного мыслить так, как принято у вас в Советской России. Великое Электрическое Кольцо, опоясывающее Земной шар, которое намерено соорудить наша компания, могло бы называться «Кольцом Дружбы всех народов». Не так ли? — Очень правильная мысль, — подтвердил Викентий Петрович. — Ваша инициатива столь примечательна, что вы, надеюсь, не будете возражать, если я тотчас же сообщу о ней более высоким инстанциям. Не могли бы вы, господин ван дер Ланге, посидеть некоторое время с вашим давним знакомым — инженером Куликовым, побеседовать с ним, скажем, о шахматах, к которым у пас с ним общий интерес, пока я воспользуюсь преимуществами современной связи. Л видеосвязь у нас, к сожалению, в специальном кабинете. Bы уж извините меня. — Конечно, конечно, господин Нелидов! Я буду рад общению с маэстро Куликовым. Надеюсь, у него есть кое-что новое в области шахматных этюдов. — Я не прощаюсь и еще раз прошу извинить, — сказал Нелидов, степенно направляясь к двери. Костя Куликов не знал, что намерен предпринять Викентий Петрович, но догадывался, какие силы могут быть пущены сейчас в ход. Предвидя это, он проводил Нелидова до двери и сунул ему конверт с последним письмом эксперта. Костя вернулся в кабинет и подсел к гостю, который, почтительно встав, когда Нелидов поднялся, чтобы выйти, теперь с удовольствием опустился рядом с Костей уже не в кресло, а на стул: — Вы не представляете себе, Константин Афанасьевич, как велико было впечатление, произведенное на меня вашей страной после моей первой поездки на родину моих предков. Мой отец очень интересовался всем, что я увидел в России. Он стал одним из директороввновь созданной компании. Конечно, мы не могли обойтись без капиталов Соединенных Штатов Америки. Наши акции приобретены крупнейшими американскими компаниями, и в этом залог нашего преуспеяния. Однако мы сохраняем независимость. Я бы сказал, что это будет «умеренная независимость», — и он засмеялся. — Вижу, вы немало поработали, Александр Максимович. — Я суеверен, господин Куликов. И, поскольку наш бизнес начался, если позволено сказать, с вашего замечательного этюда, я и сейчас хотел бы освятить начало нового этапа нашей деловой деятельности знакомством с еще одним, я не сомневаюсь в том, превосходным произведением. Костя понял, что ему надо выиграть некоторое, необходимое Викентию Петровичу, время. Он мысленно представил себе его за аппаратом прямой связи, к которому он пригласил если не эксперта Верейского, то, возможно, кого-нибудь из его руководителей. Нелидов достаточно разбирается в сути дела, чтобы опровергнуть нелепое возражение эксперта об «отсутствии новизны» с ссылкой на якобы имеющегося предшественника изобретения — предложение Гюнтера. Идея Гюнтера была схожа с Куликовской (об этом прекрасно знал и Костя). Гюнтер тоже высказал идею создания искусственного вертикального ветра в высокой трубе, используя его энергию в ветротурбинах. Но он не шел дальше того, чтобы приспосабливать подобные сооружения к рельефам местности, в частности предлагая, воспользоваться километровым уступом Сахары, граничащей с плоскогорьем, для сооружения огромной «ветровой энергоцентрали». Конструктивное решение у Кости и Вики, рассчитанное на повсеместное применение, было совершенно иным, чем у Гюнтера. А идея, как известно, не патентуется. Патентуются лишь конструкции — реальные выражения идей. Все это Викентий Петрович может объяснить руководителям Комитета по изобретениям и открытиям, от имени которого вел переписку эксперт Верейский. Ведь нельзя же допустить, чтобы вновь созданная заокеанская компания безвозмездно воспользовалась советской конструкцией, которая потом -что, увы, бывало уже не раз! — вернулась оы к нам из-за рубежа, как, например, изобретенная в СССР профессором Ощепковым радиолокация, конструктивное воплощение которой пришло к нам после Великой Отечественной войны из-за границы. Думая обо всем этом, Костя показал Александру Максимовичу свои последний этюд, который должен сегодня появиться в шахматном отделе одной из центральных газет с посвящением С. Верейскому. Еще вчера по просьбе редактора этого отдела, всемирно известного гроссмейстера, он продиктовал позицию по телефону. Гроссмейстеру этюд очень понравился. Он решил тотчас же опубликовать его. Пусть это будет сюрпризом «черному эксперту» в дополнение к телефонному артиллерийскому обстрелу, который ведет сейчас из соседнего кабинета Нелидов. Этюд с матом белой пешечкой на Ь6 понравился Александру Максимовичу не меньше, чем международному гроссмейстеру. Канадец со вкусом несколько раз просмотрел на карманных шахматах Кости главный вариант, смакуя «посрамление грубой силы», когда черные ферзь и слон «послушно» занимали места по обе стороны своего короля, позволив тем слабой белой пешке заматовать его. По сияющему, удовлетворенному лицу вернувшегося Нелидова, по его барственным жестам и самодовольному тону Костя понял, что десять минут его отсутствия сделали больше, чем месяцы упорного спора самого Кости с Верейским. — Что ж, господин ван дер Ланге, — говорил Нелидов, усаживая вскочившего при его появлении гостя и занимая на этот раз место за своим письменным столом в знак новой фазы в их отношениях. — Ваше предложение, сделанное от имени новой Всемирной электротехнической компании, нами будет рассмотрено благожелательно. Со своей стороны мы не возражаем, чтобы экспериментальные строительства энергетических труб у нас в стране и у вас за океаном, если не будет против этого ваших возражений, велись бы параллельно с откровенным обменом информацией. Каждая из сторон, как мы понимаем, заинтересована в успешном преодолении всех могущих встретиться трудностей. Кстати, в соответствии с Женевским соглашением по патентному делу за нами остается право в течение года оформить патенты в ваших странах. — Я очень рад, господин Нелидов, что вы сами предлагаете план, который я хотел представить вашему вниманию, — оживился канадец. — Надеюсь, финансовая сторона вопроса не расстроит наших с вами совместных усилий. — Поверьте, это уже не моя компетенция, я буду занят лишь технической стороной. Финансовые вопросы вам предстоит решать с нашими специальными организациями, занятыми продажей лицензий. — Я не сомневаюсь в успехе начинающегося дела, — заверил канадец. — Чтобы умножить капитал, надо сперва его вложить. Получив адреса организаций, с которыми ему предстояло теперь иметь дело, канадец распрощался с радушными хозяевами, пообещав Косте позвонить ему вечером домой из шахматного клуба. — Шахматисты — это масонское братство! — с виноватой улыбкой объяснил он Нелидову. Нелидов задержал Костю у себя в кабинете. — Можете передать своему соавтору, — официальным тоном сказал он, — что решение о выдаче вам двоим авторского свидетельства принято. Эксперту Верейскому указано на недопустимость проволочки и необоснованность его возражений. Словом, можете считать, что обещанный ему мат вы дали — и Викентий Петрович благодушно улыбнулся. — Тем Солее, — продолжал он, беря со стола сегодняшнюю газету, — что вы, Константин Афанасьевич, довели это до сведения широких шахматных кругов, — и он показал на последней газетной странице напечатанный этюд Кости с многозначительным посвящением С. Верейскому. Каждый понимающий шахматист разгадает скрытый смысл мата пешкой! Сергей Александрович Верейский был вне себя от ярости. Он не привык, чтобы его отчитывали, как провинившегося школьника. Он дорожил своей славой непогрешимого эксперта Комитета по изобретениям и открытиям. История с «энерготрубой Куликова и Кё» нанесла его самолюбию чувствительный удар. А самолюбие было фундаментом его характера. Инженер Верейский считался на редкость одаренным человеком. Он слыл не только даровитым инженером и грозой самодеятельных изобретателей, был не только прославленным шахматным мастером, подводным камнем для гроссмейстерских линкоров, но и всесторонне развитым, культурным человеком. Он неплохо писал рассказы о шахматистах, готовил в печать целый сборник, любил театр и даже поставил две свои пьесы о промышленном шпионаже за рубежом. Он свободно говорил по-английски и по-французски, изучал классиков мировой литературы в подлинниках и мог бы вести курс о них даже в вузе. Его способности читать с молниеносной быстротой мог бы позавидовать каждый. Верейскому было достаточно взглянуть на печатную страницу, чтобы она как бы отпечаталась в его мозгу. Он не воспроизводил написанное ни по слогам, ни по словам, даже ни по строчкам. Он читал страницами! Многие сомневались, что от такого чтения есть толк. И он любил держать пари с маловерами, заранее зная результат. Ему давали прочитать незнакомый текст, на который он бросал лишь беглый взгляд, а потом с поразительной точностью повторял его слово в слово, будто долго заучивал наизусть. Так он «наказывал» пораженных маловеров, подобно тому, как наказал когда-то Костю Куликова за шахматной доской. Выиграв пари, он строго требовал выплаты проигрыша. Ему мало было посрамления противника, тот должен был раскошелиться. Для Верейского это было одной из форм игры, которая всегда захватывала его, будь то шахматы, бега или преферанс. Подшучивая над этой своей «слабостью», Верейский любил намекать на свое чуть ли не княжеское происхождение, виня во всем гены предков. С чувством внутреннего превосходства он не разуверял наивных людей, спрашивавших его, имеет ли город Верея отношение к родовым имениям его предков. В любом кругу Сергей Александрович умел быть душой общества, особенно дамского. Его внешность, аристократические манеры, феноменальная начитанность производили очень выгодное впечатление. Но для того, чтобы понять его глубже, нужно было за всем внешним его блеском угадать стремление к самоутверждению. С детства он был предоставлен самому себе, мать с отцом разошлись, забросив сына. Он добивался в жизни всего сам. И потому, может быть, в нем выработалась некоторая враждебная отчужденность к людям, потенциальным своим противникам. И он жил, чтобы побеждать и в борьбе и в игре. Внимание к себе как возможному эксперту по изобретениям инженер Верейский привлек своей нашумевшей статьей «Да и нет». Он писал, что слишком часто в самых различных областях людям, принимающим решения, выгоднее сказать «нет», чем «да». Скажешь «да» — и взвалишь на себя ответственность принятия или признания чего-то нового. Не оправдается «признание», не окупится новшество в технике, не подтвердится научное открытие, не будут приняты публикой пьеса или литературное произведение — того, кто сказал «да», можно призвать к ответу. Другое дело сказать «нет». «На нет и суда нет!» Если человек, отвергнувший новинку, окажется неправ, его пожурят, но к ответственности не притянут и, как правило, вообще не вспомнят. Так Сергей Александрович обрушился на безответственное «нет» всех перестраховщиков и ретроградов. Он призывал к тому, чтобы отрицание было не менее обоснованным, чем принятие, не менее доказательным и убедительным, а главное, не менее ответственным. Ошибка человека, сказавшего «нет» и тем затормозившего прогресс, должна быть для «отрицателя» столь же неприятной, как и ошибка неправомерного признания заведомой нелепости. Полемика, вызванная статьей Верейского, привлекла внимание к ее автору. И скромный научный сотрудник одного из НИИ, более известный как шахматист, получил приглашение Комитета по изобретениям и открытиям занять место штатного эксперта. На новом месте Верейский показал себя с неожиданной стороны. Он давал по преимуществу отрицательные заключения на любые заявки. Для него стало делом чести, престижа, наконец, болезненного его самолюбия так отвергать заявки, чтобы обезоружить заявителей. Он гордился тем, что у него больше обоснованных отказов, чем у кого-либо другого из экспертов. Борьба с заявителями стала для него новой спортивной игрой, которую он обязан был выигрывать. И, как правило, это ему удавалось. Поэтому сейчас, выйдя из кабинета с двойной обитой дверью. Сергей Александрович чувствовал, как горят его уши и что у него есть сердце. Боль отдавала в левую руку. И тут секретарша Лиза, тайно влюбленная, как и многие другие сотрудницы Комитета, в красавца Верейского, желая сделать приятное, протянула ему свежий выпуск газеты. — Здесь о вас. То есть вам, — смущенно поправилась она. — Вам посвящается. — И вздохнула. — Как приятно быть таким известным! Была Лизочка простоватой толстушечкой и внимания к себе Верейского никогда не привлекала. Он рассеянно взял из ее рук газету и увидел этюд К. Куликова — «Посвящается С. Верейскому»). «Белые начинают и выигрывают». «Опять этот Куликов! Только что получил из-за него оскорбительное внушение. Ему мало изобретать абракадабру, он еще и этюд посвящает наверняка с эффектным матом, чтобы оскорбить! Ладно, инженер Куликов! Ладно, мастер по композиции! Если в споре об энергетической трубе с помощью давления сверху ваша взяла, то на шахматной доске торжествует лишь абсолютная истина!» И мастер Верейский решил во что бы то ни стало докопаться до этой абсолютной истины и опровергнуть посвященный ему этюд. И вместо оформления принятой заявки Куликова и Нелидовой он погрузился в глубины шахматной позиции. С досадой снял он трубку трезвонившего телефона и довольно резко ответил обожавшей его жене, просившей прийти сегодня пораньше домой, что будет очень занят. Мастер Верейский был превосходным шахматистом. Возможно, он мог бы стать гроссмейстером, будь у него покрепче нервы. Но сейчас, когда его не ограничивали часы и нервная обстановка турнира, все свои шахматные силы, удесятеренные злостью задетого самолюбия, он обрушил на этюд Куликова. И результат не замедлил сказаться. Оказывается, в позиции, получавшейся после первых ходов авторского решения: 1. ЛЬ7+ Кра6 2. Kpb8 Фh8+ 3. Крс7, нашлись скрытые возможности защиты у черных (29). Автор рассчитывал, что черные возьмут слоном на d5, после чего серия блестящих жертв белых приводит к мату одной пешкой. Но черным вовсе не обязательно бить на d5, они могут сыграть хитрее, просто жертвуя слона на е6-3…Се6!, и теперь авторский замысел не проходит, потому что после 4. а8Ф+ Ф : а8 5. ЛЬ6+ Кра7 6. Ь5 у черных есть спасительный шах ферзем на с8. Никакого мата черным нет! (30). Сергей Александрович тотчас же нашел по телефону международного гроссмейстера, редактора шахматного отдела газеты, и с притворным огорчением сообщил ему: — Мне очень жаль опровергать этюд, посвященный мне, но «Платон мне друг, но истина дороже!» Потому прошу вас известить читателей, что… — и он продиктовал свое опровержение. Так он взял реванш за утреннее поражение. — Учить вас надо, — сказал он невидимому противнику. После этого ему пришлось заняться оформлением выдачи авторского свидетельства К. А. Куликову и В. В. Нелидовой («Не дочь ли это самого Нелидова, вмешавшегося в это дело?» — подумал он). Кончив работу, он вспомнил о жене, ждавшей его сегодня пораньше с работы, и потянулся к телефону. Но позвонил он одной из своих поклонниц-шахматисток. Имел же он право показать свою сегодняшнюю находку той, которая поймет ее! Об опровержении своего лучшего матового этюда Костя Куликов узнал в тот же день в шахматном клубе, где встретился с Александром Максимовичем. К их столику подошла броско одетая яркая брюнетка. Она ожгла взглядом иностранца и попросила Костю отойти с нею на минутку к другому столику. Там она показала ему опровержение его этюда, найденное мастером Верейским, чьей ученицей и была Зоя Крейцер, довольно сильная московская шахматистка. Костя поблагодарил «злую черную вестницу», как он шутливо сказал, и мысленно обругал себя за спешку. — Что-нибудь неприятное? — осведомился ван дер Ланге, когда Костя вернулся. — Эффектная дама огорчила вас? — Ничего особенного. Впрочем, я не о ней, а о себе. Мы обменялись с тем же мастером Верейским ударами, как на ринге. Последний удар остался за ним. Ван дер Ланге бросил украдкой взгляд в сторону столика, куда отходил Костя, и сказал: — Но ведь следующий ход ваш!Глава третья. ДРУЗЬЯ-ПРОТИВНИКИ
«Милая моя Катя! Как летит время! Досадно, что мы с тобой не держим слово и не пишем друг другу так часто, как решили после распределения. Но я постараюсь исправиться и во всяком случае рассказать тебе сейчас если не все, то самое главное. Ты поступай так же. Что же у меня самое главное? Не знаю, с чего начать. Ты была на нашей свадьбе. Конечно, это и есть главное, но теперь я начинаю понимать, что главное у меня еще и мой Никитка. Ты не представляешь, какой он крохотный, беспомощный, какие у него игрушечные ручки и ножки, какие милые складочки! Он смотрит на меня своими круглыми, удивленными глазенками а я воображаю, что он что-то понимает. Когда-то он еще начнет понимать и кем станет? Как только он родился, мама настояла, чтобы мы переехали с Костей и Никиткой в их новую квартиру. Папе дали четырехкомнатную, так что мы не очень уж стесним родителей. Кроме того, без нас троих большую квартиру трудно было оформить. Но теперь все устроено. Папа доволен. Он ведь души во мне не чает! Мама же обожает малыша, не дает мне ничего делать. Теперь я даже не представляю, как бы могла обойтись без нее. Она следит, чтоб кормила строго по часам, не позволяет ребенка брать на руки, а с пеленками у нее целая конвейерная система — массовое производство: стирка, сушка, глажка. И священнодействие завертывания. Ну, а о купании я уже не говорю! Тут даже мужчины допускаются для подсобной работы: и отец, и дед. И от всех этих забот, как это ни странно, я получаю истинное наслаждение. Но ты скоро и сама это изведаешь. Я рада за тебя! У мамы на все железные установки. Ты ведь ее знаешь. Она считает, что сделала из папы человека, а теперь мечтает и из меня «вылепить» крупного инженера. А потопу решила, что забота о ребенке не должна вытеснить у меня того, что она считает главным, ради чего я училась, окончила институт, даже стала изобретателем. Словом, как ни говори, а бабушки — это здорово! Ты выписывай к себе маму из Воронежа без разговоров. Непременно! Так я и воспитываю наших с Костей сына и дочь. Под дочерью я разумею наше с ним изобретение «труба до неба», о которой я тебе в Москве все уши прожужжала. После заключения договора о совместной разработке и использовании нашего с Костей изобретения фирмой «Электрик пайп компании у нас в Москве была создана группа при одном из Московских научно-исследовательских институтов, куда меня п распределили. Кроме нас с Костей туда вошли и опытные дядьки-специалисты. Так что у нас не „детский сад“! Предстояло разработать проект экспериментальной установки энерготрубы. Наш канадский знакомый Александр Максимович несколько раз приезжал в Москву. Все-таки он хитер, себе на уме, бестия! Одно слово — «бизнесмен»! Избегает риска, и все мысли его — о выгоде, барыше и акционерах. Сначала договаривались делать две установки по одному проекту — в СССР и Америке. Но он неожиданно «переиграл». Желая угодить своим акционерам и сразу с гарантией выдать энергию из «ветровой трубы», он уклонился от принятого раньше совместного плана, сослался на новые указания своего отца (директора компании), стал настаивать на самостоятельной заокеанской установке в Скалистых горах. И строить там не поднимающуюся в небо мягкую трубу, как у нас задумано, а спускающуюся сверху по горному склону жесткую, использующую рельеф местности в каком-то там каньоне. Я с пеной у рта возражала, готова была кусаться, доказывала, что это не даст того эффекта, как наша мягкая труба, поставленная в любом месте и уходящая в верхние холодные слои воздуха. В Скалистых горах не может быть такой разницы температур, потому что даже на высоте одного километра над трубой будет сказываться тепло нагретых солнцем горных склонов. Чтобы подняться до зимней температуры, придется строить трубу более высокую, чем мы с Костей задумывали. Даже линии снегов может оказаться мало! Я так отчаянно спорила, что наговорила Александру Максимовичу кучу резкостей. Костя потом сказал, что я теперь в полной мере раскрыла канадцу свой характер и он, пожалуй, будет Костю, бедненького, жалеть. Но, честное слово, не такой уж у меня плохой характер! Ты-то меня знаешь! Да и Косте жаловаться не на что. Одна только мама могла бы насчет меня чуть-чуть согласиться. Пусть в этом вопросе строительства установки в Скалистых горах мы и повздорили, все же против канадца я ничего не могу сказать. Во всем остальном он мне даже нравится: воспитан, сдержан, умеет ухаживать за женщинами, и даже, представь, я жалела, что мы с тобой не на прежнем положении. Он бывал у нас дома, очаровал мою маму. У него деловые разговоры с Костей часто заканчивались за шахматной доской. Кстати, ты мне не поверишь, но я решила постигнуть глубины этой мудрой игры. Теперь она мне по-настоящему полюбилась. Я хотела сделать сюрприз Косте. Это стало моей единственной от него тайной. За время своего декретного отпуска я перечитала столько шахматных книг, перерешала столько шахматных задач и этюдов, что за одно это меня следовало бы причислить к лику шахматных святых. Но до сих пор я была в числе шахматных слепых. А теперь прозрела! И это замечательно, Катя! Я могла бы выиграть у папы, если бы не боялась раньше времени выдать себя. Однако мне всего этого было мало. Знаешь, что я сделала? Пошла в ученицы к знаменитому шахматному мастеру и педагогу. Верейскому! Да, да, к Верейскому, тому самому, который «душил» наше с Костей изобретение. Ты ведь слышала об этом дородном красавце, по которому сходят с ума дамы «разной масти и возраста», как он сам о них говорит. Он ведь любитель лошадей и тотализатора. Я его люто ненавидела, прозвала его «черным экспертом» и сочиняла ему письма, как запорожцы турецкому султану. Он «погорел» с нашей заявкой из-за затеянной им канители с упрямыми возражениями. Он и в шахматах был таким же, опровергнув со зла один из лучших Костиных этюдов. Скажешь, меня никогда нельзя понять? Ну и пусть! Я пошла к нему, стала его ученицей, и все тут! И, подумай только, он совсем превратно понял мой поступок. Оказывается, пока я была девушкой, а потом готовилась стать матерью, я для него не существовала. А вот теперь, когда я по-особому якобы расцвела, он увидел меня другими глазами, и…ах! «у него закружилась голова». Словом, он сразу же выделил меня из числа своих учениц, вызвав неудовольствие некоторых из них, в частности одной довольно яркой особы, Зои Крейцер. Она вдруг увидела во мне соперницу! Я бы смеялась, если бы это не выглядело так глупо. Впрочем, глядя на поведение Верейского, можно было понять и Зою Крейцер. Он ел меня глазами, навязывал индивидуальные занятия и распускал при мне свой «павлиний хвост» остроумия и эрудиции. Клянусь тебе, что мне все это было совершенно безразлично, как бы это ни выглядело со стороны… Однако мой сюрприз, приготовленный для Кости, не удался. Костя узнал, что я занимаюсь у Верейского, и ходил мрачнее тучи, хотя и похвалил меня за мой поступок. Глупый, он, конечно, и не подозревал, что все это я делан я него, только ради него! Я должна была постигнуть шахматы, которые занимают такое место в жизни любимого человека. Ну, а Верейский… даже такого я всегда сумею осадить, если понадобится. И вот, представь, однажды без всякого предупреждения он, Верейский, запросто заявился к нам с Костей домой «поиграть в шахматы»! Как тебе это нравится? Костя и виду не подал, что он удивлен или что ему неприятно. А наш гость был мил, обходителен, остроумен и даже покорил своим внешним лоском маму. Она таких любит! А потом он с Костей сел за доску. Если мой Костя воспринимается всеми как человек приятный, Верейский же не лишен, как сказала мама, шарма, то за доской их словно подменили. Они подкалывали друг друга, поддразнивали, переходя на какой-то тарабарский язык, который бытует у игроков «блиц» (быстрые партии). Я села неподалеку и записала в тетрадку то, что они говорили. Уши вянут! Посмотри сама: «Вам шах, как объявлял Рабинович!» «Так бы сыграл Алехин, но по другому поводу». «Эй, маэстро, ходу, ходу! Если тронул пешку, — бей!» «Ходу — это вы скажете пароходу с капитанского мостика, а бей — это тот, у кого на носу шишка!» Или «Спешка нужна лишь при ловле блох в цейтноте, а пешка — всегда!». «Что это за вонючий ход? Явное нарушение Женевской конвенции по запрету химического оружия, к тому же загрязнение окружающей среды». «Нет, лучше изобретайте шахматный противогаз или пишите завещание в потемках». И прочая белиберда! Зачем только обмениваться ею культурным людям? Со стороны кажется, что они заняты чем-то страшно несерьезным. Но стоит подойти к доске и начать вникать в то. что на ней происходит, как вся словесная шелуха спадает и остается обнаженная красота богини шахмат Каиссы. Кстати, этот Верейский вздумал называть меня Каиссой, якобы для того, чтобы иметь право поклоняться мне. Я, конечно, поставила его на место. Но Костя все-таки все понял. Я видела, что между ним и Верейским началось соперничество. Костя не опускался до ревности, нет! Он принял вызов Верейского. И они схватывались не раз. Одну шахматную партию в важном турнире Костя ему проиграл. Зато в важнейшем споре в Комитете по изобретениям дело об энергетической трубе выиграл. Верейский взял реванш и бросил Костю в нокдаун, опровергнув его матовый этюд, посвященный ему «со значением». Теперь Костя решил нокаутировать противника на «этюдной доске». Я же, следя да этим сражением, уподобилась некой Каиссе, шахматной даме. из-за которой рыцари бьются на турнире, сшибая друг друга с коней копьями и мечами. В шахматах мечей и копий нет, но удары мысли, которыми обмениваются противники, есть. II для решающего удара новым атюдом Косте пришлось искать, искать, искать, быть упорным, изобретательным, неотступным. Какие важные черты характера! Как он дорог мне из-за них! По посмотри, к чему привело это «любовное соперничество» в шахматах (31). Белые по замыслу Кости, должны начать и выиграть. А если посмотреть на позицию, пожалуй, покажется, что они и ничьей были бы рады! А надо выиграть. Как? Попроси Ваню, чтобы он вместе с тобой проанализировал решение. 1. ЛЬ7!-перекрывая диагональ а8-h1, а заодно угрожая матом в четыре хода: 2. Cd1— Kpa5 3. b4+ Кра6 и 4. Се2 мат! Черные могут предотвратить последний матующий удар слона, взяв поле е2 под защиту ферзем. И они ходят 1…Фе5. Теперь черные грозят взять пешку d5 слоном и выиграть, но у белых задуман дерзкий план. 2. Cd1+! Вы думаете зачем? А вот зачем: 2…Кра5 3. b4+ Кра6 4. Се2+ (32). Все-таки слон дает этот шах, хотя ферзь и возьмет его, но при этом снимет удар с поля Ь8, освобождая тем белого короля. И он не замедлит этим воспользоваться. 4…Ф : е2 5. Kpb8. Теперь черным грозит мат а8 новым ферзем. Приходится действовать. 5…Фе5+ 6. Крс8 Фе8+ 7. Крс7. А вот сейчас на первый взгляд кажется, что белые ничем не грозят и черные могут наконец взять несносную пешку на d5+ 7…С : d5 (33). Нелегко увидеть заготовленный белыми капкан. 8. а8Ф+! Ф : а8 9. ЛЬ6+! Кра7 10. b5 (34). Посмотри, Катенька, до чего это здорово! Черные могучие фигуры, словно неведомой силой — строгой шахматной логикой, — привлекаются на предназначенные им места по обе стороны короля, которому уже грозит мат ладьей на а6. Надо спасаться. Но не жертвой же ферзя с быстрым проигрышем: 10…Фd8+ 11. Кр : d8 Kp : b6 12.h7! Приходится защищаться «до последнего», призвать на помощь слона 10…Cb7 11. Ла64+ С : а6 12. b6 мат! (35) Разве не красиво? Вот теперь я стала понимать своего Костю глубже, рассмотрела его еще с одной стороны. Но я и тревожилась за него, за его «шахматное детище»! Я относилась к этюду, как к чудесной картине, созданной художником. Картину можно украсть, повредить ножом. А этюд? Этюд можно самым «легальным образом» уничтожить. И он не будет существовать. Ведь он должен быть безусловно правильным. Никакая ошибка не извиняется. Ошибочные этюды просто не существуют. И я тайком от Кости побежала к его знакомому гроссмейстеру, который один раз уже обжегся, опубликовав в редактируемом им отделе газеты неправильный Костин этюд. Верейский и сейчас спать не будет!.. Гроссмейстер оказался удивительно милым и отзывчивым человеком. Собственно, он и растолковал мне, что такое шахматная красота. И на примере Костиного этюда! Потом показал, как можно попытаться опровергнуть Костин этюд. У меня сердце захолонуло. Оказывается, на седьмом ходу можно было попробовать не брать слоном белую пешку, а сыграть 7…Фе5+ (36) 8. d6 Ф : d6— 9. Кр : d6 КрЬ7(37) 10. а8Ф+ Кр : а8 11. Крс7. Черным больше делать нечего, один слон не может удержать две проходные пешки. Гроссмейстер сказал, что хотя этот вариант и менее ошеломляюще эффектен, чем главный, но в нем своя прелость «типичности», слон, как он сказал, уподобляется корове на льду, у него разъезжаются ноги на Ь7 и на h7. У шахматистов такое положение по-смешному называется «штаны». Гроссмейстер еще проанализировал, что белые иным, чем автор предусмотрел, способом выиграть не могут. Так, выпад пешкой «h» на втором ходу ничего не даст: 2. h7? С : d5 (38) 3. Cd1— Kpa5 4. b4+ Kpa6 5. Ce2+ Ф : е2 6. h8Ф — белые заполучают ферзя, но (39) 6…С : Ь7+ 7. Kph8 ФЬ5 — и белым ничего не остается, как форсировать вечный шах — 8. Фа1+ КрЬ6 9. Фd4+ Kpa6. — Ничья, битая ничья, — авторитетно заключил гроccмейстер, провожая меня, в передней. — Так что побочных решений не видно. Я с интересом снизу вверх посмотрела на прославленного шахматиста, объехавшего весь мир и написавшего интересные путевые заметки. Шахматные же книги принесли ему славу знатока эндшпилей, «шахматного академика», на которого ссылаются все высшие авторитеты. А в обращении он был удивительно прост и совсем чуть-чуть заикался. — Если бы я судил конкурс, я дал бы этому этюду высшую премию, — закончил гроссмейстер. Я подумала, что он мог бы судить конкурс пианистов или скульпторов. Такой может! И я полюбила шахматы и… шахматистов. Наш канадский друг Александр Максимович говорил о масонском братстве шахматистов. И в какой-то мере был прав. Собственно, об этом я и хочу тебе рассказать, тем более что это продолжение «романа о Верейском». Сергей Александрович, поняв, что новый этюд Кости — направленный в его сторону удар, сделал вид, что ничего не произошло. Он заходил к нам все чаше, всячески намекая мне, что делает это ради менн, чтобы быть ко мне ближе. А я уже все узналa о нем! Оказывается, дела его были отнюдь не так хороши, как он делал вид. После неприятности с нашей заявкой на изобретение энерготрубы, которую Сергей Александрович отвергал, он, как человек гордый и самолюбивый до заносчивости, ни стерпел сделанного ему замечания и, хлопнув дверью, ушел из Комитета но изобретениям и открытиям, ушел… на тренерскую работу по шахматам. Вел две группы — одну на крупном заводе, где егo ценили шахматисты-изобретатели, и другую… ну, конечно же, женщин-шахматисток! Разве мог он без них? Туда-то я и напросилась к нему в ученицы. Но вместе с тем инженер он был хороший, и мне было его немножко жаль. Ничего не поделаешь, мы с тобой женщины, и сердце у нас мягкое как воск, в особенности когда его согревают обожанием. Я, конечно, ценила его к себе отношение (кто бы не ценил?), но я не забыла его попытки загубить наше изобретение. И тут я пошла на чисто «женскую месть». Я решила заставить его работать на наше изобретение! И он непременно попадет на мой крючок, если во мне заинтересован. Я только самую малость намекнула ему на это, восхищаясь тем, что он у нас дома всегда болтает с мамой по-французски, а с папой поанглийски, а ведь это языки Канады и США, куда нам надо ехать. Он недоумевающе поднял одну бровь и проницательно взглянул на меня. Но больше я ничего не сказала. Я принялась осторожно, исподволь осуществлять свой план. И я вздохнула, говоря с Костей, что мне не удастся поехать с ним за океан, как на том настаивал ван дер Ланге, и еще, что как жаль, что Костя не владеет английским языком. Мне бы пришлось там быть переводчицей во всех деловых встречах. И тут я выпалила, что вместо меня мог бы поехать Верейский — он так великолепно знает языки! Костя мой остолбенел, глаза у пего совсем округлились, как сейчас у нашего Никитенка. Он напомнил, что Верейский был врагом нашего изобретения, «черным экспертом». Я засмеялась и сказала, что одни из партнеров в шахматы непременно игриет черными. Костя меня не понимал. Тогда я мягко объяснила ему, что значительно лучше иметь врага при себе, чем атакующего извне. Пусть Верейский высказывает любые возражения в ходе проектирования. Все они будут только полезны. Тем удачнее соорудим ми нашу экспериментальную установку. Костя упрямился, говорил, что масонское братство тут ни при чем, что он готов играть с Верейским в шахматы, даже показывать ему этюды, но работать с ним над замыслом, который он так бессовестно чернил, не намерен. Пришлось обратиться к папе как к третейскому судье. Я знала. что он дальновидный, и не ошиблась. Выслушав меня, он долго смеялся, потом сказал, что я действительно могла бы быть древнеегипетской царицей вроде Хатшепсут и. должно быть, не в то время и не в той «династии» родилась. И еще сказал, что логика у меня, конечно, женская, по… тем она и ценна, что отличается от прямолинейной вульгарности мужской логики. II еще добавил, что я «добрая душа», и поцеловал меня. Наконец сказал, чтобы я прислала к нему Костю. У мамы удивительное чутье. Она поняла, что надо принести «совещающимся мужчинам». Что уж там папа с Костей под коньяк говорили — не знаю. Вернулся Костя от папы окрыленный. Расцеловал меня и признался, что ему здорово повезло на «Седьмом небе». — А что! Это верно! В жизни надо. как в шахматах. С противниками дружить. И на следующий день, когда Сергей Александрович пришел к иам взять своп три очка пз четырех (обычный счет нх домашних встреч), Костя сделал ему предложение работать вместе. Сергей Александрович изобразил на своем холеном лице искреннее изумление. Но Костя уже усвоил мои аргументы. — Нам в проектной группе нужен свой «тренер», свой опровергатель вариантов. Лучше вас, Сергей Александрович, не придумаешь. Надо скоро ехать в Канаду и Америку, в Скалистые горы. где начинают сооружать экспериментальную установку. Вот и поедем вместе. Сергей Александрович пообещал подумать. Но я подозреваю, что он давно «просчитал эти варианты», еше раньше, чем прийти к нам. Ведь он стремился быть ко мне поближе… Так иди, иди ;ке в приоткрытую мной дверцу! На следующий день инженер Верейский согласился работать в нашей группе проектирования энерготруб. Папа позвонил из министерства в НИИ, при котором мы находились, и порекомендовал взять на работу инженера Верейского. Ну, я, наверное, надоела тебе со всеми этими подробностями! Ты уж меня прости, я никогда не умела отделять главное от второстепенного. Поэтому спешу перейти, может быть, к самому главному. Имей в виду, что распашоночки, чепчики, ползунки, пинетки и всякую необходимую мелочь, ценность которой ты скоро поймешь, я тебе немедленно перешлю. Мой Никитенок вырастает из всего не по дням. а по минутам. Думаю, твоя мама сможет проездом из Воронежа заглянуть к нам в Москву и все это забрать для твоего ребеночка. Но ведь это еще не так скоро. Я наверняка успею тебе еще что-нибудь написать и, конечно, получу письма от тебя. Как-то у тебя там, па Урале? Кстати, энергетические трубы будем строить и v вас. Холодной зимой вы от нас пе отгородитесь! Все равно на километровой высоте холоднее, чем даже среди ваших сугробов. Ты там так и скажи своим. Крепко обнимаю тебя, моя родная, твоя Вика».Глава четвертая. ТРУБА ДО НЕБА
«Милая моя Катюня! Ничего у пас с тобой не получается из регулярной переписки. Но я на тебя пе сержусь, поскольку виновата в атом не меньше тебя. Все у нас с тобой пе как у людей. Вместо того чтобы писать часто коротенькие письма, мы катаем со многу страниц, словно собираемся публиковать никому не интересные, кроме нас с тобой, романы-эпистолярии. О тебе я уже все знаю. Слухом земля полнится. Счастлива за вас с Ваней. Он у тебя такой «далекоидущий»! Надеюсь, ты но в обиде на него? Ведь вы не в равном положении — тебе так долго пришлось не работать! Мать есть мать. И даже бабушка не во всем ее заменит! Рада я и такой мелочи, что твоя Леночка и мой Никитенок вырастали из одних и тех же распашоночек. Кто знает, может быть, детишки наши когда-нибудь вспомнят об этом и устроят вместе свою судьбу? Ты, конечно, хохочешь, мон хохотушка. Да и я не очень всерьез… А что если? Чем чертик не шутит? Ну, ладно, пусть этим бесенком буду я. Просто пошутила и вес. Столько времени не писала тебе и, как всегда, не знаю, с чего начать. Знаешь, что передо мной? Море тюльпанов! Ты представить себе не можешь, какая это красота! Говорят, в Голландии дядя нашего Александра Максимовича в числе другиx фермеров выращивает тюльпаны для всей Европы. Нх там цeлыe поля. Я видела, правда, только на открытках. Но все равно это не идет ни в какое сравнение с нашим морем тюльнов. Они выросли нa месте бывших мертвых песков благодаря нам, благодаря нашей первой энергетической трубе, давшей первые двадцать тысяч киловатт электроэнергии. Заработали наcocы, подняли воду в арыки, куда она никак не могла попасть самотеком. И вот — глаза радуются! Благодарная Природа воспользовалась нашим экспериментом. Скоро здесь посеют хлопок, а пока дикие тюльпаны выросли сами, как вырастают в других среднеазиатских пустынях в весенние влажные месяцы. Тюльпаны, тюльпанчики! Красные, желтые, пестрые в крапинку. Растут полосами. И кажется, будто это яркие волны застыли в своем беге морском, покрыв цветастым ковром скучные гребни барханов. Еще недавно эти серые гребни клубились песчаным дымком, который засыпал и цепочки следов ящерицы, и полоски от проползшей юркой змеи. Я их ужасно боялась, и змеи и ящериц. Не знаю, как они теперь чувствуют себя в буйных травах. Мы намеренно выбрали для эксперимента Высокие Пески, для орошения которых требовалась принудительная подача воды. И мы решили, что сможем дать насосам энергию здешнего жаркого Солнца. Мы с Костей и Верейским — «Штаб Мечты», как мы в шутку именовались, — приезжали сюда из Москвы изучить местность. Сергей Александрович страдал от жары и жаловался, что плавится под этим проклятым Солнцем. Я ему, конечно, тотчас же пропела арию Снегурочки «Люблю и таю…» Он меня слушал, влюбленно вздыхая, но на него грустно было смотреть. Мокрое лицо и влажные складки на шее. Одышка. Цыганских его глаз и не видно за темными очками. А Костя — тот и не замечал ничего, весь был в заботах. Наш «Штаб Мечты» изучил местность и наметил, где строить «избушку на курьих ножках» — будущий машинный зал ветровой электростанции, поднятый на колоннах, чтобы воздух пустыни мог стекаться к приемной воронке в полу станции. Потом мы вернулись в Москву заканчивать проектирование. Косте с Сергеем Александровичем пришлось съездить в Америку без меня. Теперь бы, пожалуй, я смогла, но тогда Никитенок был еще крохотным. В Большом Каньоне началось экспериментальное строительство «Электрик пайп компани». Костя рассказывал, что каньон — это, по существу говоря, грандиозный овраг, результат разрушительной работы вод за миллионы лет. Наш обыкновенный овраг в представлении муравья покажется таким же каньоном. Тянется каньон на сотни километров, ширина — десятки километров, высота обрывов — полтора километра. Последним обстоятельством и воспользовался наш расчетливый Александр Максимович. Для верности он решил соорудить опытную ветровую установку, спустив ее трубу по обрыву каньона и, пользуясь прилегающим горным склоном, поднять ее еще на полтора километра. Общая высота трубы получится около трех километров. Нужная тяга обеспечивается, но сооружение влетит в копеечку, оно съест все капиталы компании. Но Александра Максимовича это ничуть не смутило. Он говорил, что по законам большого бизнеса компании нужно сразу же получить результат — выдать бесплатную энергию, взятую у Солнца, и выпустить новые «солнечные акции», как назвал их отец Александра Максимовича, один из директоров «Электрик пайп компани», Макс ван дер Ланге. Однако до выпуска этих акций было еще далеко, когда Костя с Верейским встречались с заокеанскими коллегами. Их познакомили с нашим проектом «мягкой трубы» высотой всего лишь в километр, которую можно поднять всюду, независимо от характера местности, не обязательно в горах Скалистых или Кавказских, в Кордильерах или на Памире. Американские инженеры рассматривали наш проект и качали головой. Он казался им слишком дерзким. Но мы твердо решили осуществить его в Высоких Песках. Какие только предприятия не работали на нас! И химические комбинаты, и турбостроительные заводы, и авиационные, и электротехнические, и текстильные фабрики. Мне казалось, что мы кооперируемся со всеми министерствами страны. И представь, все заботы по связи с ними обрушились на мою бедную головушку! Хорошо, папа научил меня межминистерской мудрости, ну, а то, что я женщина, я использовала уже сама… Я именовалась «главным инженером стройки», начальником назначили Костю. Он ездил в свой родной город и нашел там Ивана Тимофеевича Русакова, того самого седого дядьку, с которым мы с тобой встретились у Останкинской телебашни. Костя уговорил Гусакова согласиться пойти на наше строительство: Иван Тимофеевич, когда был в армии, служил в строительном батальоне, это могло очень пригодиться нашей молодежной стройке. Ведь сооружение экспериментальной энерготрубы в Средней Азии стало комсомольской стройкой. И не только мы с Костей, ее руководители, были комсомольцами, но и все добровольцы из студенческих строительных отрядов оказались нам под стать. И появился у нас свой дядька Черномор, в прошлом капитан Советской Армии, а потом милиции и теперь наш парторг, Гусаков. Только был он не тем Черномором, который летал с помощью бороды, а был он тем дядькой Черномором, который выводил на берег тридцать витязей прекрасных… и всех в брюках (в том числе одиннадцать девушек). Да, на нашей стройке, как бы пышно она ни называлась, работали всего лишь тридцать человек, комсомольцев. Забавно, что этим воспользовался… ты знаешь кто? Верейский! Сергей Александрович! Он вдруг заявил, что по возрасту уже не подходит к нашей группе, и наотрез отказался ехать в Среднюю Азию. Я сочла это предательством и высказала ему все, что о нем думаю. А он безропотно соглашался со мной. Да, конечно, он не может и не собирается расстаться с Москвой. Он коренной москвич, урбанист, и романтика комсомольских строек не для него. Да, он не может обойтись без ипподрома с тотализатором, даже если я заменю в песках скаковых лошадей верблюдами. Да, он не собирается бросать своих учеников (и уж, конечно, учениц!) и не оставит своей тренерской работы по шахматам. Словом, он не намерен отказываться от привычного уклада жизни! Он весь в этом, Сергей Александрович Верейский, умница, игрок и дамский угодник. И даже в этом он согласился со мной, не снисходя до спора с дамой. Сам папа не смог его убедить. В ответ на отцовские аргументы он спросил папу, почему тот не оставит, хотя бы временно, свои пост в министерстве и не возглавит стройку вместо неопытного инженера Куликова? Каков? Папа ответил, что готов был это сделать, да министр но отпустит. Мама очень рассердилась, обвинила Сергея Александровича в том, что он подпевает всяким интриганам, которые обвиняют папу в якобы барских замашках. И папе вовсе не следует по совету Верейского испытывать судьбу — вдруг возьмут и пошлют в пустыню! А как быть с московской квартирой? Да и Костя обидится… Итак, тридцать витязей прекрасных обоего пола и с ними дядька Черномор отправились в Высокие Пески ставить стоймя сказочный «тещин язык», о котором я когда-то из озорства вспомнила при Косте, не представляя, куда это меня занесет. Как выглядели Высокие Пески, я тебе уже написала. Никогда не забуду их с разостланной по барханамярко-синей оболочкой нашей трубы. Ее укладывали, как укладывают парашюты. Это целое искусство! Руководил этим сам Иван Тимофеевич, который, к нашему счастью, еще до армии был мастером парашютного спорта. Девчата все охали и ахали по поводу того, как хороша и прочна гладкая синтетическая материя оболочки и сколько из нее можно было бы сшить брючных костюмов. Но сейчас эта материя была сшита в виде одной километровой брючины («по Маяковскому», как острили ребята, вспоминая его «Облако в штанах»). «Брючину» через равные отрезки длины перехватывали легкие обручи, чтобы препятствовать смятию трубы наружным воздухом из-за падения давления внутри трубы, вызванного, по законам газодинамики, скоростным потоком. Эти же обручи служили и для строп, через которые плавающие в воздушном потоке поплавки поддерживали трубу. Оболочку трубы тщательно уложили, чтобы обручи и поплавки не перепутались, не зацепились бы друг за друга. Сейчас мы должны были получить результат без предварительного опыта. Собственно, вся наша стройка была опытная. Никто не поднимал в небо километровых труб. Никто не мор сказать, как все произойдет. Надо было пробовать. Для подъема трубы прилетел вертолет с веселым летчиком, коротеньким крепышом, который ходил, расправив плечи и расставив руки, как борец на параде, сыпал прибаутками и всех веселил. Однако именно с ним связан самый черный день нашей эпопеи. Я поначалу жалела, что мама с Никитенком не успели приехать ко дню подъема трубы, но потом была даже рада. По мере подъема вертолет все уменьшался, а от него вниз тянулась синяя лента. Это я настояла, чтобы материал трубы был цвета южного неба. Или, ты думаешь, надо было другого, контрастного, цвета, например оранжевого? Синяя змея у нас на глазах продолжала вздыматься с песков и тянулась в небо. Там она исчезла. Но труба не оторвалась, а просто растворилась в синеве. Своим нижним концом труба соединялась с моей «избушкой на курьих ножках» — это я так назвала подведомственную мне электростанцию, состоящую всего лишь из одной ветротурбины и сидящего на одном с ней валу электрогенератора. Под полом «избушки» была всасывающая воронка, принимавшая нагретый в пустыне воздух. Настала самая торжественная минута. Надо было запустить ветротурбину, зажечь первую электрическую лампочку «от Солнца». Я махнула косынкой, давая условный знак. Но лампочка над входом в электростанцию не зажглась. Мы побежали к «избушке на курьих ножках», чтобы выяснить, в чем дело. Турбина не вращалась, потому что никакой тяги в трубе не было. Все мы стояли как в воду опущенные, боясь смотреть друг на друга. Но Костя вдруг ударил себя по лбу: — Идиот! Какой же я идиот! Иначе и быть не могло! Я не сразу его поняла, но потом сообразила, что столб воздуха в трубе был совершенно такой же, как и снаружи, нисколько не более нагретый. Теплый воздух еще не заполнил трубы. Вертолетчик запрашивал сверху по радио, может ли он отпустить трубу. Она мешком повалилась бы на землю! Комсомольцы, поняв, в чем дело, наперебой предлагали кто что. Одни — разжечь под приемной воронкой огромный костер и таким образом заполнить трубу теплым воздухом, создать в ней первоначальную тягу, как создают ее в печке. Потом горячий воздух пустыни сам обеспечит устойчивую тягу. Другие для той же цели предлагали временно превратить турбину в «вентилятор», закрутив ее от дизеля. Но Костя решил по-иному. Он приказал вертолетчику опустить трубу на землю. Эксперимент продолжался. Когда синяя змея снова улеглась на барханы, все мы бросились к вертолету, вернее, к верхней части трубы. Нужно было установить там заглушку, но не раньше, чем труба заполнится горячим приземным воздухом, прогреется под лучами солнца. Пришлось отложить подъем на сутки, чтобы поднять трубу в небо уже заполненную горячим воздухом, И хорошо, что отложили на сутки: успела приехать мама с Никитенком! Наступил один из самых радостных дней нашей с Костей жизни. Замечательно, когда с любимым человеком тебя связывает не только чувство, ребенок, семья, но и работа, искания, огорчения, победа! Вертолет снова приготовился к взлету. Он походил на огромную стрекозу, и Никитенок был в восторге, бегал по песку и махал ручонками. Время летит. Скоро он пойдет в детский сад, а давно ли только таращил своп удивленные глазенки! У него мягкие локоны, и я готова была плакать, когда подрезала их. И вертолет снова осторожненько поднял трубу в небо. Какая же радость обуяла всех нас — и «витязей» и Черномора, когда труба уже не бессильно повисла над «избушкой», как в первый раз, а готова была задышать, зажить собственной жизнью! Летчик по радио сообщил, что снял с верхней части трубы «заглушку» и воздух снизу устремился в трубу. Желанная тяга появилась! Горячий воздух пустыни вертикальным ветром подхватил наши поплавки, натянул стропы, прикрепленные к обручам, и синяя труба уперлась в южное небо, сливаясь с ним, натянутая, как струнка! И тут мы увидели, что «стрекоза» спускается. Труба же стояла сама по себе, исполинский стебель невиданного растения, выдуманного моим Костей! Это была победа! Мы переглянулись с Костей, я дала условный знак первому дежурному машинного зала — им была дочка Ивана Тимофеевича Люда, — и над входом в «избушку» вспыхнула сигнальная лампочка. Ее свет был едва различим в яркий, солнечный день. Но это была первая электрическая лампочка, зажженная здесь энергией Солнца пустыни. Что тут было, Катя! Началась вакханалия. Ребята превратились в исступленных дикарей на празднике огня. Они выплясывали, прыгали, кувыркались через голову, хохотали, падали, снова вскакивали, кружились. Ты, конечно, догадываешься, что я не отставала от них. И, пожалуй, была среди них главной жрицей, вакханкой, «бестией», как сказала наблюдавшая этот «шабаш» мама. Я схватила Костю за руки, и мы кружились как дети. Один только дядька Черномор стоял в стороне, улыбаясь в усы. Так и запомнился мне этот день, «день кружения». Кружилось колесо ветротурбины (на этот раз завергелось-таки!), кружились и все мы, строители ветростанции «ВП» (Высоких Песков). Я знала, что у Кости уже сложилась традиция отмечать заметные дни своей жизни составлением этюдов. И я попросила его составить такой этюд, который отразил бы наше «кружение» в день запуска ветростанции. Костя пообещал и сдержал свое слово. Мне нравится его новый этюд, — может быть, потому, что будит воспоминания этого счастливого дня… Меня радует, что я могу тебе написать все про этот этюд. Как хорошо, что Ваня помог тебе научиться понимать шахматы! И ничего, что ты по-настоящему «заболела» шахматами. Это единственная болезнь, от которой не стоит лечиться. Ты написала, что прекрасно разобралась в Костином этюде с матом пешкой на Ь6. Последний его этюд совсем другой. Он отталкивается не от парадоксальной конечной позиции с матом (или патом), а посвящен систематическому движению фигур — серии ходов, когда король белых храбро вступает в единоборство с черным ферзем и побеждает его, заставляя встать на «заминированную клетку», откуда его достанет «на вилку» помогающий королю конь. В начальном положении у белых всего два коня за ферзя, и трудно поверить в выигрыш белых, но Костя любит укрощать черных ферзей! (40) И все-таки в этом положении «белые начинают и выигрывают»! Если у тебя хватит силы воли, то закрой письмо и попробуй найти решение сама, а потом дочитаешь письмо. Ладно? Ну, здравствуй, Катя! Как? Удержалась от того, чтобы дочитать мое письмо? Решила этюд? Хватило у тебя на это воли? Тогда давай проверим. Вот оно, решение: 1. Kf5+ Kp : h7 2. g6+ Kpg8 3. Ке6! Что делать черным? Если 3…Фf6 или 3…Фg5 4. Kce7+ Kpf8 5. g7+, то белые выиграют! Остается одно — связать опасного коня. 3…Фс7 (41) 4. Kpb5 с той же угрозой Ксе7+. И опять черным приходится связать освободившегося белого коня. 4…Фd7 (42) 5. Kp : Ь6. Король снова развязывает своего боевого коня. Но ферзь опять может стреножить эту беспокойную фигуру — 5…Феб (43). Спираль раскручивается! 6. Крс7 — король наступает на ферзя, а тот вынужден, как это ни парадоксально, отступать 6…Фс4 (44). Король и ферзь в круговороте борьбы поменялись местами. 7. Kpd6. Может быть, черным прекратить эту карусель и отдать ферзя, получив грозные проходные (7… ФЬ4+ 8. К : b4 ab 9. Креб Ь3 10. Kpf6 ba)? Сейчас черные поставят нового ферзя, но… 11. Ке7+ (45), и неизбежный мат черным на 15-м ходу! Поэтому хочешь не хочешь, а продолжай вальсировать с вражеским королем. Но, невозможный король наступает своей черной даме на шлейф: 7…Фаб 8. Крс5! Фс8 (46). Увы! Последнее поле, с которого, завершая спираль, можно связать ненавистного коня, «минировано». Из засады бросается другой конь, и черный ферзь гибнет. Белые выигрывают! Вот так и мы с Костей крутились, торжествуя победу! Крутились под вставшей над нами стоймя нашей синей трубой. Ну вот, родная моя, и все, что я хотела тебе написать. У меня «солнцем полна голова». На душе светло, в глазах — море тюльпанов, рожденных нашей энерготрубой. Очень, очень хочется увидеть тебя, поделиться своей радостью! Никитенок с мамой будут жить с нами, пока папа не приедет за ними вместе с приемной комиссией, которую нам придется теперь ждать. Так вот что, Катюня! А что, если вы с Ваней (и Леночкой, конечно!) приедете к нам на Высокие Пески? Здесь сейчас как на лучшем курорте. Приезжай! Ладно? Целую тебя, моя хорошая. Твоя Вика».Глава пятая. ЗЛОЙ ВЕТЕР
Комсомольцы взапуски бежали от «избушки на курьих ножках» по тюльпанному полю. В их числе были и начальник стройки и главный инженер — Костя с Викой. Конечно, встречать приемную комиссию следовало бы более солидно, идя неторопливым шагом. Но ведь стройка-то была молодежная! — Сергей Александрович! — запыхавшись, произнесла Вика. — Вы не можете себе представить, как мы все рады вам… — Здравствуйте! Привет! Салют! — милостиво раскланивался направо и налево Верейский, приложившись к Викиной ручке. — Как видите, прибыл, не побоялся адовой жары и чертовой сковородки. За вами верблюжьи бега, не то не приму сооружения. — Я сама побегу… уже побежала, завидев вертолет. Мне останется только доказать, что я — верблюд, — возбужденно тараторила Вика, пока Костя с Верейским обменивались хлопками по спине. Из вертолета один за другим выходили члены приемной комиссии с портфелями. Им суждено было дать путевку в жизнь новому направлению энергетики. Назначение Верейского председателем приемной комиссии энерготрубы было приятным сюрпризом для Вики с Костей. Вика подозревала, что здесь не обошлось без влияния Викентия Петровича, который, конечно, припомнил, насколько осведомлен. критичен и «объективен» Верейский, автор нашумевшей статье «Да и нет». Сергей Александрович, расстегнув ворот белоснежной рубашки, вошел в машинный зал электростанции. Он с трудом преодолел крутую лесенку-трап и теперь облегченно вздохнул. — Работает! — подмигнул он Вике. Вика кивнула. — Я имею в виду кондиционер, — добавил Сергей Александрович, вытирая платком шею. — Мой мелкий подхалимаж, — засмеялась Вика. — Специально для вас оборудовали машинный зал электрокондиционером. Не петь же вам здесь, в самом деле, «Люблю и таю»! Сергей Александрович галантно улыбнулся. — Эти слова теперь готов произнести в ваш адрес. Вика смутилась, но подошел Костя. — Мы про кондиционер говорили, — заметил Верейский. — Это Викина забота о председателе, а моя — не задержать его. — Это как же? — осведомился Верейский. — Акт приемки можно хоть сейчас подписать. Все подготовлено. Верейский усмехнулся. — Цейтнота у нас нет. Подождем. — Чего подождем? — удивился Костя. — Ветра, — отрезал Верейский. — Какого ветра? — Злого ветра. — Так где ж его взять, если погода стоит такая? — Вот и посидим у «моря тюльпанов», подождем погоды. — Вернее, непогоды, — раздраженно поправила Вика. Верейский приятно улыбнулся. — Вы всегда правы. Потянулись унылые знойные дни. Участники стройки и члены комиссии изнывали от жары и безделья. У приезжих неожиданно появились на головах тюбетейки (Вика позаботилась!). Машинный зал с его прохладой считался раем. Каждый имел право провести там два часа, пользуясь благом кондиционера: все вместе там не помещались. Прогноз погоды каждый раз слушали с волнением и надеждой. Синоптики дважды сулили перемены и дважды ошиблись. А о сильном ветре и разговоров не было! Нелидов интересовался по радио из Москвы ходом приемки. — И на старуху бывает проруха, — раздраженно сказал он. — Приеду сам. Я породил Верейского, я и… уговорю. Однако масштабы деятельности не позволяли Нелидову отлучиться из министерства. Но он связался с Институтом прогнозов погоды и узнал, что циклон в Средней Азии все же ожидают… через неделю! Эта предстоящая неделя обещала стать на Высоких Песках непереносимой мукой. Но Иван Тимофеевич Гусаков придумал, как помочь беде. — Нет ничего хуже, чем ждать, — заметил он с тайным смыслом Косте с Верейским. — Ждать — это еще не в гору саночки катать, — отозвался Верейский. — Катать не катать, а увлечь надо, — продолжал Гусаков. — Чем увлечь? — спросил Костя. — Шахматами. — Шахматами? — удивился Верейский. — Хотите, чтобы я сеанс дал? Боюсь, что ни досок, ни костей не соберете. И всего лишь на один вечер развлечение. — Her. Доски хватит одной, чтобы ребятам как следует заболеть, если за нее сядете вы с Куликовым и сыграете матч из нескольких партий. Верейский задумался, потом сверкнул глазами. — А что? Мысль недурна. Еще бы и болельщиков пустить «стенка на стенку». Боюсь, что строителей больше, чем членов комиссии. Свалка будет не равная. — Зато на доске силы будут равные, — заверил Гусаков. — Вы думаете? — склонил набок голову Верейский. — Я имею в виду начальное положение партии, — примирительно сказал Иван Тимофеевич. Матч решили играть из шести партий, чтобы закончить его перед обещанным циклопом. Играли в машинном зале. Перед «избушкой на курьих ножках» соорудили демонстрационную доску из запасной панели пульта. Фигурки вырезали из фанеры. Самодеятельные художники раскрасили их. Болели за противников все, разделившись на две неравные группы. Как и предвидел Верейский, члены комиссии держали его сторону, а все комсомольцы — Костину. Иван Тимофеевич был судьей. Первая партия закончилась вничью и живо обсуждалась зрителями. Вторую партию ждали с нетерпением. Уныние как рукой сняло! И эту, вторую, партию выиграл Костя Куликов, а ему не часто удавалось побеждать Верейского в легких партиях… Что тут творилось, — это надо было видеть! Снова, как в день, когда труба поднялась стоймя, ребята кружились и кувыркались от радости. Верейский смотрел на них из окна машинной станции и был чернее тучи, которую так тщетно ждали строители. Несмотря на злость, следующую партию ему выиграть так п не удалось. Костя устроил остроумную ловушку и выскочил из безнадежного положения, поймав противника на пат. Затем последовали две осторожные ничьи. Никто из противников не хотел рисковать. А потом выиграл-таки Верейский. Сказались его опыт турнирного бойца и знание дебютной теории, в чем Куликов ему явно уступал. К началу шестой партии на стройку приехал заокеанский гость, инженер ван дер Ланге. Приехал для обмена обусловленной договором информацией. Был Александр Максимович по-прежнему опрятным, спокойным, внимательным, с таким же галстуком «бабочкой», несмотря на жару. Только вот уголки губ у него слегка опустились, придавая лицу усталое выражение. Строительство в Большом Каньоне затянулось. Американцам никак не удавалось дать электрический ток, рожденный энергией Солнца. Из-за этого задерживался выпуск дополнительных «солнечных акций». «Электрик пайп компани» была накануне банкротства. Вся надежда ван дер Ланге была на шум, который он поднимет в прессе после русского успеха в Средней Азии. Это принесет в кассу компании желанные доллары. Потому он с особым чувством восхищения и надежды любовался уходящей в небо энерготрубой, говоря, что она подобна сказочному дереву, доставшему облака. Впрочем, облаков не было. Ветра тоже. Канадец усердно снимал кинокамерой изменившийся лик бывшей пустыни, «избушку на курьих ножках», прелестную строительницу Вику во всех видах (американцы любят такие лица на обложках журналов) и, конечно же, в разных ракурсах энерготрубу, растворявшуюся в небе, где на ее месте оставался лишь серебристый пунктир от «самолетных крылышек». — Почему вы так рассчитываете на эти снимки? — позируя перед объективом, спросила Вика. — Разве фотографии сооружения в Большом Каньоне недостаточно для рекламы? — В том-то и дело. Наш машинный зал авантажнее вашей «избушки из русской сказки», но… у нас над входной дверью не зажегся вот такой рекламный огонек, — и он указал на электрическую лампочку. Узнав, что строители ждут решающей, шестой, партии матча между начальником стройки и председателем приемной комиссии, ван дер Ланге пришел в восторг. — Как же я не додумался провести в Большом Каньоне матч боксеров тяжелого веса или матч Фишера с кем-нибудь из русских? Мы оказались бы в центре внимания всего мира и могли бы выпускать акции… Шестая партия матча Куликов — Верейский не сулила стройке каких-либо выгод, но вызвала всеобщую заинтересованность. У демонстрационной доски собрались все, кроме игроков, судьи и дежурного по машинному залу. Пилот вертолета, доставившего комиссию, взял на себя роль демонстратора. Партия складывалась явно не в пользу Куликова. Верейский, играя белыми, удачно разыграл дебют, применив неизвестную Косте новинку, и получил обещающую атаку. Страшно нервничавшая Вика и ван дер Ланге, почетный гость, прошли в машинный зал. Противники сидели друг против друга. Куликов — напряженный, собранный, немного сутулясь. Верейский же, барственно развалясь, небрежно поглядывал на доску. Иван Тимофеевич был непроницаемо спокоен. Выполняя обязанности судьи, он жe и передавал через окно очередной ход демонстратору. Вика волновалась. И было отчего! Верейский, отдав пешку за инициативу, готовился к атаке. — Что делать? Что делать? — шепотом спрашивала Вика канадца. Тот приложил палец к губам. Они вышли из машинного зала, чтобы обсудить положение в партии (47). Еще стоя на крутой лесенке, Александр Максимович сказал: — Пока ничего страшного. Уверен, что наш изобретатель найдет план защиты. Меж тем Верейский ринулся на штурм позиции черных: 21. Фе7. Увидев сделанный ход, канадец схватился за голову. — Бог мой! Что он делает! Как атакует! Это же коррида! Право же, коррида! Брать ферзя нельзя, придется защищать королеву королем. Куликов так и сделал: 21…Kpg8. — Ну как? Это очень опасно? — волновалась Вика. — Не думаю… Не видно, как продолжать, — отозвался ван дер Ланге. — Не всякий бык сминает торреро… Верейский напряженно думал. Порыв ветра волной прокатился по тюльпанному полю, пригибая к земле и цветы и траву. Но строители, так ждавшие ветра, сейчас его не заметили. На шахматную доску смотрели все, даже и не разбиравшиеся в шахматах. На доске произошло нечто невероятное. — Он пожертвовал ферзя на ровном месте! — закричали понимающие. — Что такое? Почему? — требовали разъяснений остальные. Действительно, Верейский сыграл 22. Ф : d8 (48), отдавая ферзя за коня. Куликов спокойно принял предложенную жертву — 22…Ф : d8. Болельщики ахнули. Ахнула и Вика. А Верейский невозмутимо шахнул конем — 23. Ке7+ Kpf8. У Кости не было выбора. Верейский гнал его короля конем: 24. Kh7+ Kpe8. Последовало 25. Kd5 (49). Верейский неприкрыто смаковал получившуюся позицию, любовался ею. Насмотревшись на нее, он встал, подошел к окну, чтобы взглянуть на приунывших болельщиков. Возможно, что в отличие от них он заметил ветер. — Метафизика какая-то! — воскликнул канадец. — Впрочем, метафизика — родня поэзии! Вот так положение! У нашего Кости ферзь за коня, но, увы, парализованный. Ни одного приличного хода! И грозит вульгарный выигрывающий шах конем на с7! Куликов, конечно, все это видел, а поэтому сыграл 25…ФЬ8, уступая как можно больше места своему королю. Последовало 26.Кс7+ Kpd8 27. Kg5! Верейский не торопился и действовал осмотрительно. Нельзя было допустить Се7, в этом случае черные жертвой слона выпускали своего ферзя на волю. Костя в ответ лукаво сыграл 27…Kpe8, замыслив теперь попасть слоном на d8 и, наконец, развязаться. Однако Верейский все рассчитал и предусмотрительно сыграл 28. Кf7 (50), имея в виду, что после размена на d8 черные будут заперты и белый король расчистит путь своей пешке «f». Тогда Костя, решив напасть на ключевую пешку d6 с тыла, направил своего слона на ферзевый фланг. 28…Ce1, но… слон ушел с поля h4 и не грозил уже попасть на поле d8. Верейский тотчас использовал это и сыграл 29. КЬ5! Вике казалось, что ей, как и Косте, нечем дышать. — Неужели ничего нельзя сделать? — шептала она. — Он давит всем своим многотонным весом. — Простите, это у Гоголя Тарас Бульба обрушил всю свою двадцатипудовую тушу на спину коня. Художественное преувеличение, не так ли? — Какое тут преувеличение! — отмахнулась Вика. — Видите, грозит Ка7+? Костя видел это и сделал единственный ход: 29…Фа8 30. Ка7+ Kpb8 (51). — Он мстит! — кипятилась Вика. — Это бесчеловечно! Ведь Костя в день завершения стройки составил этюд — два коня побеждали ферзя. Теперь он делает это против Кости! — Подождите! Я, кажется, рассчитал. Будет все в порядке. Это весьма красивый замысел у Верейского, но неправильный. Обмен на а7. Пусть ферзя нет, но слон успеет напасть на пешку d6. — Я вас расцелую, — пообещала Вика. Демонстратор переставил фигуры: 31. Ке5 Ф : а7 32. К : d7+ Кра8 33. ba Cb4. И тут сильный порыв ветра качнул демонстрационную доску. Сорвавшиеся с гвоздиков фигуры посыпались наземь. Противники делали последние ходы партии: 34. Kb6+ Kp : а7 35. d7 Се7 (63), заключительная вилка: 36. Кс8+! Костя встал и пожал руку Верейскому. — Это этюдопартия! — Что? — переспросил Верейский. — Чудо-партия? А как же? Учить вас надо, этюдистов. Вертолеты в такой ветер не летали, и Викентий Петрович поехал через пустыню на вездеходе, рассчитывая еще засветло добраться до Высоких Песков. Сидя рядом с водителем, он кутался в свой плащ. Несносный песок проникал через наглухо закрытые окна и ощущался на шее, в рукавах и даже на зубах. Еще недавно было жарко, а сейчас Нелидов зябко ежился. Песок бил в ветровое стекло, как из пескоструйного аппарата. «Дворники» ошалело метались из стороны в сторону. Вокруг ничего не было видно. Брезентовый верх вездехода трепетал. Казалось, на него обрушиваются струи воды из брандспойта. Но воды не было. Был только песок. Из-за него вокруг мчалась серая мгла. Водитель вел машину по компасу. Где-то сверху, скрытое песчаными тучами, светило солнце. Об этом можно было лишь догадываться. Нелидов подумал, что, выполняя долг, рискует жизнью, совершает героический подвиг. А кто об этом напишет? Когда машина вырвалась на траву, видимость сразу улучшилась. Песчаные занавесы раздернуло. Вдалеке над стоящим, словно на курьих ножках, строением гнулась дугой какая-то синяя струя, которую ветер стремился придавить к земле. Шофер гнал вездеход без дороги, по травянистому лугу, прямо к ветромашинной станции. Нелидов, вцепившись руками в сиденье, подскакивал на ухабах и едва не откусил себе язык. Он неотрывно смотрел перед собой и видел все: как злой ветер расправлялся с дерзким сооружением, рвал его ткань, выворачивал поддерживающие крылья. И Нелидов видел, до крови закусив губу, как километровая синяя труба бессильно рухнула на землю. Некоторое время она еще трепетала, как живое существо в агонии. Потом ее тело замерло, опав кожей исполинской змеи. Обручи выпирали резкими ребрами. Вездеход остановился. Выйдя из машины, Нелидов рассматривал разорванную ткань, вывороченные самолетные крылышки. Все это было теперь жалкими останками гордого сооружения. Когда толпа строителей подбежала к Нелидову, он вскинул голову и, увидев Куликова, веско изрек: — Отрицательный результат эксперимента тоже ценный результат. Правда, доставшийся дорогой ценой. От имени министерства я закрываю экспериментальную стройку. Остаток денежных средств будет направлен на строительство здесь тепловой электростанции, самой обыкновенной, банальной, но надежной, которая обеспечит подачу воды для принудительного орошения. — Простите, господин Нелидов, — выступил вперед канадский инженер. — А как же с лицензией, приобретенной «Электрик пайп компани»? — Будем считать, господин ван дер Ланге, что мы уберегли вас от серьезных убытков. Вероятно, избранный вами путь в Скалистых горах более перспективен. Мы используем ваш опыт. Потом Нелидов подошел к Косте, обнял его за плечи и высокопарно произнес: — Ты мне друг, но истина дороже! — и боязливо огляделся, боясь встретиться взглядом с дочерью. Вика в упор смотрела на него. Невозможно было даже отвести взгляд от ее глаз.Часть третья. УРАГАН
Да, это верно все, но все же, Но все же хочется сказать, Что жизнь на шахматы похожа, Но жить — не в шахматы играть.Л. Безыменский. «Шахматы»
Глава первая. ПРАВО НА РИСК
Вика вернулась домой первой, хотя забегала с работы в магазины и притащила две полные сумки. Кости все но было. Она слышала, как открылась наружная дверь, узнала знакомые шаги — она была на кухне. Агния Андреевна демонстративно не выходила «со своей половины», и все домашние заботы легли теперь на Вику. Никитенка устроили на пятидневку в знакомый детский сад неподалеку от старого дома, где пpеждe жили Нелидовы. Костя прошел в комнату, выделенную молодым в обширной квартире тестя, и, не переодеваясь, бухнулся на диван. Вика заглянула в дверь, но ничего не сказала, даже не напомнила, что не следует мять пиджак и брюки. Остекленевшим взглядом Костя смотрел в потолок и даже не повернул к Вике головы. Вика вернулась на кухню, открыла нижнюю дверцу мойки, чтобы выбросить картофельные очистки, и замерла. В помойном ведре торчал знакомый книжный переплет. Не веря себе, она извлекла любимую Костину тетрадь, куда он заносил свои шахматные произведения начиная с детского «взаимопата». Он лелеял мечту когда-нибудь издать книжку своих этюдов. У Вики сжалось сердце. Так вот как далеко зашло! Вика любовно разгладила смятые страницы и спрятала шахматное сокровище на верхнюю полку, замаскировав его кухонной утварью. Потом, вымыв руки, осторожно вошла к Косте в комнату. Атмосфера в квартире за последнее время стала непереносимой. Так уж случилось после гибели синей трубы, похорон Костиной мамы, на которые Костя ездил вместе с Иваном Тимофеевичем в родной город, после инсульта, хватившего Викентия Петровича, и, наконец, после обидных семейных ссор. Агния Андреевна, обожавшая мужа, во всем винила зятя, который «пытался использовать родственные отношения и довел тестя до края гибели». Она так переменилась к Косте, да и к Вике тоже, державшей Костину сторону, что сделала им в общей квартире жизнь не в жизнь. И даже от внука она отстранилась, якобы ради того, чтобы целиком посвятить себя уходу за мужем, приобретшим в результате заболевания эпилепсию. Было страшно смотреть, как выгибалось дугой его большое, крепкое тело, как перекашивалось в гримасе его холеное лицо. Врачи обещали, что со временем это пройдет, и предписали в качестве противосудорожного средства люминал. Агния Андреевна развила бешеную деятельность, в результате которой сделала такие запасы этого снотворного, что привела бы в ужас фармацевтов, заботливо отбиравших на него рецепты. Викентий Петрович, как говорили, легко отделался, но стал мнительным, брюзжащим и нетерпимым. Глядя па Костю, Вика вздохнула. Пожалуй, его «болезнь» едва ли не серьезнее, чем у отца!.. Вика накрыла в кухне стол — они с Костей уже не пользовались общей столовой с финской мебелью, деревянными панелями и красочными натюрмортами. Вика позвала Костю к столу, но он не пошевелился. Только когда она решительно потянула его за руку с дивана, он покорно встал и понуро побрел за ней. Вика готова была плакать. Он опять почти ни к чему не притронулся. Да и на работе (Вика-то следила там за ним!) он тоже не обедал, тупо сидя перед чертежом злополучного сооружения — упрямо вносил в него какие-то изменения. Викентий Петрович, узнав об этом, раздраженно сказал: — «Упрямство — вывеска дураков». Так говаривал Княжнин. Да было бы это вам известно. И он добился назначения инженера Верейского вместо Кости руководителем проектной группы. Так Сергей Александрович вернулся в группу. Он взял на себя ответственность за то, что Костя еще будет что-то мудрить с энерготрубой. Вике же, как и остальным Костиным соратникам, предстояло заняться решением новых задач. В высоких Песках уже строили тепловую станцию. Трудности были в доставке к ней топлива через пустыню. Рассматривались варианты строительства железной дороги, шоссе и даже газопровода от ближнего месторождения. Все это требовало огромных капиталовложений. А как просто все получалось с даровой энергией Солнца. Но Викентий Петрович и слышать не хотел о каком-нибудь продолжении работ по реализации изобретения «Энергетическая труба». Костя тщетно разбивал себе лоб о неприступную министерскую стену. В оправдание себе Нелидов говорил, что не допустит обвинений в семейственности. Ведь в числе горе-изобретателей была его дочь. …Сидя за столом перед отодвинутой тарелкой. Костя не произнес ни слова. Вика видела, что ему «все равно»: и работа, и семья, и шахматы. Он «сломался»… И пока Костя сидел на кухне, не притрагиваясь к еде, Вика ушла в их комнату и произвела там заправский обыск с тщательностью «Знатоков» из Уголовного розыска, и ненапрасно! Держа в руках аптечный сверток, она с ужасом пересчитывала упаковки. Выпросил ли Костя у мамы это снадобье и почему она ему его дала или пакетик со смертельной дозой снотворного он раздобыл сам? И Вика брезгливо отбросила от себя пакетик, потом спохватилась и запрятала его уже так, как только женщина это умеет делать. А потом с милой улыбкой вернулась на кухню. Вика не просто поняла, что произошло с Костей, она поняла Костю. И в этом была и великая сила любящей женщины, и неожиданная простота ее плана. Убирая со стола, она объявила Косте, что им обоим непременно нужно пойти сегодня в детский сад к Никитенку — их вызывают. Руководительница детского сада действительно просила Вику прийти на собрание родителей. Правда, она не требовала, чтобы явились оба родителя. Но это уже детали. Будут оба — еще лучше. Костя поехал, но поехал безвольно, будто у него не было сил сопротивляться. На собрании он не проронил ни слова, занятый своими мыслями. Собрание затянулось, и к его концу детей уложили уже спать. Да это и к лучшему: не стоит тревожить ребенка внеочередными посещениями! Вика повела Костю за руку, как лунатика, по пустынным улицам. И привела неожиданно к тому самому дому, во дворе которого, когда он строился, находился их «черный уголок». Углубленный в себя Костя сообразил все это, лишь когда они с Викой опустились на знакомую, оставленную здесь скамеечку под разросшейся сиренью. Недоломпппого домика, из окна которого вылезла тощая кошка, не было. На его мосте в старом садике оборудовали детскую площадку. — Помнишь, я говорила, что никакая уважающая себя женщина не позволит любимому прийти к ней на свидание с шахматами? — А где шахматы? — вдруг спросил Костя. — Вот твои магнитные шахматы. Смотри. На них расставлена позиция. Необыкновенная позиция! Неужели ты думаешь, что тебе удалось бы когда-нибудь воплотить эту фантастическую идею? — Какую фантастическую идею? — Вполне безумную: спасти безнадежную партию, сохранив в целости собственного ферзя, слона, копя, не произведя ни одного обмена и добившись пата! — Откуда ты это знаешь? — Так. Из одной тетради, — и Вика лукаво посмотрела на мужа. Костя усмехнулся. — Ты не могла ее видеть. — А вот доказательство. Я расставила позицию твоего незаконченного этюда. Ты хотел сделать пат при ферзе, слоне, коне! — Мало ли о чем неосуществимом я мечтал! — Конечно, это неосуществимо. Замуровать ферзя, слона да еще и связать коня! Костя пожал плечами и стал смотреть на доску. Вика показывала ему ходы, опровергающие замысел автора. Костя отвечал, сначала неохотно, потом чуть оживившись. В одном месте он глубоко задумался. — Пожалуй, стоит попробовать совсем по-другому. — И не пытайся! — А все-таки… И Костя стал переставлять фигурки па маленькой доске. И тут на скамейку прыгнула кошка. Костя буркнул: — Опять драный кот? Постой, так ведь это та самая! — Наша Мурка? Вот чудеса! — изумилась Вика, пряча улыбку. Ведь она сама заблаговременно принесла сюда эту кошку и даже привязала к скамеечке лентой. Мурка, отъевшаяся за время жизни у Нелидовых, с мурлыканьем терлась о Викину руку, целясь вскочить к ней на колени. — Подожди, Мурка. Видишь, здесь шахматы… Над этими шахматами, захваченный идеей не проиграть, а замуровать ферзя и слона при связанном коне, и просидел Костя вместе с Викой и Муркой… до рассвета. Свет фонаря проникал сквозь листву сирени, освещая все время меняющуюся позицию. К первым лучам солнца она стала такой: (53) — Так покажи, покажи, как тут получается ничья? — просила Вика, гладя пушистую Муркину спину. И Костя показал. — Видишь. В начальном положении белым грозит мат в один ход — 1…Фf3. Попытка разменять фигуры с помощью 1. Ке3+ ведет лишь к проигрышу -1…С : е3 2. Ф : d1 С : d1 3. С : еЗ (54) 4. а7 Cf3+ 5. Kpg1 Kpc4. — Значит, надо ходить королем. — Правильно, Вика! Молодец! Или тебе Мурка подсказала? — Да уж кое-кто подсказал! — 1.Kpg2 Фd2+. Понимаешь? Черным надо шаховать, но если 1…Фе2+, то 2. Cf2 Крс6 3. а7 Kpb7 4. а64+ Кра8 5. Фа1(55) Cb2 6. Фа5, и белые даже выиграют. Если же черные шахнут 2…Фе44+, то 3. Kpg1 Крс6 4. Ф : с1. Убедительно? Так вот, после шаха ферзем с d2 мы сыграем 2. Cf2. Теперь черным можно позаботиться и о своей безопасности, затормозить белые пешки, прежде чем рваться своими в ферзи: 2…Кpc6. — Да, да, понимаю, — кивала Вика, хитровато щурясь. — Но мы с тобой по-суворовски «заманим» вражеского короля! 3. а7 Kpb7 4. а6+ Кра8. А теперь, чтобы расчистить своему ферзю путь по первой горизонтали, промежуточная угроза мата на h8-5. Фа1. Видишь? (56) — Вижу. Надо закрыться слоном, а не ферзем, чтобы не выпустить тебя на поле а5. — Молоток! о…Cb2. Вот теперь вся первая горизонталь освободилась. А вначале на ней стояли четыре фигуры. Помнишь? Теперь стал возможным ход 6. ФЬ1! Грозит мат черным навскрышку! При уходе белого короля с диагонали. Как черным защищаться? Только 6…Фd1(57), отнимая у белого короля поля и грозя разменом. Но белые упрямы. Впрочем, «упрямство — вывеска дураков»? — Это упрямство — вывеска, а упорство — меч сильных! — Тогда рубанем мечом— 7. Cg1, снова грозя матом навскрышку. Но черные могут теперь шаховать не с d2, а уже и с е2, чтобы из-за шаха ферзем на е4 нельзя было бы закрываться слоном на f2 с повторением ходов. 7…Фе2+ 8. Kf2? (58) Теперь ты только посмотри, Вика! Создалось удивительное положение. Противники не разменяли ни одной фигуры. Все произошло без традиционных для патовых этюдов жертв. Но… белые сжались, подобно пружине. Освободи черный ферзь защелку, и белый король спустит пружину со смертельным для черных ударом. А если не дать ему спустить курок, то… белым пат! Пат чуть ли не при всех фигурах. Получилось, Викуля! Ты сама не понимаешь, что получилось! Спасибо тебе, родная, что сумела раскачать меня. — Спасибо? Мне? Это тебе спасибо! Или пат, или мат! — воскликнула Вика и, схватив Костину, как прежде лохматую, голову, стала целовать его загоревшиеся белым блеском глаза, смеющиеся губы. — Бесстыдники! — проворчала старая дворничиха, вышедшая поутру подметать двор. — Места им мало в комнатах… Бездомные, вроде кошки, что тут шастает. Кш-ш ты! — и она взмахнула метлой. Смущенные, но обрадованные, Костя с Викой, забрав свою Мурку и держась за руки, отравились домой пешком. Дворничиха удивленно смотрела им вслед.* * *
Так уж случилось, что Костя Куликов был в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в первый раз. Как зачарованный ступал он по ослепительному затейливому паркету под хрустальным великолепием исполинских люстр, читал на мраморе стен перечень гвардейских воинских частей, награжденных за доблесть крестом Георгия Победоносца, и думал о Бородинском бое, о Кутузове и Наполеоне, бежавшем через русские снега. В соседней Грановитой палате под узорчатыми ее сводами Костя живо представил себе царей в тяжелом золотом одеянии, заморских послов в камзолах, чулках и париках, бояр в толстых шубах… А под потолком в оконце-любопытные женские лица. Возвращаясь в зал, где ему предстояло выступить, Костя мельком взглянул на огромную картину во всю стену над знаменитой мраморной лестницей. Куликовская битва, разъяренные, свирепые лица всадников, крупы лошадей, взметнувшиеся мечи и копья… Костя подумал, что неплохо бы ему донести такой боевой дух до трибуны. Зал Большого Кремлевского дворца, где проходил съезд изобретателей, оказался непомерно длинным. Из последних рядов трудно было рассмотреть сидящих в президиуме. Но все возмещалось прекрасной вмонтированной в стены радиоаппаратурой. На пюпитрах находились наушники, через них каждый мог слушать и прямую речь, и в переводе на требуемый язык. Идя к трибуне, Костя чувствовал, как колотится у него сердце. Став лицом к залу, он увидел море лиц. Что скажет он им? К чему призовет? Письменный текст был приготовлен, но насколько бледнее речь зачитанная, а не произнесенная! И Костя вдруг решил говорить не по бумаге. — Изобретатель — это звучит гордо! — начал он. — Так хотелось бы каждому из нас. Но, увы, «изобретатель» порой звучит как бранное слово, как кличка назойливого, настырного и беспокойного человека, от которого нет житья. (Одобрительный гул в зале.) К изобретателям, пожалуй, порой относятся как к опасному элементу, вроде как к взрывоопасной гремучей ртути (Смех.) А ведь ато же верно! (Недоуменный ропот в зале). Конечно же так! Изобретатель подобен детонатору взрыва научно-технической революции! (Вздох облегчения и зале). Без детонатора не вызвать взрыва. Это каждому саперу известно. Без изобретений нс двинуть вперед прогресс. Это должно быть известно каждому, кто стоит у технического руля. Но что такое изобретение? Озарение это или кропотливая разработка до семи потов? А что такое любой творческий талант? Это способности плюс усердие! Изобретение — это озарение и трудолюбие. Не просто находка, а искание! И не может все получаться.с первого раза. Я знаю выдающихся ученых, считающих, что плохо, когда опыт удался сразусказался элемент случайности, не определишь, что способствовало удаче. Если же успех приходит в результате ряда неудач, Путем устранения их причин, тогда он устойчив и неслучаен! Потому отрицательный результат опыта не менее полезен, чем положительный. Путь к победе лежит через промахи и испытания. И этим определяется право на риск, право на ошибки, даже па провал. («Верно!» — слышится возглас в зало.) У нас же иногда некоторые перестраховщики спешат «закрыть» изобретение, прекратить его разработку при первой же неудаче. Так случилось и со мной, — и делегат Куликов рассказал съезду обо всем, что случилось в Высоких Песках с энергетической трубой, разбившейся во время урагана о «непробиваемую министерскую стену». Викентий Петрович Нелидов, сидевший в президиуме, делал вид, что слушает с величайшим вниманием, но был вне себя от ярости. И когда он был назван по имени, не удержался, пожал плечами. Это заметили в зале. Кто-то выкрикнул: «Позор!» Председательствующий встал, строгой своей позой упрекая слишком ретивого делегата. — И не в одном только нашем изобретении дело, — заканчивал Куликов. — Как известно, лишь небольшая часть полезных изобретений, как и теперь еще говорят, внедряется. Слово-то какое — «внедряется»! То есть насильственно преодолевают сопротивление! Почему это так? Да потому, что в реализации изобретений (более точное слово!) материально заинтересованы кроме государства лишь авторы, а не руководители предприятий и их трудовые коллективы. И государство теряет на этом миллиарды рублей. А почему бы не передать заметную долю экономии от реализованного изобретения в премиальный фонд предприятия? Почему бы не увеличить этим доход государства от применения новинок техники в несколько раз? Когда Костя возвращался между рядами к своему далекому месту, он видел улыбающиеся лица, одобрительные взгляды и даже поднятые большие пальцы рук. Он не оборачивался к президиуму и не мог видеть кислого лица Викентия Петровича, которое словно говорило: «Вот наградила судьба родственничком! Спасибо дочке!»Глава вторая. ПОРАЖЕНИЕ ВИКТОРИИ
— Хэлло, Костья! — Жизнерадостный канадец в светлом спортивном костюме так ударил по затылку Костю Куликова, что тот даже покачнулся. — Правда, я совсем как американец? — И улыбающийся Александр Максимович выхватил у Кости чемодан, потом бросил его на бетон площадки и приложился губами к ручке Вики, сошедшей следом за Костей с самолетного трапа. В дорожных плащах прилетевшие выглядели чуждо среди нарядной курортной толпы встречающих. Поодаль, радушно улыбаясь, стояла чем-то знакомая Косте яркая брюнетка и цветастом булочном костюме, похожем на ночную пижаму. Она подняла ладонью вперед руку ц приветливо помахивала ею. — Знакомьтесь, моя жена Зоя, — представил ван дер Ланге, когда они пробились к ней в сутолоке встречи. — Надесь, вы привезли мне шахматный привет от Сергея Александровича Верейского? — лукаво щурясь, спросила она. — Зоя Крейцер? — удивился Костя. — Ван дер Ланге, — поправила она. «Когда они успели?» —подумал Костя. — Как видите, я не зря побывал у вас в России, — говорил Александр Максимович. — Я привязан теперь к ней даже супружескими узами. — А сам переходишь в американское гражданство. Перебрасываясь словами, обе четы прошли через летное поле, направляясь в аэровокзал. — Любуйтесь небом Флориды, — сказал ван дер Ланге. — Оно такое же синее, как у вас в Средней Азии. — И труба у вас тоже синяя? — спросила Пика. — Нет, — за мужа ответила Зоя. — Серебристая нить в небе. Это очень красиво! И даже привлекает туристов… — Увидите, — пообещал ван дер Ланге. Все четверо вышли из аэровокзала и направились к столике автомобилей. Она походила на огромный крааль, куда загнали разномастных лошадей. Автомашины всех видов и марок стояли так плотно, что трудно было представить, как выбраться из этого нагромождения колес и радиаторов. — Как вы отыскиваете свою? — поинтересовалась Вика. — О, это просто! — рассмеялась Зоя. — У нас принято при паркинге нацеплять на антенну что-нибудь бросающееся в глаза. Видите, у кого-то кукла, а вон там — консервная банка, но она броского цвета, как огонек. У меня… Отгадайте! Удлиненный воздушный шарик. Серебристый. Это в честь вашей трубы. У Саши на каре такой же. Эмблема! — Вы даже на двух машинах приехали? — удивилась Вика. — Так удобнее. Мужчины поедут отдельно. С багажом. И с мудрыми разговорами. А вам я расскажу, что сейчас носят. И вы убедитесь, что у меня действительно дикий мустанг. Я давлю на нем сто семьдесят километров в час, как считают в России. У нас здесь измеряют на мили. Женщины остановились около удлиненной обтекаемой машины пожарного цвета, будто для прыжка прижавшейся к асфальту и готовой ринуться вперед. Зоя отвязала рвущуюся в небо серебряную колбаску и распахнула незапертую широкую дверцу. — Мы залетим в отель на мгновение. Наденете свое бикини — и на пляж. Быть во Флориде и не искупаться — это все равно что гостить в Риме и не видеть римского папу. Так сказал Саша. Куликовы подчинились предложенному регламенту. Вике интересно было увидеть Америку с разных сторон. Потом все смешалось у бедной Вики. Впечатления обрушились на нее Ниагарой, о которой успела ей рассказать в пути Зоя. Причудливые каменные тысячеглазые столбы над морем зелени и крыш Майами сразу поразили Вику. — Люди лишь подражают природе, — заметила Зоя. — Когда мы с Сашей разъезжали в стране в поисках места для ветросиловой станции «Электрик пайп компани», мы побывали в «Долине памятников» в горах Юты — Монумент-Валли! Представьте себе, там такие же вот каменные столбы, как эти бильдинги, и целые каменные кварталы с обрывистыми отвесными стенами. И все это создано выветриванием. И даже ступенчатые пирамидальные пьедесталы для замысловатых каменных фигур изваяла там Природа. «Мустанг») остановился перед отелем. Чернокожий великан, сверкая золотом позументов, торжественно вышел на панель и открыл дверцу машины. В вестибюле дохнуло прохладой. Вика вспомнила кондиционер, установленный ею в машинном зале первой их ветроустановки. Рыжий портье с усиками подобострастно вручил Вике ключ. В роскошном номере все, начиная с широченных кроватей, портьер, обивки мебели и кончая стенами и даже абстрактивистскими картинами на них, было голубым. Через широкие, во всю стену, окна открывался вид на море с поразительно синим небом над ним. Зоя хлопотливо руководила туалетом своей новой подруги. — Ты знаешь, — тараторила она, — я распорядилась приобрести нам с тобой на пляже две вышки. Вышки оказались высокими деревянными подставками для легких кресел, вознесенных над муравейником пляжа с его пестрыми зонтиками и калейдоскопом разноцветных купальников, от которых рябило в глазах. Сверху было видно, что влажная полоса, доступная «океанскому девятому валу», как бы нейтральной зоной отделяла мир бронзовых тел всех оттенков, кишащих вокруг, тысяч и тысяч сумок, сумочек, гитар, магнитофонов, транзисторов, полотенец, ковриков и мохнатых простынь от набегавших с океана удивительно редких, но высоких водяных холмов с пенными хребтами, накрывающих с головой неосторожных купальщиков. После второго завтрака, ленча, во время которого подавали бобовый суп со специями, жесткий ростбиф с зеленью и горячий кофе с мороженым, решили сразу ехать. Вика обратила внимание, как много пили горячительных напитков за соседними столиками рыхлые толстяки в дорогих мятых костюмах и тоненькие дамы в модных париках, с пышными бюстами и мальчишескими фигурками. Диета! — кивнув в сторону дам, многозначительно заметила Зоя. Дороги, дороги, американские дороги! Как Лаура Петраркой, воспеты они певцами технического прогресса. Вдохновенные поэмы посвящены застывшим бетонным рекам, нежные сонеты — головоломным, но рациональным «разводкам», позволяющим без пересечения переехать с одной дороги на другую, героические баллады — эстакадам, по которым можно мчаться над жилыми кварталами городов. «Мустанг» остался у отеля, перегнанный разомлевшим от жары негром на платную стоянку с включающимся счетчиком. Ехали в «кадиллаке» Александра Максимовича. Вика не удержалась и похвалила машины Зон и ее мужа. — Кредит! — вздохнул Александр Максимович. — Если бы мне перестали платить жалованье, «мустанг» укатил бы от нас с безжалостным агентом фирмы. А «кадиллак» принадлежит «Электрик пайп комнани». Он перешел мне от отца, который по воле бога после апоплексического удара удалился от дел. Теперь мне приходится быть одним из директоров компании вместо него. — Как ваши «солнечные акции»? — О друг Костя! Под то, что я сегодня покажу вам, можно выпустить не только солнечные, но и галактические акции. Костя хмуро замолчал. Здесь, в жаркой Флориде, американцы выполнили его замысел, внеся в конструкцию энергетической трубы все те изменения, которые он выстрадал после крушения первой ветроустановки в Высоких Песках. С американцами был договор, и Костя через министерство передал им всю информацию. Теперь можно убедиться, что он был прав, настаивая на продолжении экспериментальных работ у себя дома. Он стал смотреть по сторонам. Промчались мимо садов, снабжавших цитрусовыми плодами весь континент. Потом по обе стороны шоссе замелькали пальмы, похожие на толстые столбы, украшенные вверху фонтанами листьев. За частоколом пальм расстилалась болотистая низина национального парка Эверглейдс, как пояснила Зоя. Равнина выглядела морем, покрытым зелеными льдинами самой разной формы. В мириаде озер и луж между островками и кочками отражалось синее небо. Болота тянулись до самого горизонта, где сливались в дымке с небом или морским простором. Дымка заметно сгустилась в одном месте и скоро превратилась в зловещую тучу. Туча эта, как разлившаяся краска, стала быстро расползаться по небу. Ван дер Ланге гнал машину, словно хотел уйти от нее. В открытое окно рванул ветер. Ван дер Ланге нажал кнопку, и стекла поднялись. Сначала стало душно, но канадец включил кондиционер, и задышалось легче. Все быстрее мелькали пальмы по обочинам. Они походили на спицы вращающегося колеса и словно падали «за кормой». И вдруг Косте почудилось, что пальма валится прежде, чем они проехали мимо нее. Одновременно автомобиль занесло вбок, и ван дер Ланге едва выправил его. — Без сервомоторов на рулевом управлении я, пожалуй, не справился бы, — признался они добавил: — Кажется, не успели. — Что не успели? — живо спросила Вика. — Удрать от Викки, — загадочно ответил канадец. — От меня? — поразилась русская гостья. — Зародившийся в Карибском море торнадо, очевидно, в честь вашего приезда назвали Викки, Викторией. Тайфунам дают женские имена. — Ах вот как! — Да, совсем как тогда у вас, в пустыне, когда урагана ждал маэстро Верейский. — Он всегда учил нас идти на трудные позиции, — сказала Зоя. И тут одна из пальм на глазах у путешественников взлетела в воздух, волоча за собой вывороченные корни. Она упала поперек шоссе, и Александр Максимович едва вывернул машину, смяв колесами пышные пальмовые листья. — Уфф! — сказал он. — Пожалуй, безопаснее ехать в танке… Вихри мчались над болотом, засасывая воду озерков и луж. Водяные столбы поднимались к низким тучам и сливались с ними. Один из таких смерчей налетел на придорожный домик и мгновенно разрушил его. Легкая оранжевая крыша взлетела на воздух и рухнула па шоссе, продолжая ползти по нему. Снова «кадиллак» с огромным трудом объехал неожиданное препятствие. — Положение как раз такое, какое маэстро Верейский выбирает для своих противников, — сказал ван дер Ланге. — Лучше остановиться, — посоветовала Зоя. Но ван дер Ланге упрямо гнал «кадиллак». — Торнадо — ураганный бич Америки, — говорил он. — Мосты сносит в реки, а реки выходят из берегов, затопляя города. Мы получили сообщение с метеорологического искусственного спутника Земли о зарождении нового торнадо. Викки ожидали здесь завтра, но синоптики всегда ошибаются. Ветер стал встречным. «Кадиллак» замедлил ход, словно вошел в более густую среду. На дороге попался опрокинутый на бок грузовик с высоким крытым кузовом. Около него беспомощно стояли люди. От ветра они так сгибались в поясе, что казалось, будто они что-то ищут под ногами. — Большая парусность — это опасно, — заметил канадец. — Парусность? — переспросила Вика. — А как же труба? — О-о! Не беспокойтесь, — бодро заверил ван дер Ланге. Ветер все время менял направление. Внезапно он ударил в бок. Разом хлынул дождь, и впереди повалилось дерево. Автомобиль заскользил по бетону, как по льду. Напрасно ван дер Лапге отчаянно крутил рулевое колесо. Даже сервомоторы не помогли. Первые струи дождя словно смазали шоссе маслом. «Кадиллак» развернуло поперек дороги, и он продолжал свое вращение, пока не соскользнул в кювет, как кусок мыла с мокрой раковины. Пассажиров отчаянно тряхнуло. Вика полетела вперед на Зою, Костя — на ван дер Ланге. — Все в порядке, — с наигранной бодростью сказал канадец. — Рулевая колонка рассчитана на удар — она пружинит, иначе меня пришлось бы отпевать в православной церкви. Ведь мать моя крестила меня в Монреале у эмигрантского попа. Немного дальше по дороге, поперек нее, лежал огромный пальмовый ствол. — Все-таки, пожалуй, лучше, что я невольно затормозил и мы в вихре вальса попали в кювет, — тем же тоном продолжал канадец. — Я могла бы изувечиться, — возмущенно оборвала его Зоя. — Клянусь, я не бросил бы тебя. — Но я-то не стала бы всю жизнь катать твое кресло паралитика, — огрызнулась Зоя. Только сейчас Вика заметила, что вместо недавнего болота к насыпи подступало море. Казалось, что его уровень поднимается на глазах. Вике представилось затопленное шоссе, и она поежилась. — Полезем на пальмы, — угадав со мысль, сказал пан дер Ланге. Но этого не потребовалось. Однако сила урагана не убывала. Лишь крепко застряв в кювете, автомобиль удерживался на месте. — Без буксира не выберемся. Будем считать, что мы в убежище. Большей неприятности торнадо нам уже не преподнесет. — Вы так думаете? — спросила Вика. — А энергетическая труба на вашей станции выдержит? — и она кивнула на поваленный ствол. — Как известно, сила солому ломит, а не соломинку, — загадочно ответил Александр Максимович. — Итак, условия у нас новые… Условия эти были не из приятных. Наводнение грозило… В «деловой машине» ван дер Ланго оказался радиотелефон, и директор «Электрик пайп компани» соединился с инженером энергетической станции, до которой не удалось доехать. — Дело плохо, — сказал он, повесив трубку, — Вода затопила мост, автомашина не проедет. Пришлют катер с едой. Часы ожидания были бесконечными и мучительными. Люди изнывали от безделья. Выходить из машины было опасно. Переговорили обо всем и теперь молчали. Стемнело. Зоя перебралась на заднее сиденье к Вике. Женщины жались друг к другу. — Вот что, леди и джентльмены! — вдруг предложил ван дер Ланге. — Я часто восхищался русскими. Вспомним челюскинцев, которые куда в худшем, чем у пас, положении устроили турнир на льдине. Шахматы — прекрасное средство отвлечения! У Кости, как всегда, были с собой магнитные шахматы. А у ван дер Ланге — приготовленный для Кости сувенир, тоже карманные шахматы. Словом, нашлось две доски. Женщины играли между собой с переменным успехом. Александр Максимович безнадежно проигрывал Косте. — Нет, я, должно быть, устал, — объявил он спустя несколько часов, в течение которых бушующий ураган словно отодвинулся куда-то. — Так призовем теперь объятия Морфея. Уверяю вас, отходить ко сну на голодный желудок куда полезнее, чем поевши. — Теперь мы поймем, на какие страдания идут женщины во имя сохранения мальчишеских фигурок, — вздохнула Зоя. Вика пристроилась у Кости на плече. Скоро в «кадиллаке» все спали. А снаружи свирепствовал ураган «Виктория». Утром первым проснулся Александр Максимович и тотчас связался по телефону с энергетической станцией. Торнадо ослаб. — Катер к нам вышел. Если он нас и не вытащит из кювета, то по крайней мере накормит. — Было б неплохо, — зевнул, потягиваясь, Костя. Стали выбираться из машины, чтобы умыться в воде у насыпи. — Все-таки я очень беспокоюсь об энергетической трубе на вашей станции, — сказала Вика, когда все снова собрались в машине. — Почему вы, Саша, не беспокоитесь? — О-о! Ответ на шахматной доске, — смеясь, ответил канадец. — Нет, я серьезно. В шахматы играть я уже не могу. — И не надо! Я расставлю одну знакомую Косте позицию, и он покажет нам, в чем там дело. До завтрака успеем. И он расставил на доске фигуры (59). — Хорошо, — улыбнулся Костя. — Я вижу, что шахматы верно служат нам в пашем приключении. В этом давнем моем этюде надо выиграть. Тема борьбы идей белых и черных. У белых три пешки за фигуру, но черные кони крепко держат их. Как же выиграть? — Надо включить в борьбу белого слона, — предложила Зоя. — Верейский учил нас с Викой совместному действию в атаке всех сил. 1. Сс13 КЬ8. Больше ведь нечего делать! — Браво, Зоя! — отозвался ван дер Ланге. — Я благословляю шахматный клуб, где с тобою встретился. — Правильно, — подтвердил Костя. — Теперь черным, казалось бы, нечего противопоставить маршу белой пешки. 2. а5 Кеб 3. а6 Кс5 4. а7 (60). Кстати, отойти белым слоном было нельзя из-за К : а6 с ничьей. 4…К : d3+ 5. Kpd1 e2+ 6. Крс2! (61). — Почему такой странный ход? Я бы сыграла 6. Kpd2, — заметила Зоя. — И сделали бы ошибку. Смотрите: 6…е1Ф+ 7. Кр : d3 Фg3 8. а8Ф (62) f2+ 9. Крe2 Фf4 10. Фа1 f1Ф+ 11. Ф : f1 Ф : е4+ с ничьей. — В самом деле, — согласилась Зоя. — Значит, вы играете 6. Крс2, и что же тогда? Чем белым легче? — Белым, оказывается, совсем не легко. Черные используют положение короля на с2 : 6…Kb4+ 7. Kpd2 К4а6! Вот в чем замысел черных, их хитрая защита! Если белые поставят сейчас ферзя на а8 (63), то ему не выбраться из сбитой черными конями клетки, а король белых привязан к пешкам «e» и «f». Силы белых разобщены и, несмотря на их материальный перевес, — позиционная ничья. — Как здорово! — воскликнула Вика. — Я восхищаюсь вами, — сказал ван дер Ланге. — И вспоминаю столик на «Седьмом небе» во время «смены электрического кабеля». Мы непременно съездим в Атланту. Там над отелем «Ридженси Хайаттхаус» поднят вращающийся фешенебельный ресторан. Оттуда открывается прекрасный вид, и мы вспомним там былое. — Прекрасный вид? — отозвалась Вика. — Я не сказала бы этого здесь, — и она кивнула на окно, за которым неистовствовал косой ливень. Ветер гнал по взбухшему на месте болота морю валы, они разбивались о насыпь. Хорошо, что автомобиль застрял в кювете, ограничивающем на насыпи дорогу с обеих сторон, а не скатился с насыпи в болото. Никто не смотрел бы тогда на шахматы, как сейчас Костя. — Если ферзь не может выскочить из клетки… — То конь выскочит, — перебила Костю Зоя. — Ставлю коня! — Опять непоправимая ошибка: 8. а8К? Кс5!, и грозит неотвратимое Kd3, теперь даже с выигрышем черных. Надо ждать. — Ах вот как! Ждать не в моей натуре. — Один мой старый друг учил меня «поспешать медленно». Надо подготовить «рождение коня»: 8. е5 Kph7 9. е6. И Даже сейчас было бы еще рано выпустить жеребенка: 9. а8К? Кс5, и опять неизбежно 10…Kd3 с выигрышем. — Какая же нужна выдержка! — воскликнула Зоя. — Как раз выдержке и учат шахматы. Итак, 9…Kpg6 10. е7 Kpf7 (64). И все еще рано ставить долгожданного коня. Если 11. а8К? то Кс5 12. Кс7 Ке4+ 13. Kpe1 К : f6 с ничьей. Потому — 11. Kpe1, выманивая черного короля на опасное поле. 11… Кре8. Вот теперь вновь рожденный конь будет грозить черному королю: 12. а8К! — Наконец-то! — вырвалось у Вики. — 12…Kpf7 — король убегает, но конь нагоняет: 13. Кс7, и белые выиграли! Так чем же, Саша, вам помог этот мой этюд? — Этот ваш этюд, дорогой мой Костя, подсказал, как справиться с торнадо, как выдержать чудовищный ураганный напор. — Не понимаю, — призналась Вика. — Я знаю, но буду молчать, — сказала Зоя. — О, я вижу, Костя уже решил. — Надо думать, — уклончиво ответил Куликов. При подъезде к ветросиловой станции «Электрик пайп компани» из окна «кадиллака» открывался вид на небывалые разрушения: вырванные с корнем деревья, дома без крыш, поваленные ураганом заборы, опрокинутые автобусы. На мосту, еще недавно залитом вышедшей из берегов рекой, остановились. — Отсюда туристы любовались серебристой нитью в небе, — сказала Зоя. Небо было синим и без всяких серебристых струнок. Но за мостом, где снова обнажились зеленые островки и кочки болота, от серого бетонного здания у шоссе тянулась к горизонту серебристая змея с выпирающими ребрами. Она не упала в болото, а была аккуратно уложена вертолетами, которые сейчас уже хлопотливо летали над нею, готовясь снова поднять ее в небо. — Вот он, мой ход конем, ход превращенным конем! — говорил радостный ван дер Ланге. — В боксе ценятся не только удары по противнику, но и уходы от его ударов. Так не лучше ли избежать удара и вместо того, чтобы противостоять урагану в воздухе, заблаговременно спустить трубу на вертолете, едва получено сообщение о приближении торнадо? Я слушал у вас мудрую смешную песенку: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет…»Глава третья. ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ
После возвращения из Америки Куликовы переехали на новую квартиру, получив ее как изобретатели (в их семье стало теперь, вместе с годовалой дочкой Марианной, четверо). Викентий Петрович Нелидов, не встречаясь больше с зятем дома, однажды пригласил его к себе в министерство. Косте пришлось подождать в приемной, где сидели еще несколько человек с периферии. Новая секретарша, строгая, крашеная, с пышными формами, оглядывала всех равнодушным взглядом, не узнавая никого из интересующих начальство. Костя не любил терять времени даром, он вынул книжечку с карманными шахматами и углубился в найденную им позицию, чем окончательно уронил себя в глазах секретарши. И в кабинет к Нелидову, когда приемная опустела, она пригласила его так, словно у нее зубы болели. Викентий Петрович не поднялся Косте навстречу, а сделал вид, что крайне занят лежащей перед ним бумагой. Костя стоя ждал. — Ну? — сказал Викентий Петрович, поднимая глаза. — Может быть, сядем? В ногах правды нет. — Зато правду искать ногами приходится, — ответил Костя, садясь на кончик стула. — Правду в жизни можно найти. Правда, жизнь-то может уйти! — процитировал Нелидов. — Безнадежное, скажу я вам, занятие — правдоискательство. В особенности когда дело идет о перпетуум мобиле. Чего вы хотите добиться, молодой человек? Сбросить меня с этого кресла? Не выйдет! — и он угрожающе поднялся. Костя остался сидеть, следя глазами за расхаживающем руководителем. Манеры у Нелидова были прежние, барские, но сам он заметно постарел, обрюзг, полысел. — Я стою на такой высоте, откуда легко сорваться. Но я не допускаю повода для обвинений в семейственности. Разве что дал вам с Викой возможность съездить в Америку. Недурной вояж! И какова же благодарность? — За что благодарить? За вашу поспешную реакцию на мое выступление в Кремлевском дворце? Заграничной командировкой бросаетесь, как костью? — Оставьте ваши метафоры, Константин Афанасьевич! Не знаю, как метафорически выразить ваши действия после возвращения oт американских друзей! Проще всего кричать на всех перекрестках, что злодей Нелидов в министерстве затирает ваше изобретение, которое якобы с таким успехом применено за рубежом! — Но все действительно так. — Это надо еще проверить! Надобно проверить, чьи интересы вы представляете. — Я вас не понимаю. — И понимать нечего. За достижение техники выдается способ эксплуатации сооружения, которое, подобно ежу, должно трусливо складываться при каждом дуновений ветерка! Курам на смех! И у него еще хватает совести всерьез требовать строительства сотен подобных сооружений у нас в стране! Противопоставлять их атомной энергии! Это очень смахивало бы на экономическую диверсию, если бы я не знал вас лично. Впрочем… «скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты». О вашей дружбе с капиталистом, с самим директором американской компании, наслышаны. Вот так-с!.. — Вы прекрасно знаете Александра Максимовича ваи дер Ланге, наполовину русского, женатого на советской гражданке, всячески симпатизирующго нашей стране. — Я ничего не знаю о симпатиях этого бизнесмена. Я лишь знаю, что, опираясь на чисто рекламные «достижения» его фирмы, вы пытаетесь навязать советской промышленности план пагубного вложения средств, ведущий к подрыву энергетики. — Не к подрыву, а к развитию. И тормозить использование солнечной энергии, в частности путем строительства энерготруб, вам, вероятно, уже не удастся. Викентий Петрович обернулся, застыв в позе гневного возмущения. — Я понимаю. Вам хотелось бы вызвать у меня еще один инсульт и тем смести меня со своего пути!.. Бедная моя дочь! За какое беспринципное, безнравственное чудовище вышла она замуж, связав себя не только уродливой семьей, но и псевдопрогрессивной деятельностью, прикрывающей эгоизм личной выгоды! Секретарша даже через двойную обитую дверь слышала, как «распекал» Нелидов своего посетителя. Не разбирая грозных слов, она безошибочно угадывала «разносный» тон начальника. Когда неприятный посетитель, отнюдь не понурый, как полагалось после такого приема, прошел через приемную и кивнул на прощание, она даже не ответила ему — торопилась предложить Викентию Петровичу, как наставляла Агния Андреевна, успокоительное лекарство. Но Нелидов отмахнулся от назойливой заботы и погрузился в составление некой докладной записки, на которую решился как на самую крайнюю меру. Он не передал ее секретарше и даже не послал перепечатать, затребовал только конверт, адрес на котором написал сам. Телефон в новой квартире Куликовых установили недавно, и мало кто знал его номер. Потому каждый звонок и удивлял хозяев. Вика, только что принесшая Марианночку из яслей, сияла трубку и позвала мужа: — Тебя, Костя. Очень приятный мужской голос. Коcтя взял трубку, а Вика, уложив девочку в кроватку, принялась хлопотать по хозяйству. Пятилетний Никитенок вызвался помогать ей. Это было его любимой игрой. — С вами говорит Власов Николай Сергеевич. Я надеюсь, вы не откажетесь увидеться со мной, — услышал Костя чужой голос. — Здравствуйте, — ответил он и замолчал. — А если не откажетесь, то загляните ко мне и гостиницу «Россия» в номер 427. Я буду вас ждать в любое удобное для вас время. Шахматы здесь есть. — Простите, — удивился Костя. — Если шахматы, то почему бы не встретиться в шахматном клубе на Гоголевском бульваре? — На Гоголевском в клубе будет слишком людно. Вам это не кажется? — Признаться, нет. Шахматисты занимаются шахматами. — Вот именно. Это сузило бы нашу беседу. — Не понимаю. — Достаточно ли сказать вам, что я снял только для встречи с вами этот номер, используя специальную броню. Вы же шахматный мастер и умный человек. — Кажется, я начинаю понимать. Когда приехать? — Время назначаете вы. — Тогда забронируйте ближайший час. Не люблю откладывать. Вика по лицу Кости сразу поняла его состояние. Он так ничего и не сказал ей, пообещав объяснить позже, и уехал. Превозмогая тревогу, Вика занялась детьми. Дверь 427-го номера открылась, и перед Костей предстал крепкий человек его лет, с умным лицом и проницательными глазами. Хорошо сшитый костюм ладно облегал его фигуру. — Спасибо, Константин Афанасьевич, что приехали. Верьте, встреча с таким художником шахмат запомнится на всю жизнь. Проходите. Шахматы я приготовил. Костя нахмурился. Все-таки речь пойдет о шахматах? — Я позволил себе расставить позицию вашего этюда, который когда-то мы целой пограничной заставой решить не могли. Я в погранвойсках служил. Костя посмотрел на доску. — Как тут сделать ничью? Не приложу ума, — продолжал Власов. — Я охотно покажу, если вы за этим меня вызвали. — Пригласил. Это совсем другое. Пригласил помочь… — Чем? Заменой номера журнала, где опубликовано решение? Могу, конечно. Как видите, белые зажаты в матовые тиски. — Совсем как в вашем случае, Константин Афанасьевич. — Не понимаю. Белые, чтобы спастись, решают заставить черные фигуры мешать друг другу. — Вполне жизненная стратегия. Как это говорится у Безыменского? «Жизнь на шахматы похожа…» — «Но жить — не в шахматы играть», — закончил Костя. — А как играть (65)? — Вот так: 1. Кс2. — А мы пробовали сначала 1. Ce1, и не получалось. Как дальше? — 1..Cg7 — черным надо задержать белую пешку «h». 2. с7. Новая угроза белых. Приходится черным считаться с нею: 2…Лс6. Обратите внимание: белые привлекли и слона и ладью на те линии, на которые им нужно. Теперь 3. а7 Л : с2 (66). Черные снова грозят матом. Это активнее, чем пытаться провести пешку «а»! в ферзи — 3…а2 4. СсЗ! С : сЗ 5. а8Ф а1Ф+ б. К : а1, и у черных нет матующего хода Лс1, так как ладья перекрыта своим же слоном (67). А в случае 4…Л : сЗ 5. а8Ф а1Ф+ 6. Ф : а1 (68) ферзь мог взять на а1, потому что черная ладья перекрыла своего слона. Обратите внимание на механизм взаимного перекрытия слона и ладьи. Это встретится в главном варианте решения. — Вам не кажется, что, создавая такие «механизмы» на шахматной доске, вы словно конструируете машину на чертежной? — А что! Общего, пожалуй, не мало! Итак, 3…Л : е2 4. Cd2 а2 5. а8Ф а1Ф+ 6. Ф : а1 С : а1. Черные задержали все белые пешки (69). — Да, белым впору сдаться! — Подождите. Не зря белые расставляли черные фигуры по намеченным местам — 7. с8Ф+! — Вот уж игра в одни ворота или поддавки! — Совсем нет. Это только кажется, будто черной ладье легче с восьмой горизонтали задерживать белые пешки, но на самом деле 7…Л : с8 8. СсЗ! (70) Вот ключевой ход плана белых! Беззащитный слон становится под удар двух черных фигур, и тем не менее ни одна из них взять его не может. Если 8…Л : сЗ, то 9. h8Ф+ Kpg4 10. g7 и, как видите, черный слон перекрыт ладьей. А если 8…С : сЗ, то 9. g7 С : g7 10. h8Ф4+ С : h8 — белым пат! Использовано перекрытие ладьи слоном. — Здорово! А нельзя ли уклониться от этой механики? — Хотите попробовать? 8…ЛЬ8 9. Cb2! Вторая жертва слона, и опять его нельзя брать. — Ясно. Значит, и по линии «Ь» у черных ничего не выходит. — Можете попробовать и по линии «d» 9…Лd8 10. Сd4! Слон третий раз самоотверженно преграждает путь матующей ладье и по-прежнему неуязвим. А в четвертый раз по линии «с». — Колдовство какое-то! Вернее, четко работающая машина. — «Взбесившийся слон» парализует и слона и ладью, хотя ничем и не защищен, вынуждая повторение ходов. — Вы открыли тему «вечного Новотного». Кажется, так по имени чешского проблемиста назван в задачах механизм пересечения линий действия слона и ладьи на поле, где жертвуется фигура? — Да, если хотите, «вечный Новотный». — А я бы назвал это вечным движением. Вы изобрели на шахматной доске перпетуум мобиле! Костя быстро взглянул на Власова и встретил его испытующий взгляд. — Разве не верно? Или вы скажете, что перпетуум мобиле нельзя изобрести? — Перпетуум мобиле первого рода, черпающий энергию из ничего, конечно, создать нельзя. Но перпетуум мобиле второго рода, получающий даровую, но реально существующую энергию, например Солнца, в принципе осуществим. — Вы могли бы привести примеры? — Пожалуйста. Для работы теплового двигателя требуется перепад температур между нагревателем и охладителем. Если имеете нагревателя (топки котла или камеры сгорания) использовать теплую воду морей, а в виде холодильника (вместо градирни или радиатора) — воды Ледовитого океана, в принципе говоря, можно построить грандиозный тепловой двигатель без топлива. Конечно, придется решить вопрос доставки теплых южных вод к Ледовитому океану. Впрочем, французские инженеры еще в 1939 году демонстрировали на Нью-йоркской международной выставке «Мир завтра» действующую установку, где нагревателем служили поверхностные слои моря, а холодным полюсом тепловой энергосхемы — глубинные воды океана, которые много холоднее нагретой Солнцем морской поверхности. Так французы обошлись без тысячекилометровых водоводов между океанами и создали перпетуум мобиле второго рода. — В Нью-Йорке, говорите? Вы, как утверждают, любите все американское? Костя покосился на своего нового знакомого. — Речь идет не об Америке, а о французском инженере Клодо. Можно привести примеры и из советской практики. Прежде всего наши великие гидростанции. Ведь солнечная энергия заставляет течь питающие их реки! И, конечно же, приливо-отливная энергостанция в горле Белого моря, где так ощутимы морские приливы. Это тоже перпетуум мобиле второго рода. Но там используется энергия вращения Земли. Она словно приводным ремнем связана с Луной, виновницей приливов. — Значит, Земля притормаживается? Чего доброго, вы, инженеры, совсем ее затормозите, и будет на Земле с одной стороны всегда ночь, а с другой — вечный день, как на Меркурии. На Луне хоть через две недели меняются свет и тьма. Хотите закурить? Не курите? Тогда чашку чаю. Я сейчас закажу. Я оторвал вас от дома. Власов заказал по телефону чай и стал собирать шахматы в коробку. — Вы, я вижу, разбираетесь в астрономии, — заметил Костя. — А вот к инженерам относитесь подозрительно. — Вы меня неправильно поняли. Я сам инженер. Даже диссертацию защитил по бутановым электростанциям. — Так ведь это тоже перпетуум мобиле второго рода! — обрадовался Костя. — Нагреватель — недра Земли, охладитель — холод полярных областей! — Точно. Пары бутана при подземной температуре достигают приемлемого для энергосхемы давления, могут вращать турбины, а при наружной полярной температуре снижаются, чтобы попасть в нагреватель. — Так вы и сами причастны к перпетуум мобиле! — Вот я и хотел спросить вас, почему вы считаете своевременным в наш век неистощенных богатств Земли ставить вопрос о строительстве всяких перпетуум мобиле второго рода вместо тепловых и даже атомных энергостанции? «Ах вот откуда это идет!» — подумал Костя… — Знаете что, Николай Сергеевич, — он запомнил его имя с телефонного разговора. — Можно жить по принципу французского короля — «после нас хоть потоп!» — Он взял стакан принесенного официанткой чая. — Но можно заглядывать в будущие тысячелетия. Я уже не говорю о загрязнении окружающей среды, об отравлении атмосферы городов миллионами автомобилей с их ядовитыми выхлопными газами. Давайте подумаем: случаен ли энергетический кризис, потрясший капиталистические страны? Неиссякаемы ли тепловые и другие энергетические ресурсы планеты? — Ее часто сравнивают с космическим кораблем, летящим со своим многомиллиардным экипажем меж звезд. — И правильно сравнивают. Нет, коньяку в чай вы мне не добавляйте. Спасибо. Так вот, запасы такого космического корабля ограничены. Рано или поздно они иссякнут, если не при нас, то при наших потомках в грядущих тысячелетиях. — Ну что ж, об этом говорил еще Владимир Ильич Ленин, советуя Богданову написать роман о Земле, на которой капитализм хищнически уничтожил полезные ископаемые. — Вы даже это знаете! Так где же, как не в социалистической стране, думать о будущем? — Это хорошо, что вы печетесь о потомках, имея сына и дочь, — заметил Власов, наливая себе в чай коньяку. Костя быстро взглянул ему в лицо и встретил открытую улыбку. — Но, пожалуй, вы правы в известной степени. — закончил он и закрыл коробку с шахматами. — Не в известной степени, а полностью, — горячо возразил ему Костя, отталкивая стакан с чаем. — Коммунистический подход к прогрессу, как я понимаю, — это дальновидный, проникающий взглядом и расчетом в третье, четвертое, десятое тысячелетие нашей эры. И ради этой дали уже ныне недопустимо тормозить любые способы использования даровой солнечной энергии. Она должна превращаться в электричество, и все транспортные средства, начиная с автомобилей и кончая самолетами, должны быть переведены па электрические приводы от аккумуляторов, заряжаемых в конечном счете Солнцем! — Как в космическом корабле, — подсказал Власов, с интересом рассматривая гостя. — Да, ваше сравнение верно. Вот теперь и судите, можно или нельзя использовать вечное движение не только на шахматной доске, но и в технике. Они еще долго говорили о вещах, далеких от шахмат, с которых начали разговор. Когда Николай Сергеевич провожал Костю к дверям номера и помогал ему надеть пальто (на улице шел дождь), он сказал: — Если бы я был против вас, вы убедили бы меня сегодня, но… — Есть какое-то «но»? — улыбаясь, спросил Костя. — Я вовсе не был против вас, о котором столько слышал. — Обо мне? — Меня просил передать вам привет полковник Гусаков. — Простите, я не знаю такого. — Ну что вы! Ивана-то Тимофеевича? — Иван Тимофеевич Гусаков ушел на попсию капитаном. Он не может быть полковником. — Это из милиции он ушел, — мягко заметил Власов. — А его опыт, знания и способности по специальности могли понадобиться в другом месте. Я прощаюсь с вами и благодарю за помощь… — В чем я вам помог — не пойму! — В прояснении подхода к проблеме «перпетуум мобиле» и вашего плана массового строительства энергетических труб.Глава четвертая. НА «СЕДЬМОМ НЕБЕ»
Посетители вращающегося ресторана ни Останкинской телебашне разом — повскакали с мест. Гул прошел по залу. Вике показалось, что она перенеслась на годы назад и что все это однажды уже было: за столиком сидели те же люди и на скатерти была развернута та же книжечка с магнитными шахматами… Первым не выдержал заокеанский гость. В своем элегантном спортивном костюме он перебегал от столика к столику и снимал кинокамерой через круговое ресторанное окно необыкновенное зрелище. Вика переглянулась с Костей. Оба улыбнулись. — Поздравляю вас, родные мои! — сказал полковник Гусаков и протянул через стол руку. Рукопожатие его было крепким и ласковым. За окном, опоясывающим весь зал, медленно поворачивалась панорама исполинского города. Казалось, его объемный план разостлан там, внизу. Но по ленточкам улиц шныряли крохотные, отнюдь не нарисованные машины, а на перекрестках скоплялись движущиеся точки пешеходов. Знакомые районы узнавались по приметным высотным зданиям. Силуэты их чем-то напоминали контуры кремлевских башен и ярко очерчивались на ясном небе. Море домов уходило в дымчатую даль. На размытом горизонте угадывалась зелень подмосковных лесов. Вика с Костей стояли перед окном взявшись за руки, и у обоих было такое ощущение, будто они без всякого усилия парят в воздухе, как это бывало в детских снах. Фантасты говорят, якобы где-то в генной памяти человека запечатлено чувство невесомости, испытанное его неведомыми предками, быть может из космоса прилетевшими на Землю… Теперь подобный полет Вика с Костей ощущали не во сне, а наяву. И внутри них все пело, а они слоило неслись на крыльях — пли, вернее, без крыльев — над столицей. Час назад они ждали друзей у подножия башни. Катя с мужем, проездом на юг оказавшиеся в Москве, обещали приехать, но недопустимо опаздывали. Из-за них можно было пропустить все событие! Вика, смеясь, порвала их билеты и пустила обрывки по ветру. — Я выполнила ритуал, — сказала она. — Придется теперь все остальное тоже повторять, называя меня «заслуженной артисткой без публики». — Из театра Сатира! — подхватил Александр Maксимович, ван дер Ланге, специально приехавший из Америки, чтобы быть в этот день вместе с ветеранами трубоэнергетики. — Я готов. Mне следует присоединиться к вам наверху. Не правда ли? — Нет. Старое будет по-новому! — решила Вика и, взяв Александра Максимовича под руку, направилась к лифтам. Костя пошел следом в сопровождении Ивана Тимофеевича Гусакова. Форма полковника, пожалуй, молодила его. Вика проявила свой характер. Она отыскала важного, но благорасположенного метрдотеля, уверила его, что он ничуть нс изменился за столько лет, и упросила, чтобы он непременно посадил их за семнадцатый столик. Оказывается, он помнил, что во время давней паники за этим столиком играли в шахматы. И он выполнил просьбу, предположи и, что шахматы и на этот раз появятся на столе. Ван дер Ланге церемонно раскланялся, прежде чем сесть: — Сочту за честь разделить трапезу. Он помнил свою первую сказанную здесь фразу! Вика потребовала, чтобы Костя вынул свои карманные шахматы. — У нас еще есть время. Ты должен показать свой новый этюд, как тогда, — предложила она. — Опять взаимный пат? — улыбнулся Иван Тимофеевич. — Нет. Тоже взаимное, но… превращение не в ту фигуру, — рассмеялся Костя. — Ради ничьей? — поинтересовался Александр Максимович. — Нет. Во имя победы. — Вот это правильно! — подхватил Гусаков, — А ну, показывай, как это кони ходят! — Сейчас вы поймете, как и зачем они ходят, — пообещал Костя и стал расставлять фигуры. — Надо выиграть! (71) — Трудновато тут выиграть, — заметил полковник. — Черные того и гляди поставят ферзя на f1, притом с шахом… — А мы первым ходом отойдем королем. Вернее, начнем им наступление на черных. — Батькой? Значит, 1. Kpg6. — Верно. Теперь черные ферзя не поставят. Белые сыграют 2. Kpg7, сами проведут ферзя с шахом и выиграют. — Придется черным играть 1…Kd6, — решил Гусаков. — Пожалуйста. Белые сразу не пойдут пешкой «h», а предварительно отдадут свою пешку на f8: 2. f8Ф+ Kp : f8 (72). — Зачем это? — удивился ван дер Ланге. — Увидите, — загадочно пообещала Вика. — 3. h7 Kt7 4. Cd5 Kh8+ 5. Kph6 (73). — Фу ты! — фыркнул Иван Тимофеевич. — Пятый ход! А он никак нам не давал ферзя поставить. — Не вздумайте сейчас поставить: мигом проиграете! — Да ну? — А вот: 5…f1Ф? 6. g6 Фf5 7. g7+ Kpe7 8. g8Ф (74), но не 8. gh? из-за 8…Фg5 мат! Теперь же на любой ход черных — или размен ферзями на g5, или 9. Kpg7 с последующим взятием коня на h8 и выигрышем. — Ясно, — согласился Гусаков. — Поэтому черные, рассчитав все это, поставят не ферзя, а коня — 5…f1K! — А что с него толку? — усомнился полковник. — Иван Тимофеевич! Кони ходят через клеточку на поле другого цвета, — подзадорила Вика. — Ну и ну! — покачал головой Гусаков. — Надо думать, теперь белым в ферзи спешить пора — 6. g6. — 6…К : еЗ, — за черных ответил Костя. — 7. g7+. Вот для чего нужно было отдать пешку на f8, чтобы сейчас шах был! 7… Kpe7 (75) и теперь 8. g8K+! — Парадоксально! — воскликнул ван дер Ланге. — Непременно конь? И никак нельзя поставить ферзя на h8 или g8? — Нельзя. Смотрите: 8. ghФ? Kf5+ 9. Kpg6 Kh4+ 10. Kpg7 Kf5+ 11. Kpg8 Kh6+ и так далее. — Вечный шах! Подумайте только, как экстравагантно! И не представляется возможным вырваться! Прелестная «вечность»! — восхищался Александр Максимович. — Вот он, оказывается, как конь ходит! — глубокомысленно заметил Гусаков. — А ежели 8. g8Ф?, то белым еще хуже будет: 8…Kf5 мат. И вся недолга! — Поэтому выигрывает превращение белой пешки в коня — 8. g8K+1 (76) — В порядке взаимности, — улыбнулся в усы Гусаков. — Тут предстоит еще, я бы сказал, длительная борьба, — предположил Александр Максимович. — Эндшпиль — по две фигуры и по три пешки. Силы равные! — И тем не менее черным худо. Сильнейшее продолжение за них — 8…Kpf8, чтобы поближе быть к королевскому флангу и опасным белым пешкам. 9. К : f6 К : d5 10. К : d5 Kpf7 11. Kpg5 (77) — белые сами отдают свою грозную пешку, но: 11…Kpg7 12. h6+ Kp : h7 13. Kf6 мат! (78) — Мат одним конем, притом превращенным! — воскликнул ван дер Ланге. — Толково, — заключил Гусаков, — Вырос ты, брат Костя. И в шахматах тоже. — Я запишу этот этюд, чтобы показать в Америке. — Покажите его Фишеру, — посоветовала Вика. — Я опасаюсь, что он за это потребует от меня контрольный пакет акций «Электрик пайн компани», — улыбнулся ван дер Ланге. Вика пристально изучала серьезное лицо ван дер Ланге. Оно уже не казалось ей, как прежде, надменным. — Как вы справляетесь с близнецами? — спросила она его. — О-о! Прекрасно, — расплылся в улыбке Александр Максимович. — В помощь жене я выписал из Канады одну из своих шестерых сестер. Пусть поможет нам воспитать Постоянство и Победу. — Постоянство и Победу? — переспросила Впка. — Я так назвал наших детей. Сына — Константином, Костей, дочь — Викторией, Викой. — Спасибо, Саша, — тихо сказала Вика и коснулась пальцами его лежащей на столе руки. — Спасибо вам! — отозвался ван дер Ланге. — Это с вас, отсюда вот, началась моя настоящая жизнь, хотя я и живу в Америке. — Ваши дети будут считаться американцами. Ведь они родились в США! — Я тоже получил американское гражданство. Вы знаете? — Знаем, — вставил Иван Тимофеевич. — И даже больше. — Вот как? Что же больше? — Например, что вы вступили в Коммунистическую партию Соединенных Штатов Америки. — Это верно? — оживилась Вика, пытливо глядя на гостя. — Надо верить сведениям товарища полковника. — рассмеялся Александр Максимович. — Как видите, и бизнесмены идут к коммунистам. Впрочем,у них есть пример самого Фридриха Энгельса, владевшего фабрикой, или московского заводчика-революционера Шмита. Однако, полковник, вы сказали так, словно могли что-то добавить. — Добавить можно, что с коммунистами идут те, кто верит в будущее, — вставил Костя. — Я думаю, что вы и это, да и многое другое сами знаете, — сказал Гусаков. — Вы имеете и виду борьбу против нашей ветроэнергетики? — К вам под видом вернослужащих проникали наемники одной из монополии, выведывали слабые места трубоэнергетики и теперь будут «противостоять» вам. — Ах вот как? Значит «троянский конь»? — Да, и вашу «Трою» — «Электрик пайн компани» — обвиняют в неспособности дать в своих установках стабильную мощность. И предлагают «похитить Гольфстрим». — Что? — поразился ван дер Ланге. — Был такой старый фантастический роман — забыл его автора. Его герой перегородил Гольфстрим плотиной. Можно было угрожать Европе лютым холодом и диктовать ей свои условия. Ваши конкуренты хотят сделать нечто подобное, но не просто отвести в сторону теплое точение, а пропустить его воду через турбины, получив энергию во много раз большую, чем имеет сейчас человечество. — Чудовищно! — воскликнул ван дер Ланге. — Задача современности сохранить планету, а не уродовать ее. Если течение отдаст свою кинетическую энергию, оно перестанет течь. Прекратится перенос тепла. Что произойдет с восточным побережьем США, с Канадой?! — Не говоря уже о Европе, — добавил Гусаков. — Конечно, и Европа, — согласился ван дер Ланге. — Этого нельзя допустить! Как плохо мы охраняем свои интересы! Экономические шпионы запросто проникают к нам! Но мы предотвратим это готовящееся злодеяние, поставим о нем вопрос в Конгрессе! — Вам поможет Организация Объединенных Наций, где этот вопрос уже ставится европейскими странами при нашей поддержке. — Ну, полковник, теперь я убедился, что вы стоите на страже… всего человечества! Ах, эта нестабильность мощности, наша ахиллесова пята!.. — Об этом мне и хотелось поговорить с вами со всеми. Вот, Костя, не знаю я, чем ты моего молодого друга зачаровал, изобретательством занозил. А изобретатель — это надолго. — Может быть, проблемой космического корабля «Земля»? — осторожно спросил Костя, вспоминая памятную встречу. — Что же он изобретает? — Да у него та же беда, только наоборот. Когда у вас нет мощности — зимой, скажем, — у него есть. А летом его установка не тянет. — Это что за установка? — поинтересовался ван дер Ланге. — Бутановая. — Бутановые станции! — воскликнул Костя. — Как же я сам не додумался! — и он хлопнул себя по лбу. — Что же вы до сих пор молчали, Иван Тимофеевич, и он, чудак, почему молчал? Ведь наши оппоненты и Сашины конкуренты давно бы на лопатках лежали! — Так уж и на лопатках? — Конечно, на лопатках. На лопатках паровой турбины. Вы сами не догадываетесь. Иван Тимофеевич, какого джинища из бутылки выпустили. Второй раз при вас! Помните, Вика предложила мягкую трубу и стала моим соавтором? Теперь вот Власов выдумывает комбинированную систему из ветротруб и бутановых станций, дополняющих одна другую. Это же полный переворот! Земное тепло — на пульт! — Подожди, постой, — с улыбкой остановил Костю Гусаков. — Экий ты торопыга! Прежде всего, комбинированную энергосистему не он, а ты предлагаешь. Теперь сразу тебе земное тепло подавай. Давно ли сам боялся перегреть планету! А переохладить не страшно? — Да что вы! Это же опять энергия, рожденная Солнцем! Как и у нас! Солнце нагревает поверхность Земли. Беря в бутановых станциях часть этого тепла, мы лишь предотвратим перегрев планеты, который грозил ей в грядущем. — Правильно, — кивнула Вика. — Об этом мы и завели тогда речь. — Как же думаешь сочетать столь разные системы? — спросил Гусаков, косясь на ошеломленного услышанным ван дер Ланге. — По принципу противоположностей. Диалектика! Ветроэнерготруба уходит вверх на километр, а нагреватель бутана — вниз на тог же километр в недра Земли. Такую скважину сделать или старую шахту использовать — раз плюнуть. Эх, нет больше Сергея Александровича… Как он допекал нас нестабильностью нищих мощностей. — Зато есть более корыстные и злобные «похитители Гольфстрпма»! — вмешался ван дер Ланге. — Не откажитесь разъяснить мне смысл нового предложения. — Это просто, Саша. Жидкий бутан по трубам попадает в подземный нагреватель, змеевик, соприкасающийся с земной породой, всегда теплой внизу. В змеевике бутан за счет земного тепла испаряется и обретает нужное давление. — Это что же? Паровой котел без топлива? — спросила Вика. — Пожалуй, так. Топка котла как бы вынесена прямо на Солнце, которое компенсирует нагревом ту часть земного тепла, которую использует станция. В конечном счете именно оно, Солнце, поднимает давление бутана до рабочего. А дальше — пары бутана по другим трубам устремятся вверх и попадут на лопатки турбины. Она вместе со своим электрогенератором может стоять в том же зале, где и ветротурбина. Отработанный пар бутана будет сжиматься при низкой температуре зимнего наружного воздуха. Так и будут работать турбины — одна летом, другая зимой. — Кажется, я останусь без конкурентов! — воскликнул канадец. — А я без помощника, — улыбнулся полковник. — Он кандидат наук, к тому же изобретатель… Отпустите его к нам, — стал Костя убеждать Ивана Тимофеевича. — В современной армии, друг мой. инженеры ой как нужны! — А передвижные трубоэнергостанции не помешали бы? — Армии? Еще как потребуются! — Ну вот! Прикомандируйте его к нам. И будет вам передвижная трубоэнергостанция на любую потребную мощность. — Ишь ведь куда загнул! Как бы мне всех вас не привелось в кадры армейские привлечь. Ты на капитана потянешь, а то и выше. Вика со старшего лейтенанта начнет. — Да мы неисправимо гражданские. Вы-то, небось, в армии очутились неспроста. Сами мне признавались, что заочно на инженера учились. И опыт участника Великой Отечественной войны. — Опыт у военных приобретается. Все мы с сугубо гражданских дел начинаем. Армия сейчас техникой богата. Это вам не лук со стрелами, не арбалеты или кремневые ружья, даже не автоматы Калашникова. Теперь высшие технические задачи бойцам будут служить, чтобы гражданские дела в стране мирно свершались. И совсем но в шутку говорил это старый полковник. Пока на высочайшей точке над Москвой в ожидании предстоящего события ветераны новой энергетики рассуждали оо энергии, рожденной Солнцем, на другой московской высоте, на обрывистом берегу Москвы-реки, перед зданием Университета, откуда так удобно любоваться видом города, собралось немало пароду. Поглядывая на часы, к баллюстраде. отделявшей обзорную площадку от обрыва, спешили пожилые супруги Нелидовы. Викентий Петрович опирался на палку, слегка приволакивая ногу. Агния Андреевна опасливо поглядывала на него. — Пожалуйста, не спеши. Успеем насладиться. — Наслаждение — цель бытия, — тяжело дыша, произнес Нелидов. — Ты захватила бинокль? — Себе театральный, а тебе — цейсовский, призматический. — Ну что ж. Такова судьба. Полюбуемся в былые служебные часы на упущенные возможности. — вздохнул Викентпп Петрович. — Пожалуйста, но говори так. Это тебе дорого стоило. — Это стойло так дорого стоило, что его и строить не стоило, — отшутился Викентий Петрович. — Не думай, что тебе эта трубоэнергетика помешала. Тебя непременно назначили бы заместителем министра, если бы не новый инсульт. Счастье, что ты ходишь. Я холодею от воспоминания об этом Верейском. Совсем молодой человек — и инфаркт. Всего только один. И его нет. Ужас! — Что делать! Он любил острые ощущения. Скончался на бегах, поставив крупную сумму на Цезаря, а тот засбоил. — Да, — вздохнула Агния Андреевна. — Он был убежденный игрок, но очень обаятельный человек. Остановись, отдохнем. — Стоять лучше, чем ходить. Сидеть лучше, чем стоять. Лежать лучше, чем сидеть. Спать лучше, чем лежать… — Замолчи, Вика! Не продолжай дальше. Ты разрываешь мне сердце! — Древнеиндийская мудрость. Специально для пенсионеров вроде меня. — Ты не обычный, а персональный. Союзного значения. — Да, проводили на пенсию с помпой. И сразу дело пошло. — Какое дело? — Да вот которым любоваться будем. — Надо кончать войну Алой и Белой розы. Вот что. Давай пошлем поздравление Вике с Костей. Пора нам внуков вернуть. Нелидов не ответил. Взял у жены тяжелый полевой бинокль и, присоединившись к толпе у балюстрады, поднес его к глазам. А на «Седьмом небе» инженеры и полковник все обсуждали комбинированную систему энергостанций. — Как же мы сами до этого не додумались! — воскликнула Вика. — Ведь это давно известно! — Новое — это весьма забытое старое, — глубокомысленно изрек Александр Максимович. И тут все посетители ресторана вскочили с мост. У многих оказались бинокли. Полковник тоже их принес, и не только для себя, но и для Вики и Кости. Он передал их молодым людям после того, как ласково пожал им руки. Вика обводила биноклем туманный горизонт. На нем теперь отчетливо виднелись тонкие оранжевые иглы. — А первая труба была синяя, — почему-то сказала Вика. По всему гигантскому кругу, окаймлявшему Москву, в небо поднимались вслед за серебристыми звездочками вертолетов золотистые энерготрубы. — Ура! — закричал кто-то с соседнего столика, косясь на Вику и Костю. Их узнали. — Ура! — подхватили и другие смотрящие в окно телебашни. Вика опустила бинокль и взглянула па Костю. По ее щекам катились слезы. Костя обнял ее за плечи. Иван Тимофеевич методично считал поднявшиеся в небо подмосковные энерготрубы. Он сосчитал их пятьдесят. — Миллион киловатт! — сказал он с гордостью. — Так будет всюду, везде, по всей стране, по всему миру! — отозвался Костя. — Так держать на космическом корабле… «Земля!» — сказал Иван Тимофеевич и, дотянувшись через стол до Кости, пожал ему руку выше локтя. — Идет, капитан?.. — Я никогда не думала, что это так красиво! — обернулась Вика, счастливая, сияющая. — Красота — это воплощение того, что приносит счастье, — заключил Гусаков.ЭПИЛОГ
Чтобы постигнуть бездонные глубины мысли, возьми клетчатую доску, расставь на ней разные фигуры и оживи их в борьбе. Читатель! Последуй этому совету и достань шахматы.«Катенька, старушка ты моя! Ну как ты можешь писать, что чувствуешь годы? Какие там годы! Это в девятнадцатом веке считалось, что «бабий век — сорок лет». Женщин ценили лишь по способности заинтересовать мужчину. А ты!.. Вот опять и восстановилась наша с тобой переписка. Нет худа без добра. Я сначала очень расстроилась, узнав, в какую даль после Москвы направили твоего Ваню и тебя вместе с ним. Я давно говорила, что он у тебя «далекоидущий», вот и пошел в полном смысле слова далеко! Директор комбината в вашем медвежьем углу, пожалуй, что-то вроде удельного князя. Думаю, ему действительно следует задуматься о строительстве трубоветровой электростанции. Ваши морозы теперь не помеха. Мы уже давно строим комбинированные ветротрубные и бутановые установки. Пусть твой Ваня даст «добро», и я первая приеду к вам. И, может быть, даже с Никитой, хотя он и занят сейчас на проектировании типовой комбинированной энергостанции на миллион киловатт. Для вас, пожалуй, многовато? Никита — наша гордость. Он принял от нас с Костей эстафету. Впрочем, это не вполне верно. Передать эстафету-это не нести ее самим. А мы с Костей продолжаем держать «эстафетную палочку», как знамя. Никита просто встал в строй рядом и идет с нами в ногу. Это высшая награда нам с Костей. Мы гордимся тем, что Никита внес в наше дело большой творческий вклад. Он предложил использовать ветер, который при большой силе вынуждал класть трубу на землю, останавливая ветротурбину. Так вот он, наш Никита, и решил на это время в турбину подавать воздушный поток этого же самого «злого ветра». Таким образом наша энергосистема стала тройной. Не только с трубой, создающей исскусственный ветер, не только с паровой установкой, работающей на бутане, но и с ветросиловой частью, использующей сильный ветер. Теперь наша энергосистема имеет устойчивую мощность при любых условиях. Маленькие дети — малые заботы. Выросшие дети — большие заботы. Говоря о Никите, можно было усомниться в этой поговорке. Когда он поступал в институт, мы с Костей не знали никаких тревог, обычно терзающих родителей. Он все делал сам — сам готовился к экзаменам (в школе всегда был отличником!), сам выбрал специальность, сам решил идти по дороге отца с матерью. Ты помнишь, как он разом вымахал? Когда мы с Костей встретились, у него были длинные пышные волосы, а у Никитенка они вдруг сразу завились перед окончанием школы. Так и стал он у нас кудрявым гигантом — я ему едва до плеча достаю. Но вот со вторым нашим чадом дело совсем другое — народная поговорка безусловно верна. Каких только забот у нас с Костей нет по поводу нашей Марианночки! Чего стоят одни тревожныe ожидания по вечерам ее возвращения с прогулок! Она вечно преподносит нам сюрпризы. И никак мы не ожидали, что она, интересовавшаяся математикой и физикой, вдруг решит стать врачом. Каждый ее экзамен отнял у меня по году жизни. Она очка недобрала до проходного балла. В ее сочинении букву «а» в какомто слове приняли за «о» (крючочка по обыкновению не дописала!) и влепили ей тройку. Ее почерк всегда меня огорчал. К счастью, она не пала духом. Решила окончить курсы медсестер и работать весь год в больнице. А на будущий — поступать снова в медицинский. Оказывается, у нее есть характер, кое-что передалось ей oт нас с Костей… Бабушка всегда на ее стороне. За годы, которые она после папиной кончины живет с нами, она так привязалась к Марианночке, так балует ее, что та стала у нее единственным светом в окошке. А ведь когда-то даже не пришла на нее посмотреть после нашего с ней возвращения из родильного дома… Вообще-то старенькая стала моя мамаша. Но характер у нее остался прежний. Дай ей волю — всеми начнет повелевать. Я себя по твоему давнему совету сдерживаю всячески, и мы живем и общем-то неплохо. Пришлось в свое время пойти ей навстречу и переехать в ее четырехкомнатную оставшуюся после папы квартиру, а не взять бабушку к себе в нашу, по ее словам, слишком тесную. Она верна себе, и наш кабинет, где мы с Костей работаем — а теперь в Никита с нами, — продолжает называть кабинетом Викентия Петровича. Она до смерти любит принимать гостей, в особенности генералов. Иван Тимофеевич Гусаков часто бывает у нас и с мамой находит общий язык. Но огорчает ее, если приезжает но в генеральской форме. Недавно у нас гостили Саша и Зоя ван дер Ланге с детьми. Жили больше месяца. Тут мама развернулась полностью, пустила пыль в глаза заокеанским гостям. Двойняшки ван дер Ланге, наши с Костей тезки, прекрасно говорят по-русски, учатся в Америке в колледже, где преподавание ведется на русском языке, и считают нашу страну второй своей родиной. Ты, конечно, знаешь, что их отец, наш Саша, Александр Максимович стал одним из первых сенаторов-коммунистов Соединенных Штатов Америки. Он хотел отказаться от своего поста директора «Электрик пайн компани», но рассудил, что выгоднее сохранить за собой эту должность, чтобы «прокладывать путь трубоэнергетике через американский конгресс». И он даже сумел привлечь на свою сторону самого американского президента. Впрочем, сейчас это не удивляет, как двадцать лет назад. Президенты ведь бывают разные. С Костей мы прожили двадцать пять! Что я могу сказать к нашей серебряной свадьбе? То, что ее надо считать золотой! Почему? Да по тому времени, которое мы с Костей пробыли за эти четверть века вместе. Если обычно супруги встречаются лишь после работы и в выходные дни, то мы с Костей все девять тысяч сто тридцать три дня, прожитых к нашему юбилею, не расставались даже на работе. Вот и получаются все пятьдесят обычных супружеских лет! Общность семьи и дела сделали нас не просто близкими или дружными, а, вернее сказать, едиными. Не могу отделить себя от него даже мысленно. Он признавался мне в том же. Зоя чуткая, она это сразу подметила. Они с Сашей живут более обыкновенно, как она призналась. Сказывается еще и тоска по родине, которая гложет Зою. Она умоляла меня чаще приглашать их семью к нам в СССР. Разумеется, мы с Костей охотно это сделаем, связанные дружбой, проверенной годами. С Зоей мы вспоминали былые годы, нашего учителя шахмат Сергея Александровича Верейского, безвременно ушедшего от нас, так и не сделав в жизни всего, на что он был способен. И, конечно, мы уж с ней всласть поиграли в шахматы. Тебя-то ведь не было! Кстати, о шахматах. Ты просишь меня познакомить вас с Ваней с новыми произведениями Кости. Посылаю вам его последний этюд, наиболее ярко воплотивший его взгляды на шахматное искусство. Давайте передадим этот этюд на присуждение вам с Ваней. Хочешь спросить меня, как судить? По красоте! Пусть Лев Николаевич Толстой отрицал красоту как абсолютное понятие, но сам он, как художник, воспевал красоту, красоту внешнюю и красоту внутреннюю, — скажем в Наташе Ростовой или Катюше Масловой. Существует не только красота формы, но и красота мысли поступков, чем характерны стремления к добру, мечта о прекрасном героический подвиг. Любуясь творением природы, мы порой восклицаем: «Как нарисованное!» А высшей похвалой художнику звучат слова «как настоящее!» Мы равно восхищаемся и пантерой и скаковой лошадью, хотя они совсем непохожи. Почему? Да потому, что форма их тела более всего соответствует назначению животных. Однако подлинная красота — в гармонии формы и содержания. Я думаю, что вы с Ваней, судя Костин этюд, не уподобитесь тому архитектору, который отозвался о чуде зодчества Парфеноне как о творении упадка, противопоставляя ему элементарную геометрическую простоту египетских пирамид. Но ведь назначение Парфенона и пирамид разное! В Парфеноне, в храме все подчинено внушению молящимся чувства прекрасного, ппеклонения перед идеальной красотой богини. Пирамида же призвана подавлять грандиозностью и непостижимым трудом, затраченным на ее постройку. В одном случае сооружение возвышает любующегося им человека, в другом — подавляет, принижает. В музыке красота определяется богатством ассоциаций, которые возникают у слушателей. У разных народов музыка использует или европейский лад, или пентатонику Азии, или африканский барабанный бой с его ритмикой, но всегда ради того чтобы пробудить какие-то чувства. Но если вместо организованного мира звуков «во имя новизны», чтобы не повторить кого-нибудь пение скрипок заменяют скрипом ворот, шуршанием гравия и другими звукоподражаниями, то мне хочется повторить слова Козьмы Пруткова: «Удивляйся, сын мой, но не подражай». Все это в полной море применимо и к шахматам, отражающим в какой-то мере жизнь. Торжество мысли над догмой всегда красиво. Красота же парадокса в том, что он повторяет извечную борьбу Давида и Голиафа, где ум и ловкость слабых побеждают грубую силу (материального перевеса). Вот теперь постарайтесь оценить этюд Кости, в котором белые начинают и выигрывают. Для меня это совершенно особенный этюд. Это как бы автобиография моего Кости, записанная на шахматной доске. Я вижу здесь его характер, неуемный, изобретательный, находчивый… Обратите внимание на те жизненные ситуации, которые как бы отражены здесь в шахматной борьбе. Какие подводные рифы приходится обходить моему Косте, который стремился к победе во что бы то ни стало и достиг ее! Но пусть обо всем этом расскажут вам шахматы (73). Легко понять, что надежды белых на выигрыш связаны с пешечным прорывом. Но черный конь крепко держит пешку «f». И лишь белый конь может нарушить равновесие. 1. Ка3+ Kpd3 2. Kb5 Kb4. Очень дальновидный ход, рассчитанный намного вперед. 3. К : с7 К : с7. Итак, белый конь удалился от черного короля, чтобы принести себя в жертву. Но это всего лишь присказка, а сказка впереди — 4. f6."ё Казалось бы, белые уже могут торжествовать победу: пешка «f» прорвалась! Но… 4…Kbd5 5. е8К!! Зачем? Неужели нельзя проводить пешку «f» в ферзи? Оказывается, в этом и заключается хитрый контрплан черных: 5. f7? (81) Kf6+ 6. Kpf5 Ксе8 7. f8Ф Kd6+ 8. Kpe5 Кс4+ 9. Kpf5 Kd6+, и ничья вечным шахом (82). Если в предвидении этого белые, прежде чем поставить ферзя, пойдут 7. Kpe5. то 7…Крс4, и теперь 8. f8Ф Kpe5! (83) 9. Ф : g7 Kg4+ 10. Kpf5 КеЗ+ 11. Кре4 К : g7 12. Кр : еЗ Kpd5 (84)-ничья, поскольку конь держит пешку «f». Если же 9. Фh8, пытаясь выиграть темп, то 9…Крс6, добиваясь позиционной ничьей. Белые могут попробовать прочность сбитой черными конями клетки и попытаться оттеснить черного короля (85). 10. Kpd4 Kpb6 11. Крс4 Kd6+ 12. Kpb4 Kde8 13. Фf8 (86), тщетно пытаясь выиграть темп, но 13…Kd5+ 14. Кра4 Kdf6 15. f5 Краб 16. Kpb4 Kpb6 17. Фf7 Kd5+ 18. Крс4 Kdf6, и белым пришлось бы примириться с неприступностью позиции черных. Не помогло бы белым движение короля не на f5, а на f3 — 5…Kf6+6. Kpf3 — с тем же расчетом оттеснить вражеского короля с помощью резервных темпов, которые выиграет, ходя в клетке, превращенный ферзь. Оказывается, даже идя навстречу желанию белых, черные, заняв королем поле с6, быстро получают только что рассмотренную позицию позиционной ничьей. Вы, Катя и Ваня, должны оценить глубину защитного замысла черных, его красоту и необычность. И не в меньшей мере, вероятно. оцените парадоксальный путь, которым белые уклоняются от навязываемого черными плана. Потому-то они и не двинулись пешкой «f» в ферзи, а поставили вдруг вместо ферзя коня на е8 (87). Что же теперь делать черным? Легко убедиться, что размен на f6 ведет к быстрому проигрышу черных. Нельзя, конечно, черным и брать вновь появившегося коня на е8-5…К : е8 6. f7 Кd6+ 7. Kpf3 (88), и теперь ферзь на f8 будет иметь выход через брешь в стене клетки на е7, сквозь которую он легко выскочит, добиваясь победы. Выясняется, что сильнейший ход черных в позиции 80 после ходов 4. fC Kpd5 5. е8К — это 5…Крс4! 6. fg — белые сразу же жертвуют своего превращенного коня, и, казалось бы, так неудачно, что мешают себе же поставить на g8 ферзя. Но у них свой расчет — превратить еще и вторую пешку в коня! 6…К : с87. g8K!! (89) Это и есть главный авторский вариант решения. Выигрыш белых. Ну как? Если после рассмотрения этого шахматного произведения перед вами встал во весь рост его автор, если вы через шестьдесят четыре клетки и борющиеся на них фигуры ощутили жизнь, то я рада! Спросишь, как же отражается жизнь в шахматах — в расположении фигур, возможных комбинациях, атаке, защите, в достижении перевеса или ничейного исхода? Я отвечу. — Помнишь, как я тебе показывала Костины этюды? Ты сама говорила, что он отражает в них шахматы, как в искусстве отражается жизнь. Вот и получается, что шахматная композиция (прежде всего этюды!) — это искусство от искусства, характерное не фотографиями протекающей между партнерами партии, а обобщающими картинами не только поучающими, но поражающими красотой парадокса (истины, скрытой от людей, мыслящих шаблонно), притом красотой, открывающейся на строго единственном пути. Одной из самых замечательных черт этой красоты надо признать торжество мысли над «грубой силой», идеи над рутиной и догмой, искания над отупляющей привычкой. Шахматная же игра повсе не имитирует жизнь, а требует от играющих проявления таких черт характера, как собранность, упорство, воля, фантазия, стремление к поставленной цели, способность не опускать руки ни в каком отчаянном положении. При постоянных тренировках у шахматистов эти черты характера развиваются, как мышцы у тяжелоатлетов, обогащая Человека внутренней красотой. Ну вот и все мои «мудрые мысли», родная моя Катюша, которые только тебе и могу высказать. И вместе с тем и все мои новости. Еще немного, и они перестанут быть новостями, ибо «ничто не проходит так быстро, как новизна». И, может быть, самым большим счастьем человека надо считать его способность сохранять в себе чувство нового, способность искать, мечтать. Твоя Вика».
Москва-Абрамцево-Переделкино 1973-1975-1981
Александр Петрович Казанцев
ДАР КАИССЫ 2-е издание, дополненное Заведующий редакцией В.И.ЧЕПИЖНЫЙ Редактор Ф.М.MAЛKИН Художник Ю.Г.МАКАРОВ Художественный редактор В.А.ЖИГАРЕВ Технический редактор Т.Ф.ЕВСЕНИНА Корректор Р. Б. ШУПИКОВА ИБ ј 1476. Сдано в набор 06.01.83. Подписано к печати 07.07.83. А 0972 9. Формат 60х90 Усл. печ. л. 17,00. Тираж 100000 экз. Цена 1 р. 30 к. Ордена «Знак Почета» издательство «Физкультура и спорт» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 101421. Москва, Каляевская ул., 27. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Росударетвснном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и инижной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.OCR Pirat
— «Книжная полка», http://www.rusf.ru/books/: 03.02.2002 20:201
Под распадом вещества фаэты разумели ядерные реакции расщепления и синтеза, в результате которых, как известно, наблюдается дефект массы, то есть вещества становится меньше, оно как бы «распадается», выделяя огромную энергию. (обратно)2
Существовала ли на самом деле в Солнечной системе взорвавшаяся планета? Это угадывал еще Кеплер в 1598 году, отыскивая закономерности строения Солнечной системы. Между Марсом и Юпитером для полной стройности не хватало одной планеты. В конце XVIII века ученые Тициус и Боде дали ряд чисел: 0,4–0,7-1,0–1,6-2,8–5,2… Он отражал расстояние планет от Солнца. За единицу принималось расстояние от Земли. Но пятой планеты с расстоянием 2,8 земного не было. Астрономы стали искать ее и… начали открывать одну за другой «малые планеты» и еще меньшие тела, астероиды, которые двигались по общей орбите. Были они осколочной формы и словно образовались при РАСПАДЕ погибшей планеты. Немецкий астроном Оберс 150 лет назад высказал гипотезу, что такая планета существовала. В наши дни профессор С. В. Орлов, анализируя эту гипотезу, дал планете романтическое имя Фаэтон. Его работы продолжены академиком А. Н. Закарницким и Л. Г. Квашей. Советские исследования, в частности Е. Г. Гусаковой, доказали, что остаточный магнетизм метеоритов может быть объяснен только их намагничиванием в составе большой материнской планеты. И. Керн (1963 г.) определяет ее размеры как приближающиеся к земным. Вместе с тем ни сторонникам, ни противникам этой гипотезы не удавалось объяснить причину гибели планеты. Если бы Фаэтон взорвался, как фугасная бомба, его осколки разлетелись бы во все стороны и стали бы двигаться по удлиненным эллиптическим орбитам вокруг Солнца, а они остались на прежней, круговой… Если бы два космических тела столкнулись, то их обломки тоже полетели бы по эллиптической орбите, а не образовали бы кольцо на всей бывшей орбите планеты. Предполагают, что рои метеоритов образуются по меньшей мере в десятке мест кольца астероидов. Возможно, они порождаются столкновением и дроблением осколков былой планеты. Метеориты и поныне выпадают на Землю, но есть в их числе так называемые тектиты, которые, быть может, только раз выпали на Землю вследствие происшедшего в космосе грандиозного ядерного взрыва. Тем более что форма, состав и обезвоженность тектитов совершенно идентичны ядерным шлакам. Так к гипотезе о когда-то существовавшем Фаэтоне добавилось предположение о причине гибели — термоядерная война его «цивилизованных» обитателей, возможность чего не отрицал в беседе с автором великий физик XX века Нильс Бор. (обратно)3
Именно так поступил в XIX веке русский путешественник Миклухо-Маклай, сразу став другом папуасов. (обратно)4
Древние цивилизации Южноамериканского материка, как установлено, действительно не знали колеса. (обратно)5
В Южной Америке, вблизи озера Титикака и развалин древнего сооружения Каласасава около индейской деревни Тиагаунака находятся знаменитые Ворота Солнца, которым насчитывают до 15 тысяч лет. Как установили ученые Кис и Познанский, на них изображен календарь, в году которого 290 дней: 10 циклов (месяцев?) по 24 дня и два по 25 дней). (обратно)6
43-м элементом в таблице Менделеева стоит технеций, появляющийся после ядерных взрывов. (обратно)7
Странный обычаи правителей инков жениться лишь на сестрах сохранялся несколько тысячелетий вплоть до покорения инков испанскими конкистадорами во главе с Писарро, который воспользовался легендой о сынах Солнца, обещавших вернуться, выдав за них белокожих и бородатых испанцев. (обратно)8
Приблизительно 3300 км. (обратно)9
По древней, неизвестно почему зародившейся традиции в Индии и ныне принято развеивать прах умерших над Гангом. (обратно)10
Современное высокогорное озеро Титикака расположено в Андах, на границе Перу и Боливии на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря. На берегах его находятся морские раковины и окаменевшие морские водоросли. Близ развалин Каласасавы удивляют остатки портовых сооружении морского типа. (обратно)11
Из древнеиндийского эпоса «Махабхарата», перевод с санскрита Л. Горбовского. (обратно)12
Древнеиндийский поэтический источник «Самарангана Сутрадахра», перевод с санскрита А. Горбовского. (обратно)13
Древнеиндийский поэтический источник «Самарангана Сутрадахра», перевод с санскрита А. Горбовского. (обратно)14
На острове Фату-Хива в Полинезии, в джунглях скрыта в точности такая же статуя Тики, как и близ Ворот Солнца, около Тиагаунака, поставленная там в честь Кон-Тики. (обратно)15
Советский астроном Ф. Ю. Зигель выдвинул гипотезу, что Марс, Луна и гипотетический Фаэтон составляли когда-то трехпланетную систему с общей орбитой вокруг Солнца. Катастрофа Фаэтона превратила его в астероиды и нарушила равновесие трех тел. Марс и Луна вышли на более близкие к Солнцу орбиты и стали нагреваться. При этом меньшая по размерам Луна потеряла всю атмосферу, Марс — большую ее часть. В дальнейшем Луна прошла в опасной близости к Земле и была захвачена ею. (обратно)16
Корн. Античные фрагменты. «Из повествования Александра Полигостера, заимствовавшего легенду от Бероза, жреца Бела — Мардука в Вавилоне в эпоху Александра Македонского». Перевод с древнегреческого и латинского языков. (обратно)17
Для знакомых с игрой я приведу решение. 1. d6! Кb5. 2. de Крe5. Черные ждут появления белого ферзя, чтобы уничтожить его, но… 3. e8К! появляется новый подлинный герой предстоящей увлекательной борьбы. 3… Сh8. 4. Крg8, чтобы убрать слона с дороги пешки. Черные допускают это, они решают запереть врага в ловушке. 4… Кр: e6. 5. Кр: h8 Крf7. 6. h7! Готово. Замысел черных выполнен. Но почему белые идут навстречу их желаниям? 6… a3. Но теперь неожиданно бросается в бой белый конь. 7. Кd6 +. Взять его нельзя. Белым пат! Но черные настолько сильны, что могут даже отдать собственного коня, неизбежно проводя пешку! 7… Крf8. 8. К: b5 a2. 9. Кd4. Лукавый конь! Он встал так, что черные не могут поставить ферзя. Белым снова будет пат! Но… вместо ферзя черные ставят ладью! 9… a1Л! В бой вошел новый дальнобойный боец, более мощный, чем конь. Но белый конь не теряет времени. 10. Кe6 + Крf7. 11. Кd8 + Крg6. Черные решились. Избегая преследования, они выпускают белого короля. Они увидели далекий финал. Пусть белые проведут своего долгожданного ферзя. Они получат мат в минуту торжества. Но в борьбе выигрывает тот, кто рассчитал на ход дальше. 12. Крg8 Лa8. Черные заносят руку для последнего удара. На появление ферзя ладья возьмет коня и объявит мат! Но… снова оказываются белые от могучей фигуры и ставят второго коня. 13. h8К +! Занесенная для удара рука задержана. Король вынужден отступить. 13… Крh5. 14. Кhf7. Кони стали нерушимо. Ничья. Черные могли на первом ходу сыграть 1… Кc4. Тогда: 2. de Крe5. 3. e8К Сh8. 4. h7! aЗ. 5. Крg8 Крe6. 6. Кр: h8 Крf7. 7. Кd6 + Крf8. 8. К: c4 a2. 9. Кe5!! У белых новый замысел. Их конь бросается в атаку. 9… a1Л 10. Кd7 + Крf7. 11. Кe5 + Крf6. 12. Кd7 +. Черным не избежать вечного шаха. Ничья! (обратно)18
√-1 (Прим. автора) (обратно)19
М., «Наука», 1978. (Прим. автора) (обратно)20
Теперь говорят «галсами». (Примеч. авт.) (обратно)21
Теперь произносят Картезий. (Примеч. авт.) (обратно)22
Примечание автора для особо интересующихся. Приведя обе части уравнения к единому знаменателю, имеем: 14∙x + 7∙x + 12∙x + 5 · 84 + 42∙x + 4 · 84 = 84∙x и 9x = 9 · 84; x = 84. (Примеч. авт.) (обратно)23
Арабские источники X–XII веков расходятся с современными представлениями о возрасте пирамид. (Примеч. авт.) (обратно)24
Сопоставление современных данных астрономии с размерами египетских пирамид устанавливает, что упомянутые три пирамиды по своим объемам соответствуют массам планет Земля, Венера, Меркурий, высота же пирамиды Хеопса ровно в миллиард раз меньше (какими бы мерами ни пользоваться) среднегодового расстояния Земли от Солнца, причем ни это расстояние, ни массы планет древние астрономы без соответствующих астрономических приборов, казалось бы, измерить не могли. (Примеч. авт.) (обратно)25
Величина «Пи» была известна древним египтянам как 22 / 7, выражавшаяся просто в семеричной системе счисления. (Примеч. авт.) (обратно)26
Древние связи календарей и преданий со звездой Сириус известны не только у египтян или еще раньше у шумеров, но также и у некоторых африканских племен, в частности, у догонов, как свидетельствуют об этом французские этнографы Марсель Гриель и Жармена Дитерлен в журнале Общества африканистов (Париж, т. XX, 1950) и в монографии «Бледный лис» (т. 1, ч. 1, 1956), сообщившие, что догонам известно, будто Сириус двойная, даже тройная звезда (Сириус A и B, наблюдаемые в современные телескопы, и еще не открытый Сириус C!), кроме того, догоны, не имевшие никаких астрономических приборов, а тем более современных физических аппаратов, имели представление не только о параметрах Сириуса, его орбите и светимости, но и передавали из поколения в поколение посвященным некоторые совпадающие с современными взглядами на строение вещества, происхождение вселенной и подобные этому знания, якобы переданные их предкам людьми, прилетевшими от Сириуса. (Примеч. авт.) (обратно)27
Раздвоенный внизу посох напоминает палочки «лозоискателей» древности, указывающих с помощью лоз места для рытья колодцев. Современная наука, используя биотоки мозга, создала «психотронику», позволяющую находить в земных недрах полезные ископаемые. Возможно, египтяне знали «лозоискательство», приписывая его появление богу Тоту. (Примеч. авт.) (обратно)28
Легендарные «изумрудные таблицы бога Тота», расшифрованные в наше время, якобы содержат намеки на атомное строение вещества, относительность всяких измерений и другие современные знания. (Примеч. авт.) (обратно)29
Решение это таково: если согласно четвертой и пятой строчкам надписи число прожитых Диофантом лет делится и на 12 и на 7, то возраст его будет равен 12·7 = 84 (или 168, что исключено). Возможно, надпись и предусматривала составление неопределенного Диофантова уравнения с тремя (а не с семью в определенном уравнении) членами: где «y» теоретически не может быть больше 19, чтобы «x» получился бы величиной целочисленной и реальной для человеческого возраста. Очевидно, в этом и подразумевалась мудрость искусства покойного математика. (Примеч. авт.) (обратно)30
Примечание автора для особо интересующихся. Если, как следует из квадрата орнамента, z = y + a, то z2 = x2 + y2 будет иметь вид z2 = y2 + (a2 + 2ay) и x2 = a (a + 2y). Если a = a2 и (a + 2y) = b2 то x = ab, y = (a2 — b2) / 2; z = (a2 + b2) / 2. Из выражения для «y», где в числителе разность квадратов a и b, ясно, что хотя бы одна из этих величин не может быть четной, иначе «y» не будет целым числом. Случай с иррациональными числами рассмотрен в последующем примечании. Для возрастающих коэффициентов a и b можно составить таблицу, из которой вытекает ряд закономерностей, в частности формулировка новой теоремы. Нечетный катет простейших пифагоровых троек в целых числах разлагается на два взаимно простых сомножителя, квадраты которых соответственно равны сумме или разности гипотенузы и второго катета, то есть в дополнение к теореме Пифагора: a2 = z — y; b2 = z + y. Таблица простейших пифагоровых троек (обратно)31
Корень квадратный из -1. (Примеч. авт.) (обратно)32
М., «Наука», 1978. (обратно)33
Из числа ненайденных стихотворений на французском, испанском и латинском языках периода 1625–1659 годов в «переводе» автора этого романа. (обратно)34
Теперь говорят «галсами». (Примеч. авт.) (обратно)35
Теперь произносят Картезий. (Примеч. авт.) (обратно)36
Примечание автора для особо интересующихся. Приведя обе части уравнения к единому знаменателю, имеем: 14x+7x+12x+5·84+42x+4·84 = 84x и 9x = 9·84; x = 84. (обратно)37
Арабские источники X–XII веков расходятся с современными представлениями о возрасте пирамид. (Примеч. авт.) (обратно)38
Сопоставление современных данных астрономии с размерами египетских пирамид устанавливает, что упомянутые три пирамиды по своим объемам соответствуют массам планет Земля, Венера, Меркурий, высота же пирамиды Хеопса ровно в миллиард раз меньше (какими бы мерами ни пользоваться) среднегодового расстояния Земли от Солнца, причем ни это расстояние, ни массы планет древние астрономы без соответствующих астрономических приборов, казалось бы, измерить не могли. (Примеч. авт.) (обратно)39
Величина «Пи» была известна древним египтянам как 22/7, выражавшаяся просто в семеричной системе счисления. (Примеч. авт.) (обратно)40
Древние связи календарей и преданий со звездой Сириус известны не только у египтян или еще раньше у шумеров, но также и у некоторых африканских племен, в частности, у догонов, как свидетельствуют об этом французские этнографы Марсель Гриель и Жармена Дитерлен в журнале Общества африканистов (Париж, т. XX, 1950) и в монографии «Бледный лис» (т. 1, ч. 1, 1956), сообщившие, что догонам известно, будто Сириус двойная, даже тройная звезда (Сириус A и B, наблюдаемые в современные телескопы, и еще не открытый Сириус C!), кроме того, догоны, не имевшие никаких астрономических приборов, а тем более современных физических аппаратов, имели представление не только о параметрах Сириуса, его орбите и светимости, но и передавали из поколения в поколение посвященным некоторые совпадающие с современными взглядами на строение вещества, происхождение вселенной и подобные этому знания, якобы переданные их предкам людьми, прилетевшими от Сириуса. (Примеч. авт.) (обратно)41
Раздвоенный внизу посох напоминает палочки «лозоискателей» древности, указывающих с помощью лоз места для рытья колодцев. Современная наука, используя биотоки мозга, создала «психотронику», позволяющую находить в земных недрах полезные ископаемые. Возможно, египтяне знали «лозоискательство», приписывая его появление богу Тоту. (Примеч. авт.) (обратно)42
Легендарные «изумрудные таблицы бога Тота», расшифрованные в наше время, якобы содержат намеки на атомное строение вещества, относительность всяких измерений и другие современные знания. (Примеч. авт.) (обратно)43
Решение это таково: если согласно четвертой и пятой строчкам надписи число прожитых Диофантом лет делится и на 12 и на 7, то возраст его будет равен 12 · 7 = 84 (или 168, что исключено). Возможно, надпись и предусматривала составление неопределенного Диофантова уравнения с тремя (а не с семью в определенном уравнении) членами: x/12 + x/7 = y; x = (7·12/19) y где «y» теоретически не может быть больше 19, чтобы «x» получился бы величиной целочисленной и реальной для человеческого возраста. Очевидно, в этом и подразумевалась мудрость искусства покойного математика. (Примеч. авт.) (обратно)44
Примечание автора для особо интересующихся. Если, как следует из квадрата орнамента, z = y+a, то z2 = x2 + y2 будет иметь вид z2 =y2 + (a2 + 2ay) и x2 = a(a + 2y). Если a = a2 и (a + 2y) = b2 то x = ab, y = (a2 — b2) / 2; z = a2 + b2 / 2. Из выражения для «y», где в числителе разность квадратов a и b, ясно, что хотя бы одна из этих величин не может быть четной, иначе «y» не будет целым числом. Случай с иррациональными числами рассмотрен в последующем примечании. Для возрастающих коэффициентов a и b можно составить таблицу, из которой вытекает ряд закономерностей, в частности формулировка новой теоремы. Нечетный катет простейших пифагоровых троек в целых числах разлагается на два взаимно простых сомножителя, квадраты которых соответственно равны сумме или разности гипотенузы и второго катета, то есть в дополнение к теореме Пифагора: a2 = z — y; b2 = z + y. (обратно)45
x = m2 — n2; y = 2mn; z = m2 + n2. (Примеч. авт.) (обратно)46
Примечание автора для особо интересующихся. Если положить a = m + n; b = m — n, то x = ab = (m + n) (m — n) = m2 — n2; y = 2mn; z = m2 + n2, что и было записано Декартом. (обратно)47
Примечание автора для особо интересующихся. Вертикальные ряды x представляют собой арифметические прогрессии с показателем = 2b. Все значения сторон треугольников с возрастанием ряда изменяются по арифметической прогрессии, показатель которой для y — постоянен и равен 4, а для x и z увеличивается с порядковым номером ряда и порядкового номера тройки в вертикальном ряду и равен 4 (b + i — 1), где i — порядковый номер тройки в ряду. (обратно)48
Примечание автора для особо интересующихся. Если a = p√2e, b = q√2e, то p и q могут быть и четными и нечетными, x = ab = 2pqe, y = (p2 — q2) e; z = (p2 + q2) e, то есть p и q тождественны m и n древних формул (см. пред. примеч.), x и y просто меняются местами, к тому же, помноженные на e, не являются простейшими. (обратно)49
Примечание автора для особо интересующихся. Золотое сечение было известно древним зодчим, но сформулировано Леонардо да Винчи. Цифры 3, 5, 8, 13 совпадают с частью ряда Фибаначчи, помогающего современным ученым объяснять ряд явлений природы (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. д.). (обратно)50
Примечание автора для особо интересующихся. По теории Эйнштейна, масса тела m, летящего со скоростью v при массе покоя m0 и скорости света c, меняются по формуле m = m0 / (1 — (v/c)2)1/2 Это выражение легко преобразуется в m2 = m02 — ((v/c)m)2 или графически в треугольник. Тот же закон прямоугольного треугольника отражен и в сокращении длины покоящегося тела l0 до l в полете, и парадоксе времени теории относительности (преобразования Лоренца) при t0 — прошедшее время неподвижного наблюдателя, t — время на улетевшем от него объекте и c — скорость света:
l0 = l / (1 — (v/c)2)1/2
или
l2 = l02 — ((v/c) l0)2 — опять треугольник, t0 = t(1 — (v/c)2)1/2, откуда t02 = t2 — ((v/c) t)2; треугольник — узнаем закон Пифагора.
И наконец, тот же закон скажется и на энергии летящего тела E при энергии его покоя E0; E2 = E02 + (v/c)E2; — треугольник. Таким образом, все парадоксальные эффекты теории относительности подчинены основному закону Пифагора.
(обратно)
Тот же закон прямоугольного треугольника отражен и в сокращении длины покоящегося тела l0 до l в полете, и парадоксе времени теории относительности (преобразования Лоренца) при t0 — прошедшее время неподвижного наблюдателя, t — время на улетевшем от него объекте и c — скорость света:
l0 = l / (1 — (v/c)2)1/2
или
l2 = l02 — ((v/c) l0)2 — опять треугольник, t0 = t(1 — (v/c)2)1/2, откуда t02 = t2 — ((v/c) t)2; треугольник — узнаем закон Пифагора.
И наконец, тот же закон скажется и на энергии летящего тела E при энергии его покоя E0; E2 = E02 + (v/c)E2; — треугольник. Таким образом, все парадоксальные эффекты теории относительности подчинены основному закону Пифагора.
(обратно)
51
Лет двадцать назад во времена египетского президента Насера, стремившегося к дружбе своего народа с СССР, в Каире и Александрии гастролировал наш Большой театр, и друг автора, артист балета С. А. Салов, приобрел на рынке фотографию обугленного музейного документа, который, как ему казалось, может заинтересовать фантаста. По сохранившейся части таблицы автору удалось благодаря ранней работе заслуженного деятеля науки и техники РСФСР профессора М. М. Протодьяконова ее восстановить. (Примеч. авт.) (обратно)52
Впоследствии она получила название Тридцатилетней. (Примеч. авт.) (обратно)53
Трудный юридический случай. (Примеч. авт.) (обратно)54
Свои выводы по теории вероятностей Ферма опубликовал лишь по инициативе Паскаля в 1654 году, а применение этой теории в судебном деле нашло своих теоретиков лишь спустя более чем столетие в трудах маркиза Кондерса, а также Лапласа и Пуассона. (Примеч. авт.) (обратно)55
Омнибус, предложенный Б. Паскалем. (Примеч. авт.) (обратно)56
Примечание автора для особо интересующихся. Метод Ферма, в свое время несправедливо оспоренный Декартом, предвосхищал дифференциальное и интегральное исчисление, хотя задачу решал алгебраически, без анализа бесконечно малых величин. В задаче разбивки прямой с длиной «a» на две части, так, чтобы квадрат одной (x2), помноженный на величину другой части = (a — x), был бы максимальным, он приравнивал 2ax — 3x2 к нулю и получал, что x = 2a/3, то есть заменял современное дифференцирование и взятие первой производной. (обратно)57
Правота Торричелли была подтверждена знаменитым опытом Герике, получившим название «Магдебургские полушария», проведенным в Магдебурге лишь в 1654 году и доказавшим существование атмосферного давления. Торричелли принадлежит изобретение ртутного барометра и создание над ртутным столбом «торричеллиевой пустоты». (Примеч. авт.) (обратно)58
Примечание автора для особо интересующихся. Автору удалось восстановить позициюкардинал Ришелье
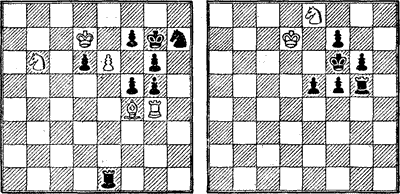

Последние комментарии
14 часов 34 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 15 часов назад
1 день 15 часов назад
3 дней 21 часов назад
4 дней 2 часов назад