Остров вечного лета [Юрий Константинович Ефремов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]


Ю. К. Ефремов
ОСТРОВ ВЕЧНОГО ЛЕТА
Путешествие по Цейлону

*
М., Географгиз, 1959
ДАЛЕКО ЛИ ДО ЦЕЙЛОНА?

НАД СНЕЖНЫМ МАТЕРИКОМ
Московский январь 1958 года не был ни слишком морозным, ни чересчур вьюжным. Но все-таки нас окружала настоящая русская зима. Трудно было представить себе, что всего несколько дней пути отделяют нас от вечного лета экваториальных широт. Впрочем, какое там несколько дней! Половину пути мы проделаем на реактивной птице ТУ-104; она молниеносно домчит нас до Ташкента, и, если дальше рейсы всех самолетов будут согласованы, мы можем достичь к Коломбо даже за сутки. Это казалось уже чем-то совсем фантастическим. Поражала и самая реальность, осуществимость путешествия на Цейлон, и такая неожиданная «близость» этого острова. Пройдет пяток-десяток лет, и подобные рейсы станут обычными. Но сейчас непривычность, удивление во многом определяли настроение всей нашей группы. Кстати, большинство из нас впервые летело и на ТУ. Мы в уютном салоне самолета. Молоденькая бортпроводница, еще не вошедшая в свою роль, смущенно сообщает пассажирам о высоте и скорости предстоящего полета и неожиданно заявляет: — В Омске будем через три часа. Пассажиры охнули. Неужели мы сели не в тот самолет? Но девушка, еще сильнее смутившись, поправилась: — Ой, простите, в Ташкенте через четыре. Это мы чаще на Иркутск летаем, запутаешься… Отчетливо представилось, как уже через немногие десятилетия такая же стюардесса выйдет из кабины астронавта к пассажирам звездолета и нечаянно перепутает Марс с Венерой, а потом скажет: «Запутаешься тут — в этих планетах…» Вылетели под утро, в четвертом часу, в полной тьме, так что никаких впечатлений ни о быстроте взлета, ни о скорости и высоте полета не осталось. Рассвело неожиданно быстро — ведь мы мчались навстречу солнцу. Взглянув вниз, удивились — под нами расстилалась казавшаяся бескрайней тайга непонятного угрюмо серого цвета. Не над Сибирью ли все-таки мчит нас вагон-ракета? Еще десяток минут, и рассвет снял все сомнения. Посветлевшая «тайга» оказалась поверхностью высокого слоя облаков, скрывавших исполинским одеялом от наших взглядов землю. Почти без зари взошло пунцовое солнце (над землей оно встало уже давно, а мы видели второй его восход — над верхней облачной сферой). В лучах света ковер облаков оказался не серым, а снежно-белым. Многие из нас летали над облаками на обычных самолетах, видели тучи у себя под ногами с высоких вершин. Нередко поверхность облачных груд клубилась странными куполами, зияла провалами, и все же это были привычные облака, лишь наблюдаемые в несколько необычных ракурсах. Но эти верхние, видные с границ стратосферы, уже не выглядели облаками. Они расстилались от горизонта до горизонта сплошным пологом, как снежный материк. Это была Антарктида облаков, изрытая бороздами, взмохренная сугробами и застругами: клочья пара причесаны струями ветра, размежеваны на правильные гряды… Как странно — путешествие почти под экватор началось… картиной Антарктики! Ташкент вследствие тумана не принял нас. Зимняя слякоть, вполне обычная для среднеазиатских пустынь, нам, конечно, показалась весенней.ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ГИНДУКУШ
Самолет, прилетевший за нами из Ташкента, легко перенес нас через ребристые отроги Гиссара. И вот уже под крылом Аму-Дарья, граница родной страны, и сразу за рекой — полоса пустыни Адели-Туркоманд с мертвой зыбью барханов. Сюда, в этот негостеприимный вестибюль Афганистана, переплеснулся крайний восточный «залив» Каракумов. В полосе предгорных оазисов Афганского Туркестана видны дороги, поля, сады, сбросившие на зиму листву, буроватые пятна глинобитных, поселков. Различаем ленту трансгиндукушского тракта. Оставляем под собой костистые гребни передовых цепей Гиндукуша, очень похожие на наш южнотуркменский Копетдаг. Впереди должен был бы уже сиять сам гигант Гиндукуш, но; увы, там толпятся груды облаков и устилают горы выше 3000 метров тоже сплошным пологом. Одни из самых сухих гор Земли — у них даже вечный снег лежит из-за недостатка влаги, не ниже 5000 метров, и надо же было именно на день нашего перелета набиться сюда с запада этим массам влажных туч! Забираем выше, летим над облаками на высоте четырех-пяти километров, а под нами огромным сводом лежит, устлавший всю громаду гор, слой серо-белой ваты. Страшно даже представить себе, какие невидимые нам кручи, утесы и пропасти торчат и зияют под этим внешне мягким пологом пара. Борт-проводник рекомендует надеть кислородные маски, и часть пассажиров облачается в них, чтобы не почувствовать дурноты в разреженном воздухе. Самолет достиг уже высоты шести километров — мы выше Эльбруса! На ТУ кабина была герметичной; там горная болезнь никому не грозила, а тут уже чувствовалось, как прилила кровь к голове, как застучало в ушах. Еще несколько минут, и нам стало понятно, зачем самолету понадобилось забираться так высоко вверх. Впереди появились слегка выступающие над облаками грозные зубцы, черные пирамиды, посеребренные пронзительно сияющими снегами. Слева проплыла слепящая белизною трапеция. Эта вершина намного выше уровня нашего полета, вероятно, близкая к шести с половиной километрам, если верить альтиметру самолета. А вот и чувство, что самолет словно уходит из-под ног: легкость во всем теле и провалы в пустоту, заставляющие ёкать сердце. Значит, воздушный «перевал» пройден, и мы начали спуск. Вокруг нас толпится уже множество снежных хребтов. Облака поредели, а вскоре и совсем кончились: барьер Гиндукуша оказался для них непреодолимой преградой. Под нами огромные долины, устланные снегами, головокружительные крутизны, сверкания снежных гребней, пил, лезвий. Все это настолько ни на что не похоже, что воспринимается как абстракция, как далекая декорация: утрачена всякая способность соизмерять и опасаться. Но вдруг к самолету стремительно приближается и проплывает под нами в каких-нибудь трех десятках метров страшный снежно-скальный хребтина со всеми своими пиками и «жандармами», «каминами» и «кулуарами», так много говорящими сердцу любого альпиниста. Он совсем рядом, угловатый, изрытый расселинами, разбитый на уступы гребень. Его ограненные наклонными плоскостями перекошенных каменных напластований бока так похожи на склоны десятков когда-то посещенных вершин… Самолет оставляет под собой все эти зубцы и пики, возможные объекты спортивно-туристских рекордов, и только острее ощущается гордость за могущество техники, — и стократно величавее и реальнее становится вся окружающая панорама. Реальнее и страшнее. Самолет, идя на снижение, переваливает чуть ли не на бреющем полете еще через несколько столь же ощутимо близких снежных зубцов, и думается: окажись тут рядом хорошая воздушная яма, и сядешь на одну из этих снеговерхих игл, как стрекоза на булавку. Поразительно быстро теряем высоту — ведь Кабул совсем рядом, а нам нужно опуститься к нему, «сбросив» более чем четыре километра. К городу подлетаем неожиданно, перевалив низкий хребтик, ограждающий обширную плоскодонную котловину. Перелет через Гиндукуш! Да если бы и не было впереди ничего интересного один этот полуторачасовой полет навсегда останется в памяти как волнующее и радующее воспоминание.В КАБУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЕ
Кабул в серебряной короне январских гор, глинобитный, ступенчато-ярусный, тоже неправдоподобный, как декорация. Из-за нашей задержки в пути самолет местной компании «Ариана» улетел в Дели, не дождавшись нас, и теперь у нас в распоряжении целые сутки для осмотра афганской столицы. Легкий морозец превратил в ледяной каменный погреб гостиницу — она приспособлена к борьбе с летней жарой, а не с зимним холодом. Чтобы согреть комнаты на ночь, здесь топят железные печурки. Вечером выходим. на улицу. По асфальтированному проспекту проезжают машины то американских, то советских марок. Но тут же с лихим цоканьем прокатывает изящная двуколка, убранная фонариками. Мы еще не знали тогда, что эта четырехместная двуколка (два седока лицом вперед и два назад, спинами друг к другу — предмет не только афганской экзотики. Это индийский тип экипажа, называемый гади, или тонго, — первая улыбка Индии. А вот и афганский колорит: необычные костюмы людей, демонстрирующйх такую же, как и гостиница, неприспособленность к борьбе с холодом. Они идут, зябко ежась, накинув на головы кто плащ, кто одеяло, словно холод для них это что-то редкое и кратковременное. А странно — казалось бы, на этой высоте (без малого два километра над морем) и при вполне регулярной зиме можно было давно приспособиться к достаточно устойчиво суровому климату… Впрочем, дело не только в умении приспособиться; Вот люди идут по морозу в галошах на босу ногу. Это уже влияние не климата, а бюджета. Минуем королевский дворец, у ворот которого зябнут часовые. За поворотом целая улочка освещенных лавок — они открыты передними стенами к тротуару и светятся издали как фонарики, а вблизи напоминают небольшие сцены с поднятым занавесом. Из каждой лавочки, кажется, прямо на мостовую вываливаются то фрукты, то овощи, то галантерейная мелочь, игрушки и безделушки, а часто — все вместе в самых неожиданных сочетаниях. По улице стелется сладковатый запах странных благовоний. Сначала не понимаем, откуда он, а потом видим: это пахнут угли карагача в жаровнях. Тут же на улицах люди греют над этими жаровнями — кто иззябшие руки, а кто голые ноги, забавных чувяк с такими же носками, какие запомнились Бабе. В лавках сидят, вернее, мах, окутанные ватными одеялами. Вот один из них поднялся, откинул свое одеяло, и под ним обнаружилась своеобразная грелка — горячий чайник! Лица тоже из старых сказок: одни — как с древнеперсидских миниатюр, другие скорбно библейские, узкие, остроносые, южнокавказского типа. А встречаются и монголы — широкоскулые и плосколицые горцы хазара, обитатели среднеафганских гор Хазареджата. Вечерний Кабул загадочный, малолюдный. Конечно, это лишь случайные проявления жизни засыпающего го; рода… А наутро — живой, многоликий, кипящий Кабул. Пестрая неисчислимая толпа людей в кое-как накинутых на голову плащах, халатах и одеялах. Если у кого пальто, то и пальто наброшено на голову одним из рукавов, а другим рукавом человек согревает себе лицо, точно концом кашне. Как много мужчин! Целая улица — одни мужчины… Нет, вот идет и женщина: пепельно-серый саван, от головы до пят скрывающий человека. Перед глазами густая сетка, делающая лицо неразличимым. Паранджи еще прочно держат своих узниц — пленниц ислама. По тротуарам тянутся вереницы вьючных ишаков. Немало людей и верхом на ишаках; целые караваны ишачьей кавалерии — картина, обычная и для нашей Средней Азии. Похожи на туркменско-узбекские и дувалы — глухие глинобитные стены домов, обращенные к улицам. За этими стенами — чистые и уютные дворики. Летом они превращаются в крохотные зеленые оазисы. В торговых рядах столпотворение. Разносчики горячего лаваша, велосипедисты, уличные парикмахеры, бреющие головы своим клиентам тут же, на тротуаре… Продавцы огромной кабульской редьки. Чьи-то настойчивые приглашения отведать шашлыка. Вьючные ишаки, раздвигающие мордами толпу. Полисмены, считающие нужным заливисто свистеть каждой проезжающей машине. Вроде салюта или напоминание о своем существовании? Тяжелые грузовики, но тут же и тяжеловесные телеги, запряженные… людьми. Людьми, тянущими их совсем по-бурлацки… Улетаем из Кабула с таким чувством, что лишь едва черпнули странной и непривычной жизни этого города, где так удивительно переплелись живые картины средневековья и проявления ультрасовременной техники.ИНДИЯ РЯДОМ
Напрасно пытаюсь разглядеть с высоты Джелалабадскую долину и очертания Хайберского прохода — издревле знаменитых ворот в Индию. На мой вопрос, где же Хайбер, индийский авиатор машет рукой вдаль налево. Оказывается, трасса самолета проложена на Дели совсем не по прямой линии. Мы полетели не на юго-восток, не по гипотенузе, ведущей прямо в Дели, а строго по катетам, сначала на юг, над заснеженным плоскогорьем Гардез, а затем на восток, через Сулеймановы горы. Где-то тут мы пересекаем и границу Афганистана. Целое государство осталось под нами и сзади. Страна с двенадцатимиллионным народом; мы знаем о его отваге и гордом свободолюбии, о великой способности к труду; мы сами видели, как голую каменистую землю афганцы устилают почвой, привезенной вьюком на ишаках… Но разве мы вправе судить\по однодневному впечатлению о жизни страны в целом?
Географическое положение Цейлона
И все-таки облик Афганистана, пусть и мимолетно воспринятый, начинает теперь жить в нашей памяти с опорой на живые впечатления, на неповторимые, хотя бы и случайные штрихи, которые удалось нам самим подметить. Книжный Кабул потускнел — его вытеснили картины увиденного «взаправдашнего» Кабула… Сулеймановы горы — еще один вариант южнотуркменского Копетдага. Так же обнажены и скалисты хребты, так же просвечивает на поверхности вся анатомия их каменных складок. Зубцы, чешуи и уступы… В рельефе отпрепарированы и выявлены любые различия в стойкости каменных напластований, в способности их противостоять разрушению. Но вот и новость: восточные склоны Сулеймановых гор одеты темной полосой леса. Это напоминает о том, что восточный фас Иранского нагорья смачивают летние муссонные дожди Индии. Значит, действительно реальна, значит, близится Индия, казавшаяся такой несбыточной, а теперь простирающаяся здесь рядом, дышащая сюда своими ветрами, орошающая эти хребты дождем… Горы кончаются. Впереди запыленный простор Индо- Гангской равнины. Под крылом самолета вьется среди широченной поймы, дробясь на несчетные рукава, Инд, напоенный гималайской влагой Инд! Как на исполинской карте, просматриваем весь Пенджаб — и мертвящую барханную пустыню Тхал, и сплошной пестролоскутный ковер полей, возделанных до последнего пятачка, и каждую из рек великого Пятиречья — вот Джелам, вот Чинаб, вот Рави… Любая из них напоминает Инд в миниатюре — можно только представить себе, как разливаются они в дни летнего юго-западного муссона и летнего же таяния снегов в Гималаях (мы-то летим в сухой зимний сезон Индии, когда ветры дуют с суши к океану). Невероятно, но мы оставили под собой и за собой еще одну страну. Под крылом самолета огромный город Лахор — это еще Пакистан, а за рекой Рави самолет начинает снижаться на зеленеющий и в январе аэродром Амритсара — прямо в Индию. Нас встречают смуглые люди, проверяющие наличие индийских виз на наших паспортах. Все они без пальто — здесь совсем лето. Мы в Индии. Вот она, оказывается, какая — скромная, не оглушающая никакой экзотикой. Вокруг — ни пышных парков, ни ярких цветов. Скудный, выгоревший от зимнего зноя газон аэродрома — чем не наша сухая степь?.. Впечатление, что перед нами какой-то новый вариант среднеазиатского ландшафта с одной только поправкой на сезон… Да и расстояние невелико — всего; два-три перелета от Ташкента. Как до Индии близко! {Оказывается, она совсем рядом! В Амритсаре — легкая закуска в буфете аэропорта, удивившая крутой наперченностью всех блюд, — даже цветная капуста обожгла рты, как крапива. Ели какие-то конфеты, напоминающие постный сахар, а съев, узнали, что они сделаны из кокосовых орехов. Стемнело. Небо вызвездилось множеством незнакомых огней. Еще бы! Ведь Полярная Звезда, вокруг которой вращается наше северное небо, становится все ниже и ниже. Это над Северным полюсом она стоит прямо над головой, в зените. А сейчас — вот она, всего на 30 градусов выше горизонта. Значит, уже треть небесной сферы на юге занимает непривычное для нас звездное небо южного полушария. …К Дели летели ночью. Слева в темноте полыхали далекие, но феерически яркие зарницы — это бушевала зимняя гроза в невидных нам Гималаях, громоздящихся совсем недалеко, вдоль горизонта. Дели возник под крылом, как черный ковер, сверкающий бриллиантами вечерних огней. Несколько нитей в этом ковре были прошиты изумрудами — так выглядят сверху зеленоватые лампы дневного света.
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ
Поездка по вечернему Дели была мгновенной — за?помнились бесчисленные повороты дороги в огромном парке. Потом выяснилось, что все это был не парк, а сам город, вернее часть города — Новый Дели. В отеле все приспособлено для борьбы с жарой. Под потолком и на столиках энергичные вентиляторы. Сквозной для всех этажей гостиницы большой зал с галереями оказывается не залом, а просто двором: над ним нет ни потолка, ни крыши; мы видим звездное небо. С утра идем по Дели. Что можно увидеть и понять за сутки в этом огромном городе, где все ново, все удивляет? Может быть и не браться за его описание? Но ведь и мимолетные впечатления о Дели как-то подготовляют нас к Цейлону: одному мы уже меньше удивимся на этом острове, другое поразит нас своим отличием не только от нашей страны, но и от Индии… Кого из нас не провожали родственники, кого не спрашивали о возможных опасностях предстоящего путешествия? Забавно вспомнить, что их наибольшие опасения связывались, как правило, с кобрами и акулами. Но уже на улицах Дели мы ощутили, что главной опасностью, подстерегающей наши жизни и здесь и в Коломбо, могло оказаться… левостороннее движение автотранспорта! Конечно, это никакая не экзотика, так ездят и в Англии, но ведь нам, привыкшим к правосторонней езде, от этого не легче. «Переходя улицу, посмотри сначала налево, потом направо» — неумолимый закон московских улиц; мы и не знали, насколько он въелся в наши привычки, стал почти инстинктом. И каким же проклятьем оказался этот условный рефлекс в Дели и на весь период пребывания на Цейлоне! Оказывается, невозможно, ступая с тротуара на мостовую, не поглядеть сначала, как в Москве, налево. А справа в это время на тебя мчится лавина машин, и их шоферы совсем не знают, что ты москвич, и, конечно, не понимают, почему ты глядишь в сторону, прямо противоположную опасности. И сколько раз, уже в Коломбо, раздавался в одном-двух метрах от нас дикий визг тормозов, а удивленные водители просили извинения у нераздавленного гостя… На улицах Дели пешеходу страшно не только на мостовой. Наверное, добрая половина населения, движущегося утром по улицам, сидит на велосипедах. Велосипедисты на многих трассах причислены к пешеходам и бойко снуют по тротуарам. У пишущих о Дели сложился нехороший шаблон: прежде всего описывать знаменитых священных коров, лежащих поперек улиц и объезжаемых автомобилями. В Нью-Дели нас поразило другое: простор внутригородских парков и… газонных пространств, занимающих территории по пять-десять Манежных площадей Москвы, вместе взятых. Когда-то спланированные на английский парковый манер, эти газоны чудесно прижились здесь в своей особой индийской форме (ведь не будь тут города, «зональным» типом ландшафта в районе Дели была бы сухая саванна, то есть степь с редкими деревьями — насаждения как раз паркового типа). Поэтому и дернина газонов, кстати заботливо культивируемая, чувствует себя здесь превосходно и даже не подвергается вытаптыванию. По газонам в Дели ходят свободно и коровы и люди. Прежде всего, конечно, коровы. Естественно, что им на газонах жить привольнее, чем на асфальте; там они и пасутся днями. Ну, а иногда приходится и корове перейти с одного газона на другой через гудящую автомобилями магистраль; вот тут-то их и подстерегают журналисты и фоторепортеры, создающие миф о пристрастии крупного рогатого скота к асфальту. Но по газонам ходят и люди. И не только ходят, но и сидят и лежат. Вокруг исторически ценных руин крепостей и мавзолеев разбиты поэтичные заповедные парки. Через турникет при входе в них не пропустят ни коров, ни неугодную публику… У таких святынь по газонам ходят лишь одинокие задумчивые юноши с книжками в руках: студенты постигают науки. Но есть и другие газоны. Один из самых огромных расположен под стенами Ред-Форта — величественной Красной крепости поздних моголов. Это скорее травянистая пустошь, усеянная людьми. Здесь сидят и лежат бездомные и нищие. Здесь небольшие группы людей собираются послушать религиозного проповедника. Здесь же фокусники демонстрируют своих кобр и макак. Нищета переплескивается с этих газонов и на улицы Дели, и именно она сильнее всякой иной восточной экзотики создает самый резкий контраст с мчащимися автомобилями, с конструктивистскими зданиями и рекламами, с толпами прилично и богато одетых людей. Да, у Индии еще много трудностей, еще тяжел груз бедности, унаследованный от недавних лет кабалы и колониального бесправия. Что можно увидеть за день в Дели? Мы посетили место кремации Ганди — торжественно печальный парковый ансамбль, осененный неизвестными нам плакучими деревцами. Отсюда, эскортируемые группой нищих и акробатов с макаками, мы двинулись мимо ветхих и жалких лачуг — то ли беженцев, то ли представителей низших. каст, — осмотрели внутренние парки и изумительные дворцы Ред-Форта. После обеда советское посольство предоставило нам автобус. Это позволило быстро удлинить список осмотренных достопримечательностей. В него вошли и недавно построенный, щедро, но грубовато разубранный индуистский храм Бирла, к древний минарет Кутаб-Минар с отлитым еще 500 лет назад нержавеющим цельножелезным столбом, и древняя же астрономическая обсерватория. Мы побывали у парламента и правительственных зданий, видели «Ворота Индии» — памятник индийцам, погибшим в перовую мировую войну… А на берегу Джамны удивлялись разостланному на сотни метров вдоль берега отбеливающемуся белью, и встретили стайку обезьян, бегающих по пустырю, как собаки. Обо всем этом можно было бы рассказывать долго, но ведь все это лишь предисловие на пути к Цейлону. Поздно вечером по пути на аэродром, утомленные и оглушенные впечатлениями от Дели, мы неожиданно задали себе вопрос, прозвучавший до нелепости парадоксально: — Неужели мы только позавчера из Москвы? Это была сущая правда. Кончались лишь третьи сутки нашего путешествия. А в душе жило невольное убеждение, что прошла уже тысяча и одна ночь.МУССОН В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ
В веселых проспектах Индийской авиакомпании любезно вложенных в спинки кресел перед каждым пассажиром самолета, бойко рекламируется существующая в Индии «ночная служба связи». Ее идея похожа на идею ночных поездов Москва — Ленинград: помочь пассажирам не тратить дневного рабочего времени на переезды. Именно с этой целью из с крупных городов Индии — из Дели, Калькутты, и Мадраса — ежедневно в 11 часов вечера поднимаются и летят навстречу друг другу четыре самолета. Пути их перекрещиваются в центре Индостана — в Нагпуре, на аэродром которого все четыре самолета и садятся около двух часов ночи. Отсюда каждый из них возвращается к себе обратно, а пассажиры имеют возможность, пересев в соответствующие самолеты, прибыть уже к 6 часам утра в любой из нужных им четырех городов. Отличие от «стрелы» Москва — Ленинград все же есть: пересадка в Нагпуре неминуема, и, хотя она и сдобрена легкой закуской в буфете (кормит авиакомпания) и даже рекламным кинофильмом (о мощи этой же авиакомпании), — ночь все равно остается переломленной пополам. А то, что мы пролетели ночью над прославленной Агрой и, следовательно, не могли видеть, хотя бы с воздуха, главного чуда архитектуры Индии — сказочного мавзолея Тадж-Махал, дополняло досаду. И не обидно ли — всю Индию от Амритсара до Мадраса перелететь в темноте? Звуковое сопровождение фильма то и дело прерывается: включается голос диспетчера аэропорта, объявляющего посадки на Дели, Калькутту, Бомбей. То одна, то другая часть пассажиров поднимается из разных мест зала и уходит к своим самолетам. Фантастически далекие названия звучат буднично реальными, как Мытищи или Серпухов для москвича, и все эти люди через два с половиной часа будут в Калькутте и Бомбее. Каждое объявление радиодиктор кончает благодарностью: «Тсэнк ю», — здесь принято благодарить за внимание, о чем бы публика ни слушала. Наконец, наступает и наша очередь. — Производится посадка в самолет, отлетающий в Мадрас. Лэди и джентльмены приглашаются пройти к самолету. Тсэнк ю. Идем по ночному аэродрому. Над нами торжественно звездное небо и на нем — необычно низкая, наполовину нырнувшая под горизонт Большая Медведица. По двум «передним» звездам ее ковша легко находим Полярную Звезду — она стала еще ближе к горизонту. Сев в самолет, достаю карту и громко поздравляю спутников. — Товарищи, ведь Нагпур стоит на 21 градусе северной широты. Значит, мы перелетели тропик! Да, мы уже на земле, где солнце дважды в год бывает в зените. Мы в настоящих тропиках — сбывается заветная, с детства волновавшая мечта. Пусть на ночном аэродроме это сознание еще ничем в природе не подтверждается, кроме теплого воздуха и по-летнему одетых людей. Но сама снизившаяся Полярная напоминает: мы все ближе и ближе к экваториальному «боку» Земного шара. Перед Мадрасом не спалось, несмотря на «сломанную» ночь. Ну, как же было упустить рассвет над Индийским океаном, первый в нашей жизни восход солнца на Бенгальском заливе? Восход оказался туманным, занавешенным и у горизонта и над близким морем целой серией мутно-облачных штор. И океан открылся внизу совсем не сказочно синий, как думалось, а серовато-белесый. Тысячами параллельных прядей, вытянутых в сторону суши, стлались и висели над ним облачка. В правые окна было видно, как сгущалась эта туманная муть, делая едва различимой низину Коромандельского берега, а на далеком западном горизонте облака вставали уже сплошной стеной — их влага сгущалась у горного уступа Восточных Гатов. Самолет шел над всей этой армией продольных облачных гряд. Они казались неподвижными по сравнению с быстротой нашего полета. Но весь рисунок их грив, вся их устремленность в одном направлении говорила: они движутся, они плывут к суше, плывет весь океан этого влажного воздуха. Приятно было, увидев, понять: ведь это и есть зимний индийский муссон, ощутимый — его можно почти потрогать, измеримый и зримый — он весь под нами, и можно подсчитывать объемы этого воздуха кубическими километрами. Северо-восточный муссон Индии — могучий воздухопад, который стекает на эту страну с холодных высот Гималаев, нагреваясь и иссушаясь (по законам физики нисходящим воздушным потокам свойственно нагреваться и удаляться от насыщения парами влаги). Зимний муссон — суховей. Именно он несет Индии сухую и знойную зиму и весну. И только здесь, на крайнем юго-востоке страны, этот ветер оказывается влажным. Конечно, нам видна по фронту лишь ничтожная часть широчайшего муссонного потока — но именно та его часть, которая по пути к Коромандельскому берегу вынуждена была пролететь над вечно теплым Бенгальским заливом. Поэтому и суховей в дальнейшем своем полете надышался, насытился влагой. Вот мы и видим шествие облачных грив с океана на сушу. Любуюсь этой картиной с особым пристрастием, поскольку и «у нас на Цейлоне», нам придется столкнуться с действием левого фланга этого же самого северо-восточного муссона.УЛЫБКА ЦЕЙЛОНА
Опускаемся в муть голубеющей дымки. Под нами распластан огромный Мадрас. Минуем его, летим над пригородами. К аэродрому подступают жиденькие рощицы стройных деревьев, похожих на ершистые кисточки. Это сухотропические пальмы — пальмиры. Все еще нет ощущения роскоши — удивляет скорее скудость тропической природы. Еще в Дели мы были немножко разочарованы скромностью зелени и малым количеством цветов, но там невольно делали скидку: все-таки Дели — это северная окраина тропиков, в сущности уже затропические широты, да еще в январе. Индийская беднота даже мерзла ночами, когда температура спускалась подчас до плюс 10–12 градусов Цельсия. Но вот теперь и тропик позади. В Мадрасском аэропорту при жаре + 26 градусов мы со своими перекинутыми через руку шубами и фуфайками выглядим весьма забавно. Но пышности природы не видно и здесь. Впрочем, в сквере у аэропорта красиво цветут лилово-розовыми цветами крупные кусты бугенвиллии. В Мадрасе ждем последнего самолета, выполняем таможенные формальности: ведь мы еще раз переезжаем из страны в страну — из Индии в Цейлон. Как ни интересен, как ни загадочен лежащий рядом огромный город, столица дравидов, темнокожей южноиндийской расы, у нас нет возможности посетить и осмотреть его. В самолете нас встречают приветливыми улыбками две очаровательные стюардессы. Они были бы милы и без улыбок — так правильно красивы их лица, так живо подвижны большие черные глаза. Увидав такой цвет кожи — теплую бронзу, — наши черноморские курортницы, нагоняющие себе загар покруче, застонали бы от зависти. На девушках были белые, обтягивающие, как лиф, кофточки, такие коротенькие, что над юбкой оставался смуглый бронзовый пояс — обнаженная сантиметров на десять в ширину талия. И сразу было понятно: именно так при экваториальной жаре следует «проветривать» тело; именно такой костюм красив и удобен. Нам улыбались коренные цейлонки — сингалки. Это была первая улыбка Цейлона. Последний перелет — снова путь над погруженным во Влажно-голубую дымку Коромандельским побережье® над самой бахромой прибоя, и тот же зримый муссон со струящимися белыми гривками облачков. Земля, как и в Пенджабе, предельно возделана — это сплошная мозаика из прямоугольных полей, сетка каналов, зеркальца водохранилищ, пятна поселков и городов. Местами видны лениво извивающиеся реки — хорошо опознаём крупнейшую и самую южную из них — Кавери. Вдруг берег круто уходит вправо от нас и совсем теряется в мутной дали. А мы никуда не свернули, летим в том же направлении, в каком летели параллельно берегу. Значит… Значит, это уже кончилась Индия, и мы оказались над Покским проливом. Кончилась Индия. Мы пролетели ее насквозь, в полном смысле слова напролет, от Амритсара до пролива. Индия чудес и легенд; Индия древнейшей культуры и фантастических религий. Индия, где «не счесть алмазов в каменных пещерах»; Индия философов и архитекторов, фанатиков и факиров; Индия Киплинга и Индия Тагора, измученная британскими колонизаторами и освобожденная от них; страна Ганди и Неру; страна стольких сот миллионов людей, любящих далекую Россию и верящих в нее… И эту Индию мы пролетели за полтора суток? Да смеем ли мы говорить, что были в ней и видели ее?ОСТРОВ ПОД НАМИ
Цокский пролив удивляет причудливой пятнистостью воды. Часть пятен — тени от муссонных облаков, а другая часть — просвечивающие сквозь воду мели. Взгляд чуть вперед — видим контуры зеленовато-серой земли. — Так это же Цейлон! Ну, конечно, Цейлон. Пролив настолько узок, что с его середины пассажирам самолета великолепно видны и Индия и Цейлон одновременно. Так мы увидали цель нашего путешествия: Цейлон, о котором из книг мы знали столько восторженных определений. «Лучший, остров такого размера в мире», — писал Марко Полоь «Благословенный», «прекрасный»— так звучит перевод древнесингальского названия Цейлона— Ланка. «Вечнозеленый чудо-остров», «Обетованная земля моих научных вожделений», — восхищался знаменитый немецкий натуралист Эрнст Геккель. «Изумруд, подвешенный к Индостану»… «Жемчужина океана»…. «Заменитель рая на земле»… Сколько версий имеет легенда о том, что именно на Цейлон угодили высланные за грехи из рая Адам и Ева — видимо, исходя из предположения, что природа этого острова наиболее близка к физико-географическим условиям рая… Помню, когда-то я писал, глядя на голубую карту: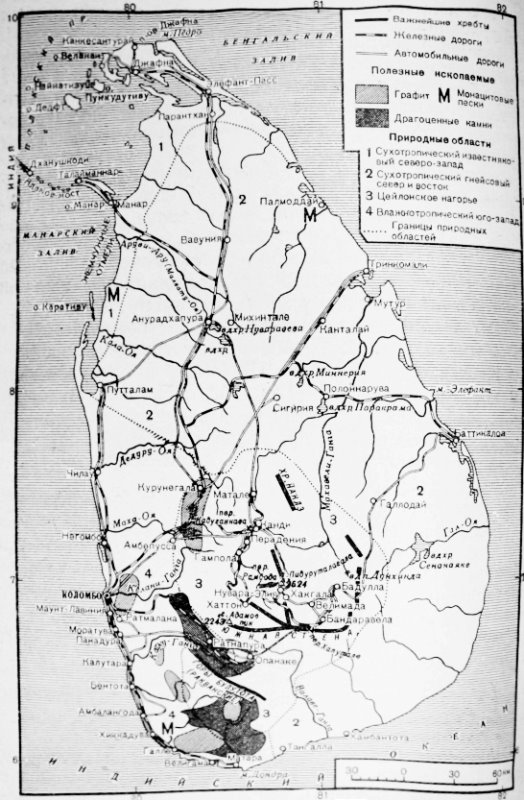
К этому перечню верований можно прибавить, что португальские католики объявили этот след отпечатком ступни святого апостола Фомы, китайцы — следом туан-ку, своего «первого человека», а персы — вопреки всяким данным истории — следом… Александра Македонского! «Таким образом, изобретательные легенды собрали на вершине Адамова пика весьма разнообразную кампанию», — шутил Геккель. Все авторы отмечают удивительную веротерпимость цейлонцев и мирное сосуществование религий. К одной и той же обожествляемой вмятине на вершину совершаются массовые паломничества буддистов, индуистов и мусульман… Цейлонской «опорой» Адамова моста служит крупный остров Манар. Сверху не разглядишь, но мы знаем, что сейчас именно тут проходит важная артерия современных индо-цейлонских связей. На Манар с Цейлона проведена железная дорога, а отсюда поезда идут… прямо в Индию, но, конечно, не по рифам Адамова моста, а с помощью железнодорожного парома. Обаятельные стюардессы вручают каждому пассажиру оранжевые бумаги — карантинные анкеты. В них мы должны поклясться, в дополнение к имеющимся справкам, что нам привиты холера и оспа. Цейлонки вежливы и подчеркивают: — Это не потому, что вы из России. Ведь все-таки вы летели через Индию! Сейчас в левых окнах должны появиться горы, можно будет увидеть Адамов пик. Но стюардессы неумолимо любезны. Они хотят сократить нам время на отправление пограничных формальностей в аэропорту Коломбо. По их мнению, лучше все это сделать в полете, «когда нечего делать». Вид на Цейлон и на Адамов пик с неба, видимо, давно уже их не интересует. Чтобы не отставать от группы, заполняю длинные листы, обещаю ничем не хворать, ставлю пункты вылета и назначения, даты, сроки, подписи… Уже с поворота на посадку в левом окне мелькнул на массивном хребте пирамидальный зубец, показавшийся маленьким, — это, что ли, Адамов пик? Сдаю анкету, получаю в благодарность еще одну' упоительную улыбку, но куда деться досаде? Ведь из-за этой небесной бюрократии мне «улыбнулся» и целый ландшафт горного Цейлона, который можно было бы видеть с воздуха… Утешаю себя тем, что лететь над Цейлоном еще придется и на обратном пути. Быстро теряем высоту. В окне кренится зеленый прибрежный город, видны волнорезы, ограждающие портовый «ковш». Начинает казаться, что мы садимся прямо в густой и сочно-зеленый пальмовый лес. Нам видна уже торжественная зелень из тысяч перистых опахал, мы почти задеваем ее своим шасси, но неожиданно вылетаем над обширным лугом и, еще раз вежливо свиражировав, садимся, словно погружаясь в зеленый океан, в мир ласкового тепла, насыщенного влагой, напоенного близостью моря. Еще не верится, что это царство вечного, круглогодового лета. Кокосовые деревья… Что это — сады или леса? Тяжелые трепещущие даже при безветрии кроны образуют целый ярус тенистой листвы. А ниже — ярус тонких оголенных стволов. Здесь царит странный серебристо-розовый свет. Забавно, что стволы многих пальм стоят совсем не вертикально, а как попало, с самыми неожиданными перекосами. Смотришь в рощу, и часть ее словно перечеркнута стволами крест-накрест. К самолету уже спешит группа темнокожих улыбающихся мужчин и женщин, и через минуту мы, смущенно держа в левых руках свои северные фуфайки и шубы, теряем счет рукопожатиям и захлебываемся в запахе тяжелых цветочных гирлянд, которыми встречающие украсили шею каждого гостя.
СТОЛИЦА ЦЕЙЛОНА

НА КРЫЛЬЯХ СПУТНИКА
Нас встретили те самые цейлонские учителя, которые более полугода назад побывали в Советском Союзе. Возглавлял их председатель туристского учительского клуба Джеям Тсамотсерам, тамил по национальности. В составе нашей группы были люди, принимавшие их тогда в Москве и в Риге; встречались друзья, имеющие общие воспоминания. Но и те из нас, кому не довелось принимать цейлонцев в Москве, быстро нашли общие интересы с встречающими. Мы с первых минут поняли, что Цейлон все еще находился под колоссальным впечатлением от сообщений о запуске первых советских спутников Земли. И первые восторженные вопросы, обращенные к нам в Коломбо, были о спутниках. С этого момента и все двадцать пять дней, проведенных нами на Цейлоне, русское слово «спутник» сопровождало нас как наш верный спутник и друг. Его приветливо скандировали ребятишки на торжественных встречах в школах, его кричали нам в окна автобуса люди, узнавшие советскую делегацию. «Спутник?» — восхищенно спрашивали официанты в закусочных и продавцы в магазинах, рабочие каучуковых фабрик и кондуктора автобусов. Подъехали к отелю «Савой» — белоснежному четырехэтажному зданию конструктивистского типа с козырьковыми навесами над каждым ярусом мелкорешетчатых окон. Прежде чем разводить нас по номерам, всю группу со словами «спутник, спутник» повели к витрине обувного магазина, приютившегося у входа в отель. За стеклом, среди большого ассортимента дамских туфелек, помещался крупный глобус. Вокруг голубого шара весело вертелись два советских спутника. А вдоль экватора не менее ретиво обращались две капиталистические босоножки… И на скольких еще встречах и банкетах президент клуба Тсамотсерам выступал с речью, рекомендуя своих гостей то одному, то другому коллективу цейлонцев… И сколько раз пришлось ему повторить, представляя руководительницу нашей группы: — Во главе делегации стоит лидер тред-юниона (профсоюза), объединяющего два с половиной миллиона учителей, профессоров и научных работников Российской Федерации, в том числе тех, которые изобрели спутник. Эти слова неизменно встречались овацией, и нам было нелегко привыкнуть к этой неожиданной и столь мало заслуженной нами роли представителей советской астронавтики. Впрочем, мы вскоре поняли, что на нашу долю выпала и еще более почетная миссия — быть почти первыми на Цейлоне недипломатическими представителями деятелей советской культуры и науки (до нас тут побывали лишь кинооператоры да одна небольшая группа артистов). И часто рождалось само собою чувство, что мы облетели весь Цейлон на чудесных крыльях любви к советским спутникам и советским людям.ПУСТОЕ МОРЕ
Быстро сброшено московское дорожное платье, сунуты по шкафам начавшие нас так тяготить теплые вещи. Им на смену вынуты предельно легкие белые рубашки, кофты, платья, брюки. Лето, ликующее январское лето. Океан зелени. Любоездание осеняют перистые знамена кокосовых пальм. В садах и палисадниках бушуют цветы на клумбах и на кустах. Вовсю, ярко и крупно, белым, красным, лиловым цветут многочисленные деревья. Куда пойти прежде всего? Интересно и ново решительно все. Но самым главным и неотложным у каждого из нас оказалось одно и то же: море! Всего маленькая улочка, пересечь прибрежную железную дорогу и — вот она, нежная и мягкая синева Индийского океана! Он встречает нас тихий, еле всплескивающий кружевную бахрому на серовато-желтую полосу берегового песка. На многие километры распростерся Коломбо вдоль этого чудесного пляжа. Казалось, какое счастье для столицы при круглогодовой экваториальной жаре находиться на берегу океана! Люди имеют возможность в любую минуту освежиться в его волнах. Мысленно мы уже представляли, как усеяны пляжи Коломбо глянцево-бронзовыми телами сингалов и тамилов… И вот он перед нами, дивный, осененный кокосовыми пальмами золотой пляж Коломбо — и на всем пляже ни одного, да, да, ни единого купающегося или загорающего человека! Ну, загорать, понятно, тут большинству незачем. Но нет купающихся! Непостижимо. Неужели из-за опасностей? Акулы, скаты? Руководительница группы не советовала нам купаться в первом попавшемся месте, чтобы не нарушить приличий. Мы терпим, мы не бежим, как хотелось бы, в воду, в чем есть. Мы только разулись и медленно бредем по щиколотку в пене легкого наката. По пляжу бродит одинокий сингал в белой юбке (так здесь одеваются мужчины). Спрашиваем его, почему тут не купаются? Он плохо говорит по-английски и поэтому больше жестами, чем словами, объясняет, что причиной этому — прибой, волны, страшно. — Какой же прибой, когда море еле плещется? Нет, тут какая-то загадка. Забегая вперед, скажу, что терпения нашего хватило ненадолго. Ну, как можно, живя рядом с морем, не окунуться в нем спросонок утром или в преддверии жаркой, не сулящей ни часа прохлады ночи? Выходившие на вечернюю прогулки по пляжу сингалы с недоумением смотрели на наше купанье. Они членораздельнее сказали нам, что опасны здесь не акулы, не скаты, а некие таинственные подводные течения, якобы засасывающие и уносящие человека. Сколько ни напрягаю память, но в своих океанологических познаниях не могу отыскать ничего похожего. С наслаждением купаемся. Впрочем, наслаждений оказалось меньше, чем ожидалось: теплая вода чуть прохладнее воздуха, поэтому едва освежает. Может быть, этим объясняется малая притягательная сила моря? Многим из нас, избалованным слабой соленостью черноморской воды, не показалась достоинством и куда более свирепая просоленность Индийского океана. Трудно нырять с открытыми глазами — соль сразу начинает разъедать глаза. Но ведь и на прославленных пляжах Ривьеры и Италии вода не преснее? Днем позже мы прочитали заметку в одной из местных газет. В ней говорилось не только о том, что наша группа купается в необычных местах, но и о том, что жители Коломбо снимают с себя ответственность за наше благополучие. И ведь надо было в этот же день одному из членов нашей группы — Александру Гордееву, преподавателю физкультуры из Тюмени, — наступить во время очередного купания обеими ногами сразу на двух морских ежей! Оказалось, что эти животные недаром носят такое колкое название. Они даже оставляют свои иглы в теле уколотого неприятеля. Из обеих ступней нашего Саши гулявшие по пляжу сингалы тут же у моря извлекли более двадцати игл. А потом, немало мучаясь от оставшихся каменистых заноз, наш спортсмен продолжай вынимать из своих «подошв» ежедневно еще по штуке, по две. Он аккуратно собирал их в спичечную коробку и берёг как поистине кровью добытые сувениры. Мы уже подшучивали над ним, не осваивает ли он дополнительную профессию факира, умеющего ходить по иглам… Заметка в газете, иглы в пятках… Пришлось сдержать свои инстинкты и прекратить неположенные купания. Утешало одно: в графике экскурсионных мероприятий все же стоял выезд в знаменитый дачный пригород Коломбо — на курорт Маунт-Лавиния. Почему-то в этом месте разрешалось и считалось вполне безопасным купаться; такова была норма приличия, установленная еще англичанами, такова осталась традиция и по сию пору. По воскресеньям на купание в Маунт-Лавинию мчатся на своих машинах и немногочисленные европейцы и столичная сингальская аристократия. Еще в дореволюционные годы, когда в Коломбо вели свои дела русские чаеторговцы Чоков, Высоцкий и Щербачев, их любимым местом отдыха и разрешенного купания была все та же Маунт-Лавиния. Для простоты они произносили это название «Мотовиловка»… Все отличие побережья «Мотовиловки» от Коломбо заключается в том, что здесь полосу песчаного пляжа прерывает несколько небольших скалистых гряд. Одна из них, выступая от небольшого мыса в море, тянется затем вдоль берега и таким образом «гасит» волну. Закипающие полосой буруны отчетливо показывают, где прячется этот подводный мол. В дни зимнего штиля было странно думать, что такая ограда важна, но летом, при лобовом для Коломбо юго-западном муссоне, вполне возможно, что этот естественный ковш Маунт-Лавинии является действительно единственным безопасным местом для купания. На мысу взгромоздился фешенебельный, но довольно безвкусный по своей архитектуре отель. И тут-то выяснилось, что купание в Маунт-Лавинии стоит… по рупии с человека. Стало понятно, что своими бесплатными купаниями прямо в Коломбо мы не только шокировали и тревожили горожан, но и подрывали устои монополии платной купальни… Еще ряд дней спустя мы вернулись в беседе с одним богатым сингалом к теме о море, и он осветил нам странную «моребоязнь» цейлонцев еще одним лучом. Здесь, как и в Индии, еще существуют касты. Внешне это не очень заметно, но браки между представителями различных каст, как правило, не допускаются и поныне Низшими кастами оказались уборщики нечистот, мясники, прачки, барабанщики, носильщики мертвых… Земледельцы — каста, занимающая положение выше, чем рыбаки… Аристократ прямо дал нам понять, что его не привлекает купание в том же самом море, в котором плещутся низшие касты. Сколько неожиданных нитей и пружин — океанологических, экономических, социальных — переплетено даже в таком простом вопросе, как купание в море! Ласковый, голубой океан. Косые стволы кокосовых пальм с махровыми радиально-перистыми кронами. Прибрежные заросли пандануса с дикой чащей воздушных корней (заглянул в такую куртину, и из нескольких кубометров тенистых переплетений пахнуло сыростью настоящих джунглей). Золотой-золотой, манящий пляж со смешными бегающими боком крабиками да рачками-отшельниками, напялившими на себя чужие раковины. И на десятки километров — ни души купающихся. Непонятное пустое безлюдное море.О ЖЕНСТВЕННОСТИ
Из девяти миллионов жителей Цейлона шесть с половиной сингалы. Сами себя они называют «сингала», а англичане переделали это в «сингалииз». Наверное, поэтому и в русскую литературу вошло и так упорно держится неправильное произношение «сингалез». «Сингала» означает «потомки львов». Окажись мы на Цейлоне двумя годами раньше, мы попали бы на всенародное торжество 2500-летия страны. Отсчет этого немалого срока ведется с того дня, как «потомок льва» сингал Виджая пересек Покский пролив и высадился на Цейлоне, дав начало нации. В десятках старых книг об острове можно прочитать о «женоподобности сингалезов». Правда, в те времена многие сингалы носили женские прически — пучки с заколками и черепаховыми гребешками. Сейчас в городах мужчины с пучками единичны, это редкие старики. В деревнях обычай коренится прочнее. Но все же и там ни бритые, ни бородатые лица женственными от наличия пучка не становятся. Другой признак «женственности» мужчин — пресловутая сингальская юбка — «комбой». Точнее, это своеобразно декорирующая тело белая простыня. Ее носят и бедняки, и аристократы, и рабочие, и министры, у которых нам довелось побывать на приемах. Все это были вполне мужественные люди. Нам, европейцам, носящим узкие душные трубы брюк вокруг каждой ноги, такие ненужные в экваториальном климате, оставалось только завидовать преимуществам мужского сингальского туалета. Сингалы — строители грандиозных ирригационных сооружений античной древности, сингалы, вынесшие полторы тысячи лет борьбы с нашествиями воинственных северян, сингалы, на наших глазах вместе с тамилами строящие молодое Цейлонское государство, сидящие в парламенте, возделывающие землю, работающие на фабриках, преподающие в школах… Нет, пора опровергнуть этот тезис о женоподобии сингалов, вызывающий совершенно напрасные сомнения в их мужестве. А такие черты как приветливость, мягкость, отзывчивость, оптимистичность? Да, они очень свойственны сингалам. Но ведь и эти черты не являются в остальном мире монополией прекрасного пола! Сингалы, впрочем, как и сингалки, удивительно красивы. Уточним, красивы с точки зрения индоевропейских норм (у монголов, малайцев, негров свои варианты, свои каноны красоты и нормы прелести). Как часто, желая похвалить лицо, мы называем его древнеримским или древнегреческим. А сколько угодно римских носов и греческих лбов можно найти у ныне здравствующих сингалов. Ни в одной стране мне не приходилось любоваться таким количеством лиц, применять мысленно столько определений «красавец», «красавица», как на Цейлоне. Буро-бронзовая кожа, угольно-черные волосы, живые жгуче черные глаза, восприимчивые умные лица, на которых написана такая готовность выслушать и понять собеседника… Впрочем, не всегда легко сразу понять друг друга. Рассказываю сингальскому учителю математики о полете на ТУ-104. Я не тверд в английской речи и поэтому особенно внимательно слежу за лицом собеседника: все ли ему понятно? А он с чарующе понимающей улыбкой после каждой фразы отрицательно качает головой! Нет, пожалуй, даже не отрицательно: вправо — влево движется один подбородок. Так у нас делают, когда хотят сказать: «ай-ай-яй, как не стыдно». Но сияющее белозубое лицо при этом выражает согласие, удивление, радость. Вспоминаю, что где-то читал об этом жесте: такое покачивание головы означает совсем не отрицание. Напротив, это согласие — утвердительный жест. Директор школы кому-то машет рукой, как у нас машут на прощание. В ответ на этот жест к нему подбегает ученик. Оказывается, и махание рукой совсем не прощальное, так подзывают к себе: ладонь как бы подгребает приглашаемого подойти ближе. И эту особенность жестикуляции мы поняли далеко не сразу. Задним числом смутились: сколько раз, уезжая из очередных колледжей или с предприятий, мы приветливо по-русски махали руками провожавшим нас хозяевам (они на прощание поднимали руку вверх как при салюте). И, вероятно, у многих цейлонцев возникла мысль о странности русского обычая: уезжая, звать с собою вдогонку. Еще Индия порадовала нас после Кабула свободой и достоинством, с каким держатся ее женщины. Не менее радовало это же и в женщинах Цейлона. Гордые, спокойные, с открытыми умными лицами, величавые, как статуи в античных тогах. Юбка типа индийского сари, декорирующая фигуру до пят, может быть, и стесняет движения, но превращает любую, даже миниатюрную девушку чуть не в богиню. Обнаженный пояс воспринимается как органическая и притом красивая деталь туалета. Но главное — это перекличка, созвучие красок. И всего-то два-три цвета: у коротенькой кофты — лифа, у тоги — юбки да еще иногда у полупрозрачного капронового шарфа, усыпанного звездными блестками. Но каждая женщина и девушка умеет отыскать и подобрать свои неповторимые сочетания этих тонов и еще больше хорошеет, сама превращается в произведение искусства. Мне, как географу, довелось прочитать немало книг о Цейлоне, и я знал, что этот остров — страна изумительных бабочек, прекрасных птиц, ярких цветов и драгоценных камней. Но теперь мы увидели, что географы скрыли от нас главную из красот Цейлона — красоту его женщин и их одеяний.КОЛОМБО
Название «Коломбо» — в переводе «голубь» — так легко связывать с периодом португальского господства на Цейлоне, что немало авторов пишет с самоуверенной прямотой: город назван так португальцами в честь… мореплавателя Колумба. Однако город Каламбу (как, кстати, и теперь произносят имя своей столицы многие сингалы) упоминал уже арабский путешественник Ибн-Батута, который посетил Цейлон еще в 1340 году, то есть более чем за 150 лет до открытия Колумбом Америки. А от «Каламбу» недалеко и до «Калан-Буа», второго названия реки Келани- Ганга, протекающей через столицу Цейлона. Большинство писавших о Коломбо начинало, его портрет с морского порта, куда подходили корабли, и с территории старого форта — теперешнего правительственного и делового центра столицы, который примыкает к порту. Но мы не приплыли, а прилетели в Коломбо, поэтому на пути от загородного аэродрома Ратмалана нам открылись сначала совсем не порт и не форт, не «сити» и не отели, а кокосовые лесосады с косыми стволами вперекрест, пригородные коттеджи Маунт-Лавинии и длинное шоссе-проспект, ведущее к Коломбо с юга, от города Галле. В английском произношении Галле давно превратилось в Голль, поэтому и улица называется Голль-роуд — «Голльское шоссе». Улица эта не набережная, но она проложена так параллельно и близко к берегу, что океан чувствуется и местами виден за ближайшими кварталами садов и зданий. Дома в один-два-три этажа, множество мелких магазинов с громкими вывесками, вроде «Салон королевы» или «Дом льва», кинотеатры, коттеджи богачей, изредка многоквартирные стандартные жилые дома для цейлонской интеллигенции, католические и англиканские церкви, вывески довольно неожиданного характера, вроде «Библейского общества». По улице лихо мчатся в левосторонних потоках огненно-красные двухэтажные автобусы и вереницы автомобилей (их в Коломбо много — по одному на каждые десять жителей). Но тут же снуют бесстрашные велосипедисты и трусят горбатые бычки — зебу, запряженные в булоккары — особые двуколки-фургоны. А вот и другие двуколки — они запряжены людьми. В Дели мы видели только мото- и велорикш. В Коломбо все рикши пешие. Изможденный старик везет двуколку, в которой развалился откормленный четырнадцатилетний барчук. Сухой долговязый юноша лет двадцати везет целую семью сингалов — папу, маму и двух ребятишек. На стоянках рикши усердно приглашают пешеходов в свои экипажи. Многие не прочь и позировать для фотографирования, конечно, в надежде на «бакшиш» — этим универсальным термином тут объединяются все виды чаевых, подачек и взяток. Мимо громоздкого, но, говорят, самого фешенебельного отеля Голль-Фэйс внезапно выезжаем на обширную длинную площадь, простершуюся вдоль берега океана. Это даже не площадь, а просто газон, по которому, S-образно изгибаясь, бежит на север, к порту и форту, продолжение Голльского шоссе. Газон совсем как в Дели. Это гордость Коломбо, его знаменитая эспланада Голль-Фэйс («Голльский фасад» столицы). Отсюда и имя отеля. Как странно: пустая площадка, пустой газон и никакого особого архитектурного ансамбля. И сколько, однако, прелести, сколько воздуха и простора приносит в Коломбо самое существование Голль-Фэйса! Только здесь чувствуешь, как «всею грудью» открыт город к океану: на горизонте отсюда всегда видны океанские корабли, ожидающие на рейде своей очереди войти в порт. Эрнст Геккель видел, как Голль-Фэйс второй половины прошлого века был местом вечерних променадов самой элегантной знати Коломбо: молодые джентльмены красовались верхом, дамы в экипажах. Это был смотр туалетов, соревнование в умении украсить себя цветами. Теперь по плавно изогнутой, как знак интеграла, асфальтовой магистрали Голль-Фэйса мчатся только автомобили, и лишь над самым прибоем проложена каменная набережная, которая и сейчас манит людей дышать — с одной стороны простором моря, с другой — раздольем широкого газонного луга. У северного конца «эспланады» — мост через канал, соединяющий с океаном большую лагуну, за каналом — «форт». Португальцы построили его тут в 1517 году, но стены его давно уже срыты. С точки зрения тогдашней стратегии колонизаторов крепость была расположена отлично: она занимала выдающийся мыс Юпитера, массив которого наподобие острова обособлен лагуной и протоками из нее. Протоки теперь превращены в благоустроенные каналы, а изгиб берега к северу от форта преображен с помощью мощных волноломов в большую искусственную гавань. Форт встречает нас вполне европейскими зданиями парламента и секретариата. Перед парламентом недавно открыт памятник первому премьер-министру независимого Цейлона — Сенанаяке. Можно по-разному судить о скульптурных достоинствах статуи, но сам по себе факт открытия в Коломбо памятника цейлонцу знаменателен. До сих пор здесь знали памятники только британским королям, королевам и генерал-губернаторам. Когда мне доводилось дарить цейлонцам виды Московского университета с изображением памятника Ломоносову, это было у многих предметом немалого удивления: — Ученому… и вдруг памятник? В здании парламента краткий визит к премьер-министру. Господин Бандаранаике радушно принимает нашу делегацию, оживленно жестикулируя, говорит о стремлении Цейлона к миру, о дружбе с нашей Страной, о концепции политики нейтрализма, о желательности усиления обмена культурными силами. Премьер-министр рассказывает о своей любви к русской литературе — к Толстому, Достоевскому, Чехову, о своей былой мечте написать эпопею из жизни народов Цейлона, равную по масштабам «Войне и миру»… — Впрочем, — добавляет он с улыбкой, — если бы мне это удалось, я тогда, вероятно, не оказался бы премьер-министром. В память о нашем посещении преподносим господину Бандаранаике альбом пейзажей природы нашей страны, изданный с английским текстом. Другое здание — дворец, именуемый Домом королевы. Здесь мы отдаем визит представителю королевы как главы государства. Этот представитель по традиции, оставшейся в наследство от колониальной эпохи, называется генерал-губернатором. Совеем недавно дворец был средоточием британской власти над островом. Теперь связи с Англией во много крат уменьшились: из ключевых бастионов экономики британцы держат в своих руках главным образом банки и внешнюю торговлю. Внутри же страны англичане быстро сдают позиции: предприятие за предприятием, плантацию за плантацией у них скупают сингалы и тамилы. Но Цейлон — доминион в составе Британского содружества наций, и королевой Цейлона является, так же как и в Англии, Елизавета. Может показаться, что у Цейлона общие с бывшей метрополией не только королева, но и лев на гербе, но это уже неверно. Да, герб и флаг Цейлона украшает лев, но этот лев — символ сингальской нации, народа львов, несравненно древнее льва на гербе британцев. Во дворце генерал-губернатора просторно, торжественно. Мерно вертятся огромные вентиляторы-опахала. Часть стражи в вычурно расшитых мундирах, слуги — босые, в белых сингальских одеяниях. Нас угощают оранжевым и пронзительно зеленым напитками — оранжадом и очень распространенной здесь водой «слоновой марки». Было приятно увидеть, что генерал-губернатором Цейлона является не какой-нибудь чопорный колонизатор. Представлять королеву доверено смуглому цейлонцу, господину Олеверу Гунетиллеке. Здороваясь, он подолгу держит руку каждого из нас и проникновенно смотрит в глаза. Еще один прием — на сей раз у министра просвещения и лидера одной из партий правительственной коалиции— у господина Даханаике. Встреча была в саду перед зданием министерства. Тут мы повидались и с цейлонскими гостями Московского фестиваля 1957 года и с видными деятелями науки и культуры Цейлона, в их числе с географом С. Ф. Де-Сильвой, автором переведенной у нас на русский язык солидной «Географии Цейлона». Сам министр — темпераментный, порывистый — с покоряющей убежденностью и энтузиазмом рассказывал нам о культурно-историческом значении последней из прежних столиц Цейлона, города Канди, центра мирового буддизма. Несколько кинофильмов, показанных нам тут же в саду, перенесли нас и во времени и в пространстве в разные части Цейлона. Мы увидели и те древние города, которых нам не удастся посетить лично, и то феерическое религиозное празднество-шествие (так называемую Перахеру), которое так торжественно проводится здесь в августе в дни полнолуния. «Сити» — самый официальный и неэкзотический участок Коломбо. Здания здесь казенного европейского стиля, много казарм, контор, мало зелени. Здесь же работают крупные универмаги и бойко торгуют сотни мелких магазинов и магазинчиков. Среди зазывал находятся знающие пять-шесть самых необходимых русских слов, вроде «здравствуйте», «милости просим», «заходите хотя бы поглядеть» — фраз, выученных в расчете на моряков и транзитных пассажиров русских кораблей, иногда заходящих в Коломбо. Удивляет количество вывесок с фамилиями «Де-Сильва», «Перейра», «Фернандо». Это совсем не испанцы и не итальянцы. Такие фамилии — наследие лет португальского владычества, памятники насильственного крещения в католичество и массового переименования сингалов на португальский лад. Несчетные Де-Сильвы и Перейры — не креолы и не мулаты; это коренные сингалы, но в отличие от большинства своего народа, исповедующего буддизм, они католики. В их домах можно видеть католические картины, изображения Христа, репродукции Сикстинской Мадонны и, как правило, множество свадебных фотографий хозяев дома. А есть и другие сочетания: сингальская или тамильская фамилия с английским именем — это крещеные в англиканской церкви. Заместитель Тсамотсерама по туристскому клубу сингал Дасанаике, а по имени мы его зовем мистер Кингсли. Разъезжая по Коломбо, знакомимся с «Островом рабов»— кварталом, мрачное название которого связано еще с временами хозяйничания Ост-Индской компании, державшей тут своих невольников; видим и «Коричные сады» («Синнамон Гарденз») — участки, которые действительно были в прошлом заняты плантациями коричных деревьев, а теперь превращены в район самых изысканных вилл и небольших домашних парков цейлонской аристократии. Из запоминающихся черт города нельзя не отметить еще одной: удивительно часто расположенных бензозаправочных станций. Они кричат о себе резким сочетанием красного и белого цвета, из которых первый призван привлекать к себе внимание и одновременно символизировать огнеопасность, а второй хорошо подчеркивает царящую на этих станциях поистине амбулаторную чистоту. По надписям у станций видно, что здесь соревнуются две компании: американская «Колтекс» и английская «Шелл» (в переводе «раковина»). Наш автобус, принадлежащий, видимо, проанглийским хозяевам, всегда заправляется у станций, украшенных изображением ярко-красной створки моллюска-гребешка, то есть у «Шелла». На перекрестках укреплены знаки, изображающие две босых голых ноги. Это знак перехода улиц для пешеходов. Сейчас на Цейлоне грамотно более трех четвертей населения, а когда-то этот знак явно был рассчитан на неграмотных.ОЦЕПЕНЕВШИЙ ПОРТ
В порту странное ощущение тишины и пустоты. Уснуло десятка полтора кораблей на рейде. Уснула вода гавани, огражденная четырьмя волноломами. Безлюдно на дебаркадерах, непонятная тишина у длинных и скучных пакгаузов. Как в царстве спящей красавицы, застыли портовые краны. Неужели порт может так вымереть в обычный обеденный перерыв? Сопровождающий быстро поясняет в чем дело: порт бастует. Рабочие конфликтуют с хозяевами. Штрейкбрехеров не находится. Морской транспорт — один из немногих решающих рычагов, с помощью которого англичане все еще контролируют экономику Цейлона. Решающих, ибо цейлонцы ввозят 50 % потребного им риса (это при таких-то неосвоенных просторах «целинно-залежных джунглей»!). Решающих, так как вся жизнь Цейлона — в экспорте чая, кокосовых продуктов и каучука — живая иллюстрация к тезису об однобокости колониального хозяйства. Цейлон для англичан был незастекленной теплицей — давал им плоды тропической природы, и какое дело было белым колонизаторам до пропорций в хозяйстве, до проблем самоснабжения и благополучия темнокожих людей острова… Впрочем, теперь не всегда можно назвать роль англичан решающей и во внешней торговле. Вот яркий пример. Британцы и американцы понизили цены на каучук, ссылаясь на рост производства синтетической резины. На грань катастрофы была поставлена одна из важнейших отраслей цейлонского земледелия — ведь каучук: кормит здесь сотни тысяч людей. И помощь пришла — не с европейского северо-запада, а с азиатского северо-востока. Народный Китай согласился закупать цейлонский каучук в обмен на нужный островитянам рис. Но ведь этим нарушалась англо-американская блокада свободного Китая? Тогда английские судовладельцы получили запрет перевозить каучук в Китай и рис из Китая… И все-таки блокада не оказалась решающей. Помочь Цейлону и Китаю вызвались друзья из народно-демократической Польши: они предоставили свои суда для перевозок и сорвали бойкот, организованный колонизаторами. Идем по безлюдным, но загруженным всякими товарами складам. Целые пакгаузы копры — мякоти кокосового ореха. Бидоны и бутылки кокосового масла. Ящики чая — необозримыми штабелями. Ящики каучуковых полуфабрикатов. Ведь Цейлон для Англии и США лишь сырьевая база. А вот и предметы импорта. Целые дома из нагроможденных один на другой ящиков с маркой «Роттердам». Что же за товар плыл сюда в таком количестве из далекой Голландии? Оказывается, картошка! Немудрено, что этот «фрукт» становится на Цейлоне дорогим, как золотые яблочки.СЕВЕР КОЛОМБО
За мостом через канал начинается Петта. Эти кварталы в отличие от европеизированного «форта» Сити англичане любили называть Черным городом. Здесь теснее улочки, мельче лавчонки, больше щедрости красок, свойственных восточным базарам, больше и бедноты на улицах. Бедноты, но не черноты. Цвет кожи у людей любых кварталов Коломбо теперь одинаково темен — европейцев остались считанные единицы. Привыкнув к абсолютному преобладанию темнокожих людей на улицах и уже считая, что это нисколько не удивительно, мы, напротив, вскоре стали удивляться встречам с европейцами, и сколько раз было так, что кто-нибудь кричал, глядя из окна автобуса: «Смотрите, смотрите, европеец!» И не мудрено. На всем Цейлоне сейчас насчитывается лишь 7000 постоянно живущих белых — это всего в 10 раз больше, чем на острове осталось слонов. А встречая рабочего слона на дороге, мы тоже всегда кричали: «Смотрите, смотрите, слон!» Улицы Петты, как и всюду в Коломбо, полны автомобилями. Но здесь толкотня и неразбериха. Бесконечные заторы и пробки усиливаются обилием бычьих упряжек и рикш. Водоворот экипажей, клубок, распутать который, кажется, непосильно никакому регулировщику. Уличное движение в советских городах вспоминаем как некий идеал упорядоченности и дисциплины… Нелегко и пешеходам. Товары из лавочек здесь решительно устремляются на тротуары, и продавцов нисколько не смущает, что это затрудняет движение: чем больше затрудняет, тем заметнее будет товар, тем скорее его купят. И толпы людей буквально лавируют между грудами вылезших на тротуары бананов и ананасов, горами огненно-оранжевых свежих кокосов, лотками галантерейной мелочи и цейлонских сувениров. Тут и армия черных слоников из эбенового дерева, и искрящиеся серебристым и золотистым блеском медные блюдца кандийской чеканки с тончайшими орнаментами по металлу, и фарфоровые статуэтки факиров с танцующими кобрами… А вот лотки с ярко-зелеными листьями — это бетельная жвачка. В такие листья завертывают орех арековой пальмы и подолгу его жуют. Под влиянием этой зелени и катализатора-известки рот наполняется киноварно-красной слюной. Бетель жуют на юге Азии сотни миллионов людей — это своеобразный наркотик, возбуждающее, тонизирующее средство. Слюну периодически сплевывают, поэтому тротуары и дороги по всему Коломбо, а в Петте особенно, замазаны красными пятнами. Кажется, что улицы забрызгали неряшливые маляры, расплескавшие на ходу ведра с суриком. Едем вдоль северного пригорода, именуемого Мутвол. Это рыбацкие кварталы, примыкающие к сухому доку и городскому водному резервуару. То и дело видны европейские церкви. Мы в одном из районов наибольшего на всем Цейлоне распространения христианства. Тут и англиканский кафедральный собор «Христовой церкви», окруженный величавыми грибообразными фикусами. Как много в Коломбо деревьев с широкими грибовидными и зонтовидными кронами! Всей мощью ветвей дерево стремится к свету, хочет испарять побольше избыточной влаги, и каждая крона вырастает в могучий сферический шатер, в исполинский купол из глянцевой зелени. С раскидистых горизонтальных ветвей свисают неряшливо оборванные веревки. А некоторые ветви так длинны и тяжелы, что под них подставлены некрасивые прямые подпорки в виде тонких вертикальных бревен. Подходим ближе, и я испытываю сильное смущение. Это совсем не веревки и не подпорки, а просто-напросто воздушные корни, знаменитые воздушные корни тропических деревьев, о которых столько раз и читал и рассказывал своим ученикам. Кто же знал, что они так невзрачны! Корни, не достигшие земли, болтаются, точно концы веревок от оборвавшихся качелей. А укоренившиеся — сами превращаются в деревья, выглядят совсем инородными по отношению к ветвям «материнского» дерева: никакого постепенного перехода от «корня» к ветви; резко входящий прямой угол, кора совершенно разного цвета и фактуры. Вот и возникает впечатление, что это подпорки, какие ставят под прогибающиеся балки в ветхих постройках… Рядом — вереницы рыбацких хижин. Скромные клетушки, совсем не чета светлым многокомнатным «бенгалоу» — коттеджам аристократических районов Коричных садов. Но наши хозяева предпочитают показывать нам соборы и богатые дома, так что в гости к рыбакам мы не попадаем. Зато осматриваем первый на острове рыбный завод — недавний подарок, доставленный Цейлону из Канады. Канада же подарила и один из двух траулеров, на которых в 150 милях севернее Коломбо производится лов рыбы. Траулеры приходят раз в неделю, привозя до 50 тонн каждый. Это всего 3–4 % общецейлонского улова. Остальное доставляют мелкие рыболовецкие кооперативы. Рыбы много, самой разнообразной; особенно ценна морская «сир-фиш», рыба-сир. Впрочем, как это ни удивительно, рыбные промыслы Цейлона далеко не удовлетворяют потребностей населения в рыбе. На остров, окруженный водами океана, приходится… ввозить рыбу из других стран. Сопровождающие рассказывают нам, что как раз в эти дни в Коломбо идут успешные переговоры правительства с советской экономической делегацией и что одним из пунктов советской технико-экономической помощи Цейлону будет организация рыболовства и рыбной! промышленности на современном техническом уровне. Канадец-директор в сопровождении стажера-сингала, своего будущего преемника, показывает нам завод — весь путь рыбы, отгруженной с траулера — электроподъемник, конвейер, приемный стол, развозку на ручных тележках по сортам, на весы… Часть рыбы идет отсюда под струи холодной воды и прямо на рынок в свежем виде, а другая часть в мойку и в цех филе. Ходим из цеха в цех по январской экваториальной жаре и вдруг ощущаем родную прохладу. Шеф богатырским движением распахивает перед нами дверь неправдоподобной толщины, и на нас дышит острым морозом огромный холодильник. Какое блаженство окунуться всем телом в этот мир ледяного воздуха! Казалось, мы! готовы были завидовать висящим и лежащим тут тушам мороженых рыб… Но, чур не злоупотреблять таким удовольствием!. Попасть в холодильник распаренным здешней жарой — риск подцепить любую простуду. Не досадно ли ил вместе с тем, не смешно ли будет простудиться под экватором! С сожалением выходим и вновь окунаемся в тепло, облекающее все тело, как ватой. Осматриваем цех изготовления льда — манящим чудом выглядят его зеленовато-голубые глыбы. А вот совсем противоположное ощущение — жесткая сухость сушильных камер, першащая в горле. Цех изготовления рыбьего жира, лаборатория розлива его по бутылкам. Ремонт неводов, изготовленных из манильской пеньки и нейлона. Радиорубка для связи с теми, кто в море… Завод современного облика собран из типовых деталей. Видно, что таких заводов в Канаде отштамповано сотни. Здание в стиле предельно экономичного конструктивизма— все из стекла, металла и пластмасс. Оффис — контора весьма малолюдная, расположена не без умысла над холодильником. Под потолками настойчиво вращаются вентиляторы. Выходим на огромный балкон, вернее — на крышу нижележащего этажа. Ощущение безграничного простора, сочетание слепящей белизны здания и расплавленной голубизны океана.КРЕЩЕНСКАЯ ЖАРА
Когда в Москве мы пытались представить себе условия освещения, ожидающие нас на Цейлоне, мы успокаивали себя: ведь январское солнце над Коломбо стоит совсем уж и не так высоко — вроде как июльское солнце в Сочи. Это важно было знать, скажем, фотографам, чтобы правильнее выбирать выдержку при фотосъемках. Жара, по данным климатических таблиц, тоже не Обещала быть слишком свирепой. Что особенного, если Средняя январская температура равна здесь плюс 26 градусам по Цельсию? Я терпел в Туркмении жару и до плюс 42! Но там 42 градуса — это крайняя цифра, а здесь 26 — средняя за месяц. При этом на Цейлоне на редкость малы амплитуды колебаний температуры, как в течение года, так и в ходе суток. Средняя температура самых жарких месяцев — апреля, мая, августа, сентября, когда солнце бывает в зените, и та не поднимается выше 27–28 градусов. Таково смягчающее влияние морского климата и экваториального воздуха. Но, может быть, дневная жара сменяется ночной прохладой? Нет, в том-то и дело, что Цейлон вечно, круглый год, днем и ночью купается в одном и том же морском экваториальном воздухе, ничем не вентилируемом, ниоткуда со стороны не охлаждаемом. Послеполуденная жара, что ни день, достигает 28–30 градусов Цельсия, но ночью термометр не может упасть ниже 24. Ни о каких одеялах не хочется и думать — даже простыня тяготит. И на сон грядущий, и утром спросонок, и еще два-три раза на дню лучшее блаженство — пробыть хоть пяток минут под холодным душем. Пять холодных душей в день в январе! 19 января — знаменитая пора крещенских морозов. Как забавно произносить здесь: «крещенская жара». А дожди? Где же полагающиеся экваториальные ливни, которые, согласно правилам географии, должны здесь лить ежедневно, в послеполуденные часы? Почему уже неделю сияет над нами почти безоблачное небо, а груды облаков толкутся лишь далеко у горизонта, заволакивая высоты Цейлонского нагорья? Хоть и близко к экватору расположен Цейлон, а все же и тут различимы некоторые сезоны — не по температуре, так по режиму дождей. И недаром именно январь с февралем имеют репутацию сухого сезона в Коломбо. Что же это за сухость? Какая сила мешает здесь ежедневно возноситься вверх нагретому в полдень воздуху, возноситься и при охлаждении рождать влажные тучи, проливающиеся обильными ливнями? Эта сила — все тот же северо-восточный муссон, овевающий остров в «зимние» месяцы. Взбираясь в гору со стороны Бенгальского залива, он отдает бенгальским склонам нагорья свою влагу. К юго-западу же этот муссон проникает в нисходящем потоке, иссушается и к тому же как бы гасит своим напором тенденции экваториального воздуха, не дает ему подниматься, охлаждаться, затуманиваться. Таким же образом летние пассатные ветры пресекают подъем воздуха над Средиземьем — потому столь сине и солнечно летнее небо Италии. Но вот на исходе первой недели, проведенной в Коломбо, мы чувствуем в погоде что-то новое: жара уже с утра заметнее, как-то весомее и душнее. Часов с десяти небо подергивается мутноватой дымкой. Вроде температура и не выше обычной, но в оранжерейно влажном воздухе дышится тяжелее. За полдень все небо закладывают облака, серые, плотные. Это настоящие грозовые тучи, только почему-то необычно высокие. Наше северное дождливое небо хмурится насупившись, тучи опускаются на мир, как шапки, надвинутые на глаза. А тут — просторное, высокое, хотя и пасмурное как огромный торжественный зал с бог знает куда приподнятым потолком. Высокое небо! Не следствие ли это того, что и водяные пары, возносясь над землей у экватора, достигают достаточно прохладных горизонтов, где они могут сгущаться в тучи на несравненно больших высотах, чем, скажем, над Москвой? И если это так, то «высокое небо» должно быть зональной особенностью жарких стран! А как же объяснить сегодняшнюю погоду? Вероятно, ослаблением муссона. Он нынче не смог гасить своим нисходящим потоком нормальных для Коломбо восходящих токов воздуха. Значит, мы наблюдали, как в борьбе этих потоков взяли верх восходящие. И было так приятно ощутить под вечер, как из этих невероятно высоких дождевых туч упали на землю первые при нас на Цейлоне капли дождя. Это был никакой не ливень, а всего лишь робкий намек на дождик — и все-таки мы видели настоящие экваториальные по своему происхождению осадки. Это значило, что весна заявляет свои права: именно весной Коломбо становится ареной ежедневных экваториальных дождей, связанных с положением солнца в зените. Такие же ежедневные послеполуденные дожди льют здесь и осенью. И только летом, когда зенитное солнце перемещается далеко за Мадрас и Нагпур, юго-запад острова оказывается во власти могучего океанского ветра — юго-западного муссона. Он приносит наветренной летом покатости Цейлона вдвое и втрое больше влаги, чем ее рождала бы нормальная экваториальная циркуляция воздуха. Именно летние ветры с дождями повышают количество осадков в Коломбо до двух с лишним тысяч миллиметров в год, а на нагорье выливают чудовищный слой воды мощностью до 5000 миллиметров.
НАУКИ И ИСКУССТВА

В ШКОЛАХ ЦЕЙЛОНА
Учительский клуб туристов Цейлона не заставлял нас трудиться над размышлениями о своем расписании. В соответствии с готовой программой нам подавали автобус, в назначенных местах сервировались обеды и чаепития, на встречи с нашей группой собирались большие коллективы цейлонцев. Мы в одном из колледжей Коломбо. Огромный двор с тенистыми деревьями. На многих из них крупные белые цветы, одуряюще благовонные. Их называют «темплтрии» — храмовыми деревьями, ибо цветы их, по-латыни именуемые плюмериями, применяются для украшения храмов: ими усыпают подножия статуй Будды. Это мексиканское растение превратилось чуть ли не в национальную гордость Цейлона — нам его показывают раньше многих других, притом исконно цейлонских растений. Двор школы словно усыпан белым и черным горохом. Белое — это рубашонки и штанишки тысячи мальчуганов всех возрастов, а черное — море их шевелюр. Нас встречает улыбающийся директор колледжа с группой преподавателей, и как раз в это время «горох» рассыпается аплодисментами, звучат приветственные крики. Хор в несколько сотен голосов исполняет национальный гимн Цейлона. Директор хлопает в ладоши, и черно-белый «горох» раскатывается по классам. Обходим учебные помещения — просторные, с открытыми в сад окнами и дверями. Присутствуем на уроке пения — тут заботятся о том, чтобы поставить даже плохие голоса. Дети поют настоящие вокальные экзерсисы, следят за дыханием. Тембр тембром, у кого какой выдался, но умение петь не напрягаясь, без надсада и крика, школа воспитывает в массе народа с детских лет. Рядом урок танца: здесь внедряется культура древнеиндийской пластики и происходит это тоже всенародно. Поэтому так непринужденно, так безыскусственно танцуют под сложно ритмичный треск барабана эти сингальские мальчики. На одной из площадок — урок гимнастики под барабан, и это тоже почти танец. А вот урок, на котором мальчики стоят у мольбертов и рисуют. Перед каждым красочная картина, и из-под кисти двенадцатилетних художников появляются то купоросно-синее море, то багрово-красные берега, то белогрудые корабли и коричневые портовые краны. Это «композиционный рисунок по памяти» после проведенной утром экскурсии в порт. Рисуют кто что запомнил. Рядом группа мальчиков разрисовала на бумаге большие декоративные «панно»: ни дать ни взять в гогеновских красках и с матиссовским отсутствием перспективы. Учительница показывает нам произведения своих воспитанников смущенно, но когда я упоминаю о Гогене и Матиссе, вся расцветает и говорит, что для нее это очень высокий комплимент. Для нее? Я полагал, что вижу результаты простого несовершенства детского творчества. — Они сами видят мир в таких ярких красках? Или это вы их учите, что так красить лучше? — Конечно, мы их учим, — признается учительница. — Но при всей яркости отдельных мелких цветовых пятен — платьев, цветов, птиц — у цейлонских красок так много нежных смягченных оттенков… Столько серебристо-голубой дымки, столько опалового, перламутрового… Не лучше ли учить детей отображению существующего, а не придуманного? И учить законам перспективы в рисунке… Учительница снова смущена и, как мне кажется, не понимает вопроса. Виновато ли в этом несовершенство моей английской речи, или ей самой чуждо стремление отображать действительность такой, как она есть?.. Странно. Ведь Матисс намеренно подражал детским рисункам, примитивизму перспективы и красок. А теперь детей учат подражать своему подражателю… Сколько раз нас уверяли, что ландшафты Таити, изображенные Гогеном, — это шедевры в передаче природы тропиков. Что-то совсем не видно на Цейлоне гогеновских красок, кроме как на детских картинках. Делюсь этим впечатлением со спутниками, и мы вместе с ними приходим к выводу, что в наших представлениях происходит «дегогенизация» тропиков. Учителя школы угощают нас обедом, точнее — так называемым ленчем, который полагается принимать между двенадцатью и часом дня. Перед едой школьники преподносят каждому гостю по стакану острохолодного оранжада. Затем следует суп — буквально на донышке тарелки (так мало супа полагается есть и во многих странах Западной Европы) и несколько вторых: тут и рыба «сир», и цыплята, и мясо, и креветки, и картофель, и цветная капуста. Много риса, политого острейшимисоусами «керри». «Вери хот?» («Очень горячо?» — в смысле, «не очень ли наперчено») — спрашивают хозяева и всячески убеждают, что то или иное блюдо «нот вери хот» — не очень остро. Выбираем наиболее «нот хот» и в ужасе заливаем пожар во рту стаканами холодной воды. К счастью, в гарнирах попадается много свежих овощей — они хорошо помогают «заливанию пожара». Вот где действительно царствуют гогеновские краски! Уж не выражал ли художник на полотне остроту и красочность своих вкусовых ощущений? В овощном гарнире неожиданно сладкий вкус. Ананасы! Здесь их так много, что в пищу они идут и как фрукты и как овощи: ломтики ананасов можно встретить и в салате, и в винегрете, и даже в омлете. Перед каждым из нас возникает по два-три банана с упругосочной и бархатистой мякотью. Затем разносят чай, знаменитый цейлонский чай в миниатюрных чашечках, налитых крепчайших напитком меньше чем до половины. На долю каждого попадает столько, сколько мы обычно наливаем заварки. Но никакого кипятка для разбавки на Цейлоне не полагается. Чашечки доливаются… молоком. И вот все, любили или не любили мы пить чай с молоком дома, доливаем и вскоре даже привыкаем к молочному чаю — иначе крепость настоя совсем нестерпима. У лучшего высокогорного цейлонского чая сильный аромат, лишенный каких бы то ни было парфюмерных запахов, специально культивируемых в чаях Китая. Именно на Цейлоне солнце и почвы поят чайные кусты такими пропорциями тепла и питательных веществ, какие и нужны для формирования лучших качеств чая. Не хочется класть и сахара, чтобы не менять несравненного вкуса. Но почему же чаю дают так мало? Может быть, неудобно, не принято пить больше, чем одну чашечку-наперсток? Цейлонцы считают, что влаги на столе достаточно: жажда утолена и оранжадом, и простой водой, и множеством фруктов… Но каково нам, привыкшим к российским чаепитиям, ограничиваться такими порциями? То ли дело у самовара пить по шестому стакану? Эх, куда ни шло, попросим еще! — Ай шуд ляйк уан моор тии (Я хотел бы еще раз чаю), — эту фразу мы произносили сначала стыдливо, а потом все увереннее и короче: — Плиз, моор тии (пожалуйста, еще чаю). — И принимавшие нас хозяева вскоре ИЛ уже привыкли, что русские гости выпивают в один присест втрое и вчетверо больше чаю, чем принято на Цейлоне. Во время чая поднимается президент клуба Тсамотсерам и в энный раз представляет нашу делегацию и каждого из нас, а также благодарит руководителей колледжа за гостеприимство. Затем выступает директор — пожилой сингал в европейском костюме. — Мы рады впервые видеть реальных советских людей. Мы слышали о вас и очень много и очень мало. Много неправды и мало правды. Одни рисовали нам вас ангелами с крылышками за плечами. Другие пугали нас тем, что вы — рогатые дьяволы с хвостами и копытами. Трудно передать, насколько мы рады видеть вас простыми живыми людьми, интересными собеседниками, а не держащими кинжалы в зубах бородатыми большевиками, изображения которых нам так часто показывали. В этот момент мне, единственному в группе носившему небольшую бородку, невольно пришлось оказаться предметом всеобщего внимания: каждый с удовлетворением убеждался, что и у бородатого нет в зубах никакого кинжала. Надо помнить, что нашему приезду предшествовало сорок лет ничем не ограниченной антисоветской пропаганды. Насколько же ценны и многозначительны эти слова доверия и дружбы, эти по-русски крепкие рукопожатия и по-индийски теплые приветствия ладонями, сложенными у груди килем вперед. Красноярский профессор ботаники Леонид Михайлович Черепнин благодарит директора и преподавателей колледжа за приветствия, передает им привезенные нами подарки — советские альбомы, книги. Обед-ленч окончен. Прощаемся с хозяевами и выходим во двор-сад. И тут на нас налетает буря. Гостей давно уже подкарауливала детвора, и на каждом из нас чуть не повисает целая гроздь черноголовых ребят. Нет числа блокнотам для автографов, просьбам оставить свой адрес, вручить сувенир. Клянем себя, что не захватили с собой советских марок. Случайно оказавшиеся у меня при себе две марки осчастливили и сделали буквально героями дня двух шоколадных малышей с умными и озорными глазами. Значки и открытки, проспекты и листовки — все разбиралось нарасхват, а в ответ в наших руках оказывались самые неожиданные сувениры — запонки, ножички, статуэтки, пакетики с любовно подобранными цейлонскими марками, открытки с видами Цейлона. На многих открытках адреса, а на одной даже указание: «Мой день рождения такого-то февраля». Значит, мы пошлем своему корреспонденту сувенир ко дню его рождения. Уезжаем, провожаемые приветственными криками нескольких сот голосов. Мы и не думали, что эта встреча в колледже будет такой интересной.ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
А куда мы едем теперь? Что? Еще в один колледж? Зачем же сразу во второй? Поедемте лучше в музей или на выставку… Мистер Тсамотсерам неумолим. Программа есть программа, нам нужно ехать куда-то далеко, там нас ждут. Единственное обещанное нам разнообразие, что ожидающий нас колледж — женский. Утомленные впечатлениями дня и жарой, подъезжаем к просторному парку. Он весь убран гирляндами и флажками— значит, нас действительно ждали. Но уже с самого начала многое оказывается по-новому. Детей нет, они все на занятиях. Нас встречает только небольшая группа преподавательниц, одетых в длинные сари. В классах мы видим, как смуглые каштаново-коричневые черноглазые девушки и девочки в белых платьях изучают то математику, то географию, то пение. Урок танца — десять минут высокого эстетического наслаждения: словно прирожденно плавны и величавы эти девочки-лебеди, девочки-статуи древних богинь. Но нам показывают и всю лабораторию этой балетной дрессировки: как отрабатывается движение за движением, как впитывается, входит в плоть и в кровь ощущение ритма, чувство самоконтроля, дивная умеренность, достоинство, спокойная уверенность в совершенстве исполняемого… Девочкам аккомпанирует сидящий на полу сингал-барабанщик. У него продолговатый горизонтально положенный барабан, похожий на бочонок. Дирижируя левой, не поджатой под себя ногой, он бойко настукивает руками в оба вертикальных днища, дважды скошенные к стенкам цилиндра и рождающие поэтому разными своими скосами три разных ноты, вроде до-ми-соль. И все же главным остается ритм, острый, причудливый, кажется, неповторимый с его преткновениями и нагромождениями. Преподавательница останавливает музыканта и просит его и девочек повторить фигуру. Барабанщик с буквальной точностью воспроизводит головоломный ритм, а ученицы, оказывается, различают тончайшие нюансы в сменах этих ритмических комбинаций. Казалось, что может быть примитивнее барабана? И вот перед нами виртуоз, подлинный артист-барабанщик. Своим мастерством он даже мешал нам любоваться танцующими — хотелось смотреть и на его эквилибристическую технику, на его пальцы, быстрые как у пианиста, на его вдохновенное лицо и дирижерский такт. Еще и еще учебные классы — здесь девушки обучаются домоводству. Прямо при нас они месят тесто и изготовляют вермишель (нас не раз угощали пресноватыми вермишельными лепешками вместо хлеба к обеду). Вот прессуют пудингообразные пироги из стружки кокосового ореха… Вот режут овощи… Время идет — уже пять часов, «файв-о-клок», то есть срок обязательного вечернего чая. И снова чаепитие в кругу учителей школы, снова речи хозяев и гостей. Но мало того, мы идем в зрительный зал. Школьницы дают нам настоящий концерт, уже не учебный, не в белых «будничных» платьях, а в ярких национальных костюмах. Концерт закончился совсем неожиданно. Правда, нас еще в Москве предупреждали, что нам, вероятно, придется в ответ демонстрировать и наше советское искусство, и мы даже пытались репетировать «Катюшу» и «Подмосковные вечера», хотя мы никакие не певцы и у нас мало что получалось… И все-таки пришлось выходить на сцену и, попросив о снисхождении (ведь мы же не артисты, а геологи, географы, ботаники, педагоги), петь под цейлонским небом и «Широка страна моя родная», и верную «Катюшу», и «Веселый ветер»… Пели, мягко скажем, так себе, вкривь и вкось, и все же были рады и горды, что несем с собой не только рассказы о нашей стране, но и живые примеры ее радости и отдыха — ее любимые песни… И снова автографы, значки, сувениры… Нет, видимо, придется подчиняться Тсамотсераму. Разве можно уклониться от намеченной программы, если нас так встречают, готовят для нас такие концерты? Мы не удивимся теперь, если в каждом новом колледже нас будут ждать все новые и новые впечатления.У ЧЛЕНА ПАРЛАМЕНТА
В отель заезжаем не более чем на полчаса — принять душ и переодеться. В 19.30 нас уже ждет автобус, ибо, в 20 часов назначен следующий прием, диннер, буквально — обед, а в сущности — ужин, который дает нашей делегации один из членов парламента. Загородное бёнгалоу с мозаичными стенами из дикого камня. Звуки радиолы, исполняющей к нашему приезду шаляпинские пластинки. Раскрытые незастекленные окна, огромные неустанно вертящиеся вентиляторы, занимающие центральное место на потолке каждой комнаты, где надо бы быть люстре. Дорогая мебель — мягкие кресла, банкетки… Две-три картинки на библейские темы. Обстановка богатая и неуютная. Временный дачный стиль. Никаких привычных нам фундаментальных книжных шкафов, больших домашних библиотек. Стоит легонькая этажерочка, на ней стопка в два десятка случайных книжек. Позднее мы видели всего два дома, владельцы которых имели крупные стеллажи с книгами. Это были квартиры лидеров двух влиятельных партий. За роялем пианистка-сингалка. Говорит о своей любви к Чайковскому, Шопену, Бетховену. Еще несколько сингалов в европейских костюмах — они исполняют под ее аккомпанемент национальные песни, темпераментные и запоминающиеся. Некоторые из них сопровождаются плясками: один из мужчин совершает гориллоподобные телодвижения — это должно изображать танец злого духа. Пианистка начинает «Серенаду» Шуберта, и в ее исполнение включается, сразу несколько голосов: поют и сингалы и гости — члены советской делегации. Это ли не чудесное скрещение и единение культур? Каждый из нас пел на своем языке, но немецкая музыка Шуберта объединяла и сингалов и русских. Нас приглашают к столу, но стол не сервирован в привычном для нас смысле, около него не поставлены стулья. Это широко распространенный на западе стиль приемов а-ля-фуршет, своего рода самообслуживание. Нам раздают тарелки, ложки и вилки, мы сами набираем себе еду из разных блюд, опять стараясь найти менее перченую. С полными тарелками расходимся по комнатам и присаживаемся кто-где. Сами хозяева бойко едят, устроив тарелки на собственных коленях. Нам как-то удобнее примащивать свои блюда хоть на чем-нибудь повыше — используем для этого кто тумбочку, кто подоконник. Замечаем, что устроители нашей поездки ввели в расписание даже смену меню. День за днем — и нам будет продемонстрирован весь ассортимент тропических и экваториальных плодов. Мы еще не ели дынь с дынного дерева — папай. Значит, нас сегодня кормят папаями. Они совсем как настоящие дыньки средних размеров, их надо также, резать вдоль, пополам и так же выбрасывать срединную требуху с семенами. Только семена у папай не дынные, а напоминают скорее черно-зеленый горошек. О вкусе папай рассказать нетрудно — он близок к дыне, но немножко отдает тыквой. Лучше оперировать сравнением: папая хуже нашей лучшей дыни, но лучше нашей худшей. Из папай делают приятные кремы, кисели и компоты… А вот как рассказать о манго, об этом волшебном плоде тропических стран? «Древо манго» по виду сошло бы и за крупнолистный лавр и за магнолию. Плоды на вид вовсе непрезентабельные — расплющенные зеленые огурцы. Но под невзрачной кожицей налита, переполнена соком солнечно-оранжевая мякоть. А вкус?.. Но нет же в русском языке слова, определяющего этот вкус, кроме как «вкус манго». Назвать вкус, как и цвет, солнечным и оранжевым? Сказать, что в нем есть нечто от ананаса и нечто от абрикоса, оттенок вкуса земляники и сочность персика? Вот, пожалуй, о персике вспоминаешь скорее всего, когда манго тает во рту и дотаивает до мохнатой влажно волокнистой, как у персика, косточки, только странно изогнуто-расплющенной… Конечно, плоды манго бывают не только хорошие, но и плохие, с почти тыквенным вкусом. Что ж, мало ли на свете, скажем, сортов яблок, и плохих и хороших. Самодеятельный концерт продолжается и после ужина. У слепца-преподавателя из школы мистера Кингсли превосходный бас. Слепой сингал поет нам по-английски песни из репертуара Поля Робсона — в устах бронзовокожего цейлонца они приобретают новое и особое значение. Как замечательно перекрещиваются на этом острове влияния дальних культур! На прощание и здесь нас просят спеть. Нам неловко: если в разных колледжах еще можно выступать с одним и тем же репертуаром, то сопровождающим нас хозяевам туристского клуба может и надоесть одна и та же «Катюша»… — А не спеть ли что-нибудь старостуденческое? Горьковский зоолог профессор Воронцов изъявляет полную готовность, мы запеваем, остальные подхватывают, и с новым смыслом звучит под небом Цейлона:ПЕРВАЯ ДАГОБА
Сразу за мостом Виктории через Келани-Гангу поворот вправо. Заезжаем к главному буддийскому храму Коломбо — к храму Келани. По значению это вроде кафедрального собора буддистов столицы. Белые ограды, лестницы с белыми перилами и белоснежная арка с тремя входами — таково преддверие храма. Здесь мы оставляем свою обувь, ибо далее полагается ходить только босиком, как бы ни было горячо босым ногам ступать на раскаленные солнцем камни. На верхней площадке — здание с колоннами и статуей сидящего Будды на фронтоне. Левее храма огромный фикус. Это священное дерево Бо, отпрыск того самого, доныне растущего в Индии, под которым испытал свое «просветление» Будда. А справа ослепительно белая, напоминающая колокол, дагоба — огромная, выше храма, и расположенная настолько близко к нему, что композиционно ансамбль проигрывает. Дагобы — это буддийские святыни, воздвигаемые над чьими-либо мощами или иными священными реликвиями. Никакой полости внутри дагоб нет — колокола заполнены каменной кладкой. Дагобам молятся, им совершают приношения, подножия их усыпают цветами… У дагобы Келани купол колокола широкий, осадистый. Низ украшен горизонтальным карнизом и плинтусами, верх — широкой квадратной призмой, которая служит основанием для высокого обелиска. Все снизу доверху — режущая взгляд белизна. Она, видимо, призвана обострять и усиливать религиозные настроения, символизируя «чистоту идеалов буддизма» и сама по себе должна действовать «очистительно». В храме тяжелый аромат цветов плюмерий, во множестве принесенных сюда верующими. Среди торжественного мрака на центральной оси храма светится единственное пятно — там на фоне картины ярко освещенных вершин, восседает золоченая статуя Будды. Справа отдельное помещение, занятое, с утратой всяких пропорций, колоссальной лежачей фигурой, тоже золоченой. Это спящий Будда, Будда, погруженный в Нирвану. Отдельный зал — галерея картин. На них изображены различные притчи из истории буддизма вообще и на Цейлоне в особенности. Живопись, интересная главным образом по сюжетам. Это все новейшие стилизации под античные и средневековые образцы. Тут можно видеть и картину пришествия на остров первого апостола буддизма Махинды, и сцену приема… сингальского посла голландцами. Последний сюжет имеет глубокий смысл. В отличие от первых европейцев на Цейлоне — португальских захватчиков, которые огнем и мечом искореняли буддизм, — голландцы, сменившие их, вели более разумную политику религиозной терпимости и разрешили сингалам восстановить разрушенный португальцами древний храм Келани. Благодеяние, удостоившееся изображения на святой картине. Буддизм — немалая политико-идеологическая сила на Цейлоне. Его проповедью смирения, пассивности, умиротворения умело пользовались колонизаторы. Британцев воспитание подобных чувств вполне устраивало. Народу же весьма импонируют такие принципы буддизма, как призывы к самосовершенствованию, как отсутствие запретов. Будда не запрещает, а только рекомендует. Суди сам, подвинешься ли ты к самосовершенствованию, если не последуешь рекомендации… Нормы буддийской религии во многом определяют сегодня и морально-этические нормы поведения сингальской нации, существенно облегчают задачу государственного аппарата. Поэтому место, занимаемое религией в жизни цейлонцев, для нас непривычно велико. Ее преподают в школах, даже «отделенных от церкви», а кроме того, существуют специальные буддийские колледжи. Сегодня интересам высшего буддийского духовенства импонирует линия правительства на развитие национальной сингальской культуры, на укрепление независимости страны. Со своей стороны и правительство дорожит союзом с буддийской церковью, ценя ее большое влияние на массы. В одном из буддийских колледжей директор обратился с приветствием к нашей делегации и упомянул, как дорожат цейлонцы трудами тех русских исследователей буддизма, которые «построили мосты доверия между русской и буддийской культурами». При этом цейлонец с уважением назвал имена русского академика Щербатскбго и художника Николая Рериха.ТАМИЛЫ
После нескольких дней пребывания в Коломбо у нас стало складываться впечатление, что весь Цейлон говорит по-английски. Правда ли это? В одной из школ спрашиваем об этом преподавательницу английского языка, но она отвечает: — Что вы, на английском говорит максимум 10 % населения острова. Это подтверждается при первом же выезде за город, на кокосовую плантацию. Там все разговоры с массой народа и учащимися сельской школы потребовали уже двойного перевода — через английский на сингальский! (знающих одновременно русский и сингальский языки нам на Цейлоне не встречалось). Мы видели, что многие объявления, вывески и плакаты бывают написаны на трех языках: одни надписи с латинским шрифтом — английские. Два других алфавита — особые: кудрявые буквы сингальской азбуки, имеющей истоки в древнем санскрите, и более угловатые буквы тамильского языка, тоже дышащие архаикой тысячелетий. Сингалы составляют большинство населения Цейлона — их шесть с половиной миллионов человек из девяти, Я населяющих остров. А кто такие тамилы? Ведь их на Цейлоне около двух миллионов… Тамилы — одна из народностей южной Индии, принадлежащая к особой негроидной расе дравидов. Часть тамилов темнее, чем сингалы, иногда чернота кожи у них совсем негритянская, но встречаются тамилы и светлее сингалов. Тамилы населяют главным образом крайний север и горную часть Цейлона. Нам предстояло ехать туда во второй половине нашего пребывания на острове. Но однажды нам удалось познакомиться с целым коллективом тамилов и в самом Коломбо. — Сегодня вечером вас просят выступить с лекцией в тамильском университете. Эти слова руководительницы делегации меня невольно смущают. Не потому, что ответственна тема лекции «Высшее образование в СССР» — с этим можно справиться. Но как же мы не знали о существовании в Коломбо целого университета? Мы слышали, что Цейлонский университет недавно переведен из Коломбо в центральную часть Цейлона. К дням нашего пребывания на острове перевод университета в Нерадению (пригород Канди) еще не был закончен. Нам удалось даже посетить кафедры, не успевшие переехать. Мы были в гостях у профессора Фернандо, эмбриолога и энтомолога, у профессора Де-Сильва (еще один Де-Сильва!) на кафедре ботаники, посетили химический факультет… И вдруг узнаем, что существует еще один университет… Приезжаем в большой колледж, не простой, а «повышенного типа»: его старшие курсы — это что-то вроде наших курсов по подготовке в вуз. И тут видим, что это, в сущности, пока и все: никакого тамильского университета в Коломбо еще нет, а есть лишь желание и намерение создать таковой «на базе» этого колледжа. Слушателям, окончившим колледж предстоит съездить в Англию с целью сдать вступительные экзамены в Кембридже, и тогда они смогут поступить в будущий университет. Проект такого «турне» для экзаменов в Кембридж несколько озадачивает: видимо, отнюдь не на бедных студентов рассчитана подобная программа действий. Или тут расчет на какого-то щедро финансирующего дядюшку? С волнением рассказываю большой аудитории о постановке высшего образования в Советском Союзе — нам есть что сказать и есть что поставить в пример. После лекции очередной «диннер» (обедо-ужин) и очередные речи под звездным цейлонским небом. Но тут мы чувствуем, что приезд нашей делегации интересует собравшихся не только сам по себе. Это также предлог для проведения их собственного митинга. Тамилы выступают один за другим с острыми темпераментными речами. Среди них немало напористых трибунов, заправских ораторов. И как живо и восприимчиво слушают их соплеменники! Каждого оратора десятки раз прерывают — не столько аплодисментами, сколько грохотом: здесь принято выражать свою солидарность с докладчиком по-английски: стуком ладонью о стол. Но что их так волнует? Оратор говорит, что тамилы хотят иметь свой университет. Аудитория отвечает грохотом сотни ладоней о столы. Оратор патетически провозглашает, что тамилы сложатся каждый по рупии и сумеют открыть свой университет. Ответный грохот кулаками о столы длится чуть ли не минуту. Затем оратор внезапно разражается резкими упреками в адрес сингалов. И ответом на эту часть речи служит все тот же грохот: сотня тамилов колотит по столам с возрастающим рвением. Начинаем понимать; что среди других на сходке присутствуют достаточно рьяные националисты. Пришлось в заключительном слове особо подчеркнуть, что наша страна и наша делегация заинтересованы в дружбе со всем цейлонским народом, как с сингалами, так и с тамилами. Но из-за чего же горит сыр-бор? Есть ли причины у этих вспышек национальной розни? Неужели откликаются еще те обиды двухтысячелетней давности, когда предки современных дравидов разрушали древнесингальскую цивилизацию? Тамилы — индуисты, сингалы в большинстве своем! буддисты. Но как раз религии на Цейлоне сосуществуют мирно и не дают повода для распрей. Мы уже знаем, что, помимо севера Цейлона, тамилы населяют также участок внутри острова — Цейлонское нагорье. Один из моих собеседников-тамилов на вечернем приеме объяснил это тем, что сингалы якобы боятся холода и что поэтому не селятся в горах. Но нам приходилось читать, что у горного сгустка тамильского населения другая история. Это — своеобразный памятник сопротивления цейлонцев колониальной эксплуатации. Сингалы в массе отказывались работать на капиталистических предприятиях и плантациях, предпочитая скудное существование за счет возделывания каждым своего клочка земли. Тогда-то плантаторы обратили внимание на соседнюю Индию, в которой всегда был избыток и голодных и свободных рабочих рук. Отсюда и повела начало иммиграция тамилов на Цейлонское нагорье. Батрацкая голытьба, не имеющая буквально ни кола, ни двора, предпочла голоду на своей родине тяжелые работы на цейлонских плантаторов, и хлынула на остров. Собеседник внушает мне, что тамилы борются за гражданские права этой группы батраков, насчитывающей более миллиона человек. Что же, это дело не плохое: конечно, основные производители главного богатства страны — чая — достойны быть полноправными членами цейлонского общества. Тамилы добились признания своего языка государственным в областях с большинством тамильского населения. Да мы и сами видели, что тамильский язык преподается в школах Цейлона как вполне полноправный наряду с английским и сингальским. Но затем начинаются нападки на сингалов вообще и пылкие уверения в несовместимости их сосуществования с тамилами в одном государстве. Это уже настораживает: наверняка и сингалы и тамилы бывают всякие — и хорошие и плохие. Сингальские националисты крайнего толка вряд ли лучше аналогичных тамильских. Но кому вообще нужно это разжигание национальной розни? Тем, кто в прошлом так привык здесь «разделяя властвовать»? И, значит, не дело ли это тех самых дядюшек из Лондона, которые ради подогревания этой розни готовы финансировать даже поездки будущих студентов-тамилов для экзаменов в Кембридж?МАВРЫ И БЮРГЕРЫ
Еще и еще встречи — «ленчи» и «файвоклоки». Мы в гостях у видного деятеля Мусульманской лиги. Почему мусульманской, в этой стране буддизма? На острове есть целая народность, именуемая… маврами. В действительности — это индо-арабы, потомки смелых и предприимчивых арабских мореходов, торговавших с Цейлоном еще в глубокой древности. Они и сейчас занимают «вакансии» моряков на побережье и мелких торговцев в городах, напоминая о себе многочисленными вывесками с именами Мохаммедов и Османов. От сингалов мавры отличаются скорее загорелой, нежели прирожденно коричневой кожей, семитической узостью лиц, высокими красными фесками на головах. И еще одно напоминание о существовании мавров — встречающиеся местами мечети и минареты. Глава Лиги — гостеприимный хозяин, угощавший гостей и хлопотавший не меньше, чем слуги, то и дело незаметно возникающие за плечами и предупреждающие любое ваше желание. В его доме огромная библиотека — редкое исключение среди посещенных нами домов. Хозяин не только политик, но и любитель разведения орхидей. В его садике заботливо культивируются многие десятки этих растений. Их цветы поразительны по разнообразию красок и вычурности очертаний. Обед у другого мавра — «независимого мусульманина». Здесь женская и мужская половины нашей делегации вынуждены были разъединиться. Правда, чадру тут не носят, и вход на женскую половину дома мужчинам не совсем запрещен — нам даже разрешили заглянуть на пяток минут в дамскую гостиную. Но мусульманские дамы были так замкнуты и молчаливы, что мы сочли удобным поскорее покинуть их обитель. Две молодые брюнетки из числа учительниц — членов туристского клуба — выделялись среди остальных! значительно более белой, почти европейской кожей. И в графе «национальность» в списке членов этого клуба против их фамилий значилось не сингал, не тамил и не мавр, а совсем неожиданное, если не знать истории Цейлона, — бюргер. Национальность — бюргер! Бюргеры — это потомки голландско-цейлонских метисов, живущие на острове со времени владычества Нидерландов. При англичанах бюргеры держались в числе «избранных», гордились «белой кровью», хотя и занимали по преимуществу места мелких чиновников. Мне приходилось слышать, что многим бюргерам независимость Цейлона пришлась не по вкусу: при власти сингалов их «преимущество» по части белизны расы теряло цену. Мы приглашены на обед в семью одной из двух учительниц бюргерш. Это семья старого виноторговца, который встречает нас сообщением, что раньше он знал (и при этом путал) всего два русских слова — «водка» и «Волга», но что теперь он хорошо знает третье, — конечно, «спутник». За обедом пробуем цейлонские вина. Кокосовый «арак» типа коньяка горек и мало приятен по запаху… Остальное — привозное: виски, десертные, сухие вина… Спрашиваю, помнят ли бюргеры голландский язык? Не сохранилось ли каких-либо национальных голландских обычаев? — О нет, что вы! Мы же настоящие англичане. У нас все, все по-английски. Мы знали, что часть бюргеров реагировала на приход «темнокожих» сингалов к власти… эмиграцией в Австралию. Но этот доминион и компаньон Цейлона по Британскому содружеству наций встретил переселенцев-бюргеров далеко не гостеприимно. Для «разрешения на прописку» австралийские расисты потребовали от приезжих… свидетельства о не менее, чем 75-процентной чистоте европейской крови. Остальные считались «цветными» и причислению к гражданам австралийского материка не подлежали. Так бесприютные скитания, неуверенность в судьбе и в завтрашнем дне стали уделом выделившихся бюргеров как суровая расплата за их собственное расовое чванство. На вопрос о дальнейшей судьбе этих эмигрантов хозяева отвечают нам, что возвращаться на Цейлон горемычные беженцы все-таки не хотят и надеются, что их пустит к себе Канада. При этом и хозяин-отец и хозяйка-дочь все же говорят о чистоте своей крови по сравнению с «цветными» цейлонцами. Трудно вести такую беседу, не вступая в спор. Но есть еще один способ ведения разговора — провозглашать тосты. А на Востоке тосты в чести длинные. Ну-ка попробую. — У нас, в Советском Союзе, много различных национальностей, больших и малых, при этом в равной степени уважаемых. Наши совсем бледнокожие северяне стараются загореть, чтобы стать потемнее, подстать более смуглым южанам. У нас и сейчас, и чем дальше, тем больше случается смешанных браков между представителями разных национальностей. И нередко от таких браков рождаются чудесные люди. Русскую литературу украшает гений Пушкина, в котором наряду с русской текла и эфиопская кровь. Позвольте же мне поднять бокал за маленькую народность бюргеров, пожелать ей процветания и успехов и выразить надежду, что из ее рядов появятся свои великие Пушкины! Чокнулись в полном безмолвии и без ответных улыбок. Несмотря на его доброжелательность, мой тост был воспринят как нечто, видимо, совсем неподходящее. Крепко же вбили британцы свою идеологию и в воспитанных ими «черных англичан» из числа сингалов и тамилов и в их «полубелый» авангард — бюргеров.МУЗЕЙ КОЛОМБО
Подъезжаем к обширному и светлому дворцу — «музею Коломбо». Его глава профессор Дераниягала — крупный специалист как по современной, так и по ископаемой фауне Цейлона. Он знакомит наших географов и геологов со своими исследованиями, дарит нам оттиски своих трудов, а от нас получает на память путеводитель по Музею землеведения Московского университета и приглашение нанести ответный визит. Осматриваем огромные залы, в которых показано геологическое строение острова, сокровища его недр и стоят витрины с костями ископаемых цейлонских слонов, гиппопотамов и носорогов. Последние профессор демонстрирует с особой гордостью. Их коллекция — это его детище; здесь собраны свидетели новейшего геологического прошлого Цейлона. Сейчас ни носорогов, ни гиппопотамов в диком виде на Цейлоне нет, а остатки их костей рассказывают нам о былом родстве этих животных с населявшими предгорья Гималаев… В разделе геологии добытые при раскопках в пещерах орудия цейлонцев каменного века — культуры ратнапурская (палеолит) и балангодская (неолит). Тут же кости животных, на которых охотились неолитические цейлонцы. Богатая коллекция ископаемых привезена руководителем музея также из его экспедиции в Ливийскую пустыню Африки. Демонстрирует Музей и современную фауну Цейлона. Как ни трудно хранить чучела при сыром влажнотропическом климате, все же они тут имеются в изобилии. Особенно хороши птицы калейдоскопической пестроты — здесь собрано почти две трети всех обитающих на Цейлоне пернатых. В природе они встречаются не так часто, а тут — какую дивную многоцветную вышивку образует их ансамбль в витринах! Многие птицы показаны в небольших диорамах вместе с их гнездами и яйцами. …Цейлонская «сорока», так похожая внешне на нашу, но принадлежащая к совсем другому роду, — главная певчая птица Цейлона! Черные скворцы, любящие «пастись» на спинах быков и коров зебу, очищая их от насекомых… Черные с белым и бурые сорокопуты, зеленые попугайчики, крохотные, как бабочки, медососы, заменяющие на Цейлоне американских колибри, райские мухоловки, украшенные изящным вымпелообразным хвостом, сапфирно-малахитовые зимородки и сизоворонки, голенастые нежно-розовые фламинго, царственный павлин с глазастым хвостом… Есть у кого учиться подбору красок для своих туалетов женщинам Цейлона! А бабочки разочаровали. Натуралисты наполняли свои характеристики природы острова буквально гимнами здешним бабочкам — их величине, бархатистости, фантастике рисунков и красок… Но в целом коллекция бабочек показалась нам мрачноватой, в ней преобладали черно-коричневые тона, да и величиной многие цейлонские бабочки не удивят людей, повидавших роскошь о махаонов нашего Дальнего Востока. Коллекции морских и пресноводных рыб — особенно эффектна диорама с пилой-рыбой. Еще один ряд витрин: здесь парад черепах, крокодилов, ящериц и змей. Конечно, мы кое-что увидим при поездке по острову и в натуре, но и для этого интересно посмотреть на этикетки к чучелам обезьян и попробовать запомнить, которая как называется. А сколько разных зверей не соизволит нам показаться? Приходилось читать, что фауна островов, давно особившихся от материковой суши, имеет тенденцию беднеть, вырождаться, мельчать. Цейлон неплохо иллюстрирует эту закономерность. Даже цейлонский слон немного мельче индийского сородича. А как тут измельчали олени! Наряду с относительно крупными пятнистыми оленями на Цейлоне обитают неправдоподобно мелкие виды, и вот чучело одного из них: взрослый, а размером с небольшого ягненка. Диорама — питон душит шакала… Черепа, бивни и зубы современных слонов. Еще ряд витрин, заставляющий сжаться наши сердца. Тут сияют сокровища Ратнапуры, знаменитого города самоцветов. Мы еще в Москве мечтали туда попасть. На крутом южном склоне нагорья над Ратнапурой уцелели почти единственные на всем Цейлоне участки влажнотропических лесов. Интересно взглянуть и на рыхлые толщи коры выветривания, сохранившиеся в древнем доле Ратнапуры — из этих «россыпных» месторождений цейлонцы и добывают прославившие их остров самоцветы. Но Ратнапура не была включена в программу нашей поездки. Тем более неравнодушно смотрели мы на лежащие в витринах драгоценные капли синевы сапфиров, на темно-розовые рубины, на опалесцирующие леденцы рунных камней. На Цейлон незадолго до нашего приезда обрушилось тяжкое стихийное бедствие. Зимний муссон переборщил, и восточная равнина подверглась величайшему в истории острова наводнению. Последствия катастрофы коснулись и нас, поскольку вынудили наших хозяев изменить ранее намеченные маршруты. Разрушение дорог на востоке страны лишило нас еще одной возможности: посетить уцелевшие поселения древнейших коренных обитателей Цейлона — так называемых ведда, или по-русски, веддов. Это буквально горстка людей, сохранивших доныне весьма примитивный культурный уровень и еще далеко не полностью перешедших к оседлой жизни. Часть их и теперь бродит в дебрях, питаясь тем, что принесет охота, или медом диких пчел, гнездящихся в скалах. Мы не раз заговаривали о веддах с сингалами и тамилами — они старались замять разговор, относясь к веддам с брезгливым пренебрежением. Моя попытка напомнить, что современные цейлонцы, вытеснив веддов за последние два с половиной тысячелетия, вероятно, частично ассимилировали их и имеют примесь веддской крови, была принята чуть ли не с обидой. У сингалов тоже культивировалось представление о расовой чистоте их индоевропейской («арийской») крови, а ведды явно числились в низших расах. В музее веддам посвящена диорама. Бегло осматриваем собрание старинного сингальского оружия — луков и стрел, копий и ружей — в их числе есть витиевато разукрашенные, принадлежавшие одному из королей. Причудливая резьба по дереву и по слоновой кости… Крашеная посуда… Сумки и головные уборы, сплетенные из пальмовых листьев или волокон… Есть чем похвастаться и мастерам изделий по металлу. Ажурная чеканка и тиснение по меди и бронзе — кружевные орнаменты на квадратных блюдцах-цветах с барельефными слонами на внутреннем вдавленном круге; бронзовые, позолоченные и золотые статуэтки богов и божеств; регалии последних сингальских властителей Цейлона — трон и скипетр. А вдоль лестницы, ведущей на второй этаж, яркие маски — тут и портреты королей и изображения злых духов с оскаленными зубами, применяемые в кандийских ритуальных танцах.ШЕДЕВРЫ ДРЕВНЕГО ЦЕЙЛОНА
В двух залах музея — живопись. Самое знаменитое здесь— копии фресок Сигирийской скалы, относимых к раннему средневековью. Но в Сигирии мы еще побываем и увидим подлинники, поэтому лишь издали скользим взглядом по вереницам изящных фигур и по свеже-ярким, словно только что положенным золотистым краскам. Через сожженный солнцем двор проходим в большой отдельный корпус — в археологическую галерею, где хранится коллекция античных и средневековых древностей Цейлона. Здесь и подлинные колонны с примитивными, но удачными по своим пропорциям капителями, и целые фрагменты архитектурных узлов — узорно орнаментированный оконный проем из Япахувы, подлинники и гипсовые копии множества статуй. Горельеф «Воин с лошадью» из руин античной столицы Цейлона — города Анурадхапуры. Если бы не слишком низко всаженная в плечи голова, скульптуру можно было бы назвать шедевром. Труднейшая для горельефа многоплановая композиция анфас: могучий торс сидящего на земле мужчины; ноги согнуты в коленях, одна коленом вверх, другая положена плашмя перед туловищем. Прямой левой рукой воин оперся оземь, согнутой правой на колено. Сзади за этой рукой и надетым на нее поводом видна голова лошади, тоже анфас. Лицо воина архаично примитивное, но сильное; в ухе огромная серьга. Отходим от «Воина» с ощущением живого контакта с людьми и аромата античного Цейлона. А вот расхваленная во многих описаниях горельефная пара — солдат со своей возлюбленной. Физиономия кавалера должна изображать нежность и внимание, но {больше напоминает Санчо Панса за едой. Зато обнятая им дева исполнена удивительно талантливо. В ней есть и кокетство, и застенчивость, и скрытая радость, и все это выражено верно схваченными деталями позы. Впрочем, зачем мы тратим время на осмотр копий скульптур Анурадхапуры? Ведь мы же посетим эти руины и воочию увидим подлинники! А вот сердце с.р.е.д.н.е.в.е.к.о.в.о.г. о Цейлона — город Полоннаруву, возвысившийся в XII веке стараниями великого царя и полководца Паракрамы Баху, мы не увидим: наводнением отменен наш маршрут и к этой достопримечательности острова, так что надо внимательнее осмотреть в музее именно то, что касается Полоннарувы. Вот он, сам Паракрама Баху Великий — гипсовая копия статуи, украшающей руины Полоннарувы. Оригинал его там изваян из целой скалы. Статуя некрасива, возможно, потому, что сам объект не отличался гармонией пропорций, или же в силу архаичности манеры исполнения. Но не откажешь ваятелю в талантливости. Фигура? выразительна и величава. Торжественно держит старый король священный пальмовый лист «ола». Именно на таких листьях записана древними летописцами Махаванза — эпическая история античного величия Цейлона. Сингальская юбка хорошо облекает прочно поставленные ноги — в скульптуре не так-то просто создать впечатление облекающей ткани. Лицо уверенно и властно смотрит далеко вперед. Для сингалов этот человек — объект великого почитания. Он единственный, сумевший надолго справиться с нашествиями северян. Именно он воздвиг силами пленных захватчиков новую столицу Полоннаруву, гордость средних веков цейлонской истории, когда Анурадхапура уже лежала, поверженная во прах. Недаром имя Паракрамы часто служит символом новых начинаний, предпринимаемых современными цейлонцами в области ирригации равнин. Имя короля присвоено одному из крупнейших восстановленных водохранилищ Цейлона. Уносим с собой чувство глубокого уважения к древнесингальской культуре и к современной любви, с которой цейлонцы берегут и показывают в музее замечательные памятники своей природы и истории.ЗВЕРИ В РЕСТОРАНЕ
Еще один очаг культуры и науки — цейлонский зоологический сад, называемый в Коломбо просто «Зоо». Роскошный тропический парк раскинулся на резко холмистой местности, что позволило создать в нем с помощью ряда лестниц и остроумно проложенных дорожек множество уютных аллей, каскадов зелени, эффектных уголков с неожиданно распахивающимися видами. У входа в парк — компания крупных ярко окрашен-ных попугаев. Они на воле, но сидят, как пришитые, f Остальные птицы и звери находятся в клетках или за > глубокими рвами, как и в любом зоопарке. Но смотришь на бегемота или на бенгальского тигра и думаешь: хоть ты и в неволе, а климат тебе тут обеспечен совсем как дома. А иногда посочувствуешь и по поводу климата. Могучий тигр в своей дремучей шкуре — как же ему, наверное, жарко в тропиках! Подумалось даже, что наши уссурийские, терпящие по-сибирски суровую зиму, счастливее. Но их бенгальский собрат тут же продемонстрировал, как он справляется с жарой. Он смело вошел в наполняющую ров воду, погрузился в нее по шею и долго с наслаждением сидел так в этой ванне, вызывая в нас уже не жалость, а зависть. Рядом страдает от жары в своем мощном меху коренной цейлонец — медведь-губач. Этот почему-то не догадывается купаться. Много и других цейлонских достопримечательностей. Вот зверьки, похожие то ли на кошек, то ли на куниц — виверры, в их числе мангусты, истребителизмей; вот и нелепые лемуры, или полуобезьяны, с удивленными мордочками… По их наличию на Цейлоне и Мадагаскаре биогеографы судили, даже о возможном существовании ныне исчезнувшей суши между этими островами в Индийском океане и называли ее Лемурией. В змеятнике блаженствуют жирные питоны и зловещие кобры. У клеток с обезьянами толпа, как и в Московском зоопарке. Два шимпанзе сидят за столом, повязав себя салфетками, пьют что-то из чашек, чистят бананы, затем протягивают руки официанту, чтобы он их вытер салфеткой. Поевши, сами превращаются из господ в лакеев и с серьезными физиономиями уносят «со сцены» стол с грязной посудой и объедками. Подходим к ступенчатому луговому амфитеатру. Каждая ступень, как и арена, задернована; можно сидеть на травке и любоваться зрелищем. Спектакль исполняется бригадой из пяти слонов, которые покорно танцуют, сделают стойки на передних ногах, держат своих укротителей во рту, нежно, не давя, наступают на них своими столбообразными ножищами. Уборщики с огромными совками едва успевают наполнять тележку новыми и новыми кучами слоновьего помета… Нам предлагается катанье на слонах. Для этого сооружен специальный помост с лесенкой. С него шагают слону прямо на спину. Трое наших товарищей совершают небольшой круг по лужайке, вцепившись в голую спину животного и друг в друга. Поднимаюсь на помост, чтобы участвовать во второй тройке всадников. Но слон почему-то отходит от помоста и удаляется в загон. Катание не состоялось. Нам объясняют, что слон запросил ужинать. Что ж, понаблюдаем и за трапезой! Слонам нарублены целыми стогами крупные листья, похожие на банановые и пальмовые. Хоботы, гофрированные, как трубки противогазов, замечательно справляются с этим блюдом, отправляя во рты огромные снопы хрустящей глянцевой зелени. Служитель с большим колуном подходит к слону и надкалывает лежащее тут же большое сырое бревно, создавая, в нем продольную трещину. Слон выказывает удивительную понятливость и, повернув надколотое бревно половчее, наступает на него своей великаньей ногой-тумбой. Ствол с треском распадается на половинки. Какой чудесный способ рубки дров! Однако слон и не думает этим ограничиваться. Он буквально раздавливает полученные горбыли на отдельные поленья, вполне пригодные для топки печи. Но не успеваем мы выразить восхищение этим методом колки дров, как слон берет хоботом одно из крупных поленьев и уверенно отправляет его… в собственный рот! Милый, он закусывает дровами как конфетками! Не веря своим глазам, наблюдаем, как в слоновьей пасти исчезает целая куча дров. Одно из поленьев оказалось длиннее, чем нужно, и не помещалось во рту даже по диагонали. Слон повертел его хоботом, положил косо одним концом на другое полено, наступил на висящую часть и переломил поперек. Так мы ломаем ногой хворост, разжигая костры. Укороченное полешко, а за ним и излишек-обрубок спокойно исчезают во рту. Слоновый ужин закончен, но вместо продолжения катания приглашают ужинать нас самих. Ресторан тут же, в зоопарке, а угощает нас сегодня мэр пригородов Коломбо. В числе принимающих запоминается юная красавица-сингалка, истинная богиня в ослепительно белой до пят одежде… Угощение приправлено неожиданностями, видимо, специально предусмотренными в меню зооресторана. Между столиками появляется слоненок, с удовольствием захватывающий то с одного, то с другого столика где пирожное, где ломтик ананаса. Сластену уводят, но на его место приводят — прямо в ресторан! — взрослого слона. Он не брезгует целым кексом и в благодарность делает стойку на передних лапах и хоботе. Раздается дикий визг. Это сообщает о своем прибытии один из уже виденных нами шимпанзе. Он уверенно садится за столик, за которым сидят три наши спутницы. Одна из них, молодая дама, обрадованная возможностью столь близкого знакомства, тянется к обезьяне с приветливым цоканьем, изображая как бы воздушные поцелуи. Но и шимпанзе не теряется и тянется своей мордой в сторону нежной соседки. Вспышка магния — и встреча запечатлена! Чтобы расстояния, которое оставалось между их носами, не было видно, достаточно снять по диагонали. «Ай-ай-ай, миссис Марина! Ну можно ли вести себя так неосторожно? Фоторепортер не упустит такой возможности, и вы рискуете увидать композицию «Поцелуй обезьяны» в какой-нибудь местной газетке».
НЕЗАСТЕКЛЕННАЯ ТЕПЛИЦА

СОК КОКОСОВ
Наконец-то мы вырвались из Коломбо! Автобус пересек по мосту Виктории широкую зеркальную Келани-Гангу и покатился на север по длинному прямому шоссе. Оно параллельно берегу, но, как и улица Голль-Роуд, отделено от моря полосой кокосовых насаждений. Взглянешь вперед — суживающаяся к горизонту лента асфальта. Справа и слева к той же точке сходятся треугольниками две зеленых стены; такую картину очень легко нарисовать. Совсем так и на прямых автомагистралях нашего севера видны уходящие к горизонту шпалеры елового или соснового леса. Здесь вместо елок ликующие громады кокосовых крон, но к горизонту и они сливаются в узкие полосы зелени — совсем по-русски. Коломбо словно и не хочет кончаться. Через каждую сотню-две метров между кокосовыми пальмами видны коттеджи, крытые черепицей, с большими верандами, а часто окна и двери так широко открыты, что и весь дом напоминает веранду. Квартиры — точно сцены с открытым занавесом. Если бы мы не так мчались, видно было бы обыденное течение домашней жизни. Изредка попадаются огромные купы хлебных деревьев — мы с нетерпением ждали первой встречи с ними. Ствол, и прямо на стволе растут… конечно не булки, нет, но крупные овальные плоды светло-зеленого цвета с шероховато-пупырчатой кожурой. Плоды прямо на стволах — значит, так же на стволах росли и цветы. Профессор Черепнин радуется: как прекрасно выражено явление к.а.у.л.и.ф.л.о.р.и. и! Все-таки и наличие специального термина не спасает от впечатления, что плоды эти не растут на стволе, а просто подвешены на гвоздиках! А вот и другое дерево — его тоже называют хлебным, но тут плоды вполне нормально висят на ветвях. Хлебных деревьев здесь два вида, из них лишь второе и в буквальном переводе называется хлебным («бредфрут»); первое же, с плодами на коре ствола, чаще именуется «джекфрут», или просто «джек». Постройки так и не кончаются, только фешенебельные виллы стали перемежаться с, более бедными крестьянскими хижинами, крытыми чем-то вроде тростника. — Смотрите-ка, пальмовые рогожи из цельных листьев! Пальма и рогожа — какое, казалось бы, несозвучное сочетание. Но перед нами целая изгородь из рогожных щитов, каждый из них состоит всего из одного пальмового листа. Отдельные «перья» пальмовых вай, не оторванные от стержня и уцелевшие через одно перо нетронутыми, составляют как бы основу «ткани» этой рогожи. А соседние «перья» (тоже через одно) загибаются под 90 градусов, после чего их пропускают по всем правилам ткацкого дела в виде лент, поперечных к основе. Так живой лист превращается в рогожную ткань. Недаром столько рассказывают о разностороннем использовании кокосовой пальмы! Близ староголландского городка Негомбо останавливаемся у широкой лагуны, на берегу которой расположен рестхауз. В переводе это означает «дом отдыха», но фактически— казенную гостиницу типа наших черноморских пансионатов. Цейлон неплохо приспособился к своей роли «азиатской Швейцарии». Превосходные дороги обеспечивали английским колонизаторам не только осуществление власти над любой частью острова, но и способствовали развитию туризма. Коломбо — узел великих трансокеанских маршрутов. От Суэца в Австралию и из Кэйптауна к Сингапуру любые корабли заходят сюда бункероваться углем, хотя своего угля и нет на Цейлоне. И за два-три дня, пока корабль грузится, его пассажиры рассыпаются по острову, спешат к ботаническому саду и храму Зуба в Канди, наслаждаются высокогорной прохладой Нувары-Элии а некоторые проникают и к древним городам Ланки — к руинам Анурадхапуры, Сигирии и Полоннарувы. Во имя удобства путешествующих по острову и созданы на английский манер эти рестхаузы, удобные бенгалоу, которые встречаешь на любой дороге Цейлона каждые 20–30 километров пути. В любом из них полагается жить не более чем по трое суток, конечно, далеко не задешево. Обеспечен полный пансион в обстановке вполне европейского комфорта. Рестхауз Негомбо был выбран хозяевами как база для еще одного дозволенного морского купания. Но перед купанием было очередное угощение. Цейлонцы знают, как возбуждает жажду непривычная для северян жара, и в любом месте устраивают нам прежде всего вкусные «водопои». Мы уже испробовали остро газированные оранжады и лимонады, забавно жгучее и чуть хмельное пиво «джинджё», несколько видов шипучих вод с громкими названиями «львиных» и «слоновых» напитков. Среди них, кстати, совсем затерялось и не произвело никакого впечатления пресловутое кока-кола, явно пасующее на Цейлоне даже в рекламе по сравнению с местными водами. Но в Негомбо нас ждал новый напиток — молодое тодди, — чуть сбраженный кокосовый сок со льда. О нет, совсем не только потому, что любой глоток холода был счастьем после полуторачасовой поездки по экваториальной жаре, нам так понравилось тодди. Мутный молочно-серый напиток радовал освежающей остротой. Что он напоминал? Когда-то продававшийся на улицах Москвы и позабытый теперь молочно-кремовый оршад? Или крымскую бузу, при этом лучшие, наиболее острые и терпкие ее варианты? Кто-то сравнивает этот кокосовый «квас» с кумысом, а еще кто-то называет кокосовым молоком. Но нас поправляют: это не молоко, а сок из соцветий, только уже забродивший. Соком ореха нас угостят сегодня же. Но европейцы часто ошибаются, называя молоком и сок кокосового ореха. Кокосовое молоко — это совсем другое: напиток, приготовленный из кокосовой мякоти — копры. Позже нас угостили и таким молоком, напоминающим миндальное. У остатков староголландской крепости колокольня европейского типа. А внутри крепости — нечто вроде тюрьмы под названием «Школа малолетних преступников». Надо ознакомиться и с таким вариантом народного образования. Пока мы ждем у входа, железнорешетчатые врата раскрываются, но не для того, чтобы впустить нас, а чтобы выпустить из застенка неожиданно торжественную процессию. Несколько учеников-заключенных — темнокожие четырнадцатилетние юноши в светло-бурых (светлее чем тело) рубахах и трусах вшестером несут натянутое в воздухе теневое покрывало над низкорослым толстым и лысым человеком. Это европеец, но декорированный в ярко-оранжевую, блещущую шелком тогу. Мы уже знали, что такие оранжевые одеяния — отличительный признак буддийских священнослужителей и что обнаженное правое плечо должно символизировать готовность их к нищете и отрешенности от всех земных благ. Готовы мы были уважать и стремление коротенького европейца затенить свое нежно-розовое темя от субэкваториального солнца. Наконец, ничего противоестественного не было и в том, что подобное учебное заведение навещает вероучитель, пусть даже в неожиданном сочетании: европеец, проповедующий буддизм. Но торжественное несение шестью «цветными» юношами покрывала над светлой главой белого человека, с такой готовностью отрешающегося от благ, оставило неприятно коробящее впечатление. Хорошо еще, что оранжевый пастор сел после этого не в паланкин, несомый носильщиками, а на вполне современный автомобиль и укатил асфальтированной по современной же дороге. Воспитанники школы живые остроглазые мальчишки, попавшие сюда преимущественно за мелкие кражи и обучающиеся тут года по три наукам и ремеслам. Они уверяют, что это не тюрьма, а школа особого рода, и даже угощают нас своей «самодеятельностью» Особенно запомнился танцор Перейра — юноша лет 15 продемонстрировавший прямо-таки профессиональное исполнение древнеиндийских танцев. Показывал нам эту школу хорошо подтянутый и собранный сингал в полувоенной форме с властным и волевым лицом, видимо, умеющий не только подчинять себе, но и пользующийся у ребят авторитетом педагога. Уже после того, как в адрес танцора Переиры был пущен по мальчишеским рукам скромный сувенир — значок с изображением Московского университета, — наш гид сказал нам, что вручение подарков воспитанникам не дозволяется.* * *
Веселые узники шумной толпой провожают нас к воротам крепости. Простившись с этой «школой» и «школьниками», подходим к большой лагуне Негомбо. Мы еще издали заметили на ее поверхности какие-то странные не то суда, «не то сооружения в виде двух параллельных брусьев, лежащих на воде и соединенных в воздухе двумя выпуклыми поперечными дугами. Эти конструкции скользили по водной глади, удивительно) напоминая долгоногих насекомых-водомерок, которые скользят по зеркалам прудов, как конькобежцы по льду, не проваливаясь сквозь пленку поверхностного натяжения. «Водомерки» чертили лагуну в нескольких местах, но разглядеть их издали было трудно. Теперь у причалам мы не только рассмотрим загадочные конструкции в упор, но и поплаваем на этих цейлонских гондолах. Вдоль дощатого помоста-причала в воде вытянулось! узкое и длинное долбленое бревно. Две дугообразные поперечины соединяют его с параллельным, невыдолбленным стволом. Это привет из Океании — катамараны, лодки с противовесами, сообщающими им чудесную устойчивость. На таких суденышках полинезийцы бороздят океанские просторы и терпят штормы. Цейлон — западный предел распространения этого типа лодок, сюда доносится последнее дуновение Тихого океана. Влезаем в одну из катамаран. Лодка так узка, что приходится садиться на борт, обращенный в сторону противовеса. Кормчий, он же гребец, отталкивается, а затем и управляет лодкой при помощи единственного весла. Начинается плавание в полинезийском челне по дремлющей цейлонской лагуне. Над берегами склонились кокосовые пальмы. Какой баркаролой передать очарование этого рейса? Мы еще не знаем и не создали ни одной песни о Цейлоне, но зато всем нам известна «Индонезия» — песня широкая и спокойная, как эта лагуна.О СИНГАЛЬСКОМ И ГУЦУЛЬСКОМ
Неожиданное чувство: при всей новизне и невиданности цейлонской природы и людей, здесь все же мало той небывалой экзотической остроты, которая невольно ожидалась от этой поездки. Деловитая обжитость природы в сочетании с обычным, вполне черноморского вида морем (хотя это и (океан), с прямолинейными песчаными берегами, с обилием асфальтированных дорог и бензозаправочных станций, с нигде не кончающимися населенными пунктами — все это производило впечатление прежде всего (обыденно будничное. Праздничным было только обилие солнца, а густокронные пальмы и красиво цветущие в январе деревья придавали ландшафту лишь оттенок экзотики, не создавая фона. Но вот и первая дальняя поездка по Цейлону — маршрут на крайний юг, в город и древний порт Галле, как раз в тот, название которого англичане переделали в Голль. Само имя города (от сингальского гала — «гора») говорит о гористости этого побережья, а репутация древнего порта, который до создания искусствен-ной гавани в Коломбо был первым портом Цейлона, Свидетельствует и о том, что тут мы увидим красивую природную бухту. Ехать в Голль нужно, конечно, по Голль-Роуд, через уже знакомую нам Маунт-Лавинию. И опять впечатление, что Коломбо нигде не кончается. Вдоль всей дороги на юг от города тянется непрерывная вереница зданий, утопающих в пальмовых садах. Только изредка дорожные указатели извещают путников, что начинаются и кончаются числящиеся самостоятельными населенные пункты — Моратува, Панадура, Ваддува… Автобус мчится. Где-то впереди рядом с шофером мистер Кингсли, в этой поездке наш главный гид, что-то объясняет, но в задней части автобуса нам не слышно. Хорошо, что у меня с собой путеводитель и ряд сделанных еще в Москве выписок — пытаемся быть сами себе гидами. Но что можно разглядеть на скорости 80 километров в час, когда дивный кокосовый лесосад мчится мимо, как в ускоренно провертываемом кинофильме? Мост через огромную, торжественно покойную реку. Испускаем коллективный стон — неужели даже здесь мы не остановимся, не сфотографируем эту зеркальную гладь в раме из пальмовых крон и стволов? Нет, автобус останавливается возле маленькой придорожной дагобы, ослепительно белой, похожей на дорогую игрушку. Скорее бежим и запоем фотографируем величаво полноводную Калу-Гангу с плывущими по ней плотами. Снимаем и дагобу — пронзительную белизну на фоне жгуче синего неба. Колоколообразный корпус дагобы украшен понизу, словно юбка оборками, четырьмя ярусами горизонтальных карнизов, а поверху параллелепипедом в виде теремка; его венчает цилиндр, а еще выше — суживающийся с изящным изгибом конический шпиль; все это ослепительно легкое, призванное поднимать настроение и возвышать души молящихся. Город Калутара, расположившийся на берегу Калу-Ганги, славится художественным корзиноплетением. На фабрике милые девушки плетут из разноцветно окрашенных пальмовых волокон портмоне и коврики, сумочки и коробочки. Орнаменты на первый взгляд простые (из взаимно-перпендикулярных волокон сложных вензелей, кажется, не сплетешь). Но, как и в русских вышивках крестом, фантазия художниц создает на веерах и шляпах чудесные ритмы, целые мелодии из разноцветных квадратов и уступов.. Вот надоел шахматный порядок квадратных клеток, и по плетению побежали вытянутые прямоугольники. А вот наперерез вертикалям и горизонталям стремительно ушел вкось диагональный орнамент из струящихся зигзагов… Некоторые изделия кажутся удивительно знакомыми. Такие вышивки у нас делают на концах полотенец или на краях скатертей. Красный с желтовато-белыми «зетами» и мелкой двухрядной черной строчкой бумажник — это совсем как гуцульское рукоделие на рукавах у карпатских дивчин… И в подборе красок сингальские дивчины могли бы посоревноваться с гуцульскими: при всей пестроте и яркости — столько вкуса, такое чувство пропорций, сложных ритмов, умение дать в орнаменте и неожиданную паузу, и цветовой акцент, и озорную асимметрию… Что это? Случайное совпадение, вызываемое требованиями геометрии материала, или тоже перекличка далеких культур, развитие от неведомых общих истоков? Получаем в подарок по изящному портсигарчику, а художницы-сингалки еще долго будут рассматривать виды Москвы на оставленных нами открытках и значках. И кто знает, не удивится ли следующая группа туристов, путешествующая по Цейлону, увидав в орнаментах плетений из пальмовых волокон уступы Спасской башни или абрис Московского университета? Это уже наверняка можно будет назвать перекличкой культур!КОРАЛЛОВЫЙ БЕРЕГ
Южнее Калутары дорога вырывается к самому прибою. В бескрайнюю даль уходят песчаные безлюдные пляжи — и тут никто не купается в океане! В Побережье становится разнообразнее. Навстречу прибою выбежали округлые скальные глыбы, беспокойнее стал весь рельеф. Почувствовалось, что нагорье Цейлона подходит все ближе и ближе к берегу. Пляж местами не чисто песчаный. Иногда прибой обгладывает горизонтальные серые плиты, с едва ощутимым наклоном уходящие в воду. Издали они кажутся цементными. К В правых окнах то и дело возникают неповторимые по живописности ракурсы, удивительные сочетания прибрежных утесов, украшенные пальмами мысы. Хочется фотографировать ежеминутно… Мистер Кингсли неумолим. Он сам южанин, уроженец Галле, и, видимо, торопится привезти нас на свою родину к слишком точно обусловленному сроку. Ответ его краток: — Успеем, здесь же поедем обратно. Но разве можно откладывать что-либо на обратный путь? Поедем ночью или в дождь — вот и пропали безвозвратно все эти пейзажи… снимать прямо из окна, на хоть что-нибудь, как бы оно ни вышло. Именно об этом участке много почитать, и я знал, что интереснейший в геологическом нигде на Цейлоне, выразительно свидетельствует об очень недавних поднятиях суши и, тут же рядом, о еще более недавних ее уступках океану. Я хорошо помнил название места, где эти процессы достигли в недавнем прошлом катастрофических размеров: Хиккадува. Еще перед выездом мы (геологи и географы) дали понять мистеру Кингсли, что Хиккадува нас интересует, что мы знаем, как грозно наступал здесь океан на цейлонскую сушу, как год за годом, особенно резко в 1921 году, он в период юго-западного муссона жестоким прибоем обрушивал в море десятый гектаров прибрежных террас. Мы хотим видеть «недоеденные» морем участки берега, знаем, что они выступают из воды в виде голых гнейсовых куполов, а иногда и в виде более обширных островков, на которых еще уцелели постройки и остатки пальмовых насаждений. Мы все ближе к Хиккадуве. Слева от дороги появились целые штабели белого ноздреватого камня. Известняк! Молодой коралловый известняк перекрывает здесь древний гнейсовый фундамент Цейлона. Эти рифы подняты тут совсем недавно, залегают всего на 2–3 метра над полосой прибоя, но и этого достаточно, чтобы цейлонцы начали их разрабатывать на обжиг. Нам виден ряд квадратных луж — это заболотились выработанные известняковые карьеры. Здесь правительству пришлось принимать даже специальные меры по борьбе с малярией. Истребленная на влажном юго-западе острова вовсе, эта болезнь вспыхнула здесь с большой остротой именно вследствие заболачивания карьеров. Хорошо еще, что наш Кингсли уважает показ промышленных предприятий, а то не видать бы нам и этой остановки у печи по обжигу извести. Наши геологи немедленно побежали к наиболее крупным карьерам и уже через пять минут, к удивлению Кингсли притащили к автобусу крупные глыбы коралловых известняков, еще не успевших утратить черт геологической молодости. Как назло, от этой стоянки до моря было не близко, и сфотографировать островки, откромсанные океаном от берега, отсюда не удалось. Свисток гида, мы снова мчимся, и опять голубеет океан, и вот они уже видны, гнейсовые острова, «щелкаем» их с хода — один, другой, третий. В один из просветов мелькает и в мгновение скрывается совсем близкий островок с чудесно уцелевшими на нем кокосовыми пальмами. Это он, тот самый, свидетель новейшей геологической катастрофы! Господи, да ведь этот снимок был бы украшением не только книг о Цейлоне — ему место в любой географической хрестоматии, в учебниках геологии! — Мистер Кингсли! Ведь мы же раз в жизни на Цейлоне, и вы обещали нам остановку у этих скал. Автобус остановился еще через километр, когда островок с пальмами уже скрылся за соседним мысом. Из рестхауза нам несут подносы с ледяным оранжадом. Но всем ли нам до питья? Бегом к океану! Ведь тут, у Хиккадувы, к берегу примыкают уже не поднятые, а современные коралловые рифы. Живые кораллы, разве они не мечта любого северянина, читавшего об этом только в книгах о несбыточных путешествиях? Наши геологи, не сняв одежды и сбросив на ходу лишь обувь, уже бегут по колено в воде туда, к рифам. Едва успеваю за авангардом. Босые ноги хорошо ощущают, что светло-серые плиты, которые мы давно уже видели как бордюр, окаймляющий берега, это совсем не цементированное крепление пляжа: перед нами срезанные прибоем шершавые торцы коралловых «стеблей». Мы проехали десятки километров, видя кораллы и не подозревая этого. Внешне они оказались несравненно невзрачнее, чем ожидалось. А гид и не представлял себе нашего интереса к этим некрасивым серым плитам; он даже не нашел нужным обратить на них внимание гостей. Хождение босиком по торцам кораллов, хотя и соструганных прибоем, — удовольствие относительное. То и дело встречаются бугорки, шершавые, как наждак, и другие шероховатости, часто с колющими и режущими краями. Бредем по колено в теплой голубоватой воде. Часть плит смягчена мелкой водорослевой зеленью — по ней босые ноги ступают, как по ласковому бархату. Сквозь воду поверхность рифа становится привлекательнее. У нее есть свой рельеф, какие-то прорытые прибоем уступы, лощины, ярусы. Оступишься с такого уступа — и ты уже по пояс, а то и по шею в воде. Хорошо, что я не поленился раздеться. Чем глубже, тем менее срезаны, тем ветвистее и белее кораллы — от них уже удается отламывать изящные веточки, забавные рогульки, напоминающие заиндевевшие сучки… А если замереть и присмотреться, — какая своя, особая жизнь идет на наших глазах в океане. Вот играет стайка крохотных рыбок, окрашенных в звонко синие и зеленые тона; они могли бы поспорить с оперением зимородков. А вот притаился между камнями большой черно-зеленый с лиловатым отливом бугорчатый огурец, пожалуй, по размеру даже кабачок. Это голотурия, то самое животное, которое употребляется в пищу под названием трепангов. Нами уже овладел азарт — мы ищем и отламываем кораллы, собираем красивые раковины. Успеть больше увидеть и собрать нового! Шарю руками под водой, ощупываю колко-шершавый уступ кораллового рифа, здесь уже чуть розовеющего. Какая-то промоина, подводный грот. Сую туда руку, шарю и… чувствую острый обжигающий удар по пальцу. Кто-то то ли стрекнул, то ли кольнул непрошенного гостя. Эге, с этим миром шутки плохи! На пальце капля крови, как после укола шприцем. Высасываю, сплевываю. Мало ли какая тварь могла возмутиться моим панибратством с кораллами! Кстати, мы читали о том, что в море тут водятся ядовитые змейки. По пляжу уже разносится настойчивый свисток Кингсли. Шеф опять торопится. Куда, зачем? Неужели, впервые в жизни попав на коралловые рифы, мы должны расстаться с ними после первых же двадцати минут знакомства? Около нас толпятся каштановые мальчуганы и предлагают купить те самые мелкие ракушки и коралловые веточки, которые мы могли бы и сами набрать полный автобус, проведи мы здесь часа хотя бы два-три. А нет ли у них кораллов покрупнее? Рисуем первому попавшемуся мальчонке на песке очертания большого коралла. Он оживляется, чуть отбегает в сторону и на наших глазах откапывает из песка припрятанный впрок белоснежный коралл, целое махровое соцветие из десятков крупных ветвей, разделяющихся далее на сотни мелких веточек. Всего рупия — и дивный «каменный цветок» в наших руках. Хоть эту память мы унесем навсегда о коралловых рифах Цейлона!ГЁЛЬ-ГЬЮ
И вот, наконец, место, где все не так, все особенное. Для этого надо было расступиться гористому берегу и в пазуху между отрогами низких кряжей налиться обширной голубой бухте. Сначала думаешь, что внутри бухты поросшие пальмами острова. Но меняются ракурсы. Два «островка» соединены перешейками и между собой и с берегом: к двугорбому выступу суши, деля залив надвое, бежит широкая песчаная коса — по ней сразу же захотелось пройти. Когда много голубого внизу (залив) и сверху (небо), то как усиливается яркость залитой солнцем зелени пальмовых рощ! До сих пор мне казалось слащавым стремление прежних авторов смаковать красоты Цейлона, как райские. Но эти пальмовые полуостровки, «поставленные» среди лазурного залива так прихотливо и освещенные солнцем с такой щедростью, поневоле хотелось назвать райскими. И надо было как-то встряхнуться, чтобы напомнить себе — ведь это правда, это сама жизнь! И хижины гнейсового полуострова обитаемы, и, может быть, в них течет совсем не райская жизнь со своими тяготами, болезнями и лишениями… История не пощадила райского уголка и не простила ему существования такой безмятежно голубой бухты. Было время, когда Гала славилась как великий торговый узел, скрещение морских путей Запада и Востока. Именно здесь, в древнем селении Таршиш, под прикрытием входных мысов и шпоровидного внутреннего полу-Вострова встречались между собой гости из дальних морей, смелые и предприимчивые мореплаватели — купцы Аравии и Китая. Немудрено, что такую бухту оценили и не замедлили захватить первые же вторгшиеся на Цейлон европейцы. Памятником сурового прошлого встала над западным входом в залив воздвигнутая еще португальцами и усиленная голландцами крепость. По верхним обрезам ее стен раскинулись теперь привольные газоны — заменательные «эспланады» для приморских прогулок. Древние бастионы, пьедесталы для допотопных береговых батарей — теперь все это лишь кругозорные точки, одна другой краше, позволяющие любоваться бухтой и городом Галле. Впрочем, не только бухтой и городом. С крайнего юга Цейлона мы глядим на Индийский океан. Где-то совсем близко — километрах в шестистах с небольшим — бежит по его волнам воображаемая нить экватора. До нее нам сейчас, как от Москвы до Ленин- града. Сильное чувство края света — оно мне знакомо по путешествию на Курилы. Там нашей экспедиции удалось даже наименовать один из безыменных мысов на острове Шикотане «Краем Света». Стоя на этом мысу, я знал: передо мною добрый десяток тысяч километров чистой воды, океанский простор вплоть до Америки… И вот теперь новый вариант того же чувства. Многие тысячи километров водной глади, но на этот раз на том берегу не Америка, нет, там Антарктида! Нас ничто не отделяет от ледяного материка, кроме океана воды! Мысленно рисую себе карту Антарктиды и положение новейших исследовательских станций. — Товарищи! Наши ближайшие визави на противоположном берегу Индийского океана — обитатели советской станции «Мирный»! Мы стоим на стене старой цейлонской крепости и машем руками в невообразимую даль. Могут ли предположить обитатели Мирного, из какой точки летит к ним этот трансокеанский привет. Против осененной кокосовыми пальмами маврской мечети, над самым входом в бухту, высится двадцатиметровый маяк. Проливчик, ведущий в бухту, так узок, что с моря еле виден, у маяка почетная путеводная роль. Город прилепился к берегам бухты, шумный, людный, торгующий. Улочки запружены белоснежными фигурами сингалов, декорированных в свои простыни. Двухэтажные домики. На вывесках в отличие от Коломбо уже нет преобладания английского шрифта, местами даже господствует сингальский. На шпилях европейских церковок и на фасадах официальных зданий видны резные фигурки и барельефы петухов. Почему у архитекторов города такое пристрастие именно к этой птице? Португальцы переделали сингальское Гала в более свойственное их языку Галле, а так как по-латыни «галлюс» означает «петух», то изображение петуха и попало, так сказать, в герб города. Свернули к морю. Сразу пахнуло запахом водорослей и соленой воды. К берегу приткнулась целая флотилия мелких рыбацких судов — катеров, моторок и парусных катамаран. Некоторые из них только что подошли, и подвижные мускулистые полуголые рыбаки прямо при нас выпрастывают на берег содержимое неводов. И каково! Чудеса моря, которые казались музейными редкостями, такие, как грозная рыба-меч или нелепейшая из акул — Т-образная рыба-молот, вываливаются на наших глазах из первого же попавшегося невода! Мистер Кингсли сегодня особенно добр и приветлив. Он у себя на родине, хочет нам угодить как можно больше и везет нас далеко вокруг бухты к самому ее изголовью мимо косы, соединяющей полуостровок с сушей. На фоне неба проектируются сквозные силуэты пальм, выросших на гнейсовых глыбах по самым их гребням. Стволы — еле видные ниточки. Радиальные кроны словно парят в воздухе, они на этих нитях, как на привязи. И все это не резкое, не четкое, а мягко мерцающее в зыбкой струящейся голубизне. В изголовье залива особенно мелководное взморье. Но слева к нему подходит скалистый берег, и мы буквально прилипаем к камням, отдирая от них причудливых моллюсков, сами домики которых могли подсказывать немало мотивов архитекторам Востока. Вот раковина — многоярусная пагода, а рядом типичный индусский храм с явным избытком замысловатой лепнины. Сибирский зоолог Шаронов полез вдоль скалистых подножий и уже кричит нам: «Скорее сюда!» И тут было что посмотреть. Из воды выскакивали и мячиками прыгали над водой по вертикальной скальной Рыбки-прыгуны. Иногда они ловко присасывались к скале и ненадолго замирали в таком подвешенном состоянии… Наслаждаясь купанием, мы как-то забыли, что именно здесь, в Галле, надо было умолять Кингсли устроить нам хотя бы получасовую прогулку по заливу, чтобы с лодки или катера полюбоваться сквозь воду прославленными подводными коралловыми садами (мы не говорим уже, что еще интереснее было бы понырять здесь в аквалангах). Все думалось, что уроженец Галле действительной хочет показать нам все главные достопримечательности своей родины. Но увы! Мы, как всегда, торопились на очередной ужин. Суровая необходимость обедать и ужинать в непреложные сроки — она неукоснительно расценивалась как нечто более важное, чем наблюдение самых неповторимых чудес природы. Одноэтажное белое бенгалоу с красной черепичной крышей. Над окнами затеняющие козырьки-навесы. Белая колоннада у входа. Площадка перед домом ограждена и украшена парапетами с вазами на столбах, но в вазах растут не цветы, а… статуи цветов. Это красуются роскошные купы ветвистых белоснежных или чуть палевых кораллов. Бенгалоу стоит на мысу над обрывами к океану. Отсюда, почти с самой крайней южной точки Цейлона наверняка можно видеть Южный Крест. Но и тут нам не везет. Именно в этот вечер горизонт затягивается плотной пеленой дымки. Утром ходим по прибрежным коралловым рифам ближайших пригородов Галле. Одна из спутниц кричит. — Смотрите, змеи! Действительно, на коралловой отмели извиваются под водой небольшие змейки. Желание бродить по колено, в воде в гостях у таких хозяек у нас быстро пропадает! Наслаждаемся видом коралловых плит с берега — еще двадцать минут непосредственной близости с рифами. На вилле инженера, где мы ночевали, пачка свежих газет. Узнаем из них, что англичане завершили nepecечение Антарктиды; доктор Фукс словами «Хеллоу, Хиллари» приветствовал знаменитого новозеландца, победителя Эвереста. А вот номер еще свежее. Последние новости о переговорах советской экономической делегации с правительством Цейлона. Советский Союз окажет помощь Цейлону в регулировании и комплексном использовании ресурсов бассейна реки Келани-Ганги. Так на далеком Цейлоне, когда нас стало окружать столько чудес, неожиданно возвратилось ощущение огромного, вне нас существующего мира. И Цейлон и Галле совсем не сказка и не романтика. Здесь скоро развернется будничный труд наших инженеров, гидрологов и гидротехников, энергетиков и мелиораторов, они принесут с собой совсем другую романтику — романтику работы, дружбы и бескорыстной помощи цейлонскому народу… И все же Галле в какой-то степени утолил нашу мечту об особенном. В нем, точно в несбыточных рассказах Грина, сочеталась и трогающая душу живописность природы, и дышащая древностью крепость, и мечтательный маяк, посылающий улыбки Антарктиде, и живая жизнь портового городка, просоленная морскими привычками, смелые рыбаки, вылавливающие рыб, похожих на молоты «мечи… Мы уезжаем из Галле, а мистер Кингсли, заливаясь, рассказывает нам об особой талантливости своих земляков — южных цейлонцев. По его словам, здесь все лучше, чем на остальном Цейлоне, — и кушанья, и танцы, и костюмы… Ему безразлично, кого хвалить из своих соотечественников. Он гордится общественными деятелями из числа южан, хвалит музыкантов, танцоров и инженеров, но тут же шутливо добавляет, что и карманы на юге нужно беречь заботливее, чем на севере… Гала… Галле… Голль… А в нашем воспоминании останется этот город воплощением небывалого, мерещившегося с юности. И лучше всех других подошло бы к нему имя несуществующего гриновского Гёль-Гью.ДЕРЕВЬЯ-ИЖИЦЫ
Коломбо богат не только приморскими окрестностями. Совершаем ряд поездок по предгорным районам, и предоставление о кокосовом Цейлоне дополняется представлением о Цейлоне каучуконосном и чайном. Сначала при поездке в сторону от моря дорогу окружают сплошные кокосовые лесосады. Но вот к дороге подступают округлые выступы серых скал в десяток, а то и полсотни метров высотой. И на склонах увалов на смену пальмам приходят какие-то неизвестные нам деревья, тоже образующие не то леса, не то сады. От стволов этих деревьев совсем не отходят горизонтальные ветви. Каждый ствол ветвится только вверх, раздваиваясь и далее как бы кустясь веником, но не от корня, а примерно с половины своей высоты. Получаются фигуры, напоминающие заглавную латинскую букву игрек или мальчишескую рогатку. Это плантации каучуконосов, знаменитой бразильской гевеи. Ими заняты огромные пространства и в Бразилии, и в Малайе, и в Индонезии. Хочется запомнить их облик, чтобы представить себе гевейный ландшафт так же реально как виноградники или кукурузные поля. Сначала теряешься, — листва заурядная, стволы серые… Но ижицеобразные развилки стволов не спутаешь ни с чем. Под негустыми кронами покоится целый ярус развилочных ветвей. Свет обильно проходит через этаж листвы и заставляет сиять серые стволы и воздетые кверху ветви гевей нежным пепельно-розоватым светом. Совсем особая атмосфера, такой мы никогда не видали в своих лесах. На высоте метра-полутора от земли на стволах заметны косые надрезы. Это следы «подсочки» гевей. К надрезам привешены чашечки из скорлупы кокосовых орехов. В них стекает сочащийся из надреза млечный каучуковый сок — латекс. Встречаются полуголые тамилы с ведрами, опорожняющие собранный в чашечки сок и относящие его на фабрику. Заглянув в ведро, легко принять латекс за сливки или сметану. На каучуковой фабрике знакомимся с разными способами варки каучука. В одном случае получается белое, как морская пена, резиновое кружево, в другом — нежная, вздрагивающая, как желе, розоватая молодая резина. Еще недавно Цейлон производил только полуфабрикаты, вывозя их в Англию, а уже оттуда получал изготовленные из своей же резины изделия. Теперь фабрики начинают сами осваивать производство конечных продуктов. Вот штампованные резиновые салфетки в виде изящных розовых листьев с ажурной рельефной сетью прожилок. Их можно класть на скатерть под тарелки и стаканы, а загрязнив, споласкивать легче, чем любую посуду. Вот тоже штампованные половинки игрушечных попугаев, потом их склеивают. Так поступают и с треугольными выкройками будущих мячиков, из которых сначала получают многогранники, но предварительно заключают внутрь какое-то вещество, выделяющее газ, и (склеенные многогранники раздуваются в шары. Рядом дело серьезнее: штамповка автомобильных покрышек. Это уже не салфетки и попугайчики! Впрочем, ассортимент изделий удивляет и другими неожиданностями: из соседнего станка выскакивают резиновые статуэтки шестируких богов. В одном из цехов над прессовкой и обрезкой белых резиновых кружев работает почти голый сингал — бритый старик с женским пучком-прической, худой и высокий, с умными и грустными глазами. Он даже не взглянул на нас, непрошеных посетителей, — видимо, европейские туристы нимало не развлекают и не привлекают его. Старыйрабочий с полным достоинством продолжал свое дело, мастерски заправляя в станок очередные пласты белого кружева и сбрасывая в сторону обрезки. Не хотелось мешать его работе, но было как-то стыдно уйти, ничем не выразив своего к нему уважения. Сказав по-английски: «Извините, это вам на память», — я положил ему в руку университетский значок и добавил: Это русский, советский». Старик прервал работу, сначала растерялся, забеспокоился, но потом просиял и не знал куда ему смотреть, на меня или на полученный сувенир. Положив значок на станок, он сложил руки в индийском приветствии, ладони килем у груди, и долго провожал нас растроганно улыбающимся взглядом… Администрация фабрики приглашает на склад готовой продукции и предлагает каждому из гостей выбрать по одному изделию на память. Выбираю себе… резиновую вазу! Да, вазу. Мистер Кингсли познакомил нас с этим «цейлонским фарфором» еще в отеле. Брал в руки стоявшую на столе вазу, хвалил качество фарфора, барельефный рисунок летящей богини и краски ее оранжевого Платья, поднимал хрупкий сосуд повыше, чтобы всем было видно, и… нечаянно ронял на пол! Под наше общее испуганное «ах» ваза, ударившись об пол, как ни в чем не бывало, подпрыгивала, точно мяч. И только тут мы понимали, что она резиновая. Со сколькими своими гостями в Москве мы повторили уже теперь шутку Кингсли! Хозяева фабрики и плантации — сингалы, недавно купившие ее у англичан. Они с гордостью говорят о лом цейлонского каучука; во время второй мировом— войны, когда Англия теряла малайские и индонезийские рынки, Цейлон воевал своим каучуком с фашизмом Правда, это не прошло даром плантациям. Подсочки делались втрое чаще, чем допустимо, деревья истощались, и теперь большая их часть требует замены, а значит, новых крупных капиталовложений. Покидаем фабрику и снова едем по гевейным лесосадам среди серебристо-розового света, под сенью косо ветвящихся трезубцев и ижиц. Лес прощается с нами воздев к небу все ветви, словно ему скомандовали: «Руки вверх!» В подлеске какие-то кусты. Впрочем, ведь это не лес, а плантация. Значит, и кусты тут посажены. Нам говорят, что это деревца какао. Гевейный лесосад с подлеском из какао? Остановиться, рассмотреть, сфотографировать? Нем мы уже рискуем еще куда-то опоздать и не удостаиваем какао остановкой. Что ж, хорошо, что мы хоты мельком видели, как оно растет.ЧАЙНЫЕ ГОРЫ
Все чаще встречаются нагие гнейсовые купола — невольно вспоминаются скальные «бараньи лбы» Карелии. Там виновником их сглаживания был великий ледник. Цейлон же выравнивали реки, струи дождя, волны морского прибоя… А в остальном строение недр этого острова действительно сходно с Карелией. Это древнейшие на земле (докембрийского возраста) гнейсы, местами прорванные породами, похожими на граниты Участки особенно плотных и стойких пород уцелели в ходе повсеместного выравнивания и торчат в виде, отдельных пригорков и увалов. Впрочем, возможно, что некоторые из них испытали и новейшие тектонические поднятия. Ведь в сравнительно недавнее геологически время древние равнины Цейлона были взломаны, покороблены, а в районе нагорья подняты и на гораздо большие высоты. Лес расступается, и нашему взгляду открываются бархатно-зеленые склоны низких гор, покрытые сплошь, до самых гребней, невысокими кустиками чайного «дерева». Так вот каков знаменитый чайный ландшафт горного Цейлона! Чайные плантации заняли собой всё: все склоны и гребни до самого горизонта. Как же так? Ведь именно здесь, на юго-западных наиболее увлажненных склонах нагорья, если судить по литературе, должны были бы красоваться величавые влажнотропические леса? Леса с лианами и эпифитами, исполины-деревья с вертикальными досковидными корнями, леса, отличающиеся невероятной сложностью и многоярусностью растительного покрова, леса, кишащие змеями и обезьянами, пиявками и леопардами… О них писали и немецкие путешественники Геккель и Гюнтер, и русские Краснов и Клинген, Липский и Пуранов. Правда, эти же авторы, начиная с 70-х годов прошлого века, сообщали о чудовищных размерах уничтожения влажнотропических дебрей Цейлона. Его учинили алчные плантаторы, расчищая все новые площади для насаждения кофейного дерева, а потом и чайного куста. Но трудно было поверить, читая это, что леса введены сплошь на таких огромных пространствах. Еще Минаев и Геккель, цейлоноведы прошлого века, изрисовали страшные картины того, как велось это уничтожение лесов. Влажнотропический лес. Казалось мая стихия. Как можно было с ней подчинить ее своей воле? У подножия длинного склона плантатор выстраивал длинную цепь лесорубов. Они углублялись в джунгли по всему фронту горного склона и подрубали каждое дерево примерно до половины его толщины, то есть не валя его наземь. Выше, выше пробирались тамильские лесорубы. Топоры помогали им прорубаться сквозь плети колючих лиан, бороться с самым длинным растением в мире — «лазающей пальмой» ротангом, с ее злыми шипами. Когда весь склон на добрую тысячу метров высоты был пройден, вся армия лесорубов, выбравшаяся на гребень, дорубала стволы самых верхних деревьев и… валила их кронами вниз по склону. Раздавался подобный артиллерийскому грохот, и по всему подрубленному лесу прокатывалась чудовищная зеленая лавина «лесопада». Верхние великаны, падая валили собой подрубленные нижние, трещали ломающиеся стволы, хрустели ветви, рвались тенета лиан в панике метались и гибли застигнутые врасплох обезьяны. Проходили считанные минуты, и богатырский лес огромного горного склона лежал поверженный у ног победителей. Такого рода рубку старались приурочить к единственному в году мало-мальски сухому сезону юго-запада: январю-февралю. Поваленный лес слегка подсыхал и до начала весенних экваториальных дождей его торопились сжечь, чтобы уже в ближайшее лето, раскорчевав несгоревшие пни, тамильские батраки могли подготовить землю под плантации. Крупный русский индовед Минаев застал здесь еще те времена, когда взамен сведенных лесов плантаторы высаживали кофейные деревья. Цейлон становился островом кофе. Но не так-то легко было дереву-пришельцу обосноваться на цейлонской земле. У кофейного дерева на Цейлоне обнаружился враг — крохотный ржавчинный грибок гемилея. Он напал на пришлые кусты кофейного дерева и к концу 70-х годов прошлого века почти нацело уничтожил их. Для владельцев плантаций это было экономической катастрофой. Эрнст Геккель, побывавший на Цейлоне в 1881–1882 гг., был свидетелем того, как наиболее предприимчивые плантаторы, разорившись на кофе, переключались на возделывание хинного дерева и чайного куста. Наиболее доходным в условиях Цейлона оказался чайный куст, и слава цейлонского чая начала греметь по миру. В 90-х годах русское правительство, направившее в страны Южной и Восточной Азии специальную экспедицию с участием выдающегося географа и ботаника А. Н. Краснова и крупного агронома И. Клингена, поставило перед ними в качестве одной из главных задач изучение опыта культуры чая на Цейлоне. И вот перед нами чайные горы. Лишь в 2–3 метрах, видны крутые склоны с сохранившимися участками леса. Молодой географ Самаравира, сопровождающий нас в этой поездке, называет такие участки лесов заповедными. Но эти «леса» не более чем по 3–5 гектаров площадью уцелели только на кручах более 50 градусов. Уже сорокапятиградусные склоны считались достаточно удобными для возделывания чая. Поэтому так потрясающе повсеместно сведены с лица земли влажнотропические дебри Цейлона. Чайные горы… Нет, это совсем не уродливо. Не могу согласиться ни с Гюнтером, ни с Липским, пренебрежительно писавшими о «чайной пустыне». Дело не в сравнении того, что есть, с тем, что было. Горы укрыты бархатным зеленым ковром. Точнее, даже не бархатным: есть такой особый сорт «бородавчатого» зеленого плюша. Бородавчатый вид придают ландшафту отдельные куполовидные чайные кусты. Они выстроились правильными, рядами, они, как зеленое войско, завоевали все склоны. Картина, поражающая размерами вложенного в нее труда и радостными красками пышной и свежей зелени, сквозь которую кое-где проглядывает красная почва. Нет, такую победу человека над природой нельзя клеймить, как превращение природы в пустыню. Чайные горы Цейлона по-своему роскошны и хороши. Есть у них еще одна украшающая их черта: на бугорчатый зеленый плюш как бы наброшена прозрачная, предельно легкая кружевная вуаль. Ее создают редкие деревца, специально посаженные для затенения юных кустиков чая и напоминающие не то рябину, не то акацию. В одних местах это австралийские гревилеи, в других — родственницы нашей ленкоранской розовой шелковистой акации — альбицции. Под палящим даже в январе солнцем по склонам работают сборщицы чая — тамильские батрачки. На каждой почему-то черный дерюжный плащ, как бы с капюшоном, а на лбу укреплен ремень, висящий за спиной корзины (в нее кладут сорванный лист). Черный Цвет и грубошерстный вид покрывала находятся в разительном противоречии с лучезарностью экваториальной природы, но таков национальный костюм женщин-тамилок. Они встречают и провожают наш автобус угрюмо, почти не прерывая работы. Да и откуда им знать, кто мы такие? Видно по взглядам, что эти женщины никогда не видали от европейцев ничего хорошего. Гарольд Самаравира ведет нас к своему другу, чайному плантатору, сингалу, который тоже недавно купил у англичан и плантацию и чайную фабрику. Даже нам видно, как британцы шаг за шагом уступают местной национальной буржуазии бастионы своего былого экономического могущества. Осматриваем фабрику: цеха сушки, сортировки, ферментации. У вентиляторов, прогоняющих через сушильные помещения свежий воздух, удается вволю вздохнуть от уже утомившей жары. По аллее из высоких альбицций подходим к бенгалоу, где живет фабрикант-плантатор. Английский владелец оставил преемнику неплохое наследство: талантливо спланированный тропический парк, превосходное здание с обширной верандой и балконопрдобной площадкой перед ней. С площадки открывается широко распахнутая панорама далеких гор и предгорий. Фабрикант подходит к нам и говорит: — С этой площадки мы наблюдали русский спутник._____
Мы осмотрели влажный предгорный юго-запад Цейлона, именно ту часть, которая является для его хозяйства «незастекленной оранжереей». Но это менее чем четверть острова! Нас еще ждет Цейлонское нагорье, мы пересечем и сухотропическую северную равнину.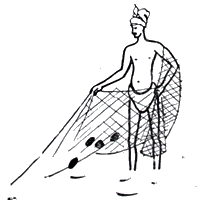
СЕРДЦЕ ЦЕЙЛОНА

КОЛОМБО — КАНДИ
Мы в сквозном маршруте по острову. Первый этап поездки-столбовая дорога всех приезжающих на Цейлон туристов: Коломбо — Канди, путь в сердце Цейлона. Город Канди недаром удостоился столь высокого титула. Сердцем Цейлона он стал еще в годы позднего средневековья, когда сингалы, оттесненные тамильскими нашествиями с северной равнины, осели в предгорьях Цейлонского поднятия и, переменив несколько раз местоположение своей столицы (она побывала и в Гам-поле, и в Котте, близ Коломбо, и в Курунегале, и еще в ряде пунктов), с 1592 года прочно утвердили ее в Канди. Сами сингалы называли свою столицу «Нувара», то есть просто «городом», но часто говорили и обо всем столичном районе, называя его горным. Это звучало «канда». Действительно, горное положение отличало эту столицу от античных и средневековых столиц Ланки, располагавшихся на равнинах. Португальцы, водворившиеся на берегах Цейлона в XVI веке, а затем и сменившие их голландцы, вынужденные считаться с существованием независимого сингальского государства, приняли слово «канда» за название самой столицы, исказив его в «Кандй». Кончилось дело тем, что и сами сингалы привыкли называть свой город не Нуварой, а Канди. Сингальская держава рухнула лишь под напором британских войск, которые в 1815 году с невероятными трудностями и большими жертвами, изнемогая в непролазно-бездорожных джунглях от лихорадок и укусов мириадов пиявок, овладели городом Канди. Но не только воспоминания о былой столичной славе помогают цейлонцам считать этот город сердцем страны. Здесь, на берегу большого и красивого пруда, высится главный буддийский храм острова — храм Святого Зуба. Зуба с большой буквы, ибо большинство сингалов все еще верит, что этот (если судить по размерам) слоновий зуб является зубом самого Будды. Канди — не только сердце, но в большой мере и мозг Цейлона, его крупный научно-культурный центр. В ближайшем пригороде древней столицы, именуемом Перадения, уже больше ста лет процветает научное учреждение мирового значения — Цейлонский ботанический сад, а с 1954 года в Перадению же переселился Цейлонский университет. Летим в автобусе по кандийской дороге, по кокосовым лесосадам, мимо уймы лавчонок с ананасами. Стены лавок увешаны гирляндами ананасов, перед ними на лотках целые пирамиды этих же, то иззелена-розовых, то шелковисто-золотистых чудо-фруктов. Хочется назвать все шоссе ананасной аллеей. То справа, то слева от дороги видны долинные рисовые поля, залитые водой и внешне напоминающие весенние разливы на болотах. Местами в них видны пахари, по колено в воде и грязи погоняющие быков или буйволов. Унизанные непрерывными вереницами усадеб, кокосовые лесосады продолжаются вплоть до предгорий, лишь изредка сменяясь гевейными. Отдельные гнейсовые лбища становятся все более массивными, сочленяются в увалы и встают по сторонам от дороги целыми зелеными кряжами. На их склонах — уже знакомый нам горный чайный ландшафт. Но и тут вдоль дороги не прерываются вереницы хижин. В рестхаузе местечка Амбепусса завтракаем. Наш гид в поездке по нагорью, директор одной из школ Канди, добрый и веселый мистер Мендис обещает показать нам все, чем мы заинтересуемся. Любуемся новым для нас вариантом горной природы. Привычные зеленые горнолесные кряжи — мало ли мы видели таких низкогорий на Карпатах и на Кавказе, на Урале и на Сахалине! Но с некоторых поворотов вдруг прорисуется силуэтом на фоне неба уцелевшая на гребне пальма, да подскажет память, что сегодня 31 января, и поймешь: вся эта зелень совсем не карпатская и не сахалинская, и ты находишься в еще невиданной, невероятной стране вечного лета. Перед большим витком на подъеме автобус останавливается, и нам предлагают проделать часть пути пешком. Не верим своему счастью — чувствовать своими ногами грунт дороги, спрямлять ее зигзаги по щебенчатым тропкам, трогать тропические кусты и деревья, ковырять перочинным ножом обнажения кирпично-красной почвы — латерита. Из движущегося автобуса видишь лишь мелькающий фильм. Идя пешком, впитываешь все детали огромной застывшей картины и запоминаешь ее — пусть одну и, может быть, не самую лучшую, но зато навеки. За широкой долиной, над гребнем хребтика, ограждающего горизонт, высится странная обособленная гора, идеально плосковерхая, точно ее состругали, и с обрывистыми, почти отвесными склонами — не искусственно ли воздвигнутая крепость? Кому-то она своей формой напоминала лежащий том библии. Отсюда и ее название: Байбл-рок — «Библейская скала». Чтобы уловить и выразить глубину панорамы со «скалой-Библией», захватываю видоискателем аппарата в качестве детали первого плана будущей фотографии какой-то придорожный щит. Но, оказывается, он тут, и поставлен с расчетом на использование для этой цели. Когда снимок будет отпечатан, то даже на нем можно будет различить настойчивую рекламу «Пейте минеральную воду львиной марки». Что ж, цель хозяев достигнута. Их приглашение не только пакостит превосходную панораму на месте, но на тысячах фотографий расходится и по всему миру. Рядом крутой изгиб дорожного серпантина. Вместо; того чтобы лишним взрывом снять преграждавшую путь нависшую скалу, строители дороги продолбили тут крохотный туннельчик, точнее — просто оставили скальную арку. Декоративный прием ради увеличения живописности пути. Но попробуйте сфотографировать его, и в кадр неминуемо въедет еще одна назойливая реклама, на сей раз мыла и пудры. У основания поросшего пальмами склона струится, отливая голубизной среди зелени, чистая горная речка. На скальной терраске распластался и блаженствует на солнышке двухметровый варан. Встретишь такого, непредупрежденный, и, пожалуй, примешь за крокодила. Неожиданно в этом мире торжественно молчаливых кудряво-зеленых круч и тихо журчащей реки раздается откуда-то сверху резкий гудок паровоза. Мы знали, что неподалеку от нас из Коломбо в Канди идет и железная дорога, но где она проложена — не представляли. Вскидываем головы и видим: над головокружительными кручами на несколько десятков метров выше нас врублен едва заметный горизонтальный карниз, и по нему, ныряя из туннеля в туннель, бойко катится, словно игрушечный, паровозик с гирляндой вагончиков. Садимся в догнавший нас автобус и, сделав еще несколько витков, шоссе поднимается к уровню железной дороги. Она подходит к нам слева, и, вместе с шоссе, устремляется в широкую выемку перевала Кадуганнава. Мы поднялись уже более чем на полкилометра над морем. Перевал через предгорный кряж, ограждающий Кандийскую котловину. В недавнем прошлом это были важнейшие стратегические ворота горной столицы сингалов. При современном совершенстве дорог и начисто сметенных джунглях трудно себе представить, как именно здесь бедствовали и гибли изнуряемые лесными пи-явками батальоны английских завоевателей Цейлона. Перевал, но в сторону Канди не открывается никаких видов. Склон по ту сторону седловины совсем малозаметен. В сущности мы поднялись не на хребет, а на склон уступа, ограждающего с юго-запада Кандийское плоскогорье. Жилые домики вдоль дороги так и не прекращались на всем пути от Коломбо почти ни на одну сотню метров. Перед нами прошел весь сплошь покоренный и заселенный человеком юго-запад Цейлона. Перед самым въездом в Перадению — мост через крупнейшую реку Цейлона. Быстро, но спокойно мчит свои мутные буро-красные воды Махавели-Ганга — «Большая песчаная река». На мосту стоят люди — нас встречают представители города Канди и Цейлонского университета. Корпуса его недавно отстроены, они на год моложе новых зданий Московского университета на Ленинских горах. Нам показывают неплохо оборудованные аудитории и лаборатории, кабинет географии с большими коллекциями крупномасштабных карт. К сожалению, болен глава университетских географов Цейлона — профессор Куларатнам. Задаем ряд вопросов по геоморфологии и климату острова его ассистентам. На приеме, который устроило нам руководство университета, мы с профессором Степановым, оба географы из Московского университета, выступаем с приветствиями цейлонским коллегам и вручаем им ряд трудов московских географов. Университет расположен в живописной долине на склоне невысокого хребта. Сейчас облик городка очень проигрывает из-за полного обезлесения окружающих склонов. Если удастся на месте этих лысых скатов воссоздать всю роскошь влажнотропической зелени, хотя бы в виде культурного парка, — расположению университета в этой области вечно нежаркого лета (высота около 500 метров над морем!) можно будет только позавидовать. Мы в рестхаузе Перадении. С интересом осматриваю домик, который не поленились подробно описать останавливавшиеся в нем же Гюнтер, Липский, Пузанов… Узнаю даже соседние деревья, детально обрисованные в их записях. И, наконец, вот они перед нами, ворота всемирно известного Пераденийского ботанического сада.САД ИЗ ОКНА АВТОМОБИЛЯ
Мне уже приходилось читать у Гюнтера и Липского, что сад Перадении спланирован в стиле большого английского парка и что девственных джунглей тут нет. Но все-таки где-то подсознательно жила надежда, что хоть здесь мы сможем окунуться в уголки с первозданным сумраком тропических дебрей. И вместо этого мы мчимся в легковых автомобиля по асфальтированным аллеям, среди заботливо подстриженных газонов, и сидящие за рулями преподаватели университета показывают нам в окна главные достопримечательности сада. Вон аллея молодых королевских пальм, вон участок хвойных деревьев, вон прудик с цветами лотоса. В таком темпе и с такой степенью «подробности» можно осмотреть весь сад и за полчаса. Все же и из такого объезда территории нам запомнилось несколько истинных чудес. Разве не чудо, например, одно-единственное дерево, стоящее посередине обширного луга и занимающее своей горизонтально раскинутой кроной площадь более 50 метров в диаметре? При взгляде издали оно напоминало исполинский гриб на коротенькой ножке с несоразмерно широкой шляпкой. Мы упросили своих гидов остановить машины и буквально побежали по зеленому лугу под невероятный навес. Этикетка под толстым стволом гласила, что это яванская смоковница, фикус Бенджамина. Три-четыре воздушных корня поддерживали горизонтальные сучья лишь у самого их основания, совсем рядом со стволом. Многие ветви простирались на всю свою 25-метровую длину без единой вертикальной подпорки. Под навесом дерева-гриба была глубокая тень и ощущалась даже легкая свежесть. Как пьедестал огромной плетеной вазы, ореолом вокруг ствола раскинулась сеть могучих радиальных корней — у такого великана-гриба должна быть и достойная уравновешивающая подставка. На краю луга — несколько пальм, сутуловатых, осадистых. На концах невысоких стволов густые пучки веерных, как у хамеропса, вай. Плодов никаких не видно, а нижние листья, надломленные и безжизненные, придают пальмам неопрятный вид. Мы и не обратили бы внимания на этих нерях, но наши гиды показывают их нам как драгоценную достопримечательность парка. — Дабль-коконат! Дабль-коконат (двойной кокосовый орех)! — говорят спутники, и мы сначала не понимаем в чем дело: внешне пальма не похожа на кокосовую. Лишь прочитав этикетку «Лодоицеа сейшеллярум», вспоминаю: это знаменитая пальма Сейшельских островов. Долгое время были загадкой прибиваемые к берегам Южной Азии прибоем крупные (до 40 сантиметров длины и до 25 килограммов веса каждый) орехи, напоминающие сдвоенные перемычкой кокосовые, и никто не знал, на каких же пальмах растут эти «двойные кокосы». Лишь с открытием Сейшельских островов (северо-восточнее Мадагаскара) была обнаружена виновница создания этих орехов — сейшельская лодоицеа. Это редкое, ныне специально охраняемое дерево поразительно медленно растет и долго живет. Давая по одному листу в год, оно, лишь прожив полтысячелетия, достигает зрелости. Не торопится пальма и с размножением: орех ее созревает десяток лет, да и на прорастание ему нужно не менее года. Все это — качества, которые могли развиться только в условиях длительной островной изоляции, где не было нужды в борьбе с более быстро развивающимися соперниками. В начале века в саду высажена целая аллейка молодых лодоицей. Сейчас это всего пятидесятилетние низенькие «девочки», а к 2400 году ожидается их совершеннолетие. Проезжаем мимо озерца, окаймленного нильским папирусом, и останавливаемся в аллее колоссальных пальм, составляющих главную гордость Пераденийского сада и всей цейлонской флоры. Это прославленный талипот, или зонтичная пальма, царица пальм всего мира. В противоположность сейшельской старушке, медленно живущей целые тысячелетия, талипоту свойственно жить краткой и пылкой, всего лишь полувековой, почти как у человека жизнью. Достигая 40–60 лет, великанша единственный раз за свои полвека, но зато могуче и вдохновенно цветет: над вершиной ее поднимается исполинский (до 14 метров высоты!) фонтаноподобный султан, раскинувший в стороны кисти-соцветия, словно огромные страусовые перья. Но это цветение не только единственное, но и предсмертное: все жизненные силы отдала пальма этому палево-желтому фонтану красоты и силы. Уже поникли, померкли листья цветущего гиганта, и срок созревания его плодов будет сроком гибели всего дерева. Когда-то на Кавказе, во время ночлега у костра на высоком хребте среди альпийских лугов, о талипотовой пальме мне с увлечением рассказывал и даже читал о ней свои стихи зоогеограф профессор Пузанов, в молодости путешествовавший по Цейлону. Помню, тогда так захотелось хоть раз увидеть эту пальму, и, как она, не бояться краткости жизни, если можно закончить ее таким. торжественным и животворным цветением. Теперь я воочию вижу эту мечту своей юности, казавшуюся такой несбыточной. Как и встреча с любой мечтой, осуществимость сказки чуть разочаровывает, а некоторые буднично реальные детали кажутся даже раздражающими. Зачем, например, в нижних частях этих стройных стволов напялены, точно драные гамаши, чехлоподобные утолщения с черенками — остатки юношеских листьев? Целая аллея великанов — они еще не цветут. И лишь одна ближайшая к нам пальма, так и хочется сказать, во цвете лет красуется гордым султаном цветов и стоит уже с увядшими листьями в ожидании смерти. Многометровый лист, талипота не только красив: он и полезен. Это готовые зонты и веера, это и материал для древнесингальского «пергамента» — именно на этих высушенных и разрезанных на полоски «ола» нацарапана и затем втерта в царапины тушью многовековая летопись сингалов — эпопея Махаванза. Вот еще несколько пальмовых аллей: одна — из сухотропических пальмир 70-летнего возраста; другая — из антильских королевских пальм совсем молода: ее составляют всего лишь 30-летние деревья. Будущие королевы стоят здесь еще несформировавшимися бутылевидными «коротышками-девушками», но уже и в этих принцессах проступают черты будущей царственной стройности. А вот и двоюродные сестры королевских — пальмы «кэбидж», то есть «капустные». Их родина — Панама. Они образуют дивную колоннаду высочайших тонких и удивительно стройных стволов, строго вертикальных (вот уж где нет наперекрест один другому наклоненных стволов, свойственных кокосовым рощам!). Шапка упадет с головы, если, стоя под этими пальмами, пытаться взглянуть на их поднебесные кроны. Эти красавицы посажены здесь в 1905 году — им сейчас по 53 года. В цейлонских лесах нельзя найти ни хвоинки, — в дикой флоре острова совсем отсутствуют хвойные. В Пераденийском же саду нас уже издали приветствует высокая башнеобразная араукария Кука — хвойное дерево с островка Норфолк, затерянного в океане к северо-западу от Новой Зеландии. А это что за гиганты уперли в землю свои вековые стволы? Удлиненные, как у ясеня, но лаковые вечнозеленые листочки… Лиловато-коричневая, удивительно благородного цвета гладкая кора…,И через немногие трещины в коре этого на вид лиственного дерева сочится настоящая хвойная смола, а на земле валяются шишки. Перед нами действительно хвойное дерево, но каждая хвоинка его листовидно расширена — признак частый у тропических и субтропических хвойных. Растения влажных и теплых стран не боятся испарять избыточную влагу, а значит и не заботятся об уменьшении испаряющей поверхности. Грандиозными многоохватными колоннами, ногами чудовищных слонов кажутся эти допотопные стволы. Перед нами так называемая сосна-каури, на самом же деле вовсе не сосна, а агатис робуста, чудо-дерево Новой Зеландии. Как и талипотовые пальмы, эти богатыри совсем юны для своих исполинских размеров — им еще не стукнуло и 70 лет.СКАУТЫ И ГАЙДЫ
В Канди нас тоже ждут учителя и ученики. Bечерний чай проводим с учителями и любуемся концерном, на котором нам демонстрируют свое искусство местные танцоры. В Коломбо мы уже повидали кандийские ритуальные танцы в профессиональном исполнении, но тут был на лицо приоритет места: Канди сообщало исполнению кандийских танцев полную подлинность. На танцорах сверкающие металлическим блеском и ярчайшими красками костюмы. На голове одного из них целая пагода на фоне сверкающего вертикального щита с концентрическими орнаментированными кругами. Сферические металлические наплечники, трехстворчатые щитки на ушах… Над глазами выступает каркасный козырек с диковинными побрякивающими подвесками, ниже подбородка висит блестящая «салфетка» в виде сетки из счетверенных бисерных нитей. На голых руках, и ниже и выше локтей, бряцает по нескольку металлических браслеток. Танцорам подыгрывает неистовый барабанщик в чалме и серьгах. Талия его перехвачена розовым кушаком, юбка обычная, сингальская. В мужских кандийских танцах мало изящества. Танцоры изображают преимущественно злых духов, что, видимо, не располагает к грациозным телодвижениям. Люди шевелятся угловато, пугающе зловеще, медведисто. Вся соль в постепенном усложнении ритма и нарастании темпа: учащается махание руками, дробнее становится топот, резче содрогания туловища… Концерт затягивается так, что близится время ужина, которым нас угощает сегодня сам мистер Мендис. Перед этим он еще завозит нас в свой колледж — приезжаем туда уже в сумерках. Выходим из автобуса, готовые к обычным приветствиям и рукопожатиям. Но вдоль забора раздаются выстрелы — это рвутся приветственные петарды, салют скаутов, и слышны отрывистые слова команды. Мы видим строй юношей в короткорукавных гимнастерках и трусах хаки. Их головы повернуты влево, а один из них, отдавший команду, уже подбегает к нам со словами рапорта, уверяющего в их верности отечеству, религии и королеве. Это почетный караул бойскаутов. Юноши демонстрируют нам свои игры и импровизированные спектакли у костра, рассказывают о значении различных нашивок и эмблем, полученных отдельными мальчиками за успехи, например в оказании первой помощи, в полевой кулинарии, в изобретательстве, художествах, туризме и т. п. Через несколько дней в одном из городков мы познакомились и с другим вариантом детской организации. Во дворе очередного колледжа нас встретили девочки в форменных кофточках и коротких юбках хаки, стоящие в строю. Тоже бойскауты? Но ведь «бой» означает «мальчик», а как называется организация девочек? Оказывается это «гайд-гёлз», девушки-проводники («гайд» — английское произношение принятого у нас «гид», то есть экскурсовод). Девушки продемонстрировали нам умение с одной спички зажечь костер, молниеносно поставить палатку, сварить пищу. Они увлечены краеведением. Вот их коллекции: гербарий, семена, горные породы и целая выставка рисунков с натуры. Гайд-гёлз позаботились о нас и устроили трогательную экспозицию тропических плодов — у каждого фрукта была этикетка с английским, латинским и сингальским названиями. Именно этого нам не хватало: за столом во время угощений появлялось такое количество диковинных фруктов, что мы едва успевали их пробовать, но не всегда хватало времени спросить и запомнить что как называется.ХРАМ СВЯТОГО ЗУБА
Но вернемся в Канди. Следующий день, отведенный ботаническому саду, должен был все же включить и посещение главной достопримечательности самого города-храма Святого Зуба. Центр бывшей столицы украшен большим благоустроенным прудом. Мнения лиц, писавших о Канди, часто расходились: одни авторы писали о местоположении города с умилением, чуть ли не как о филиале рая на земле, и особенно много похвал расточали этому «озеру»; другие, напротив, не скрывали своего разочарования, оценивая живописность ситуации Канди как посредственную. К кому из ценителей мы присоединимся? Котловина, конечно, живописная, зеленая, и водный бассейн, как всегда, украшает любую местность, удваивает ее пейзаж зеркальными отражениями. Но это живописность заурядная, свойственная тысячам подобных городков в любой низкогорно-лесистой стране, будь то Средний Урал или Тюрингенский Лес в Германии. Одна поправка — на вечное лето и щедрую зелень пальм. Храм Зуба — «Далада Малигава» — в ремонте, но можно ли по такой прозаической земной причине прекращать поклонение хранящейся в нем святыне? Повесить вывеску «Храм закрыт на ремонт» здесь никому не придет в голову. Между устоями строительных лесов, творилами с известью и чанами с краской лежат ничком на каменных полах и молятся верующие. Местами их так много, что хоть перешагивай. Обувь мы, конечно, оставили при входе и осторожно передвигаем босые ноги, чтобы не задеть распростертых на полу тел. Обстановка, несмотря на ремонт, таинственно торжественная. Все время раздается дробный треск барабанов, звучат странные призывные мелодии, исторгаемые неизвестными нам инструментами. Долго ждем в тесном вестибюле, напоенном одуряющими ароматами. Различаем в них знакомые нам запахи плюмерий и жасмина, но к ним примешан еще целый спектр неведомых благовоний. Наконец, нас вводят в совсем небольшую комнатку, в центре которой стоит на внушительном постаменте сияющая золотом башня типа маленькой дагобы. Ее поддерживают изящные лотосы, сделанные из чистого золота. Нам рассказывают, что внутри этой священной раки помещается еще шесть концентрических, одна в другую вложенных рак — так у нас. делают игрушечных матрешек. Чем меньше дагоба, тем роскошнее она украшена драгоценностями, ибо в самой внутренней наименьшей дагобе покоится главная реликвия — Святой Зуб. Увидеть его — честь, оказываемая далеко не всем. Елизавете, королеве Цейлона (и Британии), его показали. А вот британскому же премьер-министру Макмиллану, только что при нас посетившему Цейлон, — нет. Это нас все же утешило: если даже Макмиллану не показали Зуба, не будем обижаться и мы. Около раки стоит буддийский монах в оранжевой тоге. Человек средних лет, упитанный, с веселым бойким лицом. Он гораздо более склонен к шутливым улыбкам, чем к напускной торжественности и благолепию. Пожилой сингалке, принесшей к раке на подносе какие-то дары, святой отец ухмыльнулся с таким подмигиванием, что по православным нормам вполне заслуживал бы оплеухи. Этакая «демократичность» служителя храма, можно сказать в самой его святая святых, неприятно резнула. Мы вспоминали эту сцену с невольной досадой, обходя на обратном пути простертые тела фанатично и беззаветно верующих. Миллионы людей боготворят в качестве святыни Зуб, о котором во многих книгах можно прочитать, что это простой кусок слоновой кости двухдюймовой длины. Но дело совсем не в уверенности молящихся, принадлежала или не принадлежала эта таинственная кость челюсти самого Будды. За две тысячи лет Зуб приобрел значение символа. В 311 году нашей эры его привезла на Цейлон индийская принцесса, причем для этого ей пришлось прятать святыню в своей прическе. Его боготворили во времена расцвета древних столиц — Анурадхапуры и Полоннарувы, строили для него специальные храмы, тоже называвшиеся Далада Малигава; его ежегодно возили в золотом ларце на священном слоне по улицам в дни феерических шествий Перахеры; его спасали от врагов, похищали и возвращали. Португальцы публично сожгли «языческую кость», думая, что этим они искоренят буддизм. Но людей, верящих в символ, было легко убедить, что сожжена была фикция, истинный же Зуб, перепрятанный на это время, чудесно спасся. В начале XVIII века Зубу был воздвигнут ныне существующий храм в Канди. Все это следует помнить, пытаясь проникнуть в психологию верующих и оценить значение обожаемой святыни. В других залах храма нам демонстрируют целую серию статуй Будды — золоченые и хрустально прозрачные, подсвеченные. Кругом затейливые орнаменты, гротескные горельефы чудовищ, расточительные инкрустации из самоцветов. Выходим на балкон Октагона — восьмигранной башни, под которым во рву с водой плавают крупные черепахи. Этот Октагон, по-сингальски — Паттирипува, заключает в себе ценнейшее хранилище древних рукописей. Именно здесь хранятся манускрипты Махаванзы древнецейлонской летописи, нацарапанные на ола — листьях талипотовой пальмы. Конечно, если бы мы располагали для осмотра Канди еще одним днем, мы бы сумели повидать в этом городе немало интересного: и дворец последних королей, и музей кустарных изделий из слоновой кости, и кандийскую чеканку по металлу, и самые мастерские волшебников-чеканщиков. Наконец, по-видимому, очень хороши и многочисленные аллеи в ближайших окрестностях города, носящие имена британских губернаторш — леди Блэйке драйв, леди Хортонз драйв… Судя по обилию таких названий, можно предположить, что жены английских губернаторов Цейлона немало распоряжались парковым благоустройством Канди. Но сейчас нам не до музея и не до аллей с именами леди Хортон и Блэйк. Мы рады, что храм Зуба занял у нас лишь час времени. Значит, целый день мы проведем в другом, в тысячу раз более интересном и волнующем храме — ботаническом саду Нерадении.ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТРОПИЧЕСКОЙ ФЛОРЫ
Теперь мы осмотрим Пераденийский сад уже не из окон бешеных автомобилей, а пешком; мы, как хозяева, сами выбираем себе для осмотра все, что нам интересно. День с утра пасмурный, в воздухе моросящая сырость. В храме мы на это не обратили внимания, но в саду… Что делать, надо испытать зимний муссон в действии, не только иссушающем, как в Коломбо, но и увлажняющем. Из солнечной приморской столицы мы почти ни разу не видали гор, их всегда скрывали хмурые тучи. А теперь мы сами поднялись на высоту 500 метров и даже перевалили на северо-восточную покатость Цейлона — вот и ощущаем эту влагу наощупь. Дождя в сущности нет, и после стольких дней экваториальной жары такая погода могла бы даже освежать. Но тут начинается скорбь фотографов: сколько было надежд на цветные съемки роскошно цветущих растений сада! А при пасмурном небе и мороси какое же цветное фотографирование? Даже путеводитель не всегда раскроешь, чтобы ориентироваться в маршрутах по саду… Территория его занимает трапециевидную площадку, омываемую с трех сторон большой и крутой излучиной реки Махавели-Ганги. От главного входа идем по длинной оси этой площади, по Главному центральному маршруту. Но уже один из первых же поворотов вправо манит нас названием' Лианного маршрута. Свернули и оказались… в давно желанном уголке из настоящих гигантов влажнотропических дебрей. Было трудно распознать в чаще лиан, декорирующих огромные деревья, какие ветви и листья принадлежат лиане или эпифитам, а какие дереву-«хозяину». Лианы свисали гирляндами, тянулись от дерева к дереву, как обезьяньи качели, душили чьи-то прямые стволы своими вьющимися древесными стволами. Лианы-удавы, лианы-канаты, цепи, тросы… По одному из деревьев лепится особенно много пальмовых листьев. Это карабкается лазающая пальма, пальма-лиана ротанг, или калямус, вооруженная зверскими шипами. Она чемпион среди растений мира: какое из них превзойдет его стебель, достигающий 300 метров длины? А вот и старый знакомый. По ветвям и стволам цепляется угловатыми поворотами стебля-ствола растение с крупными, как у лопуха, вечнозелеными листьями. Листья рваные, но больше не по краям, а с дырами посередине. Обитатель комнатных кадок, часто неверно именуемый филодендроном, он превосходно себя чувствует на открытом воздухе в цейлонском саду, развешивая бороды из воздушных корней. Его истинное название — Монстера делициоза, то есть «Красивое чудовище», хотя неплохо подошел бы к этому растению и перевод «Чудовищная красавица». На изучение одной этой аллеи сада нужно потратить несколько дней. Столько здесь растений, из стольких они мест привезены и посажены! Бразилия переплелась с Индонезией, Мексика с Конго. Эти сплетения лиан и названий как бы символизируют географическое представительство флор в Пераденийском саду. Перед нами отнюдь не только цейлонский сад. Это целая энциклопедия мировой тропической флоры. Снова выходим на Центральный маршрут. Многие фикусы, подобно осмотренному нами вчера фикусу Бенджамина, удивляют своими корневыми пьедесталами. Радиальные корни выпирают из земли в виде досок, поставленных на ребро, высотой до полуметра. С помощью таких досковидных контрфорсов ствол обеспечивает себе должную устойчивость даже в болотистых джунглях с их раскисающим и оплывающим грунтом. Совокупность упоров создает пьедестал, обладающий весьма значительной конструктивной жесткостью. Свернули в аллею гигантских лиственных деревьев-канариумов и поняли, что все досковидные корни фикусов, виденные нами до этого, кажутся детскими игрушками. В театре посмеялись бы над художником, вздумавшим сделать подобную декорацию. Какой же чудак станет приделывать к основаниям стволов такие бутафорские вертикальные ребра! Но перед нами не декорация, а живые величавые деревья, и их корневой «пьедестал» разросся как бы вверх по стволу. Высота корневых «досок-ребер» достигает 2 и даже 3 метров, а ширина их плоскостей — метра и двух. К стволу они примыкают примерно так же, как направляющие ребра оперения к корпусу торпеды. Толщина каждой лопасти всего 3–4 сантиметра, так что ребра эти кажутся сделанными из толстой фанеры и кое-как покрашенными в серый цвет. Человек скрывается за некоторыми из ребер в полный рост. Это уже крайняя, рекордная форма досковидных корней. Дорога выходит к Махавели-Ганге и радует нас все новыми и новыми пейзажами. То мы видим дерево с плодами в виде пушечных ядер, то дерево, увешанное… колбасами, так выглядят его плоды. На одной из этикеток надпись «фикус паразитика» и пояснение, что ствол этого фикуса, скрученный словно канат из нескольких древовидных лиан, имеет в качестве своего устоя задушенную ими гвинейскую масличную пальму… Над рекой встают могучие купы гигантских бамбуков, каждая из них как огромный букет. Неожиданно эффектна окраска их стеблей то сизо-голубая, то лиловато-зеленая… В одном месте из реки выступают серые куполовидные островки. Что эта, гнейсовые скалы? Но никаких порогов рядом не видно. Неожиданно один из островков пошевелился, и стало ясно, что это купающийся слон. Священные слоны кандийского храма любят чистоту, и их часто купают. Долго наблюдаем, как погонщики уговаривают своих подопечных повернуться с боку на бок, как трут им спины и уши. Вымыть целого слона, пожалуй, нелегкая работа! Неподалеку от качающегося моста через Махавели-Гангу луговая терраса с невзрачными, мало чем запоминающимися деревьями. Было даже досадно, так хотелось навсегда запомнить их наизусть — ведь это были знаменитые с недавних пор бальзовые деревья, те самые, из которых был построен легендарный плот «Кон-Тики»! Группа высоких деревьев на одной из аллей уже издали обращала на себя внимание. Во-первых, тем, что на их ветвях висели какие-то крупные грушевидные мешки — не то плоды, не то гнездакоричневато-черного цвета; во-вторых, тем, что именно над этими деревьями стоял неприятный птичий крик и носились стаи крупных птиц, похожих, если смотреть издали, на ворон (кстати, ворон на Цейлоне куда больше, чем павлинов и зимородков). Подходим ближе и понимаем, что на этих деревьях обитают совсем не вороны, а крупные рукокрылые млекопитающие, тропические летучие собаки. Грушевидные «плоды» — это висящие тела тех же животных в естественной для них позе отдыха. Странное впечатление — летают огромные бурые птицы со звериными мордами и когтистыми задними лапами. Иногда пробуждаются и висящие «груши» — то им нужно почесаться, то помахать на себя одним из крыльев, как веером — ведь и им тоже жарко… С особым чувством смотрим мы на маловыразительное ядовитое деревце (родом с острова Явы) со страшным названием анчар (по-латыни Анциарис токсикафиа), легенда о котором когда-то вдохновила Пушкина на дивное стихотворение. Осматриваем питомник орхидей и небольшой «кактусятник». Кактусам — гостям из сухотропической Мексики нелегко дышится во влажной теплице Цейлона, поэтому их держат в подсушиваемой оранжерее. Посещаем беседки-памятники крупнейшим деятелям сада, его директорам Джорджу Гарднеру и Джорджу Генри Кендику Твэйтсу. Первый из них возглавлял сад в 1843–1849 годах, а второй с 1849 по 1880 год. Не грех было бы помянуть добрым словом и первого директора сада — ботаника Александра Мууна, основавшего его в 1821 году и составившего первую «флору» Цейлона! Впрочем, основателю было на что опереться. Площадь, занятая садом, уже в XVIII веке служила королевским парком сингальских самодержцев. Заслуга Мууна заключалась в перенесении сюда многих растений-экзотов из Коломбо и Калутары, где возникали первые зачатки этого сада. Не нашлось покуда средств для памятников и преемникам Твэйтса — ботаникам Траймену, Уиллису. Зато довольно обильно оснащен сад «живыми памятниками» — растениями, посаженными в честь пребывания в нем тех или иных высоких гостей. Вот английский король Эдуард VII в 1875 году посадил здесь отводок священного фикуса — дерева «бо»; теперь это внушительное дерево. Близ беседки Твэйтса высится железное дерево, по-сингальски дерево «на». Оно посажено… Николаем Вторым в 1891 году, когда последний из Романовых путешествовал вокруг Азии, еще будучи наследником русского престола. Вам покажут посадки принца Уэльского и короля бельгийского, назовут в числе высоких гостей и лорда Маунтбеттена, командовавшего британскими войсками в Юго-Восточной Азии в 1945 году. Но тщетно вы будете ждать, чтобы в саду красовалось дерево, посаженное Эрнстом Геккелем или Гюнтером, натуралистами, которые, как никто, содействовали популярности и славе природы Цейлона. Когда-то и русские природоведы, прекрасные пропагандисты Цейлона, Краснов с Клингеном, и Липский, и Пузанов были в глазах тогдашних руководителей сада лишь рядовыми посетителями-натуралистами. А насколько у них больше было бы прав, чем у любого принца, оставить о своем посещении именно такую память! Вот, пожалуй, небольшое тамариндовое деревцо будет достойным памятником: оно посажено первым премьер-министром независимого Цейлона господином Сенанаяке в память первого же дня независимости страны — 4 февраля 1948 г. А вот и совсем свежая ограда: она охраняет веточку, которую посадил посетивший сад только вчера почетный гость — глава правительства Чехословацкой республики. Многозначительный первый росток дружбы Цейлона с народами народно-демократических стран! Географы и ботаники, мы льнем к каждому дереву, к каждой этикетке. Ведь столько читано об этих великанах тропических лесов, о диптерокарпусах и терминалиях, об эйжениях и калофиллюмах, о саловых, тековых и эбеновых деревьях — и вот все они в натуре перед нами, с необъятным разнообразием видов. Так хочется все их перевидать, все запомнить… Но начинаем понимать, что натуралисту, конечно, и дня, и недели мало для того, чтобы охватить и запомнить основные богатства Пераденийского сада. Кстати, главный ботаник Петербургского ботанического сада Липский дал в итоге своей примерно полуторамесячной поездки на Цейлон подробное описание Пераденийского ботанического сада в своей книге «Цейлон и его ботанические сады», изданной в 1911 году. День в саду Перадении! Теперь весь сад, как живой, со всеми своими аллеями, луговинами и приречными кручами, стоит у нас перед глазами, а привезенный с собой с Цейлона путеводитель позволяет мысленно совершать все новые и новые экскурсии по саду — и это тоже приносит наслаждение.
КРЫША ЦЕЙЛОНА

ДОРОГА ВВЕРХ
Путь вверх по широкой долине среди чайных гор. Ложе долины совсем пологое, так что машина мчится, как по равнине, и притормаживает, да и то совсем немного, лишь из-за частых поворотов. В цейлонских автобусах, кроме шофера, имеется кондуктор-проводник. Одна из его обязанностей — выбегать и командовать при наиболее крутых разворотах или при слишком тесных разъездах со встречными машинами. Крутой вираж, без заднего хода не развернешься, а обрыв вниз порядочный; проводник выскакивает и кричит шоферу, осторожно осаживающему машину. — Райт! Райт! (Правильно! Правильно!). Английское R почти не различимо на слух, и нам слышно: — Ай! Ай! «Горно-чайный» ландшафт однообразен, и все-таки природа поминутно преподносит нам новые впечатления. В большую долину то и дело открываются долинки притоков. Они совсем плоскодонные и удивительным образом лишены тех шлейфовидных подножий, которыми обычно смягчен переход от плоского дна долины к более крутым склонам. У этих цейлонских долинок по всей линии подошвы склона проходит резкое ребро, словно нарочно подкопанное. Впрочем, так оно и есть: пологость днищ у подножий явно искусственная. Ведь вся площадь дна до последнего метра возделана под рис, а по самым подошвенным вгибам прокопаны каналы, подводящие воду для залива полей. Вот и получаются долины-ящики, долины — плоскодонные корыта. Круче склоны, извилистее дорога. Шофер виртуозно разъезжается со встречными машинами. Иногда все же приходится давать задний ход и слушать обнадеживающее «Ай! Ай!» штурманского помощника. Оглядываясь, видим, что машина при этом так нависает кузовом над обрывом, что хочется сказать «ай-ай» совсем в другом смысле. Миновали одну из древних столиц Цейлона — Гам-полу. Трасса нашего подъема проложена далеко в обход прямого подъема на нагорье. Впереди и по сторонам видны обширные плосковерхие кряжи. Это края верхних плоскогорий Цейлона. Еще выше громоздятся вершинные гребни — у них диковатые грубо обрубистые формы, подобные уже виденной нами Библейской скале. За рекой на противоположном склоне долины прочерчен карниз железной дороги, иногда видны и миниатюрные поезда. Решительный подъем на уступ в дне долины, и мы переносимся с уровня Кандийского плато на вышележащее плоскогорье Хаттон. Это плоскогорье высотой в 1200–1600 метров все целиком занято плантациями чая. Немного не доехав до городка Хаттон, останавливаемся у маленького отеля с гордым названием «Пик». Это первая точка на подъеме от Канди, с которой отчетливо виден Адамов пик. Хозяева с расчетом выстроили здесь свой отель — место располагает к отдыху в середине дальней дороги. Из Хаттона можно было бы отправиться в верховую или пешеходную экскурсию на вершину священной горы. Еще Геккель говорил, что непростительно, побывав па Цейлоне, не посетить Адамова пика. Но этот тезис не был принят во внимание составителями нашей программы. Пообедав в «пиковом» отеле, мы едем от Адамова пика совсем в другую сторону, правда, тоже в достаточно известное место — к света» (так переводится название курорта Нувара-Элия). Теперь наш путь пролегает уже по верхнему этажу плоскогорий Цейлона. У горных панорам есть своя гипнотизирующая власть. Чем выше поднимаешься по склону, чем больше глубей тонет внизу, в океане воздуха, чем неохватнее дали раскрываются за спинами ближних хребтов, тем сильнее чувство торжества, охватывающее человека. Жадными взглядами ловим, глотаем все новые ракурсы горных красот Цейлона. Плоскогорье оказывается совсем не монотонным, оно ступенчато. Хаттонское плато изрыто глубокими долинами, по ним мчатся пенистые реки, мчатся и… неожиданно низвергаются с отвесных стен всей своей мощью, образуя феерические водопады. Вот один из уступов развернулся перед нами анфас, и нам сразу стало понятно, что за облачко пара клубится над прорезающим этот уступ ущельем. Его создает водопад с раздвоенной струей, именуемый поэтому Близнецы. Карнизы шоссе врублены здесь над совсем головокружительными обрывами. Переваливаем через невзрачный хребтик и чувствуем, как что-то изменилось в природе. Вместо сплошных ковров бугорчатого чайного плюша с вуалью теневых деревьиц, вместо всего этого грандиозного рукоделия, занимавшего горы до горизонта, у дороги стали встречаться какие-то серые пустоши — то ли заброшенные плантации, то ли просто замусоренные пустыри, с которых неизвестно кто и зачем сводил лес. У редких кустов и деревьев, торчащих вдоль дороги, непривлекательный запыленный вид — матовая, словно жестяная листва. Куда исчезло ощущение изобилия, щедрости природы? Было трудно после насквозь возделанного юго-западного Цейлона привыкнуть к мысли, что здесь же, совсем рядом, может существовать бесплодная, безлесная и на протяжении целых километров безлюдная природа. Мы не сразу поняли, что перед нами первые участки нагорных цейлонских патн — так здесь называются своеобразные нагорные степи, которые произрастают на более сухих северо-восточных склонах нагорья. Помню, что кто-то сравнивал патны с саваннами. Саванна… Красивое, обещающее такую романтику слово. Неужели эти мусорные пустоши и есть саванны? Плантации чая все же встречаются, но не сплошные, а клочками. Видно, что здесь предел успешной культуры чая: пояс сплошных плантаций окружен полосой чайного «арьергарда», где. успехи чаеводов перемежаются с неудачами. Еще выше, если и попадаются пашни, то они заброшены, здесь слишком прохладен и сух воздух, и чай не достигает тут той прелести, как в ярусе от 1000 до 2000 метров на влажной покатости нагорья. Впереди открывается вид на пологую черно-зеленую от густого леса гору, широкий расплывчатый каравай. Прикидываю по карте и вижу, что именно здесь поднимается высочайшая вершина нагорья и, значит, всего Цейлона. Мистер Мендис подтверждает это и тут же обучает нас произносить ее сложное имя: Пидуруталагала, в переводе — циновочная гора. Высота вершины 2525 метров над уровнем океана. Но ведь и мы поднялись на высоту 1900 метров, так что вершина эта совсем ненамного превышает уровень цокольного плоскогорья. Короче говоря, в ней нет ничего величественного. Немудрено, что задорная пирамида Адамова пика и при меньшей высоте (2243 метра) оказалась несравненно популярнее высочайшей вершины страны. По фасу лесистого купола видны неглубокие лощины со ступенчатыми руслами, и даже издали заметны серебристые нити водопадов. Видимо, геологически совсем недавно тут происходили выдвигания отдельных глыб цейлонских недр; в частности, такое «молодое» поднятие испытала и глыба Пидуруталагалы. Если бы оно не было столь молодо, подобные водопады не могли бы уцелеть у нас на виду, словно подвешенные на ее склонах. Они давно успели бы прорезать эту гору ущельями вплоть до уровня окружающего ее цоколя.ГОРОД СВЕТА
Шоссе устремляется в обширную котловину, раскинувшуюся у подножия Пидуруталагалы. Местами в зелени садов проглядывают уютные коттеджики дачно-курортного стиля. Вдоль шоссе мелкими оранжевыми огоньками светятся цветы придорожного кустарника — лантаны. О любопытной судьбе «того растения мы еще в Москве читали у Гюнтера. Одна из губернаторш — любительниц садов уже упоминавшаяся леди Хортон привезла этот кустарник в 1830 году из Южной Америки в качестве украшения для своего сада. Но цейлонские птицы, в особенности мадрасские соловьи, прельстившиеся ягодами лантаны, стали усиленно содействовать переносу её семян, и кустарник, не имеющий тут привычных ему врагов (в Южной Америке было кому сдерживать его размножение), расселился как сорняк по всему острову, а затем и по всей Южной Азии в огромных количествах. Видимо, его местное имя — леди Хортонзвууд — цейлонцы произносили без особой любви к виновнице такого «обогащения» цейлонской флоры. Дно котловины обрамлено аллеей могучих деревьев. Можно принять — их издали за кедры, но это особые крупнохвойные кипарисы, по виду, кроме формы хвои, не имеющие ничего общего с привычными нам пирамидальными. Кроны широкие, растрепанные. За аллеей плоский луговой овал, местами поросший кустиками золотистой акации и окаймленный по всей окружности овальной же беговой дорожкой. Первое впечатление от знаменитой Нувары-Элии оказывается довольно прозаичным. Почему раньше всего мы увидали тут именно ипподром? Нувара-Элия, в сокращенном английском произношении Нюрелия, являлась для колонизаторов-северян подлинной отдушиной, форточкой в прохладу среди оранжерейно знойного воздуха Цейлона; сюда устремлялись правители всех рангов и вся островная аристократия и проводили здесь как жаркую осень, так и не менее жаркую весну. Проводили, значит нуждались в развлечениях. Ипподром — одно из первых по важности развлечений нюрелийских курортников. Одно из первых, но не первое. Главная слава Нувары-Элии — это ее стадионы для игры в гольф — подобие нашей лапты. Клюшками бьют по белому мячику, и он взлетает неведомо как далеко, с гудящим свистом в полете. За сотни метров среди луга виден — широкий овальный окоп — мишень для попадания. В речке, чуть не по пояс в воде, бредет пожилой тамил, высоко подоткнув юбку, и что-то держит в ее задранном подоле. Что он может собирать там в воде? Подол наполнен белыми шариками. Чуть не спросили, не черепашьи ли это яйца? Тамил смеется над нашим интересом к его занятию: это не яйца, а. мячи для гольфа. Подбирание невесть куда запущенных мячиков — специальная профессия. Аристократия не утруждает себя беганьем за улетевшими игрушками — для этого есть «бой». Конечно, в применении к этому пожилому тамилу слово «бой» в переводе должно уже означать не «мальчик», а скорее «малый», что, впрочем, звучит ненамного почетнее. В парке Нувары-Элии много диковинных растений. Привлекают взгляд ажурной воздушностью крон австралийские уроженки — казуарины. Если южные хвойные влажных жарких стран так стремились испарять побольше влаги, что у них в результате погони за ростом испаряющей поверхности даже хвоя стала напоминать листья (вспомним слоноподобные «сосны» каури в саду Нерадении!), то обитатель засушливых областей Австралии — казуарина — достигла противоположного: ее листья сузились даже не в хвоинки, а в тонкий светло-зеленые нити. Трудно поверить, что это дерево лиственное. Горнотропический мир Нувары-Элии в известной мере аналогичен субтропическому (конечно, не во всем, прежде всего потому, что сезоны, достаточно свойственные субтропикам, тут почти неразличимы). И если частыми туманами и пасмурностью эта местность, столь иронически названная «городом света», напоминала британцам Шотландию, то по характеру своей растительности она, конечно, ближе к субтропикам. Многие путешественники прямо сравнивали пейзажи Нувары-Элии с Ривьерой и Италией… Да, пожалуй, нечто общее со Средиземьем в парковой флоре тут есть: кипарисы… длинноиглые сосны… А вот и пинии — это уже совсем Неаполь! Впрочем, как раз нет! На пинии с их грибовидными кронами тут удивительно похожи крупные калофиллюмы, по-сингальски деревья кина, со спирально закрученной корой. У некоторых деревьев и тут, как в Пераденийском саду, громогласные этикетки, извещающие, что данное древо посажено какой-либо высокой персоной. Город тонет в зеленых садах, но совсем не таких, как в нижних, приморских тропиках. Пальм нет. Взамен их у многих вилл стоят стройные древовидные папоротники, немного напоминающие пальмы:.строго вертикальный ствол и раскидистый букет перистых вай, почти горизонтально расходящихся в стороны. Но вайи не кожистые, как у пальм, а легкие, кружевные, ажурные, у них нежная весенняя зелень. Растения, которые мы привыкли видеть травой, стоят здесь гордыми стройными деревцами. Мы их встречали такими только на картинках с изображениями флоры былых геологических эпох. Все новые пополнения коллекций тропических впечатлений. Ведь древовидные папоротники характернейшие представители современных горнотропических лесов. Видя эти пальмовидные деревца, я как бы мысленно присутствую и во многих других горных странах тропиков — на Яве и на Тайване, в Австралии и в Андах Эквадора. В Нуваре-Элии не жарко, но и не прохладно. Температура настолько умеренная, что не напоминает о себе, и о ее существовании забываешь. Нам повезло — был сравнительно солнечный день, а чаще здесь лежат туманы, нагоняемые то северо-восточным, то юго-западным муссоном, а весной и осенью — просто послеполуденные экваториальные облака. Тогда становится прохладнее. По ночам бывает даже такое чудо в условиях Цейлона, как иней. Школьников со всего острова-специально привозят сюда полюбоваться этим редким явлением. Британские хозяева щедро оборудовали свой курорт каминами и наслаждались около них, вспоминая домашние очаги Англии. Впрочем, им должны были импонировать и частые туманы и сырость торфяных болотец с осокой, столь многочисленных в котловине Нувары-Элии, ведь и это могло напоминать родные туманы и болотца Ирландии! Курорт существует уже более ста лет. Впервые англичане оценили достоинства этого места еще в 1826 году (они забрели сюда в ходе охоты за дикими слонами), и уже через три года тут была основана «санаторная станция» для отдыха колониальных войск, изнемогавших от жары в низинах. А потом развернулось строительство коттеджей и создана была даже сезонная резиденция правительства — «коттедж королевы». От «города света» всего два с половиной часа ходьбы до высочайшей вершины Цейлона по удобной и легкой тропе. Но гостеприимные хозяева считают, что нам интереснее сидеть на местном стадионе, смотреть на состязания по бегу и вручать победителю призы, а потом, конечно, ужинать… Пытаемся рассказать, что в Крыму мы поднимаемся на Ай-Петри с ночи, чтобы встретить восход солнца на вершине, что советуем так делать другим и хотели бы поступить так же здесь… Гиды сокрушенно кивают, сочувствуют, но пересмотреть намеченную программу не осмеливаются. Шоколадные юноши, победившие в беге, с горящими торжествующими глазами получают из рук советских гостей завоеванные медали. Мы понимаем, как это многозначительно для всех тамилов и сингалов, собравшихся на праздник. А совсем рядом покоится такая близкая и пологая Пидуруталагала, теперь уже ясно, что окончательно недоступная для нас… Мало ли откуда уезжаешь, не все повидав, и утешаешься: «Осмотрю при следующем приезде». А каково уезжать от непосещенных достопримечательностей на Цейлоне?ЭКВАТОРИАЛЬНОЕ КРИВОЛЕСЬЕ
Покинув Нувару-Элию, мчимся по увалистому плоскогорью. С Пидуруталагалы к самой дороге спускаются странные корявые леса. При всей густоте крон при взгляде вверх по склонам видно множество коленчато-: узловатых пепельно-серых стволов. Многие из них скручены спиралью, в жгуты, точно выжимаемое белье. Да и кроны не радуют: угрюмого синевато-сизого или мертвенно-зеленого цвета. Жестяная листва, словно с самых скверных и давно проржавевших похоронных венков. Зловещий, как бы заколдованный недоброй силой, сероствольный лес. Присмотришься, оказывается, он очень сложен, и форма листьев разнообразна — тут масса различных видов. Особенно много рододендронов. Они здесь древовидные и украшены ярко-красными цветами. Которые-то из этих деревьев знаменитые ниллу, любимая пища диких слонов. Каких только нет тут семейств: лавровые, миртовые, магнолиевые, вересковые… А по внешнему виду представители любого из них удивительно одинаковы — это отмечал еще Геккель. Со многих деревьев и тут свисают лианы, по стволам лепятся «чужеядные» растения — эпифиты. Встречаются древовидные папоротники, придающие на редкость допотопный облик ландшафту: они только одни и остались в этом лесу стройными. Остальное — гнутые, кривляющиеся, словно пляшущие вприсядку стволы… Но ведь это же знакомая картина угнетенного горного криволесья! У нас на Кавказе такое приурочено к высотам тоже около 2 километров над морем и окаймляет собой, как путаная бахрома, всю верхнюю границу леса. Впрочем, что же получается? Криволесье на Кавказе и на Цейлоне оказалось на одной и той же высоте? Но это же парадоксально. Мало ли известно горных стран в тропиках, где верхняя граница леса, а значит, и зона криволесья подняты несравненно выше? В Гималаях, в тропических Андах, на Тайване угнетение леса происходит лишь выше 3500 и до 4000 метров. Ниже красуются могучие высокоствольные леса, в Гималаях — кедровые, на Тайване — состоящие из других диковинных хвойных. Почему же на Цейлоне на этой скромной, едва двухкилометровой высоте совсем нет высокоствольных лесов, а растет одна корявая мелочь? Неужели здесь не ужились бы богатырские кавказские пихтарники? На таком уровне и в более суровом климате Западного Кавказа вымахивают пихты по 50–60 метров высоты! Но в том-то и разгадка, что Цейлон давно и прочно изолирован от холодостойкой флоры более северных гор. Изолирован не только проливом (эта изоляция геологически недавняя), но и всем обширным сухотропическим югом Индостана. Растения-северяне не имели доступа на остров. В дикой флоре Цейлона нет хвойных, вот и некому процветать в верхнегорном мало-мальски прохладном климате. Напрашивается и еще один вывод. В угнетенности нагорной флоры проявляется недавность поднятия самого нагорья. Именно в ходе этого поднятия были вознесены на Цейлоне в зону холода экваториальные деревья. Окажись на их месте растения северные, их не испугали бы понижения температуры до плюс 2 градусов, и даже заморозки! Но будь это поднятие достаточно давним, то и из экваториальных растений могли бы выработаться холодостойкие и при этом достаточно мощные и рослые виды. Нет, видимо, поднятие происходило совсем недавно (об этом же напоминают и многие черты рельефа). Вот и не успели растения-южане преодолеть климатические невзгоды и реагировали на них прямой капитуляцией: лес словно встал на колени и пополз по земле, дорожа каждой каплей тепла в приземном слое воздуха. Конечно, это лишь первое предположение. Его надо проверять, тщательно анализируя флору, ведя доскональные полевые исследования. Глядя из окна автобуса, теории создавать не годится. Но весь облик этого экваториального криволесья наталкивает на такие мысли, и хочется ими поделиться. Быть может, для последующих исследователей будет не бесполезна и эта рабочая гипотеза?САД ХАКГАЛА
Остановка у подножия крутой, грубо обрубленной скалы, именуемой Хакгала. Это одна из тех самых верхних глыб нагорья, которые своими топорными формами так резко контрастируют с окружающими мягкими плоскогорьями, с полого округлыми хребтами, с расплывчатой массой Пидуруталагалы. Сомнения нет, это те же угловатые формы, что и у виденной нами Библейской скалы — Байбл-рок. Но та имеет совершенно столовый вид — плато при отвесных стенах. А Хакгала перекошена и как бы надломлена посередине. Так надламывается, воздев нос и корму, — разрубленный поперек минным взрывом корабль перед тем как погрузиться в пучины. Очевидно, эти глыбы сложены какими-то очень стойкими породами. Вероятно, мы видим останцы, то есть, остатки некогда более сплошного покрова, одевавшего нижележащие древнейшие гнейсы… Толща была мощная, это, наверное, и определило высоту останцов. Рельефу гор присуща определенная красота пропорций. У Кавказа, Тянь-Шаня, Альп существуют свои особенно удачные соотношения высот гребня и вершин, глубины и ширины долин. Они не всюду повторяются:? в тех же горах встречаются участки с менее удачными сочетаниями, и мы меньше ими любуемся. Запоминаем же лучшее и по нему равняем свои представления об «идеалах красоты» горных пейзажей… А на Цейлоне? О, нет, отнюдь не с непривычки нам кажется, что пропорции изящества гор здесь нарушены. Хакгала удивительна? Да. Грозна и величава? Тоже да. И, представьте, некрасива! Она громоздка, диссонирует с привольем окружающих плоскогорий. Она крупна, как бы не умещается в ландшафте, перегружает его, как слишком в скромную комнату… Гораздо красивее, чем сама гора, ее крутые подножия. Здесь расположен горный филиал Пераденийского ботанического сада, именуемый, как и гора, Хакгала. Вдоль подошвы горы протянулась «парковая» часть сада с благоустроенными дорожками, клумбами, розарием, фонтанами и бассейнами. Этот участок почти сто лет назад (в 1860 году) был облюбован тогдашним директором Перадении Твэйтсом для опытов по акклиматизации хинного дерева. Опыты были успешны, и уже в 1868 году лондонский рынок начал получать хинин с плантаций Хакгалы. Лишь с 1882 года новый правитель участка Уильям Нок, а затем его сын приступили к созданию существующего ныне роскошного сада-парка, развернув здесь широкие опыты по акклиматизации множества новых для Цейлона горнотропических и субтропических растений. Нам рассказывают, что сад Хакгала послужил источником широкого распространения по всему нагорью экзотических видов растений, нашедших теперь на Цейлоне как бы вторую родину. Эвкалипты и казуарины, магнолии и криптомерии во многих местах стали обычными в горных ландшафтах острова. Возделанная часть сада занимает всего 22 гектара с небольшим, но в состав его территории включены еще две сотни гектаров непролазных джунглей, одевающих склоны горы. Тут к границам сада подходят и дикие слоны, и леопарды, и олени, и кабаны, а обезьяны и белки хозяйничают на самой территории парка. Калифорнийские и мексиканские кипарисы, индийский красный «кедр» — цедрела, гималайские длиннохвойные сосны, средиземноморские субтропические пальмы — хамеропсы, австралийские гревиллеи, можжевельник с Бермудских островов, голубой эвкалипт с Тасмании… Замечательная коллекция мировой субтропической флоры! Восьмиугольная деревянная беседка-памятник одному из организаторов сада — мистеру Ноку (сыну). Отсюда открывается одна из красивейших панорам Цейлона. В одну сторону за привольными парковыми газонами над кронами деревьев видна насупившаяся отвесами громада скал Хакгала, а в другую расстилаются тонущие в знойном мареве плоскогорья сухой восточной провинции Цейлона — провинции Ува… Большие цветники. Теплица для более теплолюбивых растений (высота тут около 1700 метров; значит, для многих жителей тропиков климат Хакгалы прохладен). Коллекции орхидей, азалий, 50 видов эвкалиптов…. Насколько же лучше, чем местное экваториальное криволесье, чувствуют себя здесь более холодостойкие пришельцы из северных и южных субтропиков! Еще Баз убеждаемся в этом, поднявшись по крутым тропинкам на границу «джунглей» и сравнив роскошь де-‘ кручено-жестяными уродцами горного мелколесья.СУХОЕ НАГОРЬЕ
Обширные безлесные плоскогорья изрыты такими крутостенными долинами, и дорога проложена над обломами круч так смело, что на многих виражах у пассажиров автобуса ёкают сердца. На далеких днищах долин и каньонов видны зеркальные лестницы террасированных рисовых полей, а на склонах все те же неуютные серо-зеленые патны, по которым то там, то сям прижились дикарями даже такие сухолюбы-пустынники, как мексиканские агавы. Если бы не они, то для беглого взгляда в ландшафте и не было бы ничего тропического. Так и кажется, что мы едем по Армении, например по Лорийской степи и по безлесным склонам Малого Кавказа. Это сходство вызывало двойное чувство. С одной стороны, было досадно, что на нагорье так мало небывалого, фантастического (ведь нас все еще обуревала ненасытная жадность получать от Цейлона что-то бея конечно новое и неправдоподобное). А с другой стороны, Цейлонское нагорье оказывалось простым, родным, легко запоминающимся, прямым аналогом многих давно знакомых ландшафтов, и это было приятно… Цейлон без пальм и бананов, без горных джунглей и древовидных папоротников, без чайных плантаций и гевейных рощ… Горно-степной, словно завоеванный сорняками Цейлон… Нет, все же есть отличие от нагорной Армении. На этих круглый год зеленеющих пастбищах совсем не видно крупных стад скота. То ли не рентабельно тут животноводство, то ли плохи тропические травы… Оглядываемся в сторону Хакгалы и Пидурутала галы. Над плоскими увалистыми просторами патн возвышаются более крутые лесистые склоны этих вершин У основания их склонов лес на определенной высоте кончается, словно обрубленный. Впрочем, так оно и есть. Безлесье патн когда-то было для ботаников проблемой, и шли споры: исконное оно, или произошло в результате вмешательства человека? Вид нижнего края лесного покрова отчетливо подтверждает- сделанный и большинством ботаников вывод: патны — формация не исконная; они распространились на месте сведенных лесов, вероятно, взамен такого же крученого-верченого экваториального мелколесья и криволесья, по какому мы недавно проехали. В центр провинции Ува — город Бадуллу, «самый веселый на Цейлоне», если верить путеводителям, приехали в темноте. Во время очередного приема коллекция тропических ощущений пополнилась у одной из наших спутниц совсем неожиданно. На ее ноге ниже колена висела уже присосавшаяся черно-лиловая пиявка. Цейлонцы не позволили женщине самой оторвать кровопийцу — ведь, отрываясь, пиявка оставит в коже часть своего присоска, и рана будет болеть, гноиться, возможно заражение. Путеводители рекомендуют брызнуть на присосавшуюся пиявку соком лимона. Обожженная кислотой пакость сама уберет присоски из укушенного тела. У нас с собой не было лимонов, да, признаться, мы, проводя все время в автобусах, уже и не верили в реальность существования цейлонских пиявок, хотя и географы и историки этой страны упоминали о них очень настойчиво. Когда-то от массовых укусов этих тварей гибли войска колонизаторов. Цейлонцы чиркают спичками, гасят их и тыкают в вампирку горячими головками. Для пиявки это прижигание еще убедительнее, чем лимонная кислота, и она, сжавшись, покидает укушенную ногу. Теперь мы даже завидуем потерпевшей, что именно ее укусила долгожданная, и, значит, действительно реально существующая в здешних травах сухопутная пиявка! …Речи вскоре кончились, но на начавшемся тут же в ужине сразу возобновились. В Бадулле около половины населения составляют сингалы, а другую половину — тамилы. В речах и тут, как в тамильском «университете» в Коломбо, почувствовался накал страстей, причиной которого была все та же возня, затеянная националистами. Представители спорящих группировок «ухитрялись, даже в ходе приветствий в адрес нашей делегации, награждать «друг друга» словесными пинками и ехидными подковырками.СОРЕВНОВАНИЕ С КОЛХИДОЙ
Близ Бадуллы грохочет один из эффектнейших водопадов Цейлона. Нам даже не верится, что сегодня нас везут не на очередной прием-банкет, а только в гости к водопаду. Все те же кручи безлесных склонов, напоминающие Армению. И такие же, как на Малом Кавказе, смелые зигзаги шоссе с поворотами почти на 180 градусов. Но вот один из поворотов приводит нас в неожиданно ярко-зеленую и густолесистую долину видимо, особенно выгодно ориентированную по отношению к зимним ветрам, приносящим тут влагу. После суровой сухости патн снова пахнуло пышностью влажнотропической природы. Автобус останавливается, и мы с радостью узнаем, что к водопаду отсюда ведет только пешеходная тропа. Тропа по цейлонскому горному лесу! Какое счастье оказаться, наконец, в сохранившемся тропическом лесу (уцелел он тут, вероятно, вследствие большой крутизны склонов реки Бадулла-Оя). Впереди перед нами вся долина, одетая густым темно-зеленым плюшем лесов, а по ее тальвегу мчится бешеная река, рычащая на крутых порожистых перепадах. Тропа, осененная свисающими сверху гирляндами лиан, ведет нас почти горизонтально, косогором, куда-то выше по реке, лишь постепенно приближаясь к круто падающему нам навстречу тальвегу. Карниз тропы врублен в страшную кручу и подводит к таким отвесам, что к ним пришлось прикрепить продольные балконоподобные мостики (на Памире такие называют оврингами). Думали, что так и будем идти по горизонтали, пока вышележащая часть русла реки не окажется на нашей высоте. Однако все же приходится круто спускаться! Гуще и влажнее зелень, сырее воздух — он уже напоен брызгами грохочущего потока. Приходится протирать очки и прятать фотоаппараты — в упор водопад не сфотографируешь. Он уже виден сквозь зелень впереди и внизу — могучее ревущее и мятущееся привидение. Дунхинда — так называется водопад — рушится неузеньким, сорвавшимся с обрыва ручьем. Здесь свергается целая река всем фронтом своей ширины. Десяти метров свободного падения превращают часть потока в огромное облако водяной пыли. Вода ниспадает не единой стеной — в ней различимы разные ярусы и кулисы. Масса воды хлещет неравномерно; ее избытки устремляются то в одну, то в другую часть водопадных этажей и штор. Очертания пенных вертикалей поминутно меняются, словно вода на глазах лепит из пены подвижные белоснежные статуи… Хочется унести с собой хоть часть этого неистощимого могущества, окрыляющей свежести… Возвращаемся, и лишь издали, на всякий случай, фотографируем гремящего в зелени белого богатыря. При этом приходится хоть на мгновение протереть стекло объектива от вездесущих брызг водяной пыли. Несмотря на обратный подъем, нас охватывает чувство облегченности, прилив новых сил… Но почему я иду по этому лесу, веющему сырым дыханием тропической зелени из каждой трущобы, а меня и тут не покидает чувство, что вокруг что-то издавна знакомое, даже родное? Ну, конечно, знакомое! Разве не такая же зелень и свежесть, не такая же праздничность декорировки стволов лианными плющами свойственна горноколхидским лесам нашей Абхазии? Пусть там нет орхидей и древовидных папоротников, но там есть свое величие высокоствольных пихт и буков, стихийный разлив вечнозеленых зарослей понтийского рододендрона и лавровишни… Да ведь дело и не в подсчете, где что есть и где чего нет. Важнее общее впечатление. Ошеломлены ли мы цейлонскими дебрями? Пожалуй, не больше, чем когда-то горноколхидскими. Мы были как бы загипнотизированы громкими словами о некоем сверхъестественном изобилии природы жарких стран и считали себя, со своим знанием лишь колхидских субтропиков, чуть ли не ограниченными провинциалами, не знающими главного, большего… Спору нет, цейлонский лес в несколько раз превзойдет Колхиду по многим статистическим показателям: флористы насчитывают здесь лишние тысячи видов, а геоботаники выделят пяток добавочных ярусов в структуре самого леса и подлеска. Но общее впечатление от пейзажа складывается отнюдь не в ущерб нашему Западному Закавказью. Что ж, вынесем из этой маленькой экскурсии еще одну радость: гордость за величие и богатство своей природы, убеждение в том, что ее яркость и пышность соизмеримы с хваленейшими ландшафтами цейлонских тропиков и что дебри Западной Абхазии и окрестностей Красной Поляны заслуживают не менее громких слов, чем те, какие расточал Эрнст Геккель влажнотропическим дебрям Цейлона!ВЕЧНОЕ НАЧАЛО ЛЕТА
Плоскогорья Цейлона можно сравнить с крышей, имеющей общий уклон к северу и приподнятой на юге. Этот поднятый край увенчан грубоглыбистым хребтом, который крутым склоном поднимается над южным побережьем острова. Прославленная Саутс-Уол, «Южная стена» нагорья, отличается наибольшим на Цейлоне размахом высот, а значит и наибольшей широтой и величием открывающихся с нее панорам. На этих кручах сохранились и самые обширные, хотя и немногочисленные участки девственных влажнотропических дебрей. В водораздельном кряже, высящемся над Южной стеной, есть брешь — рекламируемый во всех путеводителях перевал Хапутале. Точка, видимо, равнозначная по эффектности кругозоров Байдарским воротам или айпетринским кручам Крыма. Наш путь из Бадуллы пройдет в 15 километрах от Хапутале. Заехать туда — дело лишнего получаса, а это откроет нам целый юг Цейлона! Едем мимо горного курорта Бандаравелы. Его климат считается лучшим на всем Цейлоне. На высоте 1,5 километра нет изнурительной жары, а положение на восточной покатости острова избавляет Бандаравелу от беспощадной сырости в период юго-западного муссона. Средняя температура весь год почти не удаляется от цифры 4-20 градусов по Цельсию. Это не вечно жаркое, а лишь вечно теплое и несырое лето, точнее — вечное начало лета. Вокруг Бандаравелы широко разбежавшиеся кряжи, увалы и плоскогорья, занятые патнами. Обширные днища долин и их пологие склоны целиком состоят из исполинских лестниц — террасированных полей. Здесь они только что подготовлены к очередному посеву, и поэтому видна вся искусная лепка влажных глиняных бортиков каждой ступеньки. Когда-то Микеланджело мечтал изваять статую прямо из горы. Цейлонцы превзошли замысел великого ваятеля. Они своими руками изваяли из вязкой глины целые горы. Чудовищная по объему и дважды в год возобновляемая работа! Террасы на десятках, сотнях, наверное, тысячах гектаров — недолговечные, перед каждым посевом заново воздвигаемые памятники великого трудолюбия цейлонских земледельцев… Развилок дорог. Стрелка, указывающая путь к перевалу Хапутале, смотрит налево. Но автобус, не останавливаясь, избирает правую дорогу, и заветная брешь в Южной стене, которая была уже видна совсем рядом, начинает непоправимо удаляться. Тсамотсерам показывает на часы и разводит руками: и тут очередной ленч расценивается как нечто более важное, чем панорама с Южной стены. Казалось, было от чего приуныть? Но, если географы и бывают менее счастливы, чем другие, заочно зная, сколько им не показали, то зато географы же оказываются и счастливее других, ибо им видно многое страшно интересное даже там, где неспециалисту ландшафт покажется заурядным и будничным. У тусклых увалистых плоскогорий восточной части «Крыши Цейлона» настолько неэкзотический вид, что легко принять их за среднерусские увалы, и даже рощицы молоденьких эвкалиптов сошли бы за осинник. Но географы и геологи нашей группы наслаждались и всей картиной плоскогорий и каждой их деталью — ведь перед нами были поверхности, обязанные своим возникновением древним этапам выравнивания. Эти равнины могли быть выглажены только в те времена, когда находились на несравненно меньших высотах, почти на уровне моря. То, что они теперь вознесены так высоко, могло быть лишь результатом новейших, геологически сравнительно недавних поднятий. Геоморфологи Цейлона спорят между собой — была ли эта поверхность единой и лишь потом оказалась взломана и перемещена на различные уровни, или «вознесение» древней поверхности происходило в несколько приемов. Когда древнейшая из равнин уже была поднята на какие-то сотни метров, в подножия поднявшегося блока могли, как бы подкапываясь с периферии, врезаться более молодые подгорные равнины… Геоморфологи привыкли видеть рельеф не мертвым, неподвижным, а словно живым, развивающимся, шевелящимся. Им видно множество примет такой подвижности. Мы понимаем, что большинство замечательных водопадов Цейлона унаследовано от недавно возникших или подновленных тектонических уступов. Недра нагорья надламывались, дыбились, торосились, и реки были вынуждены «спрыгивать» водопадами с недавно приподнятых глыб. Размер отступания водопадного уступа от первичной трещины расскажет о сроке последних движений по разлому… Мы видим, что молодость «торошения» нагорья бесспорна. И, однако, первые впечатления все же позволяют предполагать, что более правы те геоморфологи, которые говорят о большей древности верхних плоскогорий острова по сравнению с нижними. Мы еще вспомним об этом при поездке через северные равнины. Северная покатость «крыши» нагорья построена сложно. Это не просто наклоненная к северу плоскость. Она в свою очередь двускатная, со склоном к западу и к востоку. На коньке в виде выступа, как лука у седла возвышается каравай Пидуруталагалы, а почти на самой седловине между этим караваем и «Главным» — южным хребтом уместилась уже знакомая нам Нувара-Элия. Западное крыло плоскогорья — плато Хаттон — мы видели на подъеме от Канди. Восточное — плато Велимада — сейчас перед нами. Плоскогорье изрыто глубокими долинами, на дне одной из них приютился городок Велимада. Проезжаем его в знаменательный день — 4 февраля (в 1958 году это день десятилетия независимости Цейлона). Посылаем отсюда поздравительную телеграмму; премьер-министру Бандаранаике. Большой парадности празднества не чувствуется. О торжестве говорят лишь несколько куда-то спешащих автобусов, наполненных поющей и барабанящей молодежью. Те, у кого не хватает барабанов, с не меньшим искусством исполняют виртуозные ритмические узоры пальцами прямо на обшивке автобуса, выставив руки в открытые окна. Еще раз проезжаем через Нувару-Элию, машем знакомому ипподрому и парку. Путь наш лежит на север, снова через Канди, но на сей раз более прямой и, говорят, более красивой дорогой через перевал Рамбода. Дорога оправдывает эту репутацию. Спуск с перевала идет крутейшим склоном, серпантинами в десятки витков, в стиле Млетского спуска Военно-Грузинской дороги. Однообразные склоны чайных гор увенчаны здесь причудливыми естественными замками и крепостями глыбистых верхнегорий. Далеко на севере, за Канди, видны обособленные хребты с высокими бугорчатыми гребнями. У них меткое название Наклз: по-английски это косточки суставов, сочленяющих пальцы с остальной кистью. Зигзаги спустили нас к реке. Думалось, что теперь чуть не до Канди покатимся у самого русла. Но не прошло и минуты, как слева от нас оказались крутые обрывы, а река опять рылась на добрую сотню метров ниже. Как это произошло? Ведь, кажется, мы никуда не подымались? Оглядываемся и понимаем. За намиостался величественный уступ — граница верхнего плоскогорья, и река, чтобы достичь нижележащего уровня — уровня Кандийского плато, — вынуждена была спрыгнуть с этого трамплина длинным водопадом. Вдоль дороги стали попадаться пальмы, сначала поодиночке, а затем и рощами. На первой же остановке у заправочной станции мы ощутили, что нас окружает влажная ласковая жара, от которой мы, сами того не заметив, успели уже отвыкнуть за три дня поездок по верхам нагорья. Там, наверху было так нежарко, что мы просто забывали думать о климате! Легкое и свежее вечное начало лета нагорья, насколько же оно привольнее и приятнее банно-влажного вечного лета подножий!
СУХИЕ СУБТРОПИКИ СЕВЕРА

ТАЙНЫ СКАЛЫ СИГИРИИ
В рестхауз Сигирии мы приехали уже в темноте, когда силуэт знаменитой скалы едва проступал на фоне звездного неба. Она, казалось, поднималась тут же, рядом, и выглядела маленькой, будто метрах в трехстах стоял трехэтажный дом. Душный вечер напоминал, что мы уже простились с прохладой нагорья, а впервые увиденные нами москитные сетки над кроватями говорили о ближайшем соседстве сырых и лихорадочных джунглей. О них же всю ночь рассказывали шакалы, вывшие под окнами с интонациями плачущих младенцев. Скала Сигирия не произвела впечатления своим видом и утром: опять казалось, что она рядом и маленькая. Мы, конечно, уже читали и слышали об этом утесе со столовой плоской вершиной и отвесными стенами; видели и в музее и в путеводителях репродукции прелестных фресок, созданных на этих стенах еще в V веке нашей эры. Очертания скалы вполне совпадали со знакомыми по открыткам, но ни в какие 180 метров высоты отвесов не верилось. Целая трагедия разыгралась у подножий и на вершинах, страшной скалы. Шекспировских масштабов страсти правили душами, дикие злодеяния омрачали землю. Как раз в V веке утес был облюбован для создания на его вершине, над отвесами, дворца-убежища. Спасаться тут понадобилось королю, который прятался и от своих родственников и от своих подданных. Речь идет о царе-отцеубийце Касьяпе. Велика была глубина преступлений человека, полезшего искать спасения на такие стены! Приближаемся, и на наших глазах скала растет, растет тем более, чем больше по соседству сопоставимых с нею предметов — деревьев, домиков… Сигирию никто не воздвигал. Это обломок, один из останцов тех самых грубых, угловатых пород, которыми сложены вершинные части нагорья. Сюда, к северной равнине, их горизонт оказался наклонен, и теперь мы видим совсем рядом такие же утесы, на какие глядели издали, любуясь Библейской скалой или глыбами Южного хребта. Гид ведет нас сначала в обход скалы и долго показывает руины целой системы зданий и купален, которые примыкали к ее подножию. Город был защищен десятиметровым валом и рвом, достигавшим 25 метров в ширину. Но вот над нами совершенно вертикально вздымаются цельнокаменные стены Сигирии. Местами видны остатки изваяний, следы древних надписей. В плоть скалы вгрызается истертая ступнями неисчислимых пилигримов древняя тропа. Она врублена в гнейсы монументальным карнизом. Нам поясняют, что даже зеркально-гладкий цемент искусственного парапета сохранился с V века. Парапет так и называется Кадатпавура — «Зеркальная стена». Древние поэты Ланки высекали на ней свои стихи. На участках, где старый карниз обрушился, его подменяет остроумно сконструированный металлический продольный балкон-ов-ринг. Вид с любого подъема обычно уже с первых десятков метров пути начинает радовать далями и глубями. А насколько острее ощущения при виде с карниза, когда под тобой пропасть, а над тобой временами даже! навес) Целый участок этой «галереи» проходит словно в полутуннеле. На одной из площадок неожиданность. К выдвинутой особенно далеко и нависающей над головами глыбой поднимается ультрасовременная башнеобразная металлоконструкция, внутри которой вертикально взвивается винтовая лесенка. Наверху этой решетчатой башенки площадка. Люди под самым потолком навеса стоят и, запрокинув головы, смотрят на этот потолок. Снизу не поймешь, что они там видят. На всякий случай (да, именно на всякий случай, — гид совсем не сказал, что тут-то мы и увидим самое главное) поднимаюсь по спиральной лесенке и останавливаюсь, пораженный. На наклонной поверхности навеса сияют всей свой радостной свежестью, всей поэзией древних оранжевых красок бессмертные фрески Сигирии, воплощение нежности и утонченного вкуса, ласкающие взгляд изяществом пропорций и неувядаемой гармонией ярких тонов темперы. Надпись, сохранившаяся на Зеркальной стене, повествует о пятистах «золотистых фигурах». Увы, вездесущее выветривание не пощадило большинства изображений, и из пятисот чудом уцелело лишь двадцать одно. Вер это портреты женщин в причудливых головных уборах и прическах, с прикрытыми прозрачной тканью или затянутыми в лифы бюстами и обнаженными, как и у современных сингалок, талиями, лишь еще более тонкими и изящными. Многие лица в три четверти поворота, некоторые в профиль. В украшенных браслетами руках у хозяек преимущественно цветы, у более темнокожих служанок — вазы с фруктами. Любопытно, что в лифы затянуты только служанки — видимо хождение с полуобнаженной грудью было привилегией госпож. Ниже талии все фигуры декорированы в красноватые или пестрые ткани, но изображений ног нет: женщины показаны возникающими из облаков. Чувственные губы, тонкие пальцы и застывшие в лебединых изгибах, танцующие руки. Дыхание древнего совершенства, беседа с безыменными гениями незапамятной эпохи… Об этих фресках существует целая литература. Немало дебатировался вопрос, кто на них изображен: придворные ли дамы Касьяпы, небесные ли феи, решившие осыпать землю цветами? Были исследователи, склонные видеть тут собравшихся купаться красавиц; другие подмечали у некоторых фигур черты молитвенного и даже траурного настроения. Немало сопоставлялись фрески Сигирии с аналогичными шедеврами Индии — с сокровищами Аджанты, и Сигирия не терпела поражения в этом соревновании. Еще один карнизный подъем, и мы выходим на обширную горизонтальную ступень. У выхода на нее приютился даже киоск, торгующий водами и сувенирами. Склоны выше становятся более пологими, и уже начинает чувствоваться близость вершины. Но подъем к ней с этой цельнокаменной террасы идет еще крутыми лестницами, и первая из них начинается между изваяниями огромных когтистых лап. Что это за лапы? Оказывается, весь фасад скалы, вздымающийся над этой террасой, был превращен в исполинский горельеф, изображающий лежащего льва анфас. Поэтому «Сигирия» и означает «Львиная скала» — злодей Касьяпа уважал символ сингальской нации. Сфинксообразная голова обрушилась, а лапы остались, и даже они позволяют без особого напряжения вообразить былое величие этой верхней части Сигирийской скалы. Над крутой лестницей тропа утрачивает карнизный характер. Можно шагать по отдельным вмятинам и выщерблинам в гнейсе. Вдоль всей полосы вмятин укреплены железные перильца. Еще несколько ступенек крутой лестницы, и мы на верхнем плато, немногим больше гектара площадью. Теряешься и не знаешь, на что смотреть: то ли на руины дворца и купален, действительно взгромоздившихся на самый верх Сигирии, то ли на безграничные горизонты. Ведь тут интересны и формы погружения последних кряжей Наклз в Северную равнину и простор сухотропических джунглей, видимый отсюда вплоть до гигантских дагоб Анурадхапуры вперемежку лишь с широко расплескавшимися зеркалами водохранилищ. Резервуары и цистерны, дренажные желоба и каналы, жилые помещения и будки для часовых — все это реально существовало во имя обеспечения безопасности коронованного изверга. Вот уж поистине осуществление детской сказки о тридевятом заморском царстве со злым королем… Легенды и летописи повествуют немало интересного о Сигирийской трагедии: у красавца Касьяпы был уродливо некрасивый, но мудрый и храбрый брат Моггаллана. Он скрывался от «любящего» братца в Индии, собрал войско и решил отомстить Касьяпе за смерть отца. Решающий бой сложился невыгодно для Касьяпы, и злодей закололся саблей. С горечью покидаем страшный утес — так хочется побыть на нем дольше, полнее перечувствовать все эти бури истории, все это величие и парадоксальность сочетаний: крайностей деспотии и вершин красоты… Сигирийская трапеция отражается в зеркальном водохранилище и, удвоенная, становится еще фантастичнее— теперь она нам больше не кажется маленькой. Она сама встает исполинским замком, крепостью. «Монумент преступлению», «веха истории»… — звучат слова гида. Но прежде всего — сокровищница красоты, неумирающей, вечной, которой нельзя забыть.ОБЕЗЬЯНИЙ РАЙ
Прямой лентой пролегло шоссе сквозь сухотропические джунгли Северной равнины. Дорогу обступает густейший лес, невысокий, свеже-зеленый (зима для этих мест — влажный сезон). Забываешь, что ты на Цейлоне, — такие же густые и невысокие леса окружают поезд в горах между Армавиром и Туапсе. Но присмотришься— по веткам мечутся чьи-то буроватые тела. Обезьяны! Тсамотсерама ужасно смешило, когда мы просили останавливать автобус для фотографирования — чего? — обезьян! (Впоследствии в Джафне он рассказывал это как анекдот.) Разве не показались бы нам чудными иноземные гости, удивляющиеся воробьям или собакам, да еще требующие остановить машину, чтобы полюбоваться ими, сфотографировать их? Но дальше мы и сами поняли, что обезьяны здесь не диво: нам начали попадаться деревья, увешанные буквально гроздьями макак. Часто лес прерывается — мы мчимся вдоль привольных разливов. Недавнее наводнение вывело из берегов древние водохранилища севера. Немало стволов стоит по колено в воде. На нижние ветви, почти погруженные в воду, вылезли отдохнуть крупные черепахи. Местами из воды высовываются серые бугорки, тоже похожие на черепах, всплывших и заснувших на поверхности. Может быть, это гнейсовые лбища? Выступы древнего фундамента Цейлона все еще продолжают кое-где подниматься наподобие островков посреди равнины, и, возможно, что некоторые из них затоплены… Но вот один из таких выступов пошевелился и оказался… головой буйвола, туловище которого было целиком спрятано под воду. Надо еще наметать глаз, чтобы отличать эти буйволовые «островки» от камней и коряг. Еще забавнее было, когда на едва высовывающейся из воды мокрой спине буйвола красовались глянцево-черная ворона или коровья цапля. Обе эти птицы, как и цейлонский скворец, любят избавлять зебу и буйволов от докучающих им насекомых. Мчимся безостановочно. Только раз автобус остановился посреди глухой чащи, и мы смогли хоть десять минут побродить по первозданно дикому лесу. Сколько в нем корявых стволов, как мало статных колонн! Лес довольно рослый, не чета верхнегорному мелколесью, но многое и роднит его с уродцами Крыши нагорья. Сухотропические джунгли тоже обижены природой: 8–9 месяцев в году они терпят жестокий зной и безводье и расцветают лишь на 3–4 месяца влажной «зимы», растут конвульсивно, торопясь, в течение редких счастливых периодов дождей. Как и наверху, на нагорье, здесь много серых узловатых и спирально закрученных стволов, удивительная неразбериха в ветвлениях, уйма лиан — чудесная система турников и качелей для макак и их сородичей. И снова — уже который раз на Цейлоне! — впечатление малой экзотичности ландшафта. Глухомань в лесу — туапсинская, там тоже лиан хватает; листва не похожа на вечнозеленую, мелкая, заурядная; подчас и обезьяны кажутся заблудившимися, перепутавшими адрес. На вечнозеленых плантациях оранжерейного юго-запада им куда более подходило бы резвиться такими стаями. Впрочем, здешней листве и не положено быть вечнозеленой. Значительная часть деревьев этого леса вовсе сбрасывает листья на весь жестокий сезон весны, зимы и осени (все эти три времени года сливаются в сухих тропиках северного Цейлона в один сухой сезон зноя, пыли, безводья). Недаром поэтому путешественники, посещавшие Северную равнину летом, пишут с форменным ужасом о ее мертвенном облике, о кошмарном пейзаже оголенных джунглей с суковатыми безлистыми серыми стволами, словно заломившими руки в изнеможении от испепеляющей жажды. Вода, вода и только вода может преобразить этот хмурый мир, преобразить не на один краткий период влажной «зимы», как это происходит сейчас, но и на весь год, как это умели делать сингалы античного Цейлона. Ведь через всю Северную равнину текут, радиально расходясь, транзитные реки, питаемые чудовищными суммами осадков на влажном нагорье. Надо только суметь их перехватить, остановить, удержать от расточительного сбрасывания вод в океан. Для этого нужны средства и силы — эта одна из главных забот молодого Цейлонского государства. На юго-востоке острова, на такой же сухотропической равнине Гал-Оя цейлонцы уже создали первую большую ирригационную систему и приступили к освоению целинно-залежных джунглей. Сегодняшний Цейлон еще не может прокормить и теперешних девяти миллионов населения — из-за моря идет половина потребного риса. А при орошении пахотоспособных земель северного и восточного Цейлона остров мог бы обеспечить целых двадцать миллионов жителей! Пора, явно пора приступить к превращению обезьяньего рая в рай человеческий, как ни труден путь к такому повороту, как ни много предстоит для этого усовершенствовать и в природе и в обществе…СТОЛИЦА ДРЕВНЕЙ ЛАНКИ
Есть места, к которым нельзя приближаться без волнения, — так много они всего помнят, такие сгустки страстей человеческих как бы насытили своей энергией их землю. Теперь нас ждали к себе руины сингальского Рима, античной столицы Ланки — города Анурадхапуры. Эта столица знала полтора тысячелетия славы, слыла одним из блестящих и процветающих центров древнего Востока, гордилась сотнями тысяч жителей, блеском дворцов, авторитетом монастырей, величием буддийских святынь-дагоб. Какова окажется эта Помпея теперь, какой она перед нами появится? И можно ли ждать какого-либо величия от появления города на этой плоской равнине? Оказывается, можно. Вокруг города и посреди него распластались огромные зеркала древних водохранилищ, а обширность водных плоскостей — это лучшее основание для панорамы любого города. Циклопическими дамбами, тянущимися на многие километры, подпружены эти задумчивые водоемы, в которые глядятся зонтовидные кроны мудрых деревьев. — Дагоба! — крикнул кто-то, первым увидавший одну из грандиозных построек древней Анурадхапуры. Сверкающая белизной вдали высилась, как заостренная половинка яйца, первая из великих святынь Ланки… Неподалеку возвышались еще дагобы, но уже не белые, а зеленые, доверху поросшие кустарниками. Водная гладь, и над ней величественные святыни. Пожалуй, есть что-то общее с ощущением, которое испытываешь, подъезжая с юга к Великому Новгороду: безграничные плоскости разливов Волхова и Ильмень-озера, и над ними — гордые памятники былой славы древнего города, сокровища зодчества гениальных предков. Не скрою, воспоминание о Новгороде было не в пользу Анурадхапуры, не потому только, что наш древний город сохранил или восстановил после варварских разрушений немало замечательных памятников прошлого, вернув им их подлинный облик и величие, а в опустошенной Анурадхапуре уцелели в полный рост одни дагобы. Что поделать, — русскому человеку и совершенство форм новгородских шедевров ближе и понятнее, чем по-своему поэтичная эстетика буддийских дагоб. Вот и первая дагоба, у нее есть собственное имя: Джетаванарама. Ей более 1500 лет (а есть мнение, что и около 2000!), ее пока никто не реставрировал, и вся она на 70 с лишним метров своей высоты покрыта буйной зеленью. Стены, хочется сказать склоны, дагобы завоеваны самыми настоящими джунглями. Вот бы где почвоведам изучать выветривание и почвообразование! На радость резвящимся тут сотням макак дебри заполонили всю громаду древней святыни и не справились только с обломком верхнего ее обелиска. Еще дагоба — эту называют Абхаягирия. Ее строили на рубеже III и IV веков нашей эры. Когда-то она достигала высоты 100 метров, то есть заканчивалась на уровне 24 этажа высотного здания Московского университета. За истекшие века шпиль и поддерживающий его параллелепипед «хти» разрушились, осели, накренились, и сейчас святыня не превышает 75 метров. Для здешних кустов и эта дагоба — просто очередная гора. Почти 5 гектаров площади, примыкающей к куполу, вымощено каменными плитами, да фундамент самой дагобы поднят над этой платформой еще более чем на метр. Англичанин Эмерсон Теннент подсчитал, что из камня, пошедшего на Абхаягирию, можно было построить город размером с Ковентри… Руины, руины… Весь грунт на километры вперед и вбок разлинован на квадраты и прямоугольники. Это фундаменты домов, каменный чертеж былых улиц. В некоторых квадратах — водоемы, прудики, прежние домашние бассейны, купальни и резервуары для полива садов. Во многих местах «рощицы» белых колонн, — то, что осталось от древних дворцов. Особенно впечатляет одна такая «роща», состоящая из 1600 угловатых колонн, каждая из которых высечена из монолитной глыбы. Это устои грандиозного (девятиэтажного) Бронзового дворца-монастыря, деревянные части которого покоились на этих столбах. Такие руины — память и о времени созидания и расцвета и о сроках гибели. Как не увидеть, глядя на вопиющие к небу голые каменные ребра, поднимавшийся над ними в дни нашествий варваров гигантский костер, в котором гибли и феноменальная резьба и вся роскошь недоразграбленного убранства! Местами прямо между руинами выросли современные домишки, целые улицы возрождающейся Анурадхапуры; у них вид обычного шумного торгующего восточного городка. А вот и реставрированная дагоба, режущая глаз белизной; на нее лучше смотреть в темных очках. Имя ее Тупарама. Реставрации она удостоилась как древнейшая на Цейлоне, почти ровесница Анурадхапуре (город основан в 437 году до нашей эры). И, наконец, — главная гордость архитектуры древней столицы — тоже отреставрированная красавица — дагоба Руанвели. Строили ее за сто лет до нашей эры и превышала она в высоту 75 метров. После реставрации ее белоснежный колокол вместе с обелиском лишь немного превышает 50 метров. Вокруг целые площади из накаленных солнцем белых плит, по которым так больно ступать босыми ногами. Один из нижних плинтусов Руанвели украшен видным еще издали скульптурным орнаментом. Он состоит из бесчисленных изваяний слонов, исполненных анфас и образующих единый горельефный пояс. Перед входами к молельням на полу изваяны каменные знаки в виде концентрических полукружий с орнаментальными барельефами слонов и цветов. Называются такие священные круги «муунстоун», то есть лунными камнями. Сначала мы пытались понять, куда же в них вставлены лунные камни (так называются полудрагоценные самоцветы Цейлона). Потом выяснилось, что это простое совпадение названий у совершенно различных объектов. Никаких инкрустаций в скульптурных полукружиях никогда не было. Чем прежде всего поражают дагобы Анурадхапуры? Они велики, как египетские пирамиды. Сооружение их стоило неимоверных усилий. Они грандиозны, но не подавляют. Этим пропорциям яйцевидного купола присуща способность впятеро скрадывать размеры. Еще одна святыня Анурадхапуры — древо бо, главное на Цейлоне. Это опять фикус религиоза, как и возле многих других храмов. Главное бо совсем не производит впечатления. Его тонкий ствол и жидковатая крона никак не вяжутся с более чем двухтысячелетним возрастом дерева. Бо явно чахнет, зажатое в каменные рамы фундаментальных оград и пьедесталов, нимало не благоприятствующих здоровью стареющего организма. Одно время дерево стало так угрожающе подсыхать, что его спасали с помощью новейших ухищрений современной биологии, чуть ли не с помощью ростовых веществ. Святыня благоговейно посещается, а коллекция нищих и инвалидов, побирающихся «на паперти» перед деревом, превосходит все виденное нами на Цейлоне в этом роде. Руины Анурадхапуры занимают площадь до 25 километров в поперечнике. Каменный чертеж древних фундаментов не прерывается уже полчаса быстрого хода автобуса. Древняя столица оказывается соизмеримой по площади с величайшими современными столицами мира — Москвой, Парижем, Берлином. Но вот руины и кончились. Позвольте, а где же прославленный врубленный в скалу храм Исурумуния с его скульптурами? Тсамотсерам смеется, — нельзя опаздывать в Джафну. Хорошо, что мы полюбовались хоть на копии сокровищ Исурумунии — на горельеф Воина с лошадью и на Солдата с возлюбленной в музее Коломбо.СЛОНОВИЙ БРОД
Наш шофер буддист. Статуэтка сидящего Будды перед его сиденьем освещена, как лампадкой, маленькой автомобильной электролампочкой. А помощник шофера индуист. Приближаемся к придорожному брахманистскому храму, изукрашенному вычурно обильной лепниной, и автобус останавливается. Что это, большая достопримечательность? Нет, соскакивает только шоферский помощник. Он молится и приносит жертву — грохает с размаха о каменную плиту купленный тут же кокосовый орех. Рядом стоит крупный телок, ожидающий очередного жертвоприношения. Он немедленно слизывает хлынувший из ореха сок и пожирает жирную хрусткую копру. Обряд совершен, и автобус несется дальше. Чем севернее, тем реже и чахлее лес. В нем часто проглядывают округлые скалистые холмы — не погруженный под наносы древний гнейсовый цоколь острова. Географы и геологи начинают делиться по этому поводу друг с другом своими догадками и удивлениями. Если Северная равнина Цейлона выровнена в незапамятные времена, то почему же на ней не образовалась в здешнем жарко-влажном климате та могучая красноцветная кора выветривания, которая даже у нас на достаточно холодном Дальнем Востоке уцелела от более теплых времен и пронизывает верхние горизонты недр на десятки метров в глубину? А тут даже на равнине вместо мощных накоплений красноземов и латеритов прямо на поверхность выступают голые маловыветрелые гнейсовые глыбы… Не свидетельствует ли это о геологической молодости выравнивания северной плоскости острова? Вопрос поставлен неожиданно. Другие возражают: — А что же могло ее выровнять так недавно? — Море. Ничтожного прогиба суши или общего повышения уровня моря на десяток метров было достаточно, чтобы океанский прибой, как рубанком, состругал эту равнину и все когда-то развившиеся на ней красноземы и латериты. — Но ведь море должно было оставить на бывшем дне свои осадки? — Да, новейших морских осадков тут тоже нет, но как раз они-то, как породы рыхлые и мелкоземистые, могли быть смыты при новейших наводнениях. А латериты дождем не смоешь, напротив, дождевые воды, промывая грунт, с.о.з.д.а.ю. т латериты. Отсутствие мощной и сплошной коры выветривания — факт не меньшей важности, чем факт ее присутствия где-либо. — И значит? — И значит многоэтажный рельеф Цейлона все-таки разновозрастен. Его низменная часть, вероятно, испытала последнее выравнивание очень недавно, гораздо позже, чем древние равнины, поднятые затем в виде нынешних плоскогорий Цейлона. Спорить можно долго, но и тут для выявления истины не обойтись без детальных исследований. У дороги появились штабели белого камня. Известняк. Это уже бесспорный свидетель былого погружения северной части острова под уровень океана. Как крайний юг, так и крайний север Цейлона прикрыт с поверхности известняковым панцирем. Но если на юге небольшие пласты коралловых известняков подняты над морем буквально вчера, на севере известняки отложились несравненно раньше, еще в третичное время, когда Покский пролив был гораздо шире и перекрывал своими водами часть Цейлона. Там, где это маркируется такими вещественными свидетельствами, как отвоженные в море известняки, существование погружения острова совсем не является гипотезой: это доказанный факт. Видя эти доказательства, еще упорнее думаю, что следует изучить возможность более далекого и недавнего наступания моря на остров. Вот и кончился лес. Унылые пустоши с мелким кустарником убаюкивают — не на чем остановить взгляд. Но слева заблестела водная гладь, и по какому-то неуловимому оттенку воды или по морскому запаху, что ли, мы понимаем: это не очередное водохранилище, а посланник океана, глубоко вдавшийся в сушу фестон Манарского залива. Живая иллюстрация только-что проведенного спора: перед нами еще продолжающееся хозяйничание моря на прогнувшейся суше. В местечке Парантхан достраивают химический завод. Он будет производить каустическую соду на базе местной соли. Мы уже видим, как добывают эту соль. Прибрежная часть лагуны поделена невысокими валиками на квадраты и прямоугольники. Это солеварни, акватории, изолируемые барьерами от остальной лагуны для выпаривания соли из морской воды. Шоссе устремляется на дамбу, проложенную прямо через лагуну. Перед въездом на эту дамбу группа домиков. Здесь нас ожидает вечерний чай у хозяев солеварен. Пересекаем лагуну прямо на автобусе. Слева и справа вода. Местами мостики через протоки. И группа домиков, где было чаепитие, и самая дамба носят странное на первый взгляд название: Элефант-пасс, что в переводе означает «Слоновий проход». Лагуна отделяет от основного корпуса Цейлона полуостров Джафну. Но перешеек, который соединяет полуостров с островом, находится не здесь, а гораздо восточнее. Строителям дороги пришлось бы делать большую петлю, если бы они решили вести трассу непременно по твердой суше перешейка. Не так ли поступили и строители первой железной дороги в Крым? Вместо того чтобы делать большую петлю к Перекопскому перешейку, железная дорога проложена по насыпям и мостам прямо через мелководья Гнилого моря — Сиваша. Мчимся по дамбе, любуясь гаснущим закатом за левой половиной лагуны, и ощущаем, что не только характер дороги, но и весь воздух, все краски этого ландшафта удивительно напоминают сивашские или таманские. Такие же безграничные, до горизонта расплесканные мелководья, такие же выцветы соли на низких берегах. Чувство привольной шири, рай для птиц… Но почему же эта трасса названа слоновьей? Оказывается, выбору ее содействовали именно слоны. В те времена, когда полуостров Джафна не был так плотно населен, стада диких слонов любили навещать покрывавшее его мелколесье и кустарники. Но и слоны понимали, что путешествие через перешеек связано с большим удлинением пути. А так как дамбы в те времена еще не было, умные животные переправлялись через лагуну прямо вброд. Мелководное море было им здесь, в полном смысле слова по колено. Элефант-пасс Цейлона следовало бы переводить не как «слоновий проход». Это явно Слоновий брод — выразительное как свидетель истории название.ПОЛУОСТРОВ ДЖАФНА
Огромный день — в него уместились и осмотр Сигирии, и руины Анурадхапуры, и сухотропические джунгли, и Слоновий брод. Естественно, что дня-то и не хватило — ведь под экватором темнеет быстро и рано, круглый год часам к семи вечера. Полуостров Джафна принял нас к себе уже в сумерках и удивил лишь тем, что подмечалось и в темноте: не было никакого подтверждения сведениям из географических сводок о суровой сухости этой известняковой плиты. Всю дорогу нас окружали густые сады и огоньки непрекращающихся поселков. В ряде мест слева открывалась темным провалом гладь лагуны. Значительную часть пути от Анурадхапуры Тсамотсерам рассказывал мне о Джафне — о своей родине, о трудолюбии тамилов, превративших в благословенный оазис эту все же безводную известняковую землю… Сквозь узкие ворота староголландской крепости нас подвезли к «Королевскому дому» — самому роскошному зданию Джафны. В его обширных анфиладах оборудовано нечто вроде гостиницы для почетных гостей. Едва успеваем умыться, как уже пора на автобус. Тсамотсе-рам попал на родину и сегодня особенно весело кричит шоферу: «По-е-хали!» — клич, усвоенный им еще из путешествия по Советскому Союзу. Нас везут далеко за город. Мы попадаем в клуб, перед эстрадой которого на открытом воздухе сидит прямо на земле толпа темнолицых людей. Со сцены несется остро-ритмичная мелодия голосового оркестра, под нее танцуют пестро одетые девушки. Танцы мало отличаются от сингальских — их питает одна и та же древнеиндийская пластика. Но сидение зрителей на полу и голосовой аккомпанемент — это нечто новое, в сингальской части Цейлона нам не встречавшееся. Ужин сервирован в большом зале с массой народа. За моим столом оказались и учителя, и служащие банка, и почтмейстер, и почтенные старики-пенсионеры. А вся обстановка оказалась несравненно проще и демократичнее, чем на остальном Цейлоне, где нас, как правило принимала местная аристократия. А на другой день прием устроил местный филиал Ланка-Советского общества. Здесь тамилы Джафны произносили горячие речи в честь дружбы с Советским Союзом, в защиту мира и расширения международного доверия. Аудитория и тут удивительно экспансивно слушала ораторов и тоже грохотала кулаками о столы вместо аплодисментов, но мы почувствовали себя действительно в кругу друзей. Джафна — полуостров пальмирового ландшафта. Те самые стройные и высокие пальмы, которые мы впервые разглядели в Мадрасе, здесь в сухом климате Джафны, как и на большей части Декана, оказались главными хозяйками пейзажа, вытеснив и заменив собой кокосовые лесосады. По внешнему облику пальмира: много скромнее кокосовой. Тут совсем нет этих торжеств венно зеленых знамен, трепещущих опахал, нет блеска и глянца — вайи пальмир короче, жестче, матовее. Стволы прямые, у основания словно в грубошершавых рейтузах, выше оголенные. Нас угощают ростками пальмир, напоминающими нечто среднее между репой и картошкой, рассказывают о восьмистах других пользах, приносимых пальмирой, и мы уже с уважением смотрим на рощи этих подлинных кормилиц сухотропического ландшафта. Город Джафна весь во власти лагуны — ее простор, ее нежный плеск, ее воздух определяют все настроение пейзажа. Перламутровые совсем сивашские дали прочеркнуты вдоль горизонта темными полосками пальмировых ершиков. Это видны островки Джафнинского архипелага. На ближайшие из них, как и по Слоновьему броду, прямо через проливы проложены проезжие для автомашин дамбы.НА КОРАЛЛОВОМ АРХИПЕЛАГЕ
Россыпь коралловых островков, сопровождающая северную «шляпку» Цейлона — полуостров Джафну, это ближайшая родственница рифов Адамова моста, только рифы тут на два-три метра выше подняты над поверхностью моря. Нарастая на отмелях, они не образуют здесь таких круглых лагун, как в атоллах, поэтому и островки имеют вид плоских ломтей и блинов, — их мы разглядели еще с самолета. И вот настал день поездки на коралловый архипелаг. Это дышало уже совсем Полинезией! Первый же остров — Караитиву, примыкающий к Джафне, немного разочаровал: на него мы переехали посуху, по дамбе, воздвигнутой поперек пролива еще полвека назад. На островке продолжался ландшафт пальмировых садов Джафны. Автомобиль остановился у паромного помоста. На следующий остров надо плыть уже на пароме. Но к нашей цели — к одному из дальних островков, носящему название Найнативу, можно ехать только катером. Спокойно плещутся голубые воды Индийского океана о плоские берега низменных островков. Лишь один из них выделяется странными, отвесными берегами. Похоже, что прямо из воды вырастает старинная крепость. Приближаемся к мрачной цитадели. Действительно, это староголландский форт, контролировавший западные подходы к Джафне. Когда-то голландцы, завладев Цейлоном, дали всем этим островкам имена своих больших городов: тут были и остров Амстердам и остров Роттердам. Позднее эти названия отмерли, сохранилось лишь одно — у самого дальнего острова Дельфт. У остальных островков — звучные тамильские имена, внешне так трогательно напоминающие Океанию. «Найнативу» — это похоже на Таити и на Нукагиву… Минуем старый форт и чувствуем легкую зыбь Манарского залива, того самого, на банках которого ведется добыча жемчуга… Вдали открывается еще один островок. Его очень просто нарисовать: черно-зеленая горизонтальная полоска среди голубого — между небом и морем. На левом конце полоски различима отдельно стоящая пальма. Видя ее, легко понять, что и вся остальная полоса — это целый лес, вернее — лесосад, из сплошных пальм. Поэтому и краешки островной полоски обрезаны вертикальными линиями. Так отвесно у нас обрывается видная издали в профиль опушка соснового леса. Левее еще полоска, но более узкая. Островок безводен, и на нем нет пальм. На карте он даже не назван. Почему? Сопровождающий нас тамил спокойно отвечает: — А зачем его называть, когда на нем никто не живет? Вот и остров, к которому мы едем. Он тоже появился в виде темной полоски. Приближаясь, полоска утолщается, растет, уже видно, что и она состоит из пальм. Остров хорошо увлажнен грунтовыми водами — здесь высятся не только пальмиры, но и большие рощи кокосовых пальм с тяжелыми кронами… Приближение к коралловому острову! Такие же черные полоски открывались на горизонте пассажирам плота «Кон-Тики», и так же вырастали они с приближением, превращаясь в кокосовые рощи. Правда, пассажиров плота перед высадкой ждало страшное испытание — преодоление внешнего барьера рифов. Наш островок никакие барьерные рифы не обрамляют, и моторный катер спокойно причаливает к выбегающему далеко в море пирсу. Пристань заполнена народом. Тамилы в клетчатых юбках и белых шарфах, накинутых поверх вполне европейских рубах. Тамилки в длинных сари, с украшениями в виде бусинок, вставленными в крыло одной из ноздрей. У всех красные пятнышки на лбах — знак принадлежности к брахманистской религии. К приезду советской группы проявляется огромный интерес — мы, вероятно, первые русские люди, ступающие на землю Найнативу. Во всем созвездии островков Джафнинского архипелага это самый знаменитый. Буддисты-сингалы считают, что именно на этот остров впервые вступил по пути на Цейлон шедший по Адамову мосту Будда. А индуисты-тамилы приписывают это же своему богу — Шиве. Поэтому на острове две соревнующихся святыни — индуистская и буддийская. Осмотрев храмы, садимся в двухколесные экипажи, запряженные маленькими, как телята, горбатыми бычками-зебу; хочется назвать их «зебятами». Внешне флегматичные бычки проявляют неожиданную прыть и мчат нас галопом по осененному пальмами побережью, мимо множества лавчонок, торгующих красивыми ракушками. Сзади несется эскорт из подпрыгивающих темнокожих мальчишек. Они бегут с самозабвенным усердием, по-своему переживая значительность встречи. На школьном дворе несколько сотен ребятишек и не одна сотня взрослых — тут и преподаватели и родители, а проще сказать — чуть не все население острова, имеющего меньше 7 километров длины и 2 ширины. Изящные крупноглазые девочки танцуют перед нами танец гостеприимства и усыпают нашу дорогу цветами жасмина. На каждом из нас целые хомуты из гирлянд благоухающих цветов, а на лбах индуистские метки красного цвета. Вокруг море радостных белозубых улыбок на темных исчерна-бронзовых лицах. С нашим визитом совпало маленькое торжество: открытие нового школьного здания. Одна из спутниц перерезает ленту, затем мы присутствуем на молитве перед алтарем с горящими свечами и благовонными курениями. Тамилы и тут сидят прямо на земле, как принято в Индии. При взгляде сверху их головы напоминают своеобразный ковер из шевелящихся черных шевелюр. Собравшиеся дружно вторят определенным частям молитвы. На импровизированной эстраде начинаются танцы. Пляшут девочки 10–11 лет. Как и у сингалок, у этих Тамилочек уже выработана удивительная почти профессиональная культура древнеиндийского танца. Ее дополняет чудесная мимическая игра: девчонки выразительно стреляют глазами, иронизируют, радуются, смеются, кокетничают — под стать взрослым актрисам. «На сцену» выводят за ручку двух шестилетних девочек. Они еще не знают, куда и как им встать. Но раздается голосовой аккомпанемент, и крошки прелестно танцуют, как заведенные. А кончив танец, стоят растерянные — без музыки им непонятно, что делать дальше. Приходится и уводить их за ручку. Так развивается у народа великая пластическая дисциплина, а нам перестают казаться плодами стилизации позы фигур древних фресок и статуй. Осматриваем выставку работ школьников. Многоцветные плетения из пальмовых волокон, крашеные раковины, вышивки, рисунки… Плетеные изделия не уступают по изяществу орнаментов произведениям профессионалов. В акварелях тамильские мальчики делают то же, что в Коломбо делали сингальские. Жестоко яркие краски и контрастные их сочетания, опять совсем как у Гогена. А в окружающей острова природе, как нарочно, преобладают тихие, нежные краски. Море подернуто перламутровой дымкой. Почва красноватая, но не красная. Яркими пятнами выделяются только платья женщин, цветы и птицы! Откуда же и здесь у двенадцатилетних малышей на безвестном острове, на сей раз уже без всяких подсказок преподавателя, это стремление исказить, усугубить, сгустить природные краски? Почему им хочется раскрасить свою землю в огненно-красный цвет, слонов сделать шоколадными, а бычков-зебу охристо-желтыми? Разгадку мы нашли, вернее, думаем, что нашли, разглядывая раскрашенные школьниками ракушки. Причудливо скульптированные скорлупки — лодочки двустворок, гребешки, ушки, спиральные витки улиток. Сама природа украсила их нежно-голубым или розово-палевым орнаментом. Упоительно было набивать ими свои карманы, собирая эти «дары моря» в полосе песчанокоралловых пляжей чуть не пригоршнями. Но эти нежные и тонкие орнаменты не удовлетворяют мальчиков и девочек с Найнативу. Дети не считают красивой свою природу, «исполненную» в смягченных дымкой красках. Их больше радует звонкая красочность национальных костюмов, мелькание ярких солнечных бликов, сапфирное и изумрудное оперение птиц… Вот малыши и красят свои раковины в жестокие горчичные, кирпичные и купоросные тона, считая, что этим они украшают бедных моллюсков. В сущности то же самое они делают и со своей природой. Она вечно с ними, эта жемчужная морская зыбь, лишь чуть отливающая голубизной, эта вуаль тумана, скрадывающая полоски соседних островков, эти валяющиеся на берегу ноздревато-ветвистые рогульки кораллов, такие прозаично серые по цвету. И юные художники не жалеют для своих берегов и проливов, как и для раковин, самых бешеных красок. Видимо, они, как и когда-то Гоген, убеждены, что такая «украшенная» природа красивее настоящей. Среди картин немало и подлинных удач. Вот одноцветный рисунок карандашом — глубокая поэзия задумчивой бухты, берег со склоненными пальмами. Рядом дивная по своей композиции аппликация — не то из рисовой соломы, не то из тонких пальмовых волоконец. И сколько вокруг сверкающих взволнованных глаз, то смущенных, то гордых своими успехами… Снова на крытых двуколках — в каждую впряжено по два низкорослых «зебенка» — мы мчимся вскачь по гостеприимному острову к пристани. И снова плывем на катере, пальмовые лесосады уменьшаются, превращаясь в узкие полоски у горизонта. Жемчужный залив, он и по краскам напоминает океан жемчуга, разительно не похожий на экзотическую горячку мальчишечьих красок. И, как тогда, на лагуне Негомбо, сама возникает над лабиринтом проливов кораллового архипелага песня об омытой теплыми морями Индонезии, о стране с такой похожей на Цейлон природой. И от всей души звучат слова:ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
В обратный путь по Цейлону выехали затемно, в четыре часа утра. Предутренняя свежесть — оказывается, она все же случается на этой земле — сняла приземную дымку, и мы впервые увидели небо, усыпанное звездами донизу, до горизонта. В южной части целый сектор неба темный, с редкими и слабо светящими звездами. Но в середине этого черного провала хоть и с умеренной яркостью, но зато отчетливо сияют четыре звезды, расположенные по углам воображаемого ромба. Исполнилась еще одна, вероятно, предпоследняя мечта в этом путешествии. Мы увидели Южный Крест! Тот самый, главную гордость неба южного полушария, столько раз осенявший пути наших кругосветных мореплавателей и открывателей Антарктиды, тот сияющий и теперь высоко в небе над советскими антарктическими зимовьями. Созвездие приполярное, над Цейлоном оно лежит совсем близко к горизонту — и все-таки обращает на себя внимание своей обособленностью и правильностью очертаний. Как странно. Мы так стремились увидеть его из Галле, с крайнего юга Цейлона, а он соизволил открыться нам как раз от противоположной, крайней северной точки острова. Снова, но в обратном порядке прошли перед нами лагуны Слоновьего брода, дагобы Анурадхапуры, неразбериха сухотропических дебрей. Свернув со старой дороги, выехали к западному побережью у огромной лагуны Путталам и проследили, как постепенно совершался переход от сухотропического к влажнотропическому ландшафту, какими пожелтевшими и болезненными выглядели первые забравшиеся наиболее далеко на сухой север кокосовые пальмы. В Чилау последний раз выкупались в тихом нежноголубом океане прямо с плит коралловых рифов. В Коломбо — серия прощаний. Географ Де-Сильва в роли хозяина департамента народного просвещения рассказал нам о состоянии своего ведомства в общецейлонеких масштабах, а члены туристского клуба дали прощальный банкет в Грэнд Ориентл (Большом Восточном) отеле. Тут было торжественно, звучали теплые речи, а оркестр постарался развлечь нас специальной «программой рюсс», в которую входили «Из-за острова на стрежень», «Полюшко-поле» и… «Очи черные, очи жгучие». Веселые и теплые проводы на аэродроме. Взлетели и сразу погрузились в такую жемчужную дымку, что в ней совсем растворились и Коломбо сосвоими волноломами, и нагорье с пирамидальным зубчиком Адамова пика. Милые стюардессы-сингалочки, не давшие нам на пути сюда полюбоваться этими горами, теперь не докучали анкетами, но видеть в окна было почти нечего. На этот раз улыбки и грация этих девушек были последними напоминаниями о Цейлоне. Не приснился ли нам этот остров, так сказочно растаявший в палевой мгле влажного воздуха? Но нет, он живет в нашей памяти обозримый, ощущенный, наполненный горячими деятельными людьми, он кажется теперь совсем близким и знакомым. Пересадки в Мадрасе и ночном Нагпуре…. Еще одни сутки в Дели, осмотр храмов, улиц, мавзолеев… Завершающая радость ожидала нас на пути из Дели к Амритсару. Мы помнили, как при вечернем полете между этими городами в левые окна нам была видна полыхавшая в далеких Гималаях гроза. На этот раз нам посчастливилось лететь тут днем и при ясном небе. Какими жадными глазами впивались мы теперь в правые окна — ведь можно было надеяться, что снеговерхие шлемы этих гор покажутся нам хотя бы и за 150 километров. Но самолет набирал сотню метров за сотней, забрался уже на километр, на два, на три, — Индия плыла под нами, словно занавешенная пыльно-розовой дымкой, и эта же вуаль, лишь более темная, почти лиловая у горизонта, скрывала непроницаемой завесой дали. Высота 3000 метров. Выше мы забираться, кажется, не будем. И понятно почему. Самолет вышел над верхней границей знойного палево-розового воздуха, над океаном лучистой пыли и плывет над ним, как над огромным бассейном, сказочно утопившим в себе Индию, сам же летит в кристально чистом воздухе, сквозь который видны безбрежные, распластавшиеся на 200 километров синие дали. Небо синее, ясное. Лишь там, на севере, ближе к горам, оно мутнеет. Мы даже различаем отдельные облачные прядки. Одна, другая… Нет, они слились в один зубчатый ряд… — Да это же горы, снег! Гималаи! Я не случайно назвал увиденный вчера Южный Крест осуществлением предпоследней мечты. Оставалась еще одна, в этой поездке — последняя: увидеть высочайшие горы мира, поверить в их реальность, измерить их собственным взглядом… Мы видим их, они все ближе, глыбы колотого сахара, хрустальные престолы, невероятный мир льда и холода, вознесенный над морем знойно-пыльной тропической дымки. Но так ли они высоки? Не такими ли выглядят снежные цепи Кавказа, когда смотришь на них с равнин Предкавказья, откуда-нибудь из-под Минеральных Вод? Впрочем, нет! Так видны Гималаи не снизу, а с уже достигнутой нами трехкилометровой высоты. И все их подножия и целый Сиваликский хребет со всеми предгорьями утонули в сиреневой мгле. Гиганты Гималаев достигают на видимом нами участке высоты километров в семь. Вот они и кажутся нам с завоеванной нами высоты не большими, чем Кавказские горы. А представишь, что это снежное царство — лишь надстройка над еще трехверстным скрытым под нами цоколем, и грандиозность картины удваивается. Чудесная прощальная награда. Мы видели несравненное, огромное. Мы видели Гималаи.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Цейлон обогатил нас впечатлениями за полжизни назад и на полжизни вперед. Не верится, что мы провели там лишь 25 дней. К нашему житейскому укладу мы привыкали десятки лет, а тут, менее чем за месяц, довелось воспринять совершенно иную жизнь, иную во всем — в природе, в облике и нравах людей, в языке, культуре, пище… От одного обилия впечатлений этот месяц невольно вырастал в год, да и год вспоминался как утомительно напряженный и насыщенно счастливый. Замечательный способ продления жизни! Вернувшись в февральскую зимнюю Москву, мы долго еще удивляли своим загаром северян. Нас рассматривали и недоверчиво говорили: — Что это вы, как с юга… Цейлонская «зима» вспоминалась нам как неожиданно быстро ушедшее лето, а февральский холод и начавшаяся в марте весна воспринимались как поторопившаяся осень. Мы выиграли таким образом целый дополнительный летний сезон! Как по-новому теперь думаем мы о Цейлоне! Он, правда, лишился в нашем представлении былого ореола сказочности, но отношение к нему озарилось совсем новым теплом и светом — любовью к его реальной природе, к его людям. Нас встречали с открытой душой, и это было отнюдь не просто проявлением полагающейся вежливости гостеприимных хозяев. Это радость людей, осознавших себя хозяевами в собственном доме. Они с улыбкой трудятся и борются, оптимистически верят в лучшее будущее и готовы делиться этим мироощущением добро? воли с другими народами. Так понятно, так естественно видеть представителей Цейлона в рядах защитников мира во всем мире. Цейлонцы — сторонники мирного сосуществования народов, активные участники Бандунгской конференции. Цейлонцы — пропагандисты запрета атомного оружия. Цейлонцы — сочувствующие освободительной борьбе арабских народов. Все это так органически вытекает из самой национального характера этого жизнелюбивого и трудолюбивого народа! Вскоре после своего возвращения в Москву мы прочитали в газетах о том, что в Коломбо подписано советско-цейлонское соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве. Документ проникнут взаимным уважением, равноправием и доверием договаривающихся сторон и рассказывает о замечательных перспективах советско-цейлонской дружбы. Как о кровно интересном для нас деле читаю пункт за пунктом. Наши изыскатели и проектировщики, строители и монтажники помогут Цейлону не только в восстановлении ирригационных систем, разрушенных недавним наводнением, но и в обуздании и разумном использовании трех рек — Малвату-Ои, Келани-Ганги Калу-Ганги. Воды их должны оросить поля и дать электроэнергию фабрикам и жилищам. Советские агрономы будут участвовать в освоении новых земель под сахарный тростник в Канталае и под хлопчатник в Хабантоте, а инженеры — в проектировании и строительстве на Цейлоне металлургического завода, мельниц элеватора и еще целого ряда объектов. Хорошие новости, беспредельные перспективы дружной и плодотворной работы!ИЛЛЮСТРАЦИИ

Канал, пальмы, фабрика, тонущие в утренней дымке, — таким ежедневно открывался нам Коломбо из окна отеля
(Фото автора)

Сингалам не жарко в своих белых комбоях, напоминающих юбки
(Фото автора)

Зачем сборщику кокосов залезать на каждую пальму в отдельности? Проще обходить свое хозяйство по висячим «мостам» между кронами
(Фото автора)

«Воин с лошадью» — один из шедевров античной скульптуры в Анурад-хапуре

Хлебное дерево джек. Его плоды напоминающие булки растут прямо на стволе
(Фото Л. М. Черепнина)

Улыбка Океании — катамарана: долбленое бревно с противовесом.
(Фото Л. М. Черепнина)

Не сметана ли это? Нет, в ведре млечный сок каучуконосной гевеи — латекс
(Фото автора)

Аллея ведет к вилле чайного плантатора. Теневые-деревья призваны затенять чайные кусты
(Фото автора)

Чудо-смоковница — фикус Бенджамина в ботаническом саду Перадении
(Фото Л. М. Черепнина)

Что может соревноваться в стройности с пальмами кебидж?
(Фото Л. М. Черепнина)

Единственное и предсмертное цветение талипотовой пальмы
(Фото Л. М. Черепнина)

Храм Святого Зуба в Канди с башней Октагона — хранилищем древних рукописей. Справа миниатюрная дагоба

Стволы агатисов («сосен каури») напоминают ноги исполинских слонов. Им еще нет 70 лет
(Фото Л. М. Черепнина)

Целые реки скачут водопадами с уступов, раздробивших нагорье. Каскад Близнецы
(Фото Л. М. Черепнина)

Тропические «степи» и пустоши — патны на сухой покатости нагорья. Здесь мексиканские кактусы и агавы растут как сорняки
(Фото автора)

Крученые серые стволы делают еще более мертвенной жестяную листву экваториального криволесья
(Фото автора)

Даже в глубинных горных районах острова много автомобилей. (Городок Велимада на Цейлонском нагорье)
(Фото автора)

Юный тамил продает ананасы
(Фото автора)

Карнизная тропа к водопаду Дунхинда прорублена в отвесной стене
(Фото автора)

Днища долин, а местами и целые склоны гор вылеплены вручную в виде лестниц — террасированных рисовых полей
(Фото Л. М. Черепнина)

Холмисто-увалистые перелески — чем не среднерусский ландшафт? Но так выглядят и верхние плоскогорья Цейлона
(Фото автора)

Так грубо угловаты и топорны формы вершин, возвышающихся над верхними плоскогорьями Цейлона
(Фото автора)

Привольны дороги среди молодых эвкалиптов на пологих увалах верхних плоскогорий
(Фото автора)

На таком дынном дереве растут папаи, похожие на настоящие дыни
(Фото автора)

Тамильские сборщицы чая
(Фото автора)

Болес чем на 150 метров вздымаются над равниной отвесы Сигирии — убежища царя Касьяны. Здесь сохранились дивные фрески V нашей эры

Наводнение в дни зимнего муссона переполнило чаши водохранилищ и деревья стоят по колено в воде
(Фото автора)

Дагоба Тупарама, воздвигнутая над… ключицей Будды. А «роща» колонн — остаток древнего монастыря
(Фото Л. М. Черепнина)

На далеком коралловом острове Найнативу
(Фото автора)

Эта короткие зебу умеют скакать настоящим галопом, даже запряженные в буллоккар
INFO
Юрий Константинович Ефремов ОСТРОВ ВЕЧНОГО ЛЕТА
Редактор Д. Н. Костинский Младший редактор В. И. Попова Художник Л. Б. Збарский Художественный редактор М. Ф. Лохманова Технический редактор Н. И. Ногина Корректор З. Г. Гейзе
Т 03337. Сдано в производство 1/XII 1958 г. Подписано в печать 9/VII 1959 г. Формат 84×108 1/32. Физических листов 5.5. Печатных листов 8.5. вкл 0.82 Издательских листов 9.6. Тираж 50 000. Цена 2 р. 70 к.
Москва. В 71. Ленинский проспект. 15. Географгиз Набрано в Первой образцовой типографии имени А. А. Жданова. Отпечатано в ордена Ленина типографии газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, ул. «Правды», д. 24. Заказ 1696.


Последние комментарии
6 часов 28 минут назад
15 часов 20 минут назад
15 часов 23 минут назад
2 дней 21 часов назад
3 дней 2 часов назад
3 дней 3 часов назад