Тополиная метель [Роман Иванович Иванычук] (fb2) читать онлайн
- Тополиная метель (пер. Юрий Афанасьевич Саенко) 1.27 Мб, 151с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Роман Иванович Иванычук
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Роман Иваничук
ТОПОЛИНАЯ МЕТЕЛЬ
Рассказы

Рододендроны
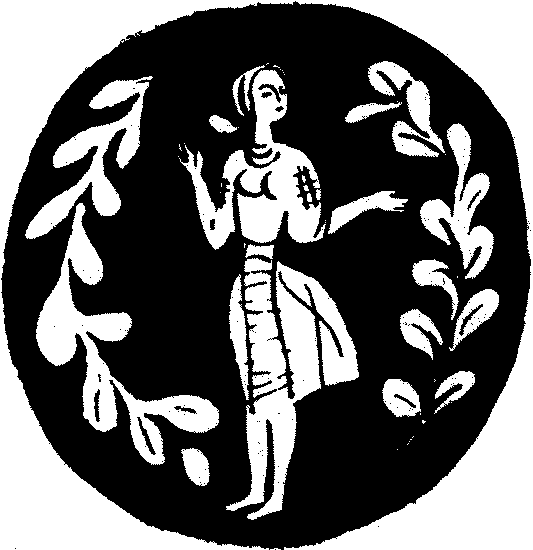 Странствую в горах. Не поехал в Крым, отказался от солнечной Абхазии, променял плеск морского прибоя на ветер полонин в Карпатах. Я посетил дивный край, вдохновляющий многих художников, пришел увидеть его и создать песню.
Край поэзии, красоты, искусства и безвестных талантов. Край экзотики, сказок и легенд. Край сильных, горячих и смелых людей. Край, о котором написано много, да не все еще сказано. Хочу сам его увидеть и воспеть.
С рюкзаком за спиной, с палкой в руке и с тетрадью начатых песен брожу в Карпатах.
•
Вчера хозяйка ворохтянской гостиницы пугала нас плохой погодой. Неудачный прогноз. Смотрите, какое сегодня солнце!
Вперед! Маршрут у меня необычный: хребтом Черногоры — до румынской границы. Хочу быть наедине с собой, хочу надышаться впечатлениями и не делиться ими ни с кем. Пусть даже обвинят меня в эгоизме — все равно, теперь я буду принадлежать только себе и природе. Чтобы цикл моих стихов «Волны Черемоша» наполнился запахом ели, чтоб овеяли его ветры полонин, чтобы стихи звенели, подобно чистым горным родникам.
Догоняю группу туристов. Они с Киевщины.
— Вы не знаете дороги на Говерлу? — спрашивают.
Я еще не был на Говерле, но горы мне стали такими близкими, что смело заявляю:
— Да, дорога мне знакома. Я поведу вас дебрями, звериными тропами, вы подниметесь узкими горными тропинками до самой высокой точки Карпат и оттуда увидите все величие украинской Швейцарии!
— Хорошо сказано, — хвалят туристы. — Действительно Швейцария!
Они принимают меня за местного.
Возле самого подножия Говерлы нахлынул туман. Густой и холодный. Исполнилось предсказание хозяйки гостиницы. И что в этом удивительного? Здесь каждый человек — ведун. Здесь знают то, что будет, и видят то, чего никогда не бывает.
Туман становится все гуще, словно ватой затыкает рот, нос, уши. Моих спутников поглотило густое его молоко, я уже не вижу их, голоса звучат приглушенно, а там и вовсе теряются. Остановились? Отстали? Позади лишь глухой шум, и невозможно различить, что это шумит: ветер, горные кусты или мое собственное одиночество?
Одиночество? Я не хотел быть один. Добраться до вершины Говерлы, оттуда — по моему маршруту.
Но нечистая сила повела меня не той дорогой. Не удивляйтесь, в горах я стал суеверным. Мне вдруг показалось, что я иду в противоположную сторону. Хоть и не вниз, а вверх — все равно могу поклясться, что Говерла каким-то чудом опрокинулась своим куполом в бездну и я пробираюсь к ее подножию. Теперь самоуверенность моя исчезает, и я уже не твердо знаю, куда иду.
Меня останавливают роскошные кустики высокогорных цветов — рододендронов, они кровавыми пятнами заалели под ногами. Рододендроны. Я не впервые их вижу. Дома у меня, на окне, рядом с кактусом и аспарагусом, стоят и они — старейшие цветы нашей планеты. Они не украшают комнаты. Мне иной раз жаль было смотреть на грустно склоненные звоночки, никнущие в тоске по холодным туманам, каменистой почве, горным суровым кряжам. В вазонах они серые и чужие. В горах их не сменяешь на самые красивые оранжерейные розы, потому что здесь они украшают землю.
Я нарвал их целый букет и иду вниз наудачу. Туристы повеселели: завеса тумана становится прозрачнее, и наконец нас обливает багрянцем заходящего солнца. Спутники мои разбивают палатки, а я с большим букетом высокогорных цветов направляюсь к пастушьему шалашу. Хорошо, что под вечер набрел на жилье. А мне навстречу от самого ручейка, что струится внизу, летит песня:
Странствую в горах. Не поехал в Крым, отказался от солнечной Абхазии, променял плеск морского прибоя на ветер полонин в Карпатах. Я посетил дивный край, вдохновляющий многих художников, пришел увидеть его и создать песню.
Край поэзии, красоты, искусства и безвестных талантов. Край экзотики, сказок и легенд. Край сильных, горячих и смелых людей. Край, о котором написано много, да не все еще сказано. Хочу сам его увидеть и воспеть.
С рюкзаком за спиной, с палкой в руке и с тетрадью начатых песен брожу в Карпатах.
•
Вчера хозяйка ворохтянской гостиницы пугала нас плохой погодой. Неудачный прогноз. Смотрите, какое сегодня солнце!
Вперед! Маршрут у меня необычный: хребтом Черногоры — до румынской границы. Хочу быть наедине с собой, хочу надышаться впечатлениями и не делиться ими ни с кем. Пусть даже обвинят меня в эгоизме — все равно, теперь я буду принадлежать только себе и природе. Чтобы цикл моих стихов «Волны Черемоша» наполнился запахом ели, чтоб овеяли его ветры полонин, чтобы стихи звенели, подобно чистым горным родникам.
Догоняю группу туристов. Они с Киевщины.
— Вы не знаете дороги на Говерлу? — спрашивают.
Я еще не был на Говерле, но горы мне стали такими близкими, что смело заявляю:
— Да, дорога мне знакома. Я поведу вас дебрями, звериными тропами, вы подниметесь узкими горными тропинками до самой высокой точки Карпат и оттуда увидите все величие украинской Швейцарии!
— Хорошо сказано, — хвалят туристы. — Действительно Швейцария!
Они принимают меня за местного.
Возле самого подножия Говерлы нахлынул туман. Густой и холодный. Исполнилось предсказание хозяйки гостиницы. И что в этом удивительного? Здесь каждый человек — ведун. Здесь знают то, что будет, и видят то, чего никогда не бывает.
Туман становится все гуще, словно ватой затыкает рот, нос, уши. Моих спутников поглотило густое его молоко, я уже не вижу их, голоса звучат приглушенно, а там и вовсе теряются. Остановились? Отстали? Позади лишь глухой шум, и невозможно различить, что это шумит: ветер, горные кусты или мое собственное одиночество?
Одиночество? Я не хотел быть один. Добраться до вершины Говерлы, оттуда — по моему маршруту.
Но нечистая сила повела меня не той дорогой. Не удивляйтесь, в горах я стал суеверным. Мне вдруг показалось, что я иду в противоположную сторону. Хоть и не вниз, а вверх — все равно могу поклясться, что Говерла каким-то чудом опрокинулась своим куполом в бездну и я пробираюсь к ее подножию. Теперь самоуверенность моя исчезает, и я уже не твердо знаю, куда иду.
Меня останавливают роскошные кустики высокогорных цветов — рододендронов, они кровавыми пятнами заалели под ногами. Рододендроны. Я не впервые их вижу. Дома у меня, на окне, рядом с кактусом и аспарагусом, стоят и они — старейшие цветы нашей планеты. Они не украшают комнаты. Мне иной раз жаль было смотреть на грустно склоненные звоночки, никнущие в тоске по холодным туманам, каменистой почве, горным суровым кряжам. В вазонах они серые и чужие. В горах их не сменяешь на самые красивые оранжерейные розы, потому что здесь они украшают землю.
Я нарвал их целый букет и иду вниз наудачу. Туристы повеселели: завеса тумана становится прозрачнее, и наконец нас обливает багрянцем заходящего солнца. Спутники мои разбивают палатки, а я с большим букетом высокогорных цветов направляюсь к пастушьему шалашу. Хорошо, что под вечер набрел на жилье. А мне навстречу от самого ручейка, что струится внизу, летит песня:
1960
Свадебная
 Дед Плятко не мог видеть, стемнело ли уже, — в его глазах навечно осела глухая ночь, — но когда на перестоявшие травы падала щедрая роса и умолкал неутомимый перепел, а с низин тянуло свежей прохладой, знал дед Плятко, что уже повечерело, и соображал: должны прийти косари на ночь, вчера новый лесничий сбор созывал.
И уже где-то там, в долине, где журчит ледяная Жонка, слышится гул: это наверняка косари идут — начинается сенокос. Вышел дед из своей колыбы[3] — он еще крепкий, сам брынзу бьет, — остановился и слушает, хочет по шагам узнать, кто идет. Может, Илько Кинаш? Дочка Катерина еще с вечера завтрак готовит и надеется, что хоть сегодня зайдет Илько в их хату, хоть к старому деду зайдет…
Слышит дед: там, под горой, где стоит хата Катерины, говорят, — узнает Якубов голос.
— Мочерначка, — спрашивает лесник, — почему крышу не починишь? Есть же чем покрыть.
— Да вот боюсь, градом дранку побьет, — отвечает бойко Катерина. Эх, если бы кто знал, почему у нее руки опустились и пропала охота крышу на своей хате перекрывать… А впрочем, знают.
Мимо дедова двора косари не проходят, здесь и заночуют — кто под крышей, а кто прямо во дворе, — будут курить, разговаривать, слушать, как дед на дудке играет. Но никто о дедовой слепоте и слова не вымолвит — пусть будет, как он сам говорит, — от старости ослеп.
— Сыграйте, дед, — просит кто-нибудь из косарей. — Вон ваша внучка сидит на пороге, пора ей и свадебную послушать…
— Каждому цветению своя пора, — отвечает дед. — Но своим я еще свадебную не играл… Ты здесь, Якубяк? — повернулся старик к косарям. — Не знаешь, Илько придет?
— Да вроде придет. Все лесники должны быть.
Старик поднялся.
— Вы, хлопцы, спите себе в колыбе… Я у Катерины ночевать буду, — сказал и зашагал вниз по тропке.
Ушла короткая ночь, расплылась шелковой пряжей над Жонкой, ударили перепела в колокольцы; где же косари? — полевые кузнечики частой дробью секут созревшие стебли, но управиться сами не могут; где косари, где косари? — начнет скороговоркой перепел, да вдруг и умолкнет. На Маковице густым звоном отозвались молотки — ударили о тонкие жала кос. И рассыпался стальной гомон росистой пылью по сенокосам; косят, косят, косят! — встрепенулся перепел от радости, заволновалась Мочерначка.
— Давай, Олена, быстрее завтрак готовить… Быстро, Олена!
— Ой, мама, мамочка…
Катерина аккуратно подоткнула седину под платок и взбежала тропкой на гору: пошли косари журавлиным ключом: шш-и-к, шш-и-к, шш-и-к! — встревоженные пчелы жужжат над головами, и кузнечики прыгают табунами во все стороны, дымится росистая пыльца, а глаза Катерины ощупывают каждую спину, каждый затылок: нет Илька…
Почему? Почему он до сих пор обходит десятыми тропинками ее хату, — седину уже Катерина прячет под платком, нечего теперь Ильку бояться, а он и сегодня не пришел на косьбу.
— Илько в обход пошел, — разгибается Якубяк, — на Погарь, слышишь, Катерина?
Слышит Катерина. Далеко Погарь, а у Илька нога больная, и лесничий не знает, потому что он новый у них. Еще застрянет Илько где-нибудь в завалах, разве можно его одного посылать?
— Сказал, что должен посадку посмотреть, — проговорил Якубяк и сочувственно посмотрел на отцветшую красавицу Катерину.
И ей уже не до завтрака — ведь Илько упасть может в дороге, — помешала кулеш в котелке, позвала Олену: «Готовь сама завтрак, а я в Багровец должна сбегать»; знает Олена, что не в Багровец, но берет уполовник и помешивает в котелке. А Катерина побежала куда? Дочка в окно видела: на Погарь подалась. И жалеет Олена мать, и радуется, что старость не измеряется годами.
А Илько уже прошел лес, нога все сильнее ныла: давным-давно, когда здесь бои были, зацепила его немецкая пуля и перебила сухожилье. Но, пока был молод, как-то ходил, а теперь рана открылась, загноилась, но он никому ни слова об этом — еще в инвалиды запишут и отправят на пенсию. А тогда лес осиротеет, и вправду осиротеет лес, убеждал себя Илько; кто же без него досмотрит саженцы на Погаре? Но хорошо знает, что сиротой останется он сам и будет приходить сюда разве только гостем. И деревья, властелином и судьей которых он сейчас является, — вот этому жить, а это долой, — равнодушно будут смотреть на пенсионера-инвалида. И олень не подойдет к нему, чтобы взять мягкими губами из его рук душистый кусок хлеба, густо присыпанный солью, и медведь будет рычать на него, на непрошеного гостя. Как же тогда, одинокий, будет он жить? И саженцы на Погаре усохнут: никто их так не досмотрит, как он. Потому что у каждого есть жена, дети, а у него — только лес.
Вышел Илько на Погарь и склонил голову в низком поклоне перед лесным огромным кладбищем. Чья-то нерадивая рука опустошила здесь все. Деревья трухлявеют на земле, лежат никому не нужные их трупы. Срубить срубили, да не сумели вывезти отсюда вековые ели, и назвали люди это дикое кладбище Погарем, то есть выжженной землей. И только гадюки теперь клубились здесь, а небо над ним всегда хмурилось, словно осуждая людское безрассудство.
И все же кое-где уже начали тянуться к солнцу молодые побеги смерек, воскресает разрушенная жизнь леса. Если бы могла так же восстанавливаться жизнь людей, легче было бы Ильку идти на Погарь, чем на Маковицу.
…Когда еще парнем был, мечтал только о ружье, потому что на свой клочок земли не надеялся. А ружьем прокормиться можно. И он, собирая ягоды, накопил денег и купил у жабьевского трактирщика австрийский манлихер, который стрелял, как пушка, и дикого кабана валил наповал первым выстрелом. Полиция не могла поймать Илька с его манлихером — прятал он на ночь ружье в сено, а сам шел на высокую Маковицу, к Катерине. Любил, — один бог знает, как сильно любил Илько Катерину. Накопил он денег за кабаньи кожи как раз столько, сколько потребовалось на уплату штрафа, когда полиция все же его выследила. Тогда подался он в Уторопы, на солеварню, потому что на жизнь зарабатывать надо было — вдвоем с Катериной не проживешь на одних ягодах. Что только Илько натворил на солеварне, никто не знал, говорили: из-за соли в тюрьму угодил, а когда вернулся, Катерина уже была с ребенком.
Как бешеный ворвался Илько в хату… «Прости, Илашок, не любила я его, сразу же прогнала, прости, что не устояла, но дитя убить не могла». Вскипел Илько: «Тогда я убью!» — схватил ребеночка, как щенка, за ножки, но руки опустились — не погубил. И ушел в горы, в высокие горы, потому что эти стали низкими, упали ниц от стыда.
С ума сходила Катерина, а об Ильке и слуху не было. Тогда с отчаяния пошла она гулять… Тогда и выплакал дед Плятко свои очи и слепнуть стал. А Катерина на всю околицу гульбища справляла, но замуж не выходила: ни за кого не пойдет на веки вечные.
Возвратился Илько и все же зашел к ней. «Гуляешь, Катерина?» — «Гуляю, Илашок, позорюсь, чтобы ты не жалел, что бросил меня. А хочешь — ночуй и ты у меня…»
Избил тогда Илько Катерину, страшно избил. Утром люди увидели ее, осунувшуюся и поседевшую. Больше не гуляла Катерина.
Порубили люди лес на Погаре, а все же курчавятся на солнышке молодые деревца, будет еще жизнь и молодость на этом гиблом кладбище, будет…
Невыносимо защемила рана, прилег Илько на землю. Вокруг него шумели свежей зеленью молодые саженцы, шумела новая поросль леса… «У нас же с тобой, Катерина, одни лишь могилы да могилы впереди…»
А почему? Почему изо всех самых высоких гор Погарь стал его высотою? Поднял голову — за валежником зеленеет Маковица, подпирает круглой головой небо. «Что такое — или она выросла за то время, что я не бывал на ней, или я уменьшился за эти безутешные и бесплодные годы?» Когда же это его нога ступала по ней?
Вспомнил сейчас Илько свою жизнь с самого начала и до острой боли в голове понял: все, что делали его руки, для чего билось его сердце, — все это было для нее. «Манлихер», солеварня, тюрьма, отчаяние, злоба, побои и эти саженцы — все для Катерины. Только без нее… На пустырях насаждал жизнь, а в своей собственной жизни — пустырь.
Вскочил, рванулся вперед, чтоб идти, и опустился на землю от боли.
Надо отдохнуть…
Замерла Катерина: лежит Илько на земле, — побежала, сбрасывая с плеч годы, и седины ее будто никогда не было.
— Илашок! — услышал он над собою знакомый девичий голос. — Встань, я помогу тебе. Только не гони меня сейчас, Илашок…
— Не гони… не гони… — прошептал он, как далекое эхо.
Длинными ужами млели на солнце безросные валки скошенного сена. Вместо матери накрывала Олена скатертью стол, расставляла тарелки с едой и просила деда сыграть косарям.
Тоскливо светила окнами Мочерначкина хата, голосила своей пустотой над горами, но зато весело пела, заливалась дедова дудка, а его улыбка молодила всю полонину. И играла его дудка, играла — кому для отдыха, кому для работы, а кому-то, может быть, и свадебную играла…
Дед Плятко не мог видеть, стемнело ли уже, — в его глазах навечно осела глухая ночь, — но когда на перестоявшие травы падала щедрая роса и умолкал неутомимый перепел, а с низин тянуло свежей прохладой, знал дед Плятко, что уже повечерело, и соображал: должны прийти косари на ночь, вчера новый лесничий сбор созывал.
И уже где-то там, в долине, где журчит ледяная Жонка, слышится гул: это наверняка косари идут — начинается сенокос. Вышел дед из своей колыбы[3] — он еще крепкий, сам брынзу бьет, — остановился и слушает, хочет по шагам узнать, кто идет. Может, Илько Кинаш? Дочка Катерина еще с вечера завтрак готовит и надеется, что хоть сегодня зайдет Илько в их хату, хоть к старому деду зайдет…
Слышит дед: там, под горой, где стоит хата Катерины, говорят, — узнает Якубов голос.
— Мочерначка, — спрашивает лесник, — почему крышу не починишь? Есть же чем покрыть.
— Да вот боюсь, градом дранку побьет, — отвечает бойко Катерина. Эх, если бы кто знал, почему у нее руки опустились и пропала охота крышу на своей хате перекрывать… А впрочем, знают.
Мимо дедова двора косари не проходят, здесь и заночуют — кто под крышей, а кто прямо во дворе, — будут курить, разговаривать, слушать, как дед на дудке играет. Но никто о дедовой слепоте и слова не вымолвит — пусть будет, как он сам говорит, — от старости ослеп.
— Сыграйте, дед, — просит кто-нибудь из косарей. — Вон ваша внучка сидит на пороге, пора ей и свадебную послушать…
— Каждому цветению своя пора, — отвечает дед. — Но своим я еще свадебную не играл… Ты здесь, Якубяк? — повернулся старик к косарям. — Не знаешь, Илько придет?
— Да вроде придет. Все лесники должны быть.
Старик поднялся.
— Вы, хлопцы, спите себе в колыбе… Я у Катерины ночевать буду, — сказал и зашагал вниз по тропке.
Ушла короткая ночь, расплылась шелковой пряжей над Жонкой, ударили перепела в колокольцы; где же косари? — полевые кузнечики частой дробью секут созревшие стебли, но управиться сами не могут; где косари, где косари? — начнет скороговоркой перепел, да вдруг и умолкнет. На Маковице густым звоном отозвались молотки — ударили о тонкие жала кос. И рассыпался стальной гомон росистой пылью по сенокосам; косят, косят, косят! — встрепенулся перепел от радости, заволновалась Мочерначка.
— Давай, Олена, быстрее завтрак готовить… Быстро, Олена!
— Ой, мама, мамочка…
Катерина аккуратно подоткнула седину под платок и взбежала тропкой на гору: пошли косари журавлиным ключом: шш-и-к, шш-и-к, шш-и-к! — встревоженные пчелы жужжат над головами, и кузнечики прыгают табунами во все стороны, дымится росистая пыльца, а глаза Катерины ощупывают каждую спину, каждый затылок: нет Илька…
Почему? Почему он до сих пор обходит десятыми тропинками ее хату, — седину уже Катерина прячет под платком, нечего теперь Ильку бояться, а он и сегодня не пришел на косьбу.
— Илько в обход пошел, — разгибается Якубяк, — на Погарь, слышишь, Катерина?
Слышит Катерина. Далеко Погарь, а у Илька нога больная, и лесничий не знает, потому что он новый у них. Еще застрянет Илько где-нибудь в завалах, разве можно его одного посылать?
— Сказал, что должен посадку посмотреть, — проговорил Якубяк и сочувственно посмотрел на отцветшую красавицу Катерину.
И ей уже не до завтрака — ведь Илько упасть может в дороге, — помешала кулеш в котелке, позвала Олену: «Готовь сама завтрак, а я в Багровец должна сбегать»; знает Олена, что не в Багровец, но берет уполовник и помешивает в котелке. А Катерина побежала куда? Дочка в окно видела: на Погарь подалась. И жалеет Олена мать, и радуется, что старость не измеряется годами.
А Илько уже прошел лес, нога все сильнее ныла: давным-давно, когда здесь бои были, зацепила его немецкая пуля и перебила сухожилье. Но, пока был молод, как-то ходил, а теперь рана открылась, загноилась, но он никому ни слова об этом — еще в инвалиды запишут и отправят на пенсию. А тогда лес осиротеет, и вправду осиротеет лес, убеждал себя Илько; кто же без него досмотрит саженцы на Погаре? Но хорошо знает, что сиротой останется он сам и будет приходить сюда разве только гостем. И деревья, властелином и судьей которых он сейчас является, — вот этому жить, а это долой, — равнодушно будут смотреть на пенсионера-инвалида. И олень не подойдет к нему, чтобы взять мягкими губами из его рук душистый кусок хлеба, густо присыпанный солью, и медведь будет рычать на него, на непрошеного гостя. Как же тогда, одинокий, будет он жить? И саженцы на Погаре усохнут: никто их так не досмотрит, как он. Потому что у каждого есть жена, дети, а у него — только лес.
Вышел Илько на Погарь и склонил голову в низком поклоне перед лесным огромным кладбищем. Чья-то нерадивая рука опустошила здесь все. Деревья трухлявеют на земле, лежат никому не нужные их трупы. Срубить срубили, да не сумели вывезти отсюда вековые ели, и назвали люди это дикое кладбище Погарем, то есть выжженной землей. И только гадюки теперь клубились здесь, а небо над ним всегда хмурилось, словно осуждая людское безрассудство.
И все же кое-где уже начали тянуться к солнцу молодые побеги смерек, воскресает разрушенная жизнь леса. Если бы могла так же восстанавливаться жизнь людей, легче было бы Ильку идти на Погарь, чем на Маковицу.
…Когда еще парнем был, мечтал только о ружье, потому что на свой клочок земли не надеялся. А ружьем прокормиться можно. И он, собирая ягоды, накопил денег и купил у жабьевского трактирщика австрийский манлихер, который стрелял, как пушка, и дикого кабана валил наповал первым выстрелом. Полиция не могла поймать Илька с его манлихером — прятал он на ночь ружье в сено, а сам шел на высокую Маковицу, к Катерине. Любил, — один бог знает, как сильно любил Илько Катерину. Накопил он денег за кабаньи кожи как раз столько, сколько потребовалось на уплату штрафа, когда полиция все же его выследила. Тогда подался он в Уторопы, на солеварню, потому что на жизнь зарабатывать надо было — вдвоем с Катериной не проживешь на одних ягодах. Что только Илько натворил на солеварне, никто не знал, говорили: из-за соли в тюрьму угодил, а когда вернулся, Катерина уже была с ребенком.
Как бешеный ворвался Илько в хату… «Прости, Илашок, не любила я его, сразу же прогнала, прости, что не устояла, но дитя убить не могла». Вскипел Илько: «Тогда я убью!» — схватил ребеночка, как щенка, за ножки, но руки опустились — не погубил. И ушел в горы, в высокие горы, потому что эти стали низкими, упали ниц от стыда.
С ума сходила Катерина, а об Ильке и слуху не было. Тогда с отчаяния пошла она гулять… Тогда и выплакал дед Плятко свои очи и слепнуть стал. А Катерина на всю околицу гульбища справляла, но замуж не выходила: ни за кого не пойдет на веки вечные.
Возвратился Илько и все же зашел к ней. «Гуляешь, Катерина?» — «Гуляю, Илашок, позорюсь, чтобы ты не жалел, что бросил меня. А хочешь — ночуй и ты у меня…»
Избил тогда Илько Катерину, страшно избил. Утром люди увидели ее, осунувшуюся и поседевшую. Больше не гуляла Катерина.
Порубили люди лес на Погаре, а все же курчавятся на солнышке молодые деревца, будет еще жизнь и молодость на этом гиблом кладбище, будет…
Невыносимо защемила рана, прилег Илько на землю. Вокруг него шумели свежей зеленью молодые саженцы, шумела новая поросль леса… «У нас же с тобой, Катерина, одни лишь могилы да могилы впереди…»
А почему? Почему изо всех самых высоких гор Погарь стал его высотою? Поднял голову — за валежником зеленеет Маковица, подпирает круглой головой небо. «Что такое — или она выросла за то время, что я не бывал на ней, или я уменьшился за эти безутешные и бесплодные годы?» Когда же это его нога ступала по ней?
Вспомнил сейчас Илько свою жизнь с самого начала и до острой боли в голове понял: все, что делали его руки, для чего билось его сердце, — все это было для нее. «Манлихер», солеварня, тюрьма, отчаяние, злоба, побои и эти саженцы — все для Катерины. Только без нее… На пустырях насаждал жизнь, а в своей собственной жизни — пустырь.
Вскочил, рванулся вперед, чтоб идти, и опустился на землю от боли.
Надо отдохнуть…
Замерла Катерина: лежит Илько на земле, — побежала, сбрасывая с плеч годы, и седины ее будто никогда не было.
— Илашок! — услышал он над собою знакомый девичий голос. — Встань, я помогу тебе. Только не гони меня сейчас, Илашок…
— Не гони… не гони… — прошептал он, как далекое эхо.
Длинными ужами млели на солнце безросные валки скошенного сена. Вместо матери накрывала Олена скатертью стол, расставляла тарелки с едой и просила деда сыграть косарям.
Тоскливо светила окнами Мочерначкина хата, голосила своей пустотой над горами, но зато весело пела, заливалась дедова дудка, а его улыбка молодила всю полонину. И играла его дудка, играла — кому для отдыха, кому для работы, а кому-то, может быть, и свадебную играла…
1964
Побей меня!..
 Не богатство, так хоть повадки прежние остались — спесь осталась. Было когда-то у Штефана всего вдоволь, а ныне одна Марийка-бродяжка. Ничего, что бедную девушку взял: это в моде, а для гонора — в самый раз.
Лелеял Штефан Марийку, так ревностно лелеял, что даже детей от нее не хотел, — не ровен час еще разбухнет после родов, подурнеет, и завистники будут радоваться, как тогда, когда он дедовской полонины на Затынке лишился.
А сегодня по селу слух пошел, что Штефан побил Марийку. Радовались ли односельчане, трудно сказать, но дивились — это верно! То, бывало, пушинке не даст на нее сесть, все допытывается, поела ли она, идет с обхода — землянику ей несет, малину, натощак молоком козьим поит. Заботился о Марийке Штефан, ночью не беспокоил, чтоб синева не легла под глазами. А она ходила как чужая по Штефановой светлице, гостьей спала на Штефановых подушках, чужой ходила по улицам и не радовалась, когда женщины шептались у нее за спиной: «Ой, какая красивая!» — потому что и красота эта была не ее, а Штефанова.
Штефан день и ночь на обходах пропадал — лесником в лесничестве работал, а у Марийки все из рук валилось. Куталась она в свое одиночество, как утренние горы в белую плахту[4], и молча глядела большими, как у косули, глазами на Штефана, когда он, усталый, возвращался из лесу. Словно чего-то ждала от него. А он, как всегда, присматривался к Марийке, не осунулась ли за день или за ночь.
Однажды сказала Штефану:
— Похоже, будто меня продать собираешься.
— На люди с тобой выхожу — должна быть красивой.
— Только и того, что водишь меня на люди, как на ярмарку.
Насупился Штефан, ощетинились усы, глаза, тяжелые, холодные, уставились на Марийкино свежее, нецелованное лицо.
— Всего имеешь вволю, разве только птичьего молока не хватает…
— Имею, Штефан, по горло имею…
— Выгнать бы тебя, голубушка, — скрипнул Штефан желтыми зубами, — пошляться по селам, как когда-то!..
Замолкла Марийка — страх стиснул сердце. Все ее богатство — красота да страх перед большим светом. Исходила много дорог от детских лет до девичества, от уюта отцовской хаты до Штефановых светлиц, всю войну ходила из села в село и все по дороге растеряла, даже лицо расстрелянного хортистами отца ушло из памяти. Все растеряла, кроме красоты.
Молчала Марийка — боялась большого света.
А на селе известно как: не успел споткнуться, скажут — ногу сломал. Пошла молва, что Штефан Марийку побил, а он только замахнулся.
Так и не ударил…
Когда начало светать и над Жонкой задымились седые туманы, вернулся Штефан домой — сено на Затынке караулил — и остановился в воротах как вкопанный. Из овина крадучись вышел Карпо Гануляк и махнул через тын, только лопухи захрустели под ногами.
А Марийка стояла у дровяного сарая, за овином — бежать ей было некуда. Стояла — расчесанная Карповыми пальцами, нацелованная за все те годы, что Штефан ее берег, испуганная и неподвижная.
Штефан рванулся от ворот, словно с цепи сорвался, кулак с разгона разрубил солнечный луч, осветивший Марийкино лицо, просвистел у самых ее губ и увял — так добрый конюх и в сердцах конягу не ударит.
Марийка ждала побоев. Дрожала от страха, но ждала их — они должны были теперь обрушиться на ее голову, сам бог велел.
Но Штефан не ударил…
Пожалел… Пожалел? Неужели пожалел?!
Луч добра сверкнул из холодных Марийкиных глаз, упал зайчиком на стиснутые Штефановы губы…
Он опустил руки — кровь отхлынула от побагровевшего лица — и сказал спокойно, по-хозяйски:
— Иди в хату, проспись. Вечером гости будут.
Задрожала Марийка, как подрубленная осинка, исчез зайчик со Штефановых губ.
— Штефан…
— Иди в хату.
— Штефан! Побей меня… Слышишь, что говорю: побей!
Повернулся спиной — и за ворота.
— Приду к обеду. На Поляницу нужно…
Побежала за ним вслед, споткнулась на дороге и крикнула:
— Вернись, Штефан!
Оглянулся:
— Чего тебе?
— Побей, Штефанко. Чай, и скотину бьют, хоть на зарез иль на продажу держат…
Пошел не оборачиваясь.
А когда скрылся из глаз, Марийка вяло прошептала:
— А, чтоб тебя бог побил…
•
На следующий день женщины судачили у ручья:
— Марийка Штефанова с Гануляком убежала.
— Брешут, Карпо дома. Сегодня только видела.
— Так что же — одна? С чего бы это?
Никто не знал, с чего.
Но тут принесли хлопцы с улицы свежую новость, да такую, что та, первая, развеялась, как дым:
— Штефан застрелился! В своей хате… Из охотничьего ружья…
Не богатство, так хоть повадки прежние остались — спесь осталась. Было когда-то у Штефана всего вдоволь, а ныне одна Марийка-бродяжка. Ничего, что бедную девушку взял: это в моде, а для гонора — в самый раз.
Лелеял Штефан Марийку, так ревностно лелеял, что даже детей от нее не хотел, — не ровен час еще разбухнет после родов, подурнеет, и завистники будут радоваться, как тогда, когда он дедовской полонины на Затынке лишился.
А сегодня по селу слух пошел, что Штефан побил Марийку. Радовались ли односельчане, трудно сказать, но дивились — это верно! То, бывало, пушинке не даст на нее сесть, все допытывается, поела ли она, идет с обхода — землянику ей несет, малину, натощак молоком козьим поит. Заботился о Марийке Штефан, ночью не беспокоил, чтоб синева не легла под глазами. А она ходила как чужая по Штефановой светлице, гостьей спала на Штефановых подушках, чужой ходила по улицам и не радовалась, когда женщины шептались у нее за спиной: «Ой, какая красивая!» — потому что и красота эта была не ее, а Штефанова.
Штефан день и ночь на обходах пропадал — лесником в лесничестве работал, а у Марийки все из рук валилось. Куталась она в свое одиночество, как утренние горы в белую плахту[4], и молча глядела большими, как у косули, глазами на Штефана, когда он, усталый, возвращался из лесу. Словно чего-то ждала от него. А он, как всегда, присматривался к Марийке, не осунулась ли за день или за ночь.
Однажды сказала Штефану:
— Похоже, будто меня продать собираешься.
— На люди с тобой выхожу — должна быть красивой.
— Только и того, что водишь меня на люди, как на ярмарку.
Насупился Штефан, ощетинились усы, глаза, тяжелые, холодные, уставились на Марийкино свежее, нецелованное лицо.
— Всего имеешь вволю, разве только птичьего молока не хватает…
— Имею, Штефан, по горло имею…
— Выгнать бы тебя, голубушка, — скрипнул Штефан желтыми зубами, — пошляться по селам, как когда-то!..
Замолкла Марийка — страх стиснул сердце. Все ее богатство — красота да страх перед большим светом. Исходила много дорог от детских лет до девичества, от уюта отцовской хаты до Штефановых светлиц, всю войну ходила из села в село и все по дороге растеряла, даже лицо расстрелянного хортистами отца ушло из памяти. Все растеряла, кроме красоты.
Молчала Марийка — боялась большого света.
А на селе известно как: не успел споткнуться, скажут — ногу сломал. Пошла молва, что Штефан Марийку побил, а он только замахнулся.
Так и не ударил…
Когда начало светать и над Жонкой задымились седые туманы, вернулся Штефан домой — сено на Затынке караулил — и остановился в воротах как вкопанный. Из овина крадучись вышел Карпо Гануляк и махнул через тын, только лопухи захрустели под ногами.
А Марийка стояла у дровяного сарая, за овином — бежать ей было некуда. Стояла — расчесанная Карповыми пальцами, нацелованная за все те годы, что Штефан ее берег, испуганная и неподвижная.
Штефан рванулся от ворот, словно с цепи сорвался, кулак с разгона разрубил солнечный луч, осветивший Марийкино лицо, просвистел у самых ее губ и увял — так добрый конюх и в сердцах конягу не ударит.
Марийка ждала побоев. Дрожала от страха, но ждала их — они должны были теперь обрушиться на ее голову, сам бог велел.
Но Штефан не ударил…
Пожалел… Пожалел? Неужели пожалел?!
Луч добра сверкнул из холодных Марийкиных глаз, упал зайчиком на стиснутые Штефановы губы…
Он опустил руки — кровь отхлынула от побагровевшего лица — и сказал спокойно, по-хозяйски:
— Иди в хату, проспись. Вечером гости будут.
Задрожала Марийка, как подрубленная осинка, исчез зайчик со Штефановых губ.
— Штефан…
— Иди в хату.
— Штефан! Побей меня… Слышишь, что говорю: побей!
Повернулся спиной — и за ворота.
— Приду к обеду. На Поляницу нужно…
Побежала за ним вслед, споткнулась на дороге и крикнула:
— Вернись, Штефан!
Оглянулся:
— Чего тебе?
— Побей, Штефанко. Чай, и скотину бьют, хоть на зарез иль на продажу держат…
Пошел не оборачиваясь.
А когда скрылся из глаз, Марийка вяло прошептала:
— А, чтоб тебя бог побил…
•
На следующий день женщины судачили у ручья:
— Марийка Штефанова с Гануляком убежала.
— Брешут, Карпо дома. Сегодня только видела.
— Так что же — одна? С чего бы это?
Никто не знал, с чего.
Но тут принесли хлопцы с улицы свежую новость, да такую, что та, первая, развеялась, как дым:
— Штефан застрелился! В своей хате… Из охотничьего ружья…
За спасибо
 «Пускай только отвихрится мартовская метель, а то, вишь, опять снегу намело, до автобуса не дойдешь, только бы обочины подмерзли, чтоб под ногами болото не чавкало, — и поеду, — думала бабка Мария, укутывая ноги в полу старого кожуха, который давно уже служит в этой хате одеялом, ой как давно! — еще Анечка топталась на нем, а после нее те двое чужих, которых Мария вынянчила просто так, за спасибо. — Пускай только потеплеет, тогда уж поеду в город, к Анечке, — меньшого внука выхаживать. Что ни говори, своя кровь».
Старый кот сидел, подобрав хвост, в ногах у Марии и снисходительно поглядывал на бабку зеленоватыми глазами: чудит его хозяйка, никуда она не поедет; слыхал он про этих родных внуков давно, еще когда малым котенком, Мурчиком, карабкался вверх по шерстяному одеялу, что вон висит на жердочке. Вечно о внуках говорила, а чужих детей нянчила. «Всегда куда-то едешь, хату продаешь соседям — пугаешь старого мурлыку, но ты, бабка, добрая, да и халупу свою тебе тяжело будет покинуть».
— Брысь! — шикнула Мария на кота, но не согнала его с постели. «Добра в этой хате отроду не бывало, так и жалеть не о чем, а там, у Анечки, — светлые комнаты, электричество и вода на кухне, не надо по воду к ручью бегать. А у Анечки маленький Ромчик недавно родился, он-то для меня дороже, чем эта покосившаяся хата, крытая дранкой. А как же…»
Кот тоскливо зажмурился и свернулся клубком у бабки в ногах. Вдруг он резко поднял голову — бабка уже дремала, — насторожился: скрипнула дверь в сенях, отворилась дверь в комнату. Белые клубы пара вкатились в хату, и в этих парах, будто Саваоф в облаках, тот, что на потемневшей иконе над кроватью, явился сосед Гаврило, весь в снегу.
Мария приподнялась, свесила с печки жилистые, натруженные ноги. Она обрадовалась, что пришел Гаврило. Томится он от зимнего безделья. Года три назад овдовел, остался с махоньким Васильком — дал бог под старость ребенка, а мать прибрал. Гаврило живет в достатке, есть у него и хлеб и к хлебу — рулевым на сплавах хорошо платят, только скучно ему зимой в своей хате.
— Письмо вам принес, Мария. В село ходил, почтальона встретил, он и попросил меня передать вам письмо.
Мария поспешно слезла с печи — от Анечки письмо! Йой падоньку![5] Уж наверняка клянет старуху, что не едет к дочке.
— Читайте, Гаврило, — торопит она, оправляя теплый платок на молочно-белой голове. — Читайте, сосед, меня что-то знобит.
Гаврило уже обогрелся, расстегнул куртку. Матовый свет от заснеженных окон скупо осветил мелко исписанный листок бумаги, застывшие Мариины влажные глаза…
Гаврило читал письмо от дочки Анечки, которую Мария первой вырастила в этой хате.
Слушает бабка Мария, а письмо длинное-предлинное, это такое письмо, что в одном написанном слове — целая тысяча ненаписанных, что за одну минуту Гаврилова чтения пробегают годы. Это очень длинное письмо.
«Я одна у вас, мама, и не знаю…»
«Одна, это верно, что одна… Не пошла я замуж после того, как отца твоего полицейские избили за табак. За десять стеблей бакуна[6], что он вырастил за хатой, потому что на монопольный денег не было (вечно этих денег у хлопа нет, и почему оно так?), за эти десять стеблей, боже мой милый, высекли его вот тут, на дворе, как зловредного пса, и ушли. А он проскрипел еще с год, курить ему уже не хотелось, да и умер. А я так и не вышла замуж, потому что никто не позарился на бедную и не такую уж видную из себя, а гулять я сроду не гуляла, одна ты у меня и была…»
«И не знаю, что вас там, в горах, держит…»
«Кабы кто знал, дитя мое, что это за сила такая гуцула в горах держит? Сойдет в долину — хлеба́ там дунаем[7], и руки рабочие всегда нужны, а он поглядит, поработает, мешок зерна на плечи — и обратно к себе, на каменистые склоны, в горы, — овец пасти, лес рубить, песни петь да смотреть на небо…»
«Ну, было время — мучились люди, так вы…»
«Как у людей, так и у меня, дочка. Все под одним небом ходим, так и должны делиться горем и счастьем. Тогда у каждого своего хлеба хорошо если до нового урожая хватало, а у нас все же легче было. Кормильца давно уже нет, боль притупилась, а у других еще была как свежая рана: того в Германию вывезли, другого здесь замучили, тот на войну пошел, и по нем только похоронную прислали, а были такие, что тут, в своем селе, такого натворили, что от стыда глаза девать некуда было… Юлина — кто бы мог подумать — тайник у нее в риге нашли, пустой уже. И засудили. А малую Настеньку я взяла. Дозволили взять. Какие там у Юлины еще грехи были, не знаю, но ребенок-то чем виноват? А ты уже к этому времени высокие школы окончила, замуж вышла, жить вы стали хорошо, — одно только, что с первой моей внучкой трудновато вам приходилось. Но там у вас и ясли и садочки, а здесь этого еще не было, пропала бы Настенька. Так разве я могла поступить иначе?..»
«Потом… вы какая-то странная, мама. Что вас заставило взять второго ребенка — из хаты, от родителей?»
«Бог ведает, Анечка… Есть что-то в сердце у человека — век о нем не знаешь, а оно, глядь, и отзовется и скажет тебе: „Должна так поступить“. А он, этот Филипп, пусть ему бог простит, от этой водки совсем обеспамятел. Гафию в чахотку вогнал, а она не признавалась, чтобы в больницу не забрали, — боялась, как бы дитя с голоду не померло при таком отце. Настеньки у меня уже не было, — вырастила ее, хорошей девушкой в свет выпустила. Теперь она в Косове ковры ткёт, да и старуха, мать ее родная, вернулась. Ты тогда как раз вторую девочку родила, и я уже совсем собралась к тебе, да подумала: у вас там и ясли и садики, а у нас этого не было… Филипп замерз пьяный в лесу, Гафия в больницу должна была ложиться, ну, я и взяла ее девочку к себе…»
«Гафия выздоровела, ребенка забрала, а вы… То хату не на кого оставить, а может, кота жалко?.. Ромчику третий месяц пошел, отпуск кончается, скоро в школу пойду, а Ярослав мой на заводе целыми днями пропадает. Главным инженером недавно назначили, в доме он редкий гость. Опять к ребенку чужого человека зови, словно у меня родной матери нет…»
Мария энергичным движением сдвинула платок на шею, ее влажные глаза выражали решимость.
— Возьмите, Гаврило, чернила и ручку с подоконника, вот вам бумага, и пишите, пожалуйста: в понедельник пускай встречают. Сегодня четверг, как раз успею собраться.
Мяукнул кот на шестке, соскочил на глиняный пол, потерся боками о Мариину ногу.
— Брысь!
Кот посмотрел на нее зелеными глазами и скорбно опустил голову. Только сейчас заметила Мария, что кот уже очень-очень стар.
— Мурка́ заберете к себе, Гаврило. А хату, если хотите, возьмите под конюшню. Плетень свалите — и как у себя на подворье.
— Я только что об этом подумал, Мария. Завтра сплав начнется, деньги у меня будут. На рассвете пойду на шлюзы.
К субботе Мария уже собралась в дорогу. Мешки дорожные с разным домашним скарбом лежали на лавке, опустела кровать, оголилась вешалка над печью, только властно смотрел со стены сидевший среди облаков Саваоф да кот подремывал на печи, лежа на старом кожухе.
…В окно увидела Мария Варвару, что живет над речкой. Она вела за руку Гаврилова Василька, хлопчик почему-то плакал. Мария вышла на крыльцо.
— Ты ко мне, Варвара? Заходи, заходи, посиди, поговорим. Потому что завтра меня уже тут не будет. К дочери уезжаю.
— К вам, тетушка, к вам… — Варвара была почему-то встревожена. — Вы ничего не знаете?
— А что случилось? — встрепенулась Мария.
— Вчера Гаврилу деревом придавило на шлюзах.
— Падку! Жив?
— Да жив… Только ногу сильно помяло. Тетушка Мария… Я б Василька к себе взяла, да вы же знаете, у меня шестеро в хате… Пускай он эту ночь у вас переспит, а я в сельсовет пойду. Они хлопца к кому-нибудь пристроят.
Мгновенье Мария стояла неподвижно на пороге, потом ступила к мальчику, прижала его к себе, он уткнулся головой в подол ее юбки.
— Варвара, — сказала Мария тихо, — не надо в сельсовет, там своих забот хватает. Вот… бегите лучше на почту в Ославы. Далековато, но вы успеете. И телеграмму моей Анечке дайте… Возьмите этот конверт, тут адрес. Скажите, что приеду, как только Гаврило выздоровеет. Пускай еще маленько потерпят. У них там и ясли и садики, а у нас этого пока еще нет…
Старый кот тихо ластился к бабке, спал Василько под старым кожухом, сидела Мария на скамье, опершись на увязанные мешки, и шептала:
— Прости меня, Анечка, что не одна ты у меня. Ой, дочка, среди людей живем. А нам, как видишь, все же легче, чем другим…
«Пускай только отвихрится мартовская метель, а то, вишь, опять снегу намело, до автобуса не дойдешь, только бы обочины подмерзли, чтоб под ногами болото не чавкало, — и поеду, — думала бабка Мария, укутывая ноги в полу старого кожуха, который давно уже служит в этой хате одеялом, ой как давно! — еще Анечка топталась на нем, а после нее те двое чужих, которых Мария вынянчила просто так, за спасибо. — Пускай только потеплеет, тогда уж поеду в город, к Анечке, — меньшого внука выхаживать. Что ни говори, своя кровь».
Старый кот сидел, подобрав хвост, в ногах у Марии и снисходительно поглядывал на бабку зеленоватыми глазами: чудит его хозяйка, никуда она не поедет; слыхал он про этих родных внуков давно, еще когда малым котенком, Мурчиком, карабкался вверх по шерстяному одеялу, что вон висит на жердочке. Вечно о внуках говорила, а чужих детей нянчила. «Всегда куда-то едешь, хату продаешь соседям — пугаешь старого мурлыку, но ты, бабка, добрая, да и халупу свою тебе тяжело будет покинуть».
— Брысь! — шикнула Мария на кота, но не согнала его с постели. «Добра в этой хате отроду не бывало, так и жалеть не о чем, а там, у Анечки, — светлые комнаты, электричество и вода на кухне, не надо по воду к ручью бегать. А у Анечки маленький Ромчик недавно родился, он-то для меня дороже, чем эта покосившаяся хата, крытая дранкой. А как же…»
Кот тоскливо зажмурился и свернулся клубком у бабки в ногах. Вдруг он резко поднял голову — бабка уже дремала, — насторожился: скрипнула дверь в сенях, отворилась дверь в комнату. Белые клубы пара вкатились в хату, и в этих парах, будто Саваоф в облаках, тот, что на потемневшей иконе над кроватью, явился сосед Гаврило, весь в снегу.
Мария приподнялась, свесила с печки жилистые, натруженные ноги. Она обрадовалась, что пришел Гаврило. Томится он от зимнего безделья. Года три назад овдовел, остался с махоньким Васильком — дал бог под старость ребенка, а мать прибрал. Гаврило живет в достатке, есть у него и хлеб и к хлебу — рулевым на сплавах хорошо платят, только скучно ему зимой в своей хате.
— Письмо вам принес, Мария. В село ходил, почтальона встретил, он и попросил меня передать вам письмо.
Мария поспешно слезла с печи — от Анечки письмо! Йой падоньку![5] Уж наверняка клянет старуху, что не едет к дочке.
— Читайте, Гаврило, — торопит она, оправляя теплый платок на молочно-белой голове. — Читайте, сосед, меня что-то знобит.
Гаврило уже обогрелся, расстегнул куртку. Матовый свет от заснеженных окон скупо осветил мелко исписанный листок бумаги, застывшие Мариины влажные глаза…
Гаврило читал письмо от дочки Анечки, которую Мария первой вырастила в этой хате.
Слушает бабка Мария, а письмо длинное-предлинное, это такое письмо, что в одном написанном слове — целая тысяча ненаписанных, что за одну минуту Гаврилова чтения пробегают годы. Это очень длинное письмо.
«Я одна у вас, мама, и не знаю…»
«Одна, это верно, что одна… Не пошла я замуж после того, как отца твоего полицейские избили за табак. За десять стеблей бакуна[6], что он вырастил за хатой, потому что на монопольный денег не было (вечно этих денег у хлопа нет, и почему оно так?), за эти десять стеблей, боже мой милый, высекли его вот тут, на дворе, как зловредного пса, и ушли. А он проскрипел еще с год, курить ему уже не хотелось, да и умер. А я так и не вышла замуж, потому что никто не позарился на бедную и не такую уж видную из себя, а гулять я сроду не гуляла, одна ты у меня и была…»
«И не знаю, что вас там, в горах, держит…»
«Кабы кто знал, дитя мое, что это за сила такая гуцула в горах держит? Сойдет в долину — хлеба́ там дунаем[7], и руки рабочие всегда нужны, а он поглядит, поработает, мешок зерна на плечи — и обратно к себе, на каменистые склоны, в горы, — овец пасти, лес рубить, песни петь да смотреть на небо…»
«Ну, было время — мучились люди, так вы…»
«Как у людей, так и у меня, дочка. Все под одним небом ходим, так и должны делиться горем и счастьем. Тогда у каждого своего хлеба хорошо если до нового урожая хватало, а у нас все же легче было. Кормильца давно уже нет, боль притупилась, а у других еще была как свежая рана: того в Германию вывезли, другого здесь замучили, тот на войну пошел, и по нем только похоронную прислали, а были такие, что тут, в своем селе, такого натворили, что от стыда глаза девать некуда было… Юлина — кто бы мог подумать — тайник у нее в риге нашли, пустой уже. И засудили. А малую Настеньку я взяла. Дозволили взять. Какие там у Юлины еще грехи были, не знаю, но ребенок-то чем виноват? А ты уже к этому времени высокие школы окончила, замуж вышла, жить вы стали хорошо, — одно только, что с первой моей внучкой трудновато вам приходилось. Но там у вас и ясли и садочки, а здесь этого еще не было, пропала бы Настенька. Так разве я могла поступить иначе?..»
«Потом… вы какая-то странная, мама. Что вас заставило взять второго ребенка — из хаты, от родителей?»
«Бог ведает, Анечка… Есть что-то в сердце у человека — век о нем не знаешь, а оно, глядь, и отзовется и скажет тебе: „Должна так поступить“. А он, этот Филипп, пусть ему бог простит, от этой водки совсем обеспамятел. Гафию в чахотку вогнал, а она не признавалась, чтобы в больницу не забрали, — боялась, как бы дитя с голоду не померло при таком отце. Настеньки у меня уже не было, — вырастила ее, хорошей девушкой в свет выпустила. Теперь она в Косове ковры ткёт, да и старуха, мать ее родная, вернулась. Ты тогда как раз вторую девочку родила, и я уже совсем собралась к тебе, да подумала: у вас там и ясли и садики, а у нас этого не было… Филипп замерз пьяный в лесу, Гафия в больницу должна была ложиться, ну, я и взяла ее девочку к себе…»
«Гафия выздоровела, ребенка забрала, а вы… То хату не на кого оставить, а может, кота жалко?.. Ромчику третий месяц пошел, отпуск кончается, скоро в школу пойду, а Ярослав мой на заводе целыми днями пропадает. Главным инженером недавно назначили, в доме он редкий гость. Опять к ребенку чужого человека зови, словно у меня родной матери нет…»
Мария энергичным движением сдвинула платок на шею, ее влажные глаза выражали решимость.
— Возьмите, Гаврило, чернила и ручку с подоконника, вот вам бумага, и пишите, пожалуйста: в понедельник пускай встречают. Сегодня четверг, как раз успею собраться.
Мяукнул кот на шестке, соскочил на глиняный пол, потерся боками о Мариину ногу.
— Брысь!
Кот посмотрел на нее зелеными глазами и скорбно опустил голову. Только сейчас заметила Мария, что кот уже очень-очень стар.
— Мурка́ заберете к себе, Гаврило. А хату, если хотите, возьмите под конюшню. Плетень свалите — и как у себя на подворье.
— Я только что об этом подумал, Мария. Завтра сплав начнется, деньги у меня будут. На рассвете пойду на шлюзы.
К субботе Мария уже собралась в дорогу. Мешки дорожные с разным домашним скарбом лежали на лавке, опустела кровать, оголилась вешалка над печью, только властно смотрел со стены сидевший среди облаков Саваоф да кот подремывал на печи, лежа на старом кожухе.
…В окно увидела Мария Варвару, что живет над речкой. Она вела за руку Гаврилова Василька, хлопчик почему-то плакал. Мария вышла на крыльцо.
— Ты ко мне, Варвара? Заходи, заходи, посиди, поговорим. Потому что завтра меня уже тут не будет. К дочери уезжаю.
— К вам, тетушка, к вам… — Варвара была почему-то встревожена. — Вы ничего не знаете?
— А что случилось? — встрепенулась Мария.
— Вчера Гаврилу деревом придавило на шлюзах.
— Падку! Жив?
— Да жив… Только ногу сильно помяло. Тетушка Мария… Я б Василька к себе взяла, да вы же знаете, у меня шестеро в хате… Пускай он эту ночь у вас переспит, а я в сельсовет пойду. Они хлопца к кому-нибудь пристроят.
Мгновенье Мария стояла неподвижно на пороге, потом ступила к мальчику, прижала его к себе, он уткнулся головой в подол ее юбки.
— Варвара, — сказала Мария тихо, — не надо в сельсовет, там своих забот хватает. Вот… бегите лучше на почту в Ославы. Далековато, но вы успеете. И телеграмму моей Анечке дайте… Возьмите этот конверт, тут адрес. Скажите, что приеду, как только Гаврило выздоровеет. Пускай еще маленько потерпят. У них там и ясли и садики, а у нас этого пока еще нет…
Старый кот тихо ластился к бабке, спал Василько под старым кожухом, сидела Мария на скамье, опершись на увязанные мешки, и шептала:
— Прости меня, Анечка, что не одна ты у меня. Ой, дочка, среди людей живем. А нам, как видишь, все же легче, чем другим…
1964
Отец
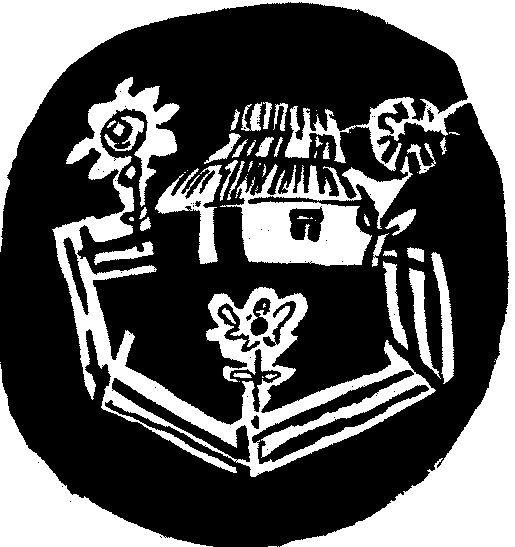 Это было в ресторане на вокзале. Дед Панас хотел поужинать. Долго не решался войти со своими мешками, потому что в зале слышалась музыка, а за столикамисидело, как он думал, сплошь одно начальство. Но надо было подкрепиться. Дед снял шляпу и поклонился швейцару:
— Можно?
Вошел, огляделся, ища свободное место, и слышит — кто-то его окликнул. Это был старый знакомый — Марко. Когда-то на сплаве вместе работали. Радостно было встретиться через много лет!
Пили пиво по случаю встречи.
Марко расспрашивал о жизни, Панас скупо отвечал.
— А дети как?
— Была Оленка, да и та…
— ?
— Поехала учиться во Львов. А тут война. Дознался от людей, что немцы угнали. Так и не вернулась.
Пиво пили, а до котлет не дотронулись.
Панас вынул люльку.
— Кури папиросы.
— Это можно.
Марко заказал еще пива.
— А может, и вернется. Бывает такое. Нет и нет, а потом, глядишь…
— Да где там…
— Все может быть.
Ни один, ни другой не верили, но обоим хотелось верить.
— Где-то в Коломые, — это уже Панас, — вернулся сын к отцу. Через двенадцать лет, а все же вернулся.
— Я и говорю.
— Тому было всего пять лет, когда его угнали.
— А твоей?
Дед Панас задумался, припоминал.
— Теперь была бы такая, как эта, — указал он на молодую женщину, сидящую за соседним столиком. Остановил на минутку теплый взгляд на ее красивом лице. Потом вынул из мешка бутылку. — От сестры еду, так она вот сливянку дала на дорогу.
— Ну и вез бы домой.
— Нет у меня никого. Одни стены…
Налил вина в стопки.
— Кабы объявилась, все село напоил бы допьяна.
— Пейте, кум.
— Дай боже!
Дед Панас думал о том, какой бы это был праздник, если б Оленка вернулась. Спрашивал, сколько детей у Марка. Аж четверо, слава богу.
— А у меня… Пейте, кум, — угощал дед, словно у себя дома. — И красивая была, как эта…
Женщина улыбнулась, а Панас решил, что ему, и потому через стол поклонился. Она удивленно пожала плечами и что-то шепнула своему соседу.
А Панас говорил или, может быть, только думал:
— Я ей одно наказывал: «Учись и учись». В школе ее всегда хвалили. А книжки такие мудреные читала, что я в них ничего не мог разобрать.
Дед наливал чарку за чаркой. Не слышал даже, как Марко расплатился, попрощался и ушел, торопясь на поезд.
«А что, если б это была Оленка? Попросил бы ее за стол и спросил бы: помнит ли она своего отца? Или лучше так: на все деньги, что у меня с собой, купил бы ей платок».
Он уже не пил, а только смотрел на молодую женщину и воображал себе, что это его дочь.
«Так вот, подарил бы ей платок. Да что — платок! Она платка, наверное, и не носит. Потому — в городе выросла». Но он ничего больше не мог бы сегодня купить. Такой платочек, в полоску, с длинной бахромой, он видел в ларьке на вокзале. Вот его и купит. Сложит аккуратненько, подойдет к столику и скажет: «Не знаю, чья вы, но у меня Оленка была такая, как вы, так возьмите себе». Вот и все.
Он представлял себе и даже начинал верить, что дальше будет так: она очень удивится, потом вскочит из-за стола, бросится ему на шею и крикнет:
«Таточко родненький, да это же я!»
Тогда он заберет ее домой, созовет все село и справит такой праздник, какого свет не видывал.
А молодая женщина смотрела на него. Деду Панасу даже казалось, что она очень пристально смотрит, словно узнает. Да и самому Панасу уже кажется, что он узнает черты родного лица: волосы с таким же пробором посередине, круглолицая, ямочка на подбородке… Хотел уже вскочить и крикнуть: «Это я, я! Отец твой!» Но не осмелился, — а вдруг не Оленка? Лучше всего будет сделать так, как задумал. Пошатываясь, потому что от сливянки зашумело в голове, Панас вышел в вестибюль. Отыскал ларек. Купил платок, такой в полосочку, с длинной бахромой. Возвращался, спотыкаясь о чьи-то узлы. Но за столиком уже никого не было. Этого не ожидал дед Панас. Словно выдернули у него из-под ног последнюю доску на шатучем мосту, будто сердце вынули из груди и положили на его место что-то ледяное. Понимал: это была не Оленка, стало быть, не о ком жалеть. Но после сладостной мечты подкралась холодная пустота.
В руках — платок. Это все, что ему осталось. И разве еще слезинка из всего его богатства. Вот она блеснула, скатилась по седому, щетинистому лицу, затерялась, оставив лишь соленый привкус на губах.
Это было в ресторане на вокзале. Дед Панас хотел поужинать. Долго не решался войти со своими мешками, потому что в зале слышалась музыка, а за столикамисидело, как он думал, сплошь одно начальство. Но надо было подкрепиться. Дед снял шляпу и поклонился швейцару:
— Можно?
Вошел, огляделся, ища свободное место, и слышит — кто-то его окликнул. Это был старый знакомый — Марко. Когда-то на сплаве вместе работали. Радостно было встретиться через много лет!
Пили пиво по случаю встречи.
Марко расспрашивал о жизни, Панас скупо отвечал.
— А дети как?
— Была Оленка, да и та…
— ?
— Поехала учиться во Львов. А тут война. Дознался от людей, что немцы угнали. Так и не вернулась.
Пиво пили, а до котлет не дотронулись.
Панас вынул люльку.
— Кури папиросы.
— Это можно.
Марко заказал еще пива.
— А может, и вернется. Бывает такое. Нет и нет, а потом, глядишь…
— Да где там…
— Все может быть.
Ни один, ни другой не верили, но обоим хотелось верить.
— Где-то в Коломые, — это уже Панас, — вернулся сын к отцу. Через двенадцать лет, а все же вернулся.
— Я и говорю.
— Тому было всего пять лет, когда его угнали.
— А твоей?
Дед Панас задумался, припоминал.
— Теперь была бы такая, как эта, — указал он на молодую женщину, сидящую за соседним столиком. Остановил на минутку теплый взгляд на ее красивом лице. Потом вынул из мешка бутылку. — От сестры еду, так она вот сливянку дала на дорогу.
— Ну и вез бы домой.
— Нет у меня никого. Одни стены…
Налил вина в стопки.
— Кабы объявилась, все село напоил бы допьяна.
— Пейте, кум.
— Дай боже!
Дед Панас думал о том, какой бы это был праздник, если б Оленка вернулась. Спрашивал, сколько детей у Марка. Аж четверо, слава богу.
— А у меня… Пейте, кум, — угощал дед, словно у себя дома. — И красивая была, как эта…
Женщина улыбнулась, а Панас решил, что ему, и потому через стол поклонился. Она удивленно пожала плечами и что-то шепнула своему соседу.
А Панас говорил или, может быть, только думал:
— Я ей одно наказывал: «Учись и учись». В школе ее всегда хвалили. А книжки такие мудреные читала, что я в них ничего не мог разобрать.
Дед наливал чарку за чаркой. Не слышал даже, как Марко расплатился, попрощался и ушел, торопясь на поезд.
«А что, если б это была Оленка? Попросил бы ее за стол и спросил бы: помнит ли она своего отца? Или лучше так: на все деньги, что у меня с собой, купил бы ей платок».
Он уже не пил, а только смотрел на молодую женщину и воображал себе, что это его дочь.
«Так вот, подарил бы ей платок. Да что — платок! Она платка, наверное, и не носит. Потому — в городе выросла». Но он ничего больше не мог бы сегодня купить. Такой платочек, в полоску, с длинной бахромой, он видел в ларьке на вокзале. Вот его и купит. Сложит аккуратненько, подойдет к столику и скажет: «Не знаю, чья вы, но у меня Оленка была такая, как вы, так возьмите себе». Вот и все.
Он представлял себе и даже начинал верить, что дальше будет так: она очень удивится, потом вскочит из-за стола, бросится ему на шею и крикнет:
«Таточко родненький, да это же я!»
Тогда он заберет ее домой, созовет все село и справит такой праздник, какого свет не видывал.
А молодая женщина смотрела на него. Деду Панасу даже казалось, что она очень пристально смотрит, словно узнает. Да и самому Панасу уже кажется, что он узнает черты родного лица: волосы с таким же пробором посередине, круглолицая, ямочка на подбородке… Хотел уже вскочить и крикнуть: «Это я, я! Отец твой!» Но не осмелился, — а вдруг не Оленка? Лучше всего будет сделать так, как задумал. Пошатываясь, потому что от сливянки зашумело в голове, Панас вышел в вестибюль. Отыскал ларек. Купил платок, такой в полосочку, с длинной бахромой. Возвращался, спотыкаясь о чьи-то узлы. Но за столиком уже никого не было. Этого не ожидал дед Панас. Словно выдернули у него из-под ног последнюю доску на шатучем мосту, будто сердце вынули из груди и положили на его место что-то ледяное. Понимал: это была не Оленка, стало быть, не о ком жалеть. Но после сладостной мечты подкралась холодная пустота.
В руках — платок. Это все, что ему осталось. И разве еще слезинка из всего его богатства. Вот она блеснула, скатилась по седому, щетинистому лицу, затерялась, оставив лишь соленый привкус на губах.
Через межу — только шаг
 Бондарь, председатель артели, уже десятый раз выгонял на весеннее пастбище артельный скот. Ленивые краснобокие коровы радостно закивали головами и быстро побежали знакомой дорожкой к молодой траве зеленых левад.
— В добрый час! — крикнул вдогонку пастуху.
— Добрый день, — вместо ответа пастуха послышался ему за спиною чей-то несмелый голос.
— А-а, Макивчук! Как жив-здоров, Андрей? Что хорошего?
Андрей ответил не сразу. Одну руку он не вынимал из кармана, — слышно было, как в нем шелестела бумага, а другою, — видимо, не знал, куда девать, — чесал в затылке.
— Я…
— Снова о том налоге? С этой просьбой иди в сельсовет. И без тебя хлопот…
— Да нет… Я вот на скотину посмотрел… Хорошо зиму выдержала. Так вот я… того… мог бы даже свою Лиску к стаду… А?.. Стельная… И хорошей породы…
Бондарь пристально посмотрел в смущенные, недоверчивые глаза Андрея и все понял.
— Ну, идем в контору, коли так.
Возле стола — Луць, бригадир. Непричесанный, худой, злой. Зол он на Андрея.
— На готовое, голубчик? — сверкнул острым взглядом.
— А коль не в лад, то я со своим назад. — Андрей надвинул на брови шапку и хотел было уже идти, но что-то задержало его. — Я хотел… как все люди, чтоб того… разницы, как говорят, не было. Но если согласия нет… А ты, Луць, не ершись, не на твое добро замахиваюсь!
— Нету здесь моего, все наше! Пора это знать. Жил-жил, как хорек, в норе своей, нелюдимом столько лет…
— Ну, жил…
— А как не стало дешевой водки, так и власть свою перестал любить!
— Не стало… дешевой… — протянул Андрей, передразнивая Луця. — А ты не пил? Кто в тридцать девятом кричал так, что окна дребезжали на околице: «Пьем, теперь наша власть!»?
— Да, браток мой, кричал, — Луць поднялся и, опершись руками о стол, процедил сквозь зубы: — Я как «верую» сказал, так с тех пор и по сегодня! А ты?
— А я что? Что я? — вскипел Макивчук. — Против власти когда-нибудь шел? Или я тебе при немцах окна бил, или хату сжег в сорок пятом? Ну?
Бондарь не вмешивался. Пусть выговорятся соседи, это их право. Потому что все знали…
Не было когда-то дружнее побратимов, чем Луць и Андрей. Но это давно было. Еще когда они парнями были. Тогда еще, как их обоих таскали в полицейский участок за организацию читальни. А когда в уезде затрепетали впервые красные стяги, выпивали на радостях и показывали друг другу следы от ручных кандалов.
Тогда же и поженились на сестрах из той хатки, что с одним-единственным подслеповатым оконцем, да и в нем вместо стекла ветошь торчала.
Село диву давалось, потому что этих двух сестер-красавиц никто никогда не видел на улице по воскресеньям, разве только в будни на Юзевичевом поле.
Но как-то удивительная история случилась: когда у Юзевича отобрали поле, Андрей сказал Луцю:
— А вот это уже не подобает. По какому праву? Не крал же он. Работал…
— Глупый ты, — ответил Луць. — Твоя Олена, моя Мария — они работали.
— Все равно не годится так.
Но это когда-то было.
А теперь Луць хотел донять шурина, за все ему отплатить (ведь тот на своей печке сидел, когда они первыми фундамент колхозного здания закладывали) и сказал Андрею такое, во что и сам никогда бы не поверил:
— Да кто его знает, кто жег. Кто тебя поймет! — сказал и взгляд потупил, стыдясь собственной глупости.
Качнулась, как от пощечины, высокая фигура Андрея, пушистые ржаные усы, подкуренные табачным дымом, поникли, моложавые темные глаза глубоко запали, и острый кончик носа побелел, словно отмороженный. «Кто знает?!» — хотел крикнуть, но что-то сдавило горло, и слова в нем застряли.
•
…Никто не знает. Ох, никто не знает!..
Как нынче… Моргал на припечке фитилек, а на дворе мокла осенняя ночь. Олена молча сидела за прялкой, белые волокна от пряжи сыпались на влажный пол, а он смотрел на эти волокна и ничего не видел. А кучка волокон росла и росла на глазах, как гора белой шерсти, только что настриженной с его овец. В сарае тоскливо блеяли две овцы: по отаре скучали, по полонине.
«Разве я батраков нанимал или чужим трудом наживал то, что отобрали? Сам по горло был в труде!»
«И мог бы вместе со всеми», — чувствует, как думает Олена, и кричит ей, себе, всем: «Не хочу, не буду свой труд в пай отдавать!»
«Ну и живи не́людем, — молча отвечает Олена. — На смех, на стыд».
«И проживу. Не сдохну без поля и без овец. Ремесло имею в руках, резьбой по дереву займусь».
Пятилетняя Галюнька водит пальчиком по запотевшему окну — рип-рип. На дворе темно и моросит. И вдруг у хаты шаги. Пальчик — зигзагом по влажному окну, Галюнька шепчет:
— Кто-то идет, папа…
Долго разговаривали в сенях — Андрей и какие-то люди. Шепотом. Олена тревожно прислушивалась — ничего не слыхать.
— Чего хотели? — спросила она, когда Андрей, хмурый, темный, вошел в хату и долго возился за печью, а огонек фитилька моргал едва-едва — вот-вот погаснет.
— Хлеба хотели… Сказал — нету, — соврал Андрей.
— Погибели на них нет.
— Цить…
Утром уже не моросило. Солнце выглядывало из-за туч. «Сушит, — подумал Андрей, — сено в стогах сушит. К вечеру на ветру оно и вовсе сухим станет. Если бы хороший уголек из печи или искра из трубки, то и пожар может случиться. А почему бы и нет? Такое может быть. Стог от стога — и все дымом. Мое сено — для моих овец».
Олена разжигала огонь в печи, облила керосином кучку щепок, полыхнуло пламя, заклубил черный дым.
Андрей вздрогнул.
— Ты что?
— Икнулось…
Пошел к сельской лавке. Там всегда собираются Юзевичи и тихонько беседуют о войне, которая весной должна начаться.
Андрей в сторонке послушает.
А навстречу Семен Заречный на паре мосластых, на тряском возу куда-то едет. Поздоровались. На Завуялье едет, там сено закупили. Своего мало, не хватит до весны. А скота в колхозе много.
— Крепко начал стараться, Семен…
— Кто же будет за нас? Манна небесная с облаков не падает. — Пристально взглянул на Андрея. — А ты так и не собираешься к нам?
Не ответил.
В лавку не зашел. Ему вдруг показалось, что он стал таким маленьким, что стыдно и на люди показаться. Постоял под дверьми, послушал, а там снова о сене — будто сговорились. А может быть, уже знают? Задрожал, зуб на зуб не попадает (тьфу, какая паршивая осень!), свернул за угол лавки и тропинкой меж огородами подался домой.
Олена спросила, не заболел ли, потому что такой бледный, словно выстиранный. Нашумел на нее.
— Вчера Гафия говорила, стога сгорели на Яворнице. Чтоб уже они передохли все, людей с сумой по свету пускают!
Вокруг сердца замкнулся железный обруч, кровь заструилась в груди.
— А, чтоб вас всех удар хватил с вашим сеном и стогами! — прохрипел он, когда немного отлегло.
Вечером вышел из хаты так, чтобы никто не видел. За пазухой нес пучок сухого тряпья и спички. Не шел, а бежал, потому что опасался — уйдет решимость и он этого не сделает. А должен. Пообещал.
А когда темные стога, как гигантские бугаи, вырисовались на горизонте, когда к ним уже оставалось не более ста шагов, мозг его ошпарило как кипятком: «Боже мой! Судьба несчастная! Это же труд людей!»
Рванул из-за пазухи тряпье, швырнул в болото, — казалось ему, что оно горит. Рвал на своей груди сорочку.
«Покарай меня сила господня! Покарай на этом месте!»
Никто этого не знал…
Бондарь вмешался. Видел, что Луць хватил через край, оборвал его:
— Не плети небылиц, Луць.
Улыбнулся бледному от обиды (э-гей, от обиды ли?) Андрею и мягко заговорил, как хозяин с хозяином:
— Меня одно удивляет, Андрей. Когда ты едва-едва перебивался, когда туго приходилось вашему брату, ты и слушать не хотел, как мы ни упрашивали тебя. А теперь неплохо зарабатываешь, резьба — дело прибыльное, да и с налогами немного легче. Почему же так вдруг?
Не знал Андрей, как ответить.
Несколько лет неплохо жилось. Ну, как сказать — неплохо? Из кожи лез, налоги платил, но ни с кем ничего не делил. Был уверен, что хорошо делает, что на все село он один выигрывает: все на трудодень надеются, а он свое имеет, хоть и мало, но зато никем не считанное. Со старой межи камни все в сарай снес — пусть лежат.
Пан-отец говорит, что еще все может измениться.
Галюнька в первый класс пошла. «В школу пусть ходит, — сказал Олене, — но эти пионеры, комсомолы, красные галстуки на шее чтоб я не видел. Учи ее читать „отче наш“.»
А потом (дочка уже в четвертый класс перешла) все как-то повернулось по-иному. Жил как на необитаемом острове. Луць, шурин, сосед через дорогу, хоть бы нос показал, а Олена — та разве что на минутку к сестре Марии забегала и молчаливая возвращалась в хату.
Урчало веретено — Олена пряла шерсть. Стучала стамеска по сливовой красной колодочке: Андрей выполнял заказ для церкви — иконостас делал. Выйдет церковь как пасхальная крашенка. Со всех концов будут приходить люди, и ученые приедут — дивиться его резьбе. И деньги поп платит большие.
Вытесывал, вытачивал клиночки и вкладки. Безжизненная сливовая колода трепетала живыми лепестками. И при этом почему-то было грустно. Вспоминал, как первую свою работу (тогда еще парнем был) подарил для хаты-читальни, и до сих пор в той рамке портрет Тараса Шевченко висит. Правда, это очень давно было. Тогда вместе с Луцем священника поносили, а теперь поп — единственный советчик. Он всегда говорит людям, когда они соберутся на площадке у церкви:
— До весны подождем, а там все изменится. Вы только послушайте радио.
Андрей частенько оставался у попа до поздней ночи, Поп включал приемник и ловил «Голос Америки».
— До весны, пан Макивчук, только до этой весны, а там фертик — Совет на нет.
Когда-то Андрей с интересом прислушивался к его словам: еще тлела надежда, что вынесет из сарая межевые каменья. Потом слушал из вежливости, потому что в селе три огромные колхозные фермы поднялись, да такие, что деду его и не снились, а в этих фермах и коровы и овцы! Все же сила в коллективе, что ни говорите. И люди словно другими стали. Не ругаются из-за межи, каждый день вместе, дружно, как когда-то на толоках. Один только он от людей отделен. Может быть, потому, послушав как-то поповские небылицы, не стерпел:
— Говорите, пан-отец, Совет на нет? А я так думаю: на целый свет. Что-то мне кажется, прошу прощения у батюшки, к этому дело идет.
Ох как тогда рассердился поп. Назвал Андрея безбожником и коммунистом. Андрею стало смешно, потому что какой же он коммунист, если единоличник… Хлопнул дверью поповского дома да и пошел домой.
Галюнька его ходила по комнате и читала на память:
Бондарь, председатель артели, уже десятый раз выгонял на весеннее пастбище артельный скот. Ленивые краснобокие коровы радостно закивали головами и быстро побежали знакомой дорожкой к молодой траве зеленых левад.
— В добрый час! — крикнул вдогонку пастуху.
— Добрый день, — вместо ответа пастуха послышался ему за спиною чей-то несмелый голос.
— А-а, Макивчук! Как жив-здоров, Андрей? Что хорошего?
Андрей ответил не сразу. Одну руку он не вынимал из кармана, — слышно было, как в нем шелестела бумага, а другою, — видимо, не знал, куда девать, — чесал в затылке.
— Я…
— Снова о том налоге? С этой просьбой иди в сельсовет. И без тебя хлопот…
— Да нет… Я вот на скотину посмотрел… Хорошо зиму выдержала. Так вот я… того… мог бы даже свою Лиску к стаду… А?.. Стельная… И хорошей породы…
Бондарь пристально посмотрел в смущенные, недоверчивые глаза Андрея и все понял.
— Ну, идем в контору, коли так.
Возле стола — Луць, бригадир. Непричесанный, худой, злой. Зол он на Андрея.
— На готовое, голубчик? — сверкнул острым взглядом.
— А коль не в лад, то я со своим назад. — Андрей надвинул на брови шапку и хотел было уже идти, но что-то задержало его. — Я хотел… как все люди, чтоб того… разницы, как говорят, не было. Но если согласия нет… А ты, Луць, не ершись, не на твое добро замахиваюсь!
— Нету здесь моего, все наше! Пора это знать. Жил-жил, как хорек, в норе своей, нелюдимом столько лет…
— Ну, жил…
— А как не стало дешевой водки, так и власть свою перестал любить!
— Не стало… дешевой… — протянул Андрей, передразнивая Луця. — А ты не пил? Кто в тридцать девятом кричал так, что окна дребезжали на околице: «Пьем, теперь наша власть!»?
— Да, браток мой, кричал, — Луць поднялся и, опершись руками о стол, процедил сквозь зубы: — Я как «верую» сказал, так с тех пор и по сегодня! А ты?
— А я что? Что я? — вскипел Макивчук. — Против власти когда-нибудь шел? Или я тебе при немцах окна бил, или хату сжег в сорок пятом? Ну?
Бондарь не вмешивался. Пусть выговорятся соседи, это их право. Потому что все знали…
Не было когда-то дружнее побратимов, чем Луць и Андрей. Но это давно было. Еще когда они парнями были. Тогда еще, как их обоих таскали в полицейский участок за организацию читальни. А когда в уезде затрепетали впервые красные стяги, выпивали на радостях и показывали друг другу следы от ручных кандалов.
Тогда же и поженились на сестрах из той хатки, что с одним-единственным подслеповатым оконцем, да и в нем вместо стекла ветошь торчала.
Село диву давалось, потому что этих двух сестер-красавиц никто никогда не видел на улице по воскресеньям, разве только в будни на Юзевичевом поле.
Но как-то удивительная история случилась: когда у Юзевича отобрали поле, Андрей сказал Луцю:
— А вот это уже не подобает. По какому праву? Не крал же он. Работал…
— Глупый ты, — ответил Луць. — Твоя Олена, моя Мария — они работали.
— Все равно не годится так.
Но это когда-то было.
А теперь Луць хотел донять шурина, за все ему отплатить (ведь тот на своей печке сидел, когда они первыми фундамент колхозного здания закладывали) и сказал Андрею такое, во что и сам никогда бы не поверил:
— Да кто его знает, кто жег. Кто тебя поймет! — сказал и взгляд потупил, стыдясь собственной глупости.
Качнулась, как от пощечины, высокая фигура Андрея, пушистые ржаные усы, подкуренные табачным дымом, поникли, моложавые темные глаза глубоко запали, и острый кончик носа побелел, словно отмороженный. «Кто знает?!» — хотел крикнуть, но что-то сдавило горло, и слова в нем застряли.
•
…Никто не знает. Ох, никто не знает!..
Как нынче… Моргал на припечке фитилек, а на дворе мокла осенняя ночь. Олена молча сидела за прялкой, белые волокна от пряжи сыпались на влажный пол, а он смотрел на эти волокна и ничего не видел. А кучка волокон росла и росла на глазах, как гора белой шерсти, только что настриженной с его овец. В сарае тоскливо блеяли две овцы: по отаре скучали, по полонине.
«Разве я батраков нанимал или чужим трудом наживал то, что отобрали? Сам по горло был в труде!»
«И мог бы вместе со всеми», — чувствует, как думает Олена, и кричит ей, себе, всем: «Не хочу, не буду свой труд в пай отдавать!»
«Ну и живи не́людем, — молча отвечает Олена. — На смех, на стыд».
«И проживу. Не сдохну без поля и без овец. Ремесло имею в руках, резьбой по дереву займусь».
Пятилетняя Галюнька водит пальчиком по запотевшему окну — рип-рип. На дворе темно и моросит. И вдруг у хаты шаги. Пальчик — зигзагом по влажному окну, Галюнька шепчет:
— Кто-то идет, папа…
Долго разговаривали в сенях — Андрей и какие-то люди. Шепотом. Олена тревожно прислушивалась — ничего не слыхать.
— Чего хотели? — спросила она, когда Андрей, хмурый, темный, вошел в хату и долго возился за печью, а огонек фитилька моргал едва-едва — вот-вот погаснет.
— Хлеба хотели… Сказал — нету, — соврал Андрей.
— Погибели на них нет.
— Цить…
Утром уже не моросило. Солнце выглядывало из-за туч. «Сушит, — подумал Андрей, — сено в стогах сушит. К вечеру на ветру оно и вовсе сухим станет. Если бы хороший уголек из печи или искра из трубки, то и пожар может случиться. А почему бы и нет? Такое может быть. Стог от стога — и все дымом. Мое сено — для моих овец».
Олена разжигала огонь в печи, облила керосином кучку щепок, полыхнуло пламя, заклубил черный дым.
Андрей вздрогнул.
— Ты что?
— Икнулось…
Пошел к сельской лавке. Там всегда собираются Юзевичи и тихонько беседуют о войне, которая весной должна начаться.
Андрей в сторонке послушает.
А навстречу Семен Заречный на паре мосластых, на тряском возу куда-то едет. Поздоровались. На Завуялье едет, там сено закупили. Своего мало, не хватит до весны. А скота в колхозе много.
— Крепко начал стараться, Семен…
— Кто же будет за нас? Манна небесная с облаков не падает. — Пристально взглянул на Андрея. — А ты так и не собираешься к нам?
Не ответил.
В лавку не зашел. Ему вдруг показалось, что он стал таким маленьким, что стыдно и на люди показаться. Постоял под дверьми, послушал, а там снова о сене — будто сговорились. А может быть, уже знают? Задрожал, зуб на зуб не попадает (тьфу, какая паршивая осень!), свернул за угол лавки и тропинкой меж огородами подался домой.
Олена спросила, не заболел ли, потому что такой бледный, словно выстиранный. Нашумел на нее.
— Вчера Гафия говорила, стога сгорели на Яворнице. Чтоб уже они передохли все, людей с сумой по свету пускают!
Вокруг сердца замкнулся железный обруч, кровь заструилась в груди.
— А, чтоб вас всех удар хватил с вашим сеном и стогами! — прохрипел он, когда немного отлегло.
Вечером вышел из хаты так, чтобы никто не видел. За пазухой нес пучок сухого тряпья и спички. Не шел, а бежал, потому что опасался — уйдет решимость и он этого не сделает. А должен. Пообещал.
А когда темные стога, как гигантские бугаи, вырисовались на горизонте, когда к ним уже оставалось не более ста шагов, мозг его ошпарило как кипятком: «Боже мой! Судьба несчастная! Это же труд людей!»
Рванул из-за пазухи тряпье, швырнул в болото, — казалось ему, что оно горит. Рвал на своей груди сорочку.
«Покарай меня сила господня! Покарай на этом месте!»
Никто этого не знал…
Бондарь вмешался. Видел, что Луць хватил через край, оборвал его:
— Не плети небылиц, Луць.
Улыбнулся бледному от обиды (э-гей, от обиды ли?) Андрею и мягко заговорил, как хозяин с хозяином:
— Меня одно удивляет, Андрей. Когда ты едва-едва перебивался, когда туго приходилось вашему брату, ты и слушать не хотел, как мы ни упрашивали тебя. А теперь неплохо зарабатываешь, резьба — дело прибыльное, да и с налогами немного легче. Почему же так вдруг?
Не знал Андрей, как ответить.
Несколько лет неплохо жилось. Ну, как сказать — неплохо? Из кожи лез, налоги платил, но ни с кем ничего не делил. Был уверен, что хорошо делает, что на все село он один выигрывает: все на трудодень надеются, а он свое имеет, хоть и мало, но зато никем не считанное. Со старой межи камни все в сарай снес — пусть лежат.
Пан-отец говорит, что еще все может измениться.
Галюнька в первый класс пошла. «В школу пусть ходит, — сказал Олене, — но эти пионеры, комсомолы, красные галстуки на шее чтоб я не видел. Учи ее читать „отче наш“.»
А потом (дочка уже в четвертый класс перешла) все как-то повернулось по-иному. Жил как на необитаемом острове. Луць, шурин, сосед через дорогу, хоть бы нос показал, а Олена — та разве что на минутку к сестре Марии забегала и молчаливая возвращалась в хату.
Урчало веретено — Олена пряла шерсть. Стучала стамеска по сливовой красной колодочке: Андрей выполнял заказ для церкви — иконостас делал. Выйдет церковь как пасхальная крашенка. Со всех концов будут приходить люди, и ученые приедут — дивиться его резьбе. И деньги поп платит большие.
Вытесывал, вытачивал клиночки и вкладки. Безжизненная сливовая колода трепетала живыми лепестками. И при этом почему-то было грустно. Вспоминал, как первую свою работу (тогда еще парнем был) подарил для хаты-читальни, и до сих пор в той рамке портрет Тараса Шевченко висит. Правда, это очень давно было. Тогда вместе с Луцем священника поносили, а теперь поп — единственный советчик. Он всегда говорит людям, когда они соберутся на площадке у церкви:
— До весны подождем, а там все изменится. Вы только послушайте радио.
Андрей частенько оставался у попа до поздней ночи, Поп включал приемник и ловил «Голос Америки».
— До весны, пан Макивчук, только до этой весны, а там фертик — Совет на нет.
Когда-то Андрей с интересом прислушивался к его словам: еще тлела надежда, что вынесет из сарая межевые каменья. Потом слушал из вежливости, потому что в селе три огромные колхозные фермы поднялись, да такие, что деду его и не снились, а в этих фермах и коровы и овцы! Все же сила в коллективе, что ни говорите. И люди словно другими стали. Не ругаются из-за межи, каждый день вместе, дружно, как когда-то на толоках. Один только он от людей отделен. Может быть, потому, послушав как-то поповские небылицы, не стерпел:
— Говорите, пан-отец, Совет на нет? А я так думаю: на целый свет. Что-то мне кажется, прошу прощения у батюшки, к этому дело идет.
Ох как тогда рассердился поп. Назвал Андрея безбожником и коммунистом. Андрею стало смешно, потому что какой же он коммунист, если единоличник… Хлопнул дверью поповского дома да и пошел домой.
Галюнька его ходила по комнате и читала на память:
За мир на всей планете,
И значит — за народ.
1959
Месть
 Иван встретил рассвет за столом. В эту ночь у него не хватило силы зайти в свою пустую хату.
Вчера к вечеру позвонили из райцентра и сообщили, что в село возвращается Луць Федорчин. Надо, мол, устроить на работу и сделать все, чтобы он снова почувствовал себя человеком. Наказание отбыл, раскаялся. Пусть теперь живет на земле деда-прадеда, у него теперь семья…
— А у меня семьи нет! Слышите, нет!.. — закричал Иван в телефон и с силой бросил трубку.
Что-то треснуло в аппарате, сломалось.
— А, чтоб тебя, собачья кровь…
Вышел из сельсовета, в сумерках побрел крутым берегом над речкой. Остановился там, где речка дугой уперлась в огороды, и представил себе ту страшную ночь, окрасившую пожарами небо, а воду — кровью. Его тогда не было, он ездил в райцентр на совещание. А в это время его маленькую Маричку бандиты схватили, ударили головкой о яблоню — и конец. А Докию, связанную, в реку бросили…
Застонал Иван и, круто повернувшись, торопливо пошел вверх по склону горы. Шел к Луцю, шел поздравить его с приездом. И когда около полуночи, влажный от росы и опьяневший от боли, вошел в сельсовет, ему показалось, что было именно так…
Без стука и без приветствий вошел в хату Луця… Нет, не вошел — рванул дверь так, что она соскочила с петель и отворилась, резко ударившись о стену.
— Собирайся, Луць! Да побыстрее! Сердак можешь не брать, холодно тебе больше не будет. Поцелуй жену и ребенка — это твое право. А на большее права у тебя нет, только на смерть.
— Убить меня хочешь?
— Да. Разве ты на что-то другое рассчитывал, когда возвращался в село?
Губы Луця задрожали, он словно проглотил жгучий комок и хрипло сказал:
— Жену, ребенка пожалей, чем они виноваты?
— Их не трону… Это ты мстил невиновным. Моей Маричке о яблоню голову размозжил, а Докию, связанную, в реку кинул. И хату сжег, чтобы и следа нашего на земле не осталось.
— Я их не убивал, Иван, это другие…
— Ты был среди них! Из-за вас в те страшные ночи женщины седели и дети с ума сходили… Ну, выходи скорее! Не трясись, будь смелым хоть один раз в жизни…
Из хаты Луць вышел первым. Иван привел его в овраг, отступил от него и замахнулся гуцульским топориком…
…За окном здания сельского Совета темнела ночь. Иван шарахнулся от собственных мыслей.
«А может, не виноват?»
«Виноват, виноват, виноват».
Запустил пальцы в седые волосы и грузно склонился над столом.
И случилось еще такое.
В весеннее воскресенье люди вышли из церкви на улицу, перешептывались:
— Луць Федорчин вернулся. Не видали его? Стоял на клиросе, молился и плакал.
— Это гадючьи слезы.
— А может, и не гадючьи? Если уж государство простило…
— У государства параграфы, а у нас сердце…
Вдруг шумок пробежал по толпе:
— Иван идет!
Расступились и затаив дыхание смотрели на председателя сельсовета, который приближался к ним неровным шагом. На лице у Ивана, наискось, длинный шрам. Он блестит, будто из зарубцевавшейся раны просочилась сукровица. Это они когда-то так его попотчевали…
Подошел Иван и крикнул:
— Выведите Луця из церкви! Вытащите, пусть святого места не оскверняет!
Два парня бросились через распятие.
На щеках Луця — следы слез.
— На колени здесь! — закричал. — На колени, гадина!
Луць послушно припал к сырой земле.
— Исповедуйся перед людьми!
— Я уже исповедовался… и наказание отбыл.
— Это было твое спасение, а не наказание.
Поднялся шум. Женщины, крича, подносили к Луцеву лицу своих детей. Подростки дергали его за рукава и показывали на почерневшие березовые кресты за церковью. Старики обрушивали на его голову проклятия.
А потом все ринулись на него, чтобы втоптать его в землю.
— Стойте! — крикнул Иван и проснулся…
Было уже девять утра. Солнце взобралось на подоконник. Посыльный подметал двор.
Иван схватил телефонную трубку и кричал в нее, забыв, что аппарат испорчен:
— Район дайте! Дайте район, черт вас побери!..
В это мгновение отворилась дверь.
Иван вскочил с кресла, старый шрам побагровел на его лице и казался свежей раной. Перед ним стоял Луць, вернувшийся в село после отбытия наказания. Вернулся, чтобы честно жить.
Губы Ивана перекосила судорога. Поблекшие Луцевы глаза говорили с опаской:
«Не напоминай ничего, Иван, хотя ты и имеешь право… Убийц не выпускают… А о том, где я был, не напоминай, сможешь, Иван?»
— Пришел записаться? — через силу вымолвил председатель сельсовета и бросил взгляд на книгу, в которую вписывал жителей села. Толстая, словно старинный фолиант, книга лежала на краю стола, молчаливая и неумолимая, как закон.
Раскрыл ее. К чистой странице прилепилась засушенная муха. Иван соскоблил ее ногтем, сдул на пол, а оставшееся пятно закрыл свеженаписанной фамилией еще одного жителя села.
Шрам на лице побледнел, сравнялся с цветом кожи.
— Посыльный! — крикнул Иван в дверь. — Пойди на почту, пусть мастера пришлют телефон наладить…
Иван встретил рассвет за столом. В эту ночь у него не хватило силы зайти в свою пустую хату.
Вчера к вечеру позвонили из райцентра и сообщили, что в село возвращается Луць Федорчин. Надо, мол, устроить на работу и сделать все, чтобы он снова почувствовал себя человеком. Наказание отбыл, раскаялся. Пусть теперь живет на земле деда-прадеда, у него теперь семья…
— А у меня семьи нет! Слышите, нет!.. — закричал Иван в телефон и с силой бросил трубку.
Что-то треснуло в аппарате, сломалось.
— А, чтоб тебя, собачья кровь…
Вышел из сельсовета, в сумерках побрел крутым берегом над речкой. Остановился там, где речка дугой уперлась в огороды, и представил себе ту страшную ночь, окрасившую пожарами небо, а воду — кровью. Его тогда не было, он ездил в райцентр на совещание. А в это время его маленькую Маричку бандиты схватили, ударили головкой о яблоню — и конец. А Докию, связанную, в реку бросили…
Застонал Иван и, круто повернувшись, торопливо пошел вверх по склону горы. Шел к Луцю, шел поздравить его с приездом. И когда около полуночи, влажный от росы и опьяневший от боли, вошел в сельсовет, ему показалось, что было именно так…
Без стука и без приветствий вошел в хату Луця… Нет, не вошел — рванул дверь так, что она соскочила с петель и отворилась, резко ударившись о стену.
— Собирайся, Луць! Да побыстрее! Сердак можешь не брать, холодно тебе больше не будет. Поцелуй жену и ребенка — это твое право. А на большее права у тебя нет, только на смерть.
— Убить меня хочешь?
— Да. Разве ты на что-то другое рассчитывал, когда возвращался в село?
Губы Луця задрожали, он словно проглотил жгучий комок и хрипло сказал:
— Жену, ребенка пожалей, чем они виноваты?
— Их не трону… Это ты мстил невиновным. Моей Маричке о яблоню голову размозжил, а Докию, связанную, в реку кинул. И хату сжег, чтобы и следа нашего на земле не осталось.
— Я их не убивал, Иван, это другие…
— Ты был среди них! Из-за вас в те страшные ночи женщины седели и дети с ума сходили… Ну, выходи скорее! Не трясись, будь смелым хоть один раз в жизни…
Из хаты Луць вышел первым. Иван привел его в овраг, отступил от него и замахнулся гуцульским топориком…
…За окном здания сельского Совета темнела ночь. Иван шарахнулся от собственных мыслей.
«А может, не виноват?»
«Виноват, виноват, виноват».
Запустил пальцы в седые волосы и грузно склонился над столом.
И случилось еще такое.
В весеннее воскресенье люди вышли из церкви на улицу, перешептывались:
— Луць Федорчин вернулся. Не видали его? Стоял на клиросе, молился и плакал.
— Это гадючьи слезы.
— А может, и не гадючьи? Если уж государство простило…
— У государства параграфы, а у нас сердце…
Вдруг шумок пробежал по толпе:
— Иван идет!
Расступились и затаив дыхание смотрели на председателя сельсовета, который приближался к ним неровным шагом. На лице у Ивана, наискось, длинный шрам. Он блестит, будто из зарубцевавшейся раны просочилась сукровица. Это они когда-то так его попотчевали…
Подошел Иван и крикнул:
— Выведите Луця из церкви! Вытащите, пусть святого места не оскверняет!
Два парня бросились через распятие.
На щеках Луця — следы слез.
— На колени здесь! — закричал. — На колени, гадина!
Луць послушно припал к сырой земле.
— Исповедуйся перед людьми!
— Я уже исповедовался… и наказание отбыл.
— Это было твое спасение, а не наказание.
Поднялся шум. Женщины, крича, подносили к Луцеву лицу своих детей. Подростки дергали его за рукава и показывали на почерневшие березовые кресты за церковью. Старики обрушивали на его голову проклятия.
А потом все ринулись на него, чтобы втоптать его в землю.
— Стойте! — крикнул Иван и проснулся…
Было уже девять утра. Солнце взобралось на подоконник. Посыльный подметал двор.
Иван схватил телефонную трубку и кричал в нее, забыв, что аппарат испорчен:
— Район дайте! Дайте район, черт вас побери!..
В это мгновение отворилась дверь.
Иван вскочил с кресла, старый шрам побагровел на его лице и казался свежей раной. Перед ним стоял Луць, вернувшийся в село после отбытия наказания. Вернулся, чтобы честно жить.
Губы Ивана перекосила судорога. Поблекшие Луцевы глаза говорили с опаской:
«Не напоминай ничего, Иван, хотя ты и имеешь право… Убийц не выпускают… А о том, где я был, не напоминай, сможешь, Иван?»
— Пришел записаться? — через силу вымолвил председатель сельсовета и бросил взгляд на книгу, в которую вписывал жителей села. Толстая, словно старинный фолиант, книга лежала на краю стола, молчаливая и неумолимая, как закон.
Раскрыл ее. К чистой странице прилепилась засушенная муха. Иван соскоблил ее ногтем, сдул на пол, а оставшееся пятно закрыл свеженаписанной фамилией еще одного жителя села.
Шрам на лице побледнел, сравнялся с цветом кожи.
— Посыльный! — крикнул Иван в дверь. — Пойди на почту, пусть мастера пришлют телефон наладить…
1963
Прут уносит лед
 Онуфрий Горда еще в силе. Лед ломается, скрежещет, наваливается на борт парома, а Горда шестом отталкивает льдины. Женщины, затаив дыхание, прижав узлы к груди, от страха молчат. А паром — как брошенная в разбушевавшиеся весенние воды щепка.
Прут уносит лед.
Он тяжелыми глыбами трется о берег, крушит камень, грозно рычит под днищем парома.
Горда уверенно забрасывает, словно прочь от себя, длинный шест, вонзает его окованный конец в речное дно и сам всей своей тяжестью повисает на нем. Шест гнется, кажется — вот-вот переломится и паромщик полетит за борт. Крепкие руки упруги, как тетива, жилы на шее синеют от напряжения, но шест выпрямляется.
Горда один.
Берег еще далеко. Паром то будто застынет на месте, то словно с пенящейся ледяной кашей стремительно несется вниз. Маленький мальчик со слезами на глазах, уцепившись за мамин подол, смотрит на Горду. Тот улыбается малышу. Не бойся, сынок, Горда отвечает за тебя. Горда отвечает за людей. Жилы на руках лопнут, шест переломится — зубами уцепится, а доведет паром до берега, потому что это его родные люди, его родная река, его родная земля.
…Тридцать лет не видел ее. Полжизни растратил на чужбине попусту, ни за понюшку табака, — счастья искал. Тридцать лет… А все еще помнит, как упала его прощальная слезинка на скованный льдом Прут. Не от нее ли — горячей, горькой, жгучей — двинулся тогда на Пруте лед? А дальше — бразильская нужда, бойни Чикаго, чужая речь, неприветливый край и тоска, тоска… Казалось: если б вернулся, упал бы грудью на родную землю, целовал бы ее, обнимал бы людей и наказывал никогда не оставлять родного края.
А годы шли. Шумели весенние мутные воды, задумчиво текли осенние реки, но Горда никогда не забывал своей родной реки… Словно еще вчера блестел скованный ледяным панцирем Прут, казался спокойным и покорным, дрожал под полозьями саней и конскими копытами, скрипел под ногами пешеходов, молчал, будто немой, безъязыкий. Но пробудилась сила, расколола холодный панцирь, и ничто уже не остановит свободный бег реки.
Крепко-накрепко слился в сознании Горды образ его родной реки с образом народа. Это была уже не река, это был его народ, здоровый, могучий, а он как осколок, опустошенный тоской, согнутый нуждой, хворый, беспомощный.
…Горда вернулся летом. О, это был праздник всей земли! Идя по берегу Прута, он нагнулся, горстью зачерпнул воды, напился, — нет, это не сон, он и вправду здесь, у себя на родине, на родине!
А потом переплыл на другой берег. Дрожащими руками ухватил шест, как бывало, погнал паром по тихой воде и ощутил, как молодая сила волной вливается в руки и в сердце. Нет, он еще поживет, напрасно он думал, что вернулся только затем, чтобы умереть на родной земле. Ого! Он еще покажет людям того, бывшего паромщика Горду — молодого парня, даром что седая борода стелется по груди и морщины помяли лицо.
…Гнется, поскрипывает шест, крестится в страхе старушка, спокойно смотрит Горда, затаив суровую усмешку где-то в уголках глаз или в изломах бровей…
…Пройдут еще долгие-долгие годы, а Горда будет таким же молодым, как его родной край, прогнавший панов, сбросивший цепи, уничтоживший виселицы, его молодеющий, бессмертный край. С чего бы это Горде стареть и выпускать багор из рук? Он будет вечно молодым. Глянет задумчиво на синеватые горы вдали, глянет на покрытые налитыми колосьями просторы за Прутом, тихую песню пошлет притомившимся хлеборобам, приласкает взглядом ребенка; старую боль перечеркнет усмешка на лице старика, и навстречу красному солнцу над горизонтом блеснет в глазах скупая, не болью вызванная, искренняя слеза.
Пройдут годы, а он будет стоять на страже родных полей, смотреть в чистое небо, следить: не идет ли гроза из-за горизонта, не застонет ли перед бурей, цепляя крылом прозрачную воду, белокрылая чайка?
Онуфрий Горда еще в силе. Лед ломается, скрежещет, наваливается на борт парома, а Горда шестом отталкивает льдины. Женщины, затаив дыхание, прижав узлы к груди, от страха молчат. А паром — как брошенная в разбушевавшиеся весенние воды щепка.
Прут уносит лед.
Он тяжелыми глыбами трется о берег, крушит камень, грозно рычит под днищем парома.
Горда уверенно забрасывает, словно прочь от себя, длинный шест, вонзает его окованный конец в речное дно и сам всей своей тяжестью повисает на нем. Шест гнется, кажется — вот-вот переломится и паромщик полетит за борт. Крепкие руки упруги, как тетива, жилы на шее синеют от напряжения, но шест выпрямляется.
Горда один.
Берег еще далеко. Паром то будто застынет на месте, то словно с пенящейся ледяной кашей стремительно несется вниз. Маленький мальчик со слезами на глазах, уцепившись за мамин подол, смотрит на Горду. Тот улыбается малышу. Не бойся, сынок, Горда отвечает за тебя. Горда отвечает за людей. Жилы на руках лопнут, шест переломится — зубами уцепится, а доведет паром до берега, потому что это его родные люди, его родная река, его родная земля.
…Тридцать лет не видел ее. Полжизни растратил на чужбине попусту, ни за понюшку табака, — счастья искал. Тридцать лет… А все еще помнит, как упала его прощальная слезинка на скованный льдом Прут. Не от нее ли — горячей, горькой, жгучей — двинулся тогда на Пруте лед? А дальше — бразильская нужда, бойни Чикаго, чужая речь, неприветливый край и тоска, тоска… Казалось: если б вернулся, упал бы грудью на родную землю, целовал бы ее, обнимал бы людей и наказывал никогда не оставлять родного края.
А годы шли. Шумели весенние мутные воды, задумчиво текли осенние реки, но Горда никогда не забывал своей родной реки… Словно еще вчера блестел скованный ледяным панцирем Прут, казался спокойным и покорным, дрожал под полозьями саней и конскими копытами, скрипел под ногами пешеходов, молчал, будто немой, безъязыкий. Но пробудилась сила, расколола холодный панцирь, и ничто уже не остановит свободный бег реки.
Крепко-накрепко слился в сознании Горды образ его родной реки с образом народа. Это была уже не река, это был его народ, здоровый, могучий, а он как осколок, опустошенный тоской, согнутый нуждой, хворый, беспомощный.
…Горда вернулся летом. О, это был праздник всей земли! Идя по берегу Прута, он нагнулся, горстью зачерпнул воды, напился, — нет, это не сон, он и вправду здесь, у себя на родине, на родине!
А потом переплыл на другой берег. Дрожащими руками ухватил шест, как бывало, погнал паром по тихой воде и ощутил, как молодая сила волной вливается в руки и в сердце. Нет, он еще поживет, напрасно он думал, что вернулся только затем, чтобы умереть на родной земле. Ого! Он еще покажет людям того, бывшего паромщика Горду — молодого парня, даром что седая борода стелется по груди и морщины помяли лицо.
…Гнется, поскрипывает шест, крестится в страхе старушка, спокойно смотрит Горда, затаив суровую усмешку где-то в уголках глаз или в изломах бровей…
…Пройдут еще долгие-долгие годы, а Горда будет таким же молодым, как его родной край, прогнавший панов, сбросивший цепи, уничтоживший виселицы, его молодеющий, бессмертный край. С чего бы это Горде стареть и выпускать багор из рук? Он будет вечно молодым. Глянет задумчиво на синеватые горы вдали, глянет на покрытые налитыми колосьями просторы за Прутом, тихую песню пошлет притомившимся хлеборобам, приласкает взглядом ребенка; старую боль перечеркнет усмешка на лице старика, и навстречу красному солнцу над горизонтом блеснет в глазах скупая, не болью вызванная, искренняя слеза.
Пройдут годы, а он будет стоять на страже родных полей, смотреть в чистое небо, следить: не идет ли гроза из-за горизонта, не застонет ли перед бурей, цепляя крылом прозрачную воду, белокрылая чайка?
1956
В дороге
 Мчится автобус широкой проезжей дорогой. Полсотни жизней человеческих проходят в автобусе небольшой отрезок своего пути. Полсотни жизней проносятся мимо меня, как придорожные тополи. Сошел на своей остановке — ни тополей этих, ни людей.
Жизнь не проходит одной и той же дорогой дважды.
…На заднем сиденье автобуса трясет, и голоса людей дробятся, как лен на трепале, — там балагурит какой-то весельчак. Он так и сыплет шутками, двусмысленными остротами. Смуглая девушка отвернулась к окну и, зажав рот ладонями, сдерживает смех; молодицы раскраснелись, с улыбкой поглядывают на парня, подбрасывают и от себя словечко, а он не пропускает никого, чтоб не наклеить ярлычка. У парня ухарский вид, глаза дерзко поблескивают, — кто знает, может, парень подвыпил.
Рядом с ним сидит старушка. Из-под платка выбились прядки седых волос, щеки впалые, глаза грустные, а на шее как-то резко выпятились сухожилия.
— Трясет, бабушка? — спрашивает парень.
— Трясет, милок, — отвечает.
— Почему же дома не сидите, а звоните костями по дорогам, как невеста ложками в святой вечер?
Смуглянка у окна прыснула в кулак, восхищенно глянула на парня, а тот лукаво подмигнул ей — и опять к старушке:
— А вы случайно не на ярмарку, бабушка?
— Нет, не на ярмарку, сынок, — прошамкала. — К дохтуру, в Новоселицу, зубы вставлять еду.
Смех.
— А без зубов, бабка, на тот свет не берут? Зубы ведь деньги большие стоят…
— Может, где за деньги, а в Новоселице докторша задаром вставляет… А на тот свет, говоришь… Ого… К богу отправиться всегда поспею.
Как-то сразу посуровело лицо у парня, и неожиданно сказал он такое, что молодицы охнули, а бабка перекрестилась.
— Когда отправитесь к этому своему богу на небо, скажите ему, что не по-божьи он поступает. Вас вот на свете долго держит, а мою Гафийку…
— Свят-свят… — снова закрестилась старушка.
— Не креститесь, рогов не ношу. Я в небо камни не швырял и окна богу не бил, так зачем же он мою Гафийку… Эх, бабка, бабка… Сиротки остались, как росинки на солнце…
Застыла улыбка на губах у смуглянки, удивление и ужас тенью легли на голубые глаза; молодицы простили весельчаку богохульство, повернулись к нему лицом и сочувственно кивают головой.
— А я вот хожу по свету как очумелый, людей смешу — боль свою глушу, по вечерам дома с малышами в прятки играю, а утром обещаю им маму привести.
— Надо, надо, сынок. Женская рука детям нужна, ласка… Ты не для себя, для детей ищи, — отозвалась старушка, и речь ее была тепла, как пашня после дождя.
— Только для детей, говорите… Как будто я ваш ровесник… Да искал уже, искал. И нашел, даже полюбилась мне она. На смотрины ее привел. Увидел ее мой меньшенький и: «Мама, мама!» — да к ней на колени. Припал к груди — и ботиночками на шалевую юбку. Отшатнулась она, поставила на пол ребенка, встряхнула подолок… И всё. Заплакал меньшенький, а старший за руку его да из хаты вон. А Гафийка, бывало, отшлепает, за уши отдерет сорванцов, а они все равно к ней липнут, как гусята… Да, да… для себя-то найти легко…
Прослезился весельчак, вздохнули молодицы, а смуглая девушка у окна даже с места поднялась и глаз с парня не сводит.
Шофер притормозил, остановил автобус.
— Новоселица! — крикнул кондуктор.
Засуетилась старушка, поднялась, пошла к выходу.
— Пойду и я с вами, бабка, — сказал весельчак, и снова маска беспечности легла на его лицо. — Провожу к доктору. Вставите зубы, помолодеете, так, может, и поженимся. Сами говорите — для детей только…
Вышли вместе. Шофер закрыл двери и включил мотор.
— Подождите! — прозвенел голос смуглой девушки. — Я еще не сошла.
…Мчимся дорогами. Проносится мимо нас частица огромного мира. Большая частица, неповторимая — жизнь одной дорогой не ездит дважды. И потому мы счастливы, когда удается остановиться на миг в безудержном лёте времени и отчетливо увидеть хоть одно лицо среди сотен лиц, проходящих силуэтами мимо.
Мчится автобус широкой проезжей дорогой. Полсотни жизней человеческих проходят в автобусе небольшой отрезок своего пути. Полсотни жизней проносятся мимо меня, как придорожные тополи. Сошел на своей остановке — ни тополей этих, ни людей.
Жизнь не проходит одной и той же дорогой дважды.
…На заднем сиденье автобуса трясет, и голоса людей дробятся, как лен на трепале, — там балагурит какой-то весельчак. Он так и сыплет шутками, двусмысленными остротами. Смуглая девушка отвернулась к окну и, зажав рот ладонями, сдерживает смех; молодицы раскраснелись, с улыбкой поглядывают на парня, подбрасывают и от себя словечко, а он не пропускает никого, чтоб не наклеить ярлычка. У парня ухарский вид, глаза дерзко поблескивают, — кто знает, может, парень подвыпил.
Рядом с ним сидит старушка. Из-под платка выбились прядки седых волос, щеки впалые, глаза грустные, а на шее как-то резко выпятились сухожилия.
— Трясет, бабушка? — спрашивает парень.
— Трясет, милок, — отвечает.
— Почему же дома не сидите, а звоните костями по дорогам, как невеста ложками в святой вечер?
Смуглянка у окна прыснула в кулак, восхищенно глянула на парня, а тот лукаво подмигнул ей — и опять к старушке:
— А вы случайно не на ярмарку, бабушка?
— Нет, не на ярмарку, сынок, — прошамкала. — К дохтуру, в Новоселицу, зубы вставлять еду.
Смех.
— А без зубов, бабка, на тот свет не берут? Зубы ведь деньги большие стоят…
— Может, где за деньги, а в Новоселице докторша задаром вставляет… А на тот свет, говоришь… Ого… К богу отправиться всегда поспею.
Как-то сразу посуровело лицо у парня, и неожиданно сказал он такое, что молодицы охнули, а бабка перекрестилась.
— Когда отправитесь к этому своему богу на небо, скажите ему, что не по-божьи он поступает. Вас вот на свете долго держит, а мою Гафийку…
— Свят-свят… — снова закрестилась старушка.
— Не креститесь, рогов не ношу. Я в небо камни не швырял и окна богу не бил, так зачем же он мою Гафийку… Эх, бабка, бабка… Сиротки остались, как росинки на солнце…
Застыла улыбка на губах у смуглянки, удивление и ужас тенью легли на голубые глаза; молодицы простили весельчаку богохульство, повернулись к нему лицом и сочувственно кивают головой.
— А я вот хожу по свету как очумелый, людей смешу — боль свою глушу, по вечерам дома с малышами в прятки играю, а утром обещаю им маму привести.
— Надо, надо, сынок. Женская рука детям нужна, ласка… Ты не для себя, для детей ищи, — отозвалась старушка, и речь ее была тепла, как пашня после дождя.
— Только для детей, говорите… Как будто я ваш ровесник… Да искал уже, искал. И нашел, даже полюбилась мне она. На смотрины ее привел. Увидел ее мой меньшенький и: «Мама, мама!» — да к ней на колени. Припал к груди — и ботиночками на шалевую юбку. Отшатнулась она, поставила на пол ребенка, встряхнула подолок… И всё. Заплакал меньшенький, а старший за руку его да из хаты вон. А Гафийка, бывало, отшлепает, за уши отдерет сорванцов, а они все равно к ней липнут, как гусята… Да, да… для себя-то найти легко…
Прослезился весельчак, вздохнули молодицы, а смуглая девушка у окна даже с места поднялась и глаз с парня не сводит.
Шофер притормозил, остановил автобус.
— Новоселица! — крикнул кондуктор.
Засуетилась старушка, поднялась, пошла к выходу.
— Пойду и я с вами, бабка, — сказал весельчак, и снова маска беспечности легла на его лицо. — Провожу к доктору. Вставите зубы, помолодеете, так, может, и поженимся. Сами говорите — для детей только…
Вышли вместе. Шофер закрыл двери и включил мотор.
— Подождите! — прозвенел голос смуглой девушки. — Я еще не сошла.
…Мчимся дорогами. Проносится мимо нас частица огромного мира. Большая частица, неповторимая — жизнь одной дорогой не ездит дважды. И потому мы счастливы, когда удается остановиться на миг в безудержном лёте времени и отчетливо увидеть хоть одно лицо среди сотен лиц, проходящих силуэтами мимо.
1963
Чужой внук
 Мягко шлепаются наземь спасовки в саду у Тодосия, а на пасеке у Федора роятся пчелы. Тодосий молча собирает краснощекие яблоки в корзину, а Федор ходит между ульями и тревожится, как бы рой не залетел на соседскую яблоню. Пчелам что! Им и горя мало. Вылетит матка с выводком — и пиши пропало. Не то чтобы Тодосий не позволил собрать рой — самолюбие не позволит…
Потому что соседи в ссоре.
Что Тодосий с Федором поссорились, об этом никто не знает, да и не поверил бы никто. Оба в летах — и тому и другому седьмой десяток идет, и прожили они в согласии целых пятьдесят лет. Еще недавно вместе ходили в лес на работу. Тщательно подсчитывали свои метровки и кучи хвороста, получали заработанные деньги и к воскресному дню возвращались домой. И вспоминали по дороге те времена, когда жилось хорошо, а жилось им хорошо потому, что молоды были. Старость не радость.
А впрочем… И у старости есть свои радости.
Когда у Тодосия начали терпнуть руки и топор все чаще застревал в пихтовом полене, он сказал Федору:
— Э, хватит… Отработал свое… А старость не страшна — внук прокормит.
И почему-то показалось тогда Федору, что хотел сосед уколоть его этими словами. Он тоже отбросил топор и ответил с подчеркнутой небрежностью:
— И я с голоду не пропаду. Мне пасека хлеб даст…
Сказал и впервые за всю свою жизнь почувствовал Федор, что немощная и безнадежная старость, которую он до сих пор отгонял от ворот, ворвалась все же к нему на подворье и тяжко, как обухом, саданула в грудь: пасеку он имел немалую, а детей и внуков не было у него никогда…
Они с женой прожили долгий век бездетными и, правду сказать, не задумывались над этим. Наверное, потому не задумывались, что внук, которым вздумал сейчас похвалиться Тодосий, был также и их внуком. Да, да… Этот Василько когда-то не мог толком сказать, кого он больше любит — деда Тодосия, мед или дядю Федю.
Василько… Замурзанный, в рубашонке, подпоясанный синей тесьмой, он с трудом одолевал перелаз и изумленно смотрел, как мудрый пасечник в крапивном мешке с решетом вместо дна возится с ульями. А дядя Федор дымил паклей и разговаривал с пчелами, как с разумными существами; дядя Федор подсыпал им сахару в ненастье, а в хорошую погоду отбирал у пчел тяжелую вощину, с которой текла по рукам пахучая темная жидкость; и такой он, дядя Федор, умный, что даже пчелы его слушаются и не кусают.
И любил Василько дядю Федора, может, даже больше меда, может, даже больше, чем…
Но подрос Василько, и стал как-то чуждаться, и от меда отказывался, и тогда слышался Федору голос его старости, — шел он откуда-то из крапивы, что росла за тыном: «А своего не имеешь, то-то… своего не имеешь…»
Но и у старости есть свои радости: у кого внуки, у кого пасека.
И сейчас вот… стиснула тоска Федорово сердце, как вощину в кулаке.
— А когда Василь приедет? — помолчав, спросил Федор.
— Теперь уж не скоро. На той неделе я к дочке в город ездил, проводы справляли. В офицерскую школу его приняли.
От неожиданности у Федора дернулась голова и щетинистые усы встали ежиком.
— Как же это так?.. И ты мне не сказал? Да я ведь тоже вроде… поехал бы с тобой… или хотя бы…
— Я, правду сказать, и забыл, — равнодушно ответил Тодосий.
Забыл… Неприязнь шевельнулась в сердце у Федора. Он стиснул топорище так, что жилы на руках вздулись. Забыл… «А может, тебе, Тодось, просто жаль было поделиться со мной своей радостью?»
…Была весна. Гудели пчелы в цветах, а Федор хозяйничал на пасеке, и не выходил у него из головы этот внук, подпоясанный тесьмой, перепачканный соком черешни, этот Василько.
Тодосий выглянул из-за плетня.
— Вышел бы ты, Федор, хоть за ворота, на свет божий поглядел бы.
— А… все равно всего не увидишь, всего не полюбишь. А пчела — она ровно капля росы, в которой солнце видно, или как ребенок, в котором и свет твой, и любовь…
— Да… Это верно.
— А где же ты был, Тодось? Я уже несколько дней тебя не видел.
— А я к внуку ездил. Недалеко он тут…
Федор вскочил с пенька и затрусил к перелазу.
— Да что ж это ты, сосед, смеешься надо мной, что ли? Да разве я не мог бы дать ему меда фляжку?.. Если уж неловко тебе было чужой дарить, сказал бы, что это твой. И не соврал бы — с твоей акации пчелы, почитай, литр взяли.
— Да я забыл, Федор, — удивленно пожал плечами Тодосий. — Вот приедет он будущим летом, тогда и наговоритесь с ним.
Обида змеей обвилась вокруг Федорова сердца, и он едва удерживался, чтоб не крикнуть: «Да разве ж мы чужие с Васильком? Что ты его от меня прячешь?»
И тут почувствовал Федор, как невзлюбил в эту минуту соседа, и пасеку свою, и бабку, которая, сидя на пороге, грелась на солнышке, старость свою возненавидел и, бог мой… даже Василька!
Он подступил ближе и прошипел сквозь прогнившие зубы:
— И долго твоему Василю в рекрутах картошку чистить?
— Ты что, с быка свалился? — оторопел Тодосий. — В каких таких рекрутах? На офицера он учится, Василь!
— Так-таки на офицера? И охота тебе, сосед, людей смешить! Думаешь, так сразу: айн-цвай — и офицер!
— А ты как думал? На тот год с двумя звездочками приедет.
— Пхе, две звездочки! В Австрии две звездочки капрал носил.
Не ожидал Тодосий столь ядовитых слов от Федора. Вскипел… и пошла такая свара, которую старикам и по сей день вспоминать стыдно, но тогда сдержаться ни тот, ни другой уже не могли. Понеслась она, как мутная весенняя вода через плотину…
— Сам ты капрал, старый дурень! Офицером будет мой Василь, понял? Офицером! И на кой черт ему твой мед сдался! Носится со своим медом, как баба с поросенком…
— Перед каждым рождеством и ты с ним носился — от меня получал!
— Свой брал! Со своих яблонь и акаций…
— Так сруби их, если жалко!
— И срублю!
В тот же день спилил Тодосий роскошную акацию, что росла на меже. Грохнулась она к Федору на огород, и рой пчел поднялся над пахучей кроной.
— Пускай теперь жрут!
— А, чтоб тебе самому вытянуться с ней рядом! — Федорова бабка била кулаком о кулак.
В тот же вечер взбешенный Федор приволок из лесу три елочки и высадил их напротив Тодосиевых яблонь.
А на следующий день обоим было стыдно. Терзался и каялся Тодосий, тяжким камнем лежала обида на сердце у Федора.
Но ссора есть ссора. Легко ли первому запросить мира?
…Падают краснобокие Тодосиевы яблоки к Федору в огород и пропадают в росе. Никто их не собирает.
А у Федора того и гляди вылетит рой и тоже может пропасть. Только бы не сейчас… Только бы… Но…
Вырвался из крайнего улья. «Ну?.. Ну? О, чтоб тебя громом убило!» Закрутился спиралью в небо и легко, словно клубок дыма, опустился на Тодосиеву яблоню.
— А, пропади ты, треклятое племя! — в сердцах вскричал Федор. — Не нужны мне и остальные… Для кого?
И теперь ему уже ничто не мило — ни пчелы, ни сама жизнь…
А перед вечером сельский почтальон, который ничего не знал о ссоре соседей, крикнул через плетень на оба двора:
— Тодосий! Федор! Магарыч ставьте, ваш Василь завтра приезжает! Принимайте телеграмму!
Глянул Тодосий на Федора: дескать, что теперь будет? А у Федора слезы — кап-кап! — и побежали по изборожденному морщинами лицу.
Федор прикрыл лицо ладонью и тихонько, чтоб неуслышал сосед, сказал жене:
— Старуха, помой кадушку, мед отжимать буду.
Но Тодосий видел и слышал… И теперь уже все понял. Ночью вышел он в сад и, хоть непривычен был ходить за пчелами, собрал кое-как сонный рой и отнес Федору на пасеку.
Не спалось и Федору. На рассвете он срубил елочки и оттащил в овраг.
А утром соседи, потоптавшись смущенно каждый перед своей хатой, вышли наконец разом за ворота и молча пошли к автобусной станции.
— Так, говоришь, две звездочки у нашего Василька? — спросил Федор.
— Две, две, а как же! — гордо ответил Тодосий.
Мягко шлепаются наземь спасовки в саду у Тодосия, а на пасеке у Федора роятся пчелы. Тодосий молча собирает краснощекие яблоки в корзину, а Федор ходит между ульями и тревожится, как бы рой не залетел на соседскую яблоню. Пчелам что! Им и горя мало. Вылетит матка с выводком — и пиши пропало. Не то чтобы Тодосий не позволил собрать рой — самолюбие не позволит…
Потому что соседи в ссоре.
Что Тодосий с Федором поссорились, об этом никто не знает, да и не поверил бы никто. Оба в летах — и тому и другому седьмой десяток идет, и прожили они в согласии целых пятьдесят лет. Еще недавно вместе ходили в лес на работу. Тщательно подсчитывали свои метровки и кучи хвороста, получали заработанные деньги и к воскресному дню возвращались домой. И вспоминали по дороге те времена, когда жилось хорошо, а жилось им хорошо потому, что молоды были. Старость не радость.
А впрочем… И у старости есть свои радости.
Когда у Тодосия начали терпнуть руки и топор все чаще застревал в пихтовом полене, он сказал Федору:
— Э, хватит… Отработал свое… А старость не страшна — внук прокормит.
И почему-то показалось тогда Федору, что хотел сосед уколоть его этими словами. Он тоже отбросил топор и ответил с подчеркнутой небрежностью:
— И я с голоду не пропаду. Мне пасека хлеб даст…
Сказал и впервые за всю свою жизнь почувствовал Федор, что немощная и безнадежная старость, которую он до сих пор отгонял от ворот, ворвалась все же к нему на подворье и тяжко, как обухом, саданула в грудь: пасеку он имел немалую, а детей и внуков не было у него никогда…
Они с женой прожили долгий век бездетными и, правду сказать, не задумывались над этим. Наверное, потому не задумывались, что внук, которым вздумал сейчас похвалиться Тодосий, был также и их внуком. Да, да… Этот Василько когда-то не мог толком сказать, кого он больше любит — деда Тодосия, мед или дядю Федю.
Василько… Замурзанный, в рубашонке, подпоясанный синей тесьмой, он с трудом одолевал перелаз и изумленно смотрел, как мудрый пасечник в крапивном мешке с решетом вместо дна возится с ульями. А дядя Федор дымил паклей и разговаривал с пчелами, как с разумными существами; дядя Федор подсыпал им сахару в ненастье, а в хорошую погоду отбирал у пчел тяжелую вощину, с которой текла по рукам пахучая темная жидкость; и такой он, дядя Федор, умный, что даже пчелы его слушаются и не кусают.
И любил Василько дядю Федора, может, даже больше меда, может, даже больше, чем…
Но подрос Василько, и стал как-то чуждаться, и от меда отказывался, и тогда слышался Федору голос его старости, — шел он откуда-то из крапивы, что росла за тыном: «А своего не имеешь, то-то… своего не имеешь…»
Но и у старости есть свои радости: у кого внуки, у кого пасека.
И сейчас вот… стиснула тоска Федорово сердце, как вощину в кулаке.
— А когда Василь приедет? — помолчав, спросил Федор.
— Теперь уж не скоро. На той неделе я к дочке в город ездил, проводы справляли. В офицерскую школу его приняли.
От неожиданности у Федора дернулась голова и щетинистые усы встали ежиком.
— Как же это так?.. И ты мне не сказал? Да я ведь тоже вроде… поехал бы с тобой… или хотя бы…
— Я, правду сказать, и забыл, — равнодушно ответил Тодосий.
Забыл… Неприязнь шевельнулась в сердце у Федора. Он стиснул топорище так, что жилы на руках вздулись. Забыл… «А может, тебе, Тодось, просто жаль было поделиться со мной своей радостью?»
…Была весна. Гудели пчелы в цветах, а Федор хозяйничал на пасеке, и не выходил у него из головы этот внук, подпоясанный тесьмой, перепачканный соком черешни, этот Василько.
Тодосий выглянул из-за плетня.
— Вышел бы ты, Федор, хоть за ворота, на свет божий поглядел бы.
— А… все равно всего не увидишь, всего не полюбишь. А пчела — она ровно капля росы, в которой солнце видно, или как ребенок, в котором и свет твой, и любовь…
— Да… Это верно.
— А где же ты был, Тодось? Я уже несколько дней тебя не видел.
— А я к внуку ездил. Недалеко он тут…
Федор вскочил с пенька и затрусил к перелазу.
— Да что ж это ты, сосед, смеешься надо мной, что ли? Да разве я не мог бы дать ему меда фляжку?.. Если уж неловко тебе было чужой дарить, сказал бы, что это твой. И не соврал бы — с твоей акации пчелы, почитай, литр взяли.
— Да я забыл, Федор, — удивленно пожал плечами Тодосий. — Вот приедет он будущим летом, тогда и наговоритесь с ним.
Обида змеей обвилась вокруг Федорова сердца, и он едва удерживался, чтоб не крикнуть: «Да разве ж мы чужие с Васильком? Что ты его от меня прячешь?»
И тут почувствовал Федор, как невзлюбил в эту минуту соседа, и пасеку свою, и бабку, которая, сидя на пороге, грелась на солнышке, старость свою возненавидел и, бог мой… даже Василька!
Он подступил ближе и прошипел сквозь прогнившие зубы:
— И долго твоему Василю в рекрутах картошку чистить?
— Ты что, с быка свалился? — оторопел Тодосий. — В каких таких рекрутах? На офицера он учится, Василь!
— Так-таки на офицера? И охота тебе, сосед, людей смешить! Думаешь, так сразу: айн-цвай — и офицер!
— А ты как думал? На тот год с двумя звездочками приедет.
— Пхе, две звездочки! В Австрии две звездочки капрал носил.
Не ожидал Тодосий столь ядовитых слов от Федора. Вскипел… и пошла такая свара, которую старикам и по сей день вспоминать стыдно, но тогда сдержаться ни тот, ни другой уже не могли. Понеслась она, как мутная весенняя вода через плотину…
— Сам ты капрал, старый дурень! Офицером будет мой Василь, понял? Офицером! И на кой черт ему твой мед сдался! Носится со своим медом, как баба с поросенком…
— Перед каждым рождеством и ты с ним носился — от меня получал!
— Свой брал! Со своих яблонь и акаций…
— Так сруби их, если жалко!
— И срублю!
В тот же день спилил Тодосий роскошную акацию, что росла на меже. Грохнулась она к Федору на огород, и рой пчел поднялся над пахучей кроной.
— Пускай теперь жрут!
— А, чтоб тебе самому вытянуться с ней рядом! — Федорова бабка била кулаком о кулак.
В тот же вечер взбешенный Федор приволок из лесу три елочки и высадил их напротив Тодосиевых яблонь.
А на следующий день обоим было стыдно. Терзался и каялся Тодосий, тяжким камнем лежала обида на сердце у Федора.
Но ссора есть ссора. Легко ли первому запросить мира?
…Падают краснобокие Тодосиевы яблоки к Федору в огород и пропадают в росе. Никто их не собирает.
А у Федора того и гляди вылетит рой и тоже может пропасть. Только бы не сейчас… Только бы… Но…
Вырвался из крайнего улья. «Ну?.. Ну? О, чтоб тебя громом убило!» Закрутился спиралью в небо и легко, словно клубок дыма, опустился на Тодосиеву яблоню.
— А, пропади ты, треклятое племя! — в сердцах вскричал Федор. — Не нужны мне и остальные… Для кого?
И теперь ему уже ничто не мило — ни пчелы, ни сама жизнь…
А перед вечером сельский почтальон, который ничего не знал о ссоре соседей, крикнул через плетень на оба двора:
— Тодосий! Федор! Магарыч ставьте, ваш Василь завтра приезжает! Принимайте телеграмму!
Глянул Тодосий на Федора: дескать, что теперь будет? А у Федора слезы — кап-кап! — и побежали по изборожденному морщинами лицу.
Федор прикрыл лицо ладонью и тихонько, чтоб неуслышал сосед, сказал жене:
— Старуха, помой кадушку, мед отжимать буду.
Но Тодосий видел и слышал… И теперь уже все понял. Ночью вышел он в сад и, хоть непривычен был ходить за пчелами, собрал кое-как сонный рой и отнес Федору на пасеку.
Не спалось и Федору. На рассвете он срубил елочки и оттащил в овраг.
А утром соседи, потоптавшись смущенно каждый перед своей хатой, вышли наконец разом за ворота и молча пошли к автобусной станции.
— Так, говоришь, две звездочки у нашего Василька? — спросил Федор.
— Две, две, а как же! — гордо ответил Тодосий.
1963
Бузков огонь
 Тонконогие, высокие, головки звездочками, красные и не пышные, растут на зеленых левадах цветы.
Это — бузков огонь.
Густо, один возле другого, как конопля, — и до самого края левады мелькают они багряными брызгами, словно накаленный докрасна воздух, будто мираж.
Никогда не могу равнодушно пройти мимо. С волнением в груди, как на свидание с любимой, иду, срываю цветы, а далекое воспоминание грустью и лаской тревожит сердце.
Это было давно, еще в сельской школе. Чуть ли не каждый день я оставался после уроков в классе. Было горько. До слез. Вылетали, выскакивали из класса дети, как вспугнутые полевые кузнечики из травы, кричали, смеялись, не обращали на меня внимания. Только маленькая Анечка всегда сочувственно улыбалась мне.
Беленькая, синеглазая, с волосами как вытрепанный лен, острый носик, щечки — спелые яблочки. Но я ей не отвечал улыбкой.
…Как-то учитель снова наказал меня — оставил в классе. За что — не помню. Меня должны были запереть в классной комнате и продержать до вечера. Я не мог вынести такого тяжкого наказания. Смотреть из окна на село, слышать голоса, смех, видеть веселые игры моих свободных товарищей было нестерпимо тяжело.
Учитель, помню, сказал насмешливо:
— А может быть, кто-нибудь хочет остаться вместо него?
Все ответили дружным смехом. Только Анечка проговорила тихо, не поднимая глаз:
— Я останусь.
И осталась.
Это было удивительно. Почему?
Я пас своих коров, она — чужих. Меня отец жалел, жаловался старосте на учителя, а ее никто никогда не жалел. Коров мы пасли вместе. Я — двух, она — восьмерых, принадлежавших Бойканюку. Я разжигал костер осенью и грелся, она же не поспевала — то и дело бегала за коровами. Я не помогал ей, не делился с нею свежим, румяным хлебом.
И все же она осталась.
А однажды я собрал букет бузкова огня и шел домой. Она встретила меня и попросила один цветочек, только один. Если не дашь — моя хата сгорит. Так люди говорят. Протянула руку, доверчиво посмотрела, не ожидая отказа.
— Дай только один, я его вплету в косу.
Из-под полинявшей косынки глаза смотрели пытливо:
«А может, не хочешь?»
Я отвернулся.
— Дай только один, самый маленький.
— Ничего не дам…
…И все же она осталась!
А теперь я посмотрел на нее, только какая-то пелена в моих глазах не позволила мне увидеть ее голубых. Мы стояли молча, пока класс не опустел, пока учитель не пробасил:
— Ну, чего стоишь?
И за Анечкой щелкнул в дверях ключ.
Мне не хотелось идти домой. Из школы — на леваду. А там ощущаешь прикосновение ветра, влажного, мягкого, свежего, как родниковая вода. По леваде важно расхаживает аист, что-то ищет клювом в осоке, совсем не боится меня. Я даже мог бы погладить его шелковистые перья, да времени нет. Аист ищет лягушек, а я быстро срываю цветы бузкова огня. Вот уже и вечерние сумерки опускаются в долины.
…Анечка еще в классе. Я возвращаюсь в школу, тороплюсь — я еще должен ее там застать, дать ей не один цветок, а целый букет, должен ей сказать что-то хорошее. Бегу, а теплынь хлюп да хлюп в груди.
Но ее уже в школе нет.
Я — стежкой, через огороды, к Бойканюковой усадьбе, хочу догнать Анечку, но напрасно.
Крадучись подхожу к окну. Оно уже светится. Заглядываю — в уголке на длинной скамье сидит и плачет Анечка. А Бойканюк, будто высосанные недокурки, бросает слово за словом из-под пожухлых усов:
— Не будешь больше, дрянь, ходить в эту школу!
Стою еще минуту, другую, лает собака. Может выйти хозяин. В глазах у меня жжет, будто соли кто сыпнул, что-то сдавливает горло.
Анечка сидит в уголке на длинной скамье и плачет. Она уже не пойдет больше в школу.
А в руках моих — букет бузкова огня. Если не разделю — сгорит наша хата. Так люди говорят.
А у Анечки хаты нет, ей можно весь букет отдать. Но она сидит в уголке на скамье и плачет.
Разбрасываю цветы по всей крыше и убегаю. Ох, хоть бы скорее загорелась! Но крыша не загорелась.
А на другой день я бежал на луг, где паслись коровы Бойканюка. На тропинке над зеленой травой двигалась, удалялась маленькая фигурка в полинялой косыночке, с узелком в руках. За ней, мыча, шла черномордая Белянка и бежала вслед телочка. Анечка остановилась, вынула краюшку хлеба, ткнула в мордочку, погладила. И быстро исчезла за кустарником…
…Где ты теперь, русая, синеглазая, славная девушка? Передо мною часто встают леса и левады, — вижу ли их из окна поезда, прохожу ли по ним пешком, а всюду разливается оно, это розовое марево — багрянец, рассыпанный в сочных травах.
Может быть, ты нашла свое счастье и теперь также с улыбкой на устах вспоминаешь далекое детство?
Или так и зачахла где-нибудь в наймах?
Где ты теперь?
Улыбка любимой девушки, мягкий взгляд незнакомой, иногда молодая мать с малышом на руках невольно заставляют меня остановиться, приглядеться.
Может быть, это ты?
Тонкие стебельки, высокие, головки звездочками, алые и не пышные, — я их срываю, ставлю на свой столик ярким букетом, дарю любимой своей…
Пусть горит бузков огонь.
Тонконогие, высокие, головки звездочками, красные и не пышные, растут на зеленых левадах цветы.
Это — бузков огонь.
Густо, один возле другого, как конопля, — и до самого края левады мелькают они багряными брызгами, словно накаленный докрасна воздух, будто мираж.
Никогда не могу равнодушно пройти мимо. С волнением в груди, как на свидание с любимой, иду, срываю цветы, а далекое воспоминание грустью и лаской тревожит сердце.
Это было давно, еще в сельской школе. Чуть ли не каждый день я оставался после уроков в классе. Было горько. До слез. Вылетали, выскакивали из класса дети, как вспугнутые полевые кузнечики из травы, кричали, смеялись, не обращали на меня внимания. Только маленькая Анечка всегда сочувственно улыбалась мне.
Беленькая, синеглазая, с волосами как вытрепанный лен, острый носик, щечки — спелые яблочки. Но я ей не отвечал улыбкой.
…Как-то учитель снова наказал меня — оставил в классе. За что — не помню. Меня должны были запереть в классной комнате и продержать до вечера. Я не мог вынести такого тяжкого наказания. Смотреть из окна на село, слышать голоса, смех, видеть веселые игры моих свободных товарищей было нестерпимо тяжело.
Учитель, помню, сказал насмешливо:
— А может быть, кто-нибудь хочет остаться вместо него?
Все ответили дружным смехом. Только Анечка проговорила тихо, не поднимая глаз:
— Я останусь.
И осталась.
Это было удивительно. Почему?
Я пас своих коров, она — чужих. Меня отец жалел, жаловался старосте на учителя, а ее никто никогда не жалел. Коров мы пасли вместе. Я — двух, она — восьмерых, принадлежавших Бойканюку. Я разжигал костер осенью и грелся, она же не поспевала — то и дело бегала за коровами. Я не помогал ей, не делился с нею свежим, румяным хлебом.
И все же она осталась.
А однажды я собрал букет бузкова огня и шел домой. Она встретила меня и попросила один цветочек, только один. Если не дашь — моя хата сгорит. Так люди говорят. Протянула руку, доверчиво посмотрела, не ожидая отказа.
— Дай только один, я его вплету в косу.
Из-под полинявшей косынки глаза смотрели пытливо:
«А может, не хочешь?»
Я отвернулся.
— Дай только один, самый маленький.
— Ничего не дам…
…И все же она осталась!
А теперь я посмотрел на нее, только какая-то пелена в моих глазах не позволила мне увидеть ее голубых. Мы стояли молча, пока класс не опустел, пока учитель не пробасил:
— Ну, чего стоишь?
И за Анечкой щелкнул в дверях ключ.
Мне не хотелось идти домой. Из школы — на леваду. А там ощущаешь прикосновение ветра, влажного, мягкого, свежего, как родниковая вода. По леваде важно расхаживает аист, что-то ищет клювом в осоке, совсем не боится меня. Я даже мог бы погладить его шелковистые перья, да времени нет. Аист ищет лягушек, а я быстро срываю цветы бузкова огня. Вот уже и вечерние сумерки опускаются в долины.
…Анечка еще в классе. Я возвращаюсь в школу, тороплюсь — я еще должен ее там застать, дать ей не один цветок, а целый букет, должен ей сказать что-то хорошее. Бегу, а теплынь хлюп да хлюп в груди.
Но ее уже в школе нет.
Я — стежкой, через огороды, к Бойканюковой усадьбе, хочу догнать Анечку, но напрасно.
Крадучись подхожу к окну. Оно уже светится. Заглядываю — в уголке на длинной скамье сидит и плачет Анечка. А Бойканюк, будто высосанные недокурки, бросает слово за словом из-под пожухлых усов:
— Не будешь больше, дрянь, ходить в эту школу!
Стою еще минуту, другую, лает собака. Может выйти хозяин. В глазах у меня жжет, будто соли кто сыпнул, что-то сдавливает горло.
Анечка сидит в уголке на длинной скамье и плачет. Она уже не пойдет больше в школу.
А в руках моих — букет бузкова огня. Если не разделю — сгорит наша хата. Так люди говорят.
А у Анечки хаты нет, ей можно весь букет отдать. Но она сидит в уголке на скамье и плачет.
Разбрасываю цветы по всей крыше и убегаю. Ох, хоть бы скорее загорелась! Но крыша не загорелась.
А на другой день я бежал на луг, где паслись коровы Бойканюка. На тропинке над зеленой травой двигалась, удалялась маленькая фигурка в полинялой косыночке, с узелком в руках. За ней, мыча, шла черномордая Белянка и бежала вслед телочка. Анечка остановилась, вынула краюшку хлеба, ткнула в мордочку, погладила. И быстро исчезла за кустарником…
…Где ты теперь, русая, синеглазая, славная девушка? Передо мною часто встают леса и левады, — вижу ли их из окна поезда, прохожу ли по ним пешком, а всюду разливается оно, это розовое марево — багрянец, рассыпанный в сочных травах.
Может быть, ты нашла свое счастье и теперь также с улыбкой на устах вспоминаешь далекое детство?
Или так и зачахла где-нибудь в наймах?
Где ты теперь?
Улыбка любимой девушки, мягкий взгляд незнакомой, иногда молодая мать с малышом на руках невольно заставляют меня остановиться, приглядеться.
Может быть, это ты?
Тонкие стебельки, высокие, головки звездочками, алые и не пышные, — я их срываю, ставлю на свой столик ярким букетом, дарю любимой своей…
Пусть горит бузков огонь.
1957
Не рубите ясеней
 Сам не знаю, как это случилось, что я не успел подсчитать своих лет, морщин на своем лице, рубцов на сердце. Обо всем этом напомнили мне сегодня два стройных ясеня, заслонившие своими густыми ветвями обветшалый готический домик на окраине города.
Остановился я перед ними, свернув сюда с широкой дороги, постоял на тропке своей юности и посмотрел вдаль. Далеко-далеко убежала эта тропинка, теряясь в травах, в цветах, в воспоминаниях весенних.
Когда это было? Вчера? Кажется, вчера, только ясени из тонких саженцев раскидистыми деревьями стали.
•
Происходило это в последний год войны. В когда-то зеленом, теперь в черных пепелищах, небольшом городке над Прутом только-только начинала пробуждаться новая жизнь. Она поднималась в опустошенных кварталах, на заброшенных улицах, шла рядом с сиротством, нищетой и беспризорностью, постукивала на восстановительных работах, теплилась в стенах разрушенных школ, в детских садах и неодолимо шла вперед.
…Налево от дороги, кравшейся задворками предместья и терявшейся в прибрежной гальке Прута, напротив старого готического дома с небольшой верандой, раскинулся поросший бурьяном выгон. Сюда каждый вечер сходилась компания уличных мальчишек. Среди подростков особенно выделялись четверо неразлучных друзей. Пятнадцатилетние братья-близнецы Петр и Мирон — круглые сироты (их родителей гитлеровцы схватили во время оккупации и вывезли в Германию) — жили у старшей сестры-вдовы. Иван, которому шел уже семнадцатый год, ютился с матерью в уцелевшей каморке разбитого снарядами дома. Отец его был на фронте. Немногим старше Ивана, Грицько был главой семьи. С тех пор как фашисты на глазах у всех расстреляли его отца, мать лежала, разбитая параличом. Сын должен был заботиться о ней и о маленьком своем братишке.
Грицько командовал ребятами не потому, что был старшим: он имел перед друзьями особую заслугу. После смерти отца готовил фашистам кровавую месть, целый год собирал тол и сам сконструировал мину. Когда гитлеровцы отступали, он вместе с ребятами подложил ее под центральную арку моста, перекинувшегося через Прут. Спрятавшись далеко в прибрежных кустах, мальчишки кипели от радости, глядя на ошалелых от страха фашистов, когда мост взлетел на воздух. За это Грицька признали вожаком.
Сразу же после освобождения ребята два дня подряд ходили на кладбище, где в то время хоронили замученных фашистами людей. С тех пор ребята перестали смеяться. Потом зарабатывали деньги на строительных работах. Осенью открылась школа в полуразрушенном здании гимназии. Занятия проходили с перебоями: не хватало учебников и тетрадей. Поэтому время до обеда ребята кое-как проводили в школе, а потом снова на улицу. Собирали на развалинах топливо, курили солдатскую махорку и враждовали с девочками. Это с тех пор, как две школьницы с улицы Сенкевича — из тех, что с подкрашенными губами ходят в десятый класс, — обозвали хлопцев сорвиголовами. За это им досталось! Девушки чуть не одурели от «серенад», которые ребята устраивали им под окнами. А вообще — кто такие девчонки? Мужчины воюют, мальчики помогают матерям, а они только варят обеды из готовенького, штопают старые тряпки, да еще от мальчишек на улице отворачиваются или убегают. А посему здороваться с девчонками было строго запрещено, и что-либо похожее на любовь считалось среди ребят позором. Да и не удивительно. Никто из них не думал о модной одежде, никто не трудился над прической и не брил густого моха, сползавшего от висков по щекам. Не принято было у них и дружить с девочками. И никто не смел думать о пустяках, когда отцы и братья сражались на фронте.
Сильна была мальчишеская дружба, скрепленная лихолетьем. Прочно привязала она ребят к улице, а та держала их в своих жестких объятиях, не желая отпускать. И вдруг нежданно-негаданно эта дружба дала трещину.
•
В готическом домике, смотревшем своими узкими окнами на поросший бурьяном выгон, на сборища ребят, поселилась какая-то девочка. Она не дразнила мальчишек, только всегда тоскливым взглядом сопровождала их шумную компанию, когда ребята оставляли выгон.
Казалось, всем было не до нее. Но неприметно и даже непонятно, как это существо с черной кудрявой головкой и большими круглыми глазами начало занимать все больше и больше места в жизни всей мальчишеской компании. Или это потому, что не училась она вместе с ребятами в одной школе, или, может быть, оттого, что вместо пренебрежения, которым их потчевали другие девочки, она посылала им вслед всегда тоскующий, печальный взгляд?
Мало того, что Петр и Мирон засматривались иногда на маленькую, застекленную зелеными окнами веранду, но даже Иван, самый яростный ненавистник девчат, начал как-то странно вести себя. Когда она сидела у окна, он незаметно отставал от компании и шел последним, сердясь на товарищей за их развязность. Думал парень, что этого никто не замечает. Да и в самом деле, Петр и Мирон не смогли бы ответить, почему они смотрят на ее окно. Не видели они никаких настораживающих изменений и в поведении Ивана, разве только стали обращать на себя внимание непонятные споры между старшими.
Не удалось Ивану скрыть свои неясные чувства от наблюдательных Грицьковых глаз. Но Грицько, который первый поднял бы «бабника» на смех, почему-то молчал, над чем-то думал, стал неразговорчив. Ребята знали — люди говорили, — что Грицько ранней весной спас ребенка из охваченного пожаром дома. Но об этом он упорно не хотел говорить.
Грицькова скрытность до боли обижала Ивана. Что он таит и почему? Почему всех интересует эта девушка (Иван-то хорошо видит), лишь один Грицько так самоуверенно-равнодушен? Однако не смел спрашивать и не мог. Как-то мальчишки подняли страшный шум на выгоне, начали браниться. Грицько вдруг насторожился, будто прикрикнуть хотел на них, а потом и вправду крикнул:
— Замолчите!..
Ивана словно кто иглой уколол.
— Это почему же? Кого стыдишься? — бросил он.
— Себя постыдись, болван!
— Интересно, с каких это пор ты стал таким святым?
— С завтрева! Но тебе лучше бы не допытываться, Иван.
Стояли друг против друга: Иван — нежный с лица, как девушка, круглолицый, синеглазый; Грицько — неуклюжий, нахмуренный, с постоянно злыми глазами. Так и смотрели один на другого настороженно, а взгляд каждого спрашивал: «В чем смеешь меня подозревать?»
Это недоразумение закончилось миром. Собственно, потому, что оно только для Петра и Мирона имело вид недоразумения. Грицько и Иван договорились не говорить больше об этом, а поглядывать на веранду готического домика и на черноволосую головку с большими глазами — запрещалось. Разве нет сейчас других дел?
А события развивались действительно чрезвычайные.
Была последняя военная весна. Все уже знали: скоро придет Победа. Кто ее не ждал? Кто не хотел, чтобы к этому дню ушли из города черные пепелища?
Работали все, от стара до мала. Грицько возглавлял бригаду подростков первой школы по расчистке самого центра города. Рядом работали ученики ремесленного училища.
Кое-кто из жителей иронически улыбался, когда толпа подростков — юношей и девушек — останавливалась перед огромными грудами битого камня и бетона.
— Машины бы сюда, не детей, — говорили.
Но молодежь думала иначе.
Утомленные, почерневшие от пыли, ели свой постный завтрак. Отдельно — хлопцы, отдельно — девчата. Неподалеку завтракали ремесленники — те сидели все вместе.
— Ты посмотри, — шепнул Мирон Ивану, — фабзаучники все начисто обабились.
Иван стрельнул исподлобья на Грицька, но тот о чем-то думал и словно не слыхал их разговора.
— А интересно, что построят на расчищенном месте? — спросил не столько ребят, сколько самого себя.
Вопрос вызвал интерес. А и в самом деле — что?
— Здесь будет клуб для молодежи, — высказал Петр свою собственную мечту. Он всегда мечтал о зеркальных залах, светлых комнатах, о полках, полных книг.
Мирон возразил. Клуб для молодежи — это хорошо, но работает здесь не только молодежь, почему же ей такие привилегии?
— Клуб для всех, — уточнил свою мысль Мирон.
— Могла бы здесь разместиться и школа с большим кабинетом техники. Чтобы на механика сразу выучиться, — включился в разговор Иван.
— Школа будет там, где и сейчас, — категорически заявил Грицько. — Я посадил бы здесь деревья, чтобы парк был.
И продолжал:
— В парке одни только каштаны и ясени. На клумбах пионы, васильки (а сам думал: «Такие вот, как на могиле отца. Те — сами выросли»). Посередине — аллея, а по краям — скульптуры героев.
— Каких?
— Да разве мало героев? Один, например, двумя руками душит фашиста. — Грицько растопыривает пальцы, глаза горят ненавистью — будто он сам душит. — Другой закрепляет красный флаг на башне магистрата…
— И еще один раненого солдата спасает, — увлекается Иван.
— Или танк подрывает связкой гранат, — добавляют вместе братья-близнецы.
— И такой, что ребенка из пылающего дома спасает, — слышится в стороне звонкий девичий голос.
Все оглянулись. Невысокая, стройная, черноволосая девушка, сказавшая эти слова, пристально смотрела на Грицька, будто хотела увидеть в его злых глазах искорки доброты, а на хмуром скуластом лице улыбку.
Грицько вскочил. Ничем не оправданное смущение смешалось с неожиданной радостью, — но лишь на мгновение. Сразу же это неясное чувство погасло. Взгляд его скользнул по зачарованному лицу Ивана, который стоял, дурашливо улыбаясь, глядя в ясные глаза девушки.
— Тебя кто сюда звал?
Опустила голову, смутилась.
— Никто… сама…
Ребята захохотали.
— Го-го! Хлопцы, смотрите, Грицька беда в юбке опутала! Скоро к Грицьку бригада девчонок прилетит!
Девушка убежала к своим, а Грицько, красный от стыда и злости, крикнул:
— А ну, тихо, черти…
•
В этот вечер Иван не выдержал. Червячок ревности впервые ощутимо зашевелился в его груди. Грицько знает эту девушку!
Разговор начал дипломатично.
— Ты не знаешь, случайно, Грицько, что это за синица в окошке? — кивнул головой в сторону веранды.
Грицько смерял Ивана взглядом с головы до ног. Но должен был ответить. Поссориться с Иваном — значит разбить всю компанию.
— Неизвестно откуда взялась, племянница тетки Фрузи, что в детдоме работает, — сказал небрежно, подчеркивая свое полное равнодушие к черноволосой головке. — В ремесленном учится.
Иван так и подскочил на месте. Вон оно что! Выходит, он давно с нею знаком и все это утаивает от товарищей!
Грицько почувствовал, что проговорился, и, стремясь рассеять всяческие подозрения, тут же выдал себя окончательно:
— Ты только ничего плохого не подумай. Я, паря, в этом деле, того — железо.
Иван деланно рассмеялся.
— Ты, может, и имя ее знаешь, Грицюня?
— Знаю, ну и что? Маруська!
— О-о, ты даже ласково ее называешь! Хлопцы, — обратился Иван к товарищам, настороженно слушавшим весь их разговор, — слыхали?
Ребята молчали, удивленные.
Никто не мог допустить, чтобы Грицько влюбился. А тот, грозный, подошел к Ивану.
— Мне бы следовало заехать тебе… — прошипел он, скрывая злость. — Доказательств хочешь?
— А хотя бы и так! — задирался Иван, не представляя себе, как Грицько сможет доказать свое равнодушие к этой девушке.
— Хлопцы! — скомандовал Грицько. — «Серенаду» поем Марусе! — А у самого был такой вид, будто на родную мать руку поднял.
Иван побледнел. Он этого совсем не хотел. Чем заслужила Маруся этот «кошачий концерт» под своими окнами, такое позорище?
Мальчишки не смели противиться, хотя приказ в данном случае был явным безрассудством. Послушные и смущенные, шумной гурьбой остановились они у живой изгороди перед верандой и уже начали постукивать железкой в жестяной лист.
— Стойте! — вскрикнул Иван, увидев, как Маруся отпрянула от окна. — А ну, все по домам!
«Серенада» оборвалась. Удивленные и злые, ребята уставились на Ивана. «Вот что ты за птица!»
Грицько выступил вперед, стиснул зубы.
— Болван! Бабник! Братва, за мной!
Иван остался у живой изгороди, один в вечерних сумерках. Свист и крики товарищей давно умолкли, а он все еще стоял и не мог собраться с мыслями. Впервые в жизни задумался, как без друзей жить, одному.
Кто-то коснулся его плеча. В голове мелькнула мысль: «Грицько!» Иван вздрогнул и уже поднял руку, чтоб дать ему наотмашь, но прикосновение было таким несмелым, чувствовалось, как ладонь дрожала на его плече.
Он понял и робко обернулся. Вечер сразу стал светлее, словно из-за тучи вышел полный месяц. Звезды замигали, улыбнулись и ярче засияли на своем темно-синем ковре. Перед ним стояла Маруся.
— Это все из-за меня… — прошептала она.
Иван молчал.
— Но мы пойдем к ним вдвоем. Не бойся, они тебя не оставят. — Приблизилась к нему и лишь одним дыханием вымолвила: — Спасибо.
Иван пожал ей руки. Порывался сказать, что он совсем не хочет возвращаться к друзьям, что ему хорошо с нею.
Маруся, словно угадала его мысли, спросила:
— Почему Грицько хотел это сделать?
Холодок пробежал по сердцу. Иван вздохнул. Грицько ее интересует. Она ведь давно знакома с ним, а теперь, наверное, поссорились. Значит, он будет всего-навсего посредником между ними.
— Почему хотел сделать? — переспросил Иван, чтобы выиграть время и собраться с мыслями.
— Почему он такой нехороший? — несколько по-иному повторила Маруся вопрос.
«Кто нехороший? Грицько нехороший? Да разве ты знаешь, какой Грицько? Он мост взорвал, ребенка спас». Но это последнее было бы первым шагом к отчуждению… Иван проглотил слова, что чуть-чуть не вырвались у него в защиту Грицька.
— Грицько хороший, — проговорил скупо. — Это он после смерти отца стал таким злым. А в сегодняшнем я виноват, — признался откровенно. — Он не хотел.
И сразу же у Ивана появилась охота к разговору. Он неуклюже взял Марусю за руку и начал рассказывать о своих товарищах. Пусть не думает, что они и впрямь какие-то сорвиголовы… Это их так назвали белоручки с соседней улицы, которые не знают даже, откуда хлеб берется. А вообще девчат они, это правда, не почитают. Разве паренек, который водится с девчатами, способен на героическое дело? Куда там…
Иван увлекся, позабыв, что сам идет с девушкой. Маруся напомнила ему об этом.
— А разве девушки не воюют на фронтах? — возразила она. — Ты этого не слыхал?
Не дождалась ответа. Вот она девушка, а сколько испытала горя! Хотя тетя Фрузя ей как мать родная, все ж она сирота. Брат в армии еще с сорокового года, она одна осталась изо всей семьи. Сто километров пешком шла в этот город. Выбилась из сил, упала на дороге, голодная, и если бы не солдаты… А теперь она тетке помогает и учится. Хочет всю жизнь учиться. И любит веселую компанию. Пришла бы к ним, только…
— Да ты не смотри, что Грицько такой, ну… — горячо заговорил Иван. — У Грицька доброе сердце. Я же говорю тебе, он этой весной ребенка спас от смерти, как тогда тебя солдаты. Об этом все знают, хотя он и утаивает…
Иван заметил, как прояснилось лицо девушки и она мечтательно улыбнулась.
— Ты что?
— Так…
Вновь холодок пробежал по самому сердцу, и Иван вздохнул. Для Грицька эта улыбка, не для него.
Маруся развеяла холодок.
— Ты завтра придешь, как стемнеет? — услышал он и не поверил. Может, почудилось? А пока опомнился, Маруси уже рядом не было. Только дверь хлопнула.
Он стоял как завороженный минуту или весь век, потом, сдерживаясь, чтобы не закричать от радости, помчался стрелой по темной улице, футболя мелкие камешки.
•
Тетя Фрузя спрашивала Марусю:
— Знакомилась с героем? — и лукаво посмотрела на девушку.
— Ваш герой чистейший грубиян, — отмахнулась. — Он на всех смотрит так зло, как на врагов. Я с другим, с Иваном, говорила, — промолвила вполголоса, будто тайну открыла, а сама смутилась.
Тетка покачала головой: рано, мол, еще с парнями по вечерам встречаться.
— Вы, тетя Фрузя, не думайте… Он такой славный. И за что только он этого Грицька так расхваливает?
— Видно, есть за что.
Тетка лежала в постели и мерно дышала — спала, а Маруся переворачивалась с боку на бок. Совсем пропал сон.
«Разве есть за что хвалить?»
…Как-то еще ранней весной постучался к ним в дом незнакомый парень с посиневшим от холода и черным от пыли маленьким ребенком на руках.
— Где тетка Фрузя? — спросил он Марусю, сурово взглянув на нее.
— На работе.
— Возьми этого ребенка и отдай ей. Да только смотри, ворона, если что случится…
Потом окинул ее взглядом, будто видит впервые, да так странно, что ей не по себе стало.
— Ты откуда здесь объявилась, такая черная? — спросил погодя. — Как зовут?
— Маруся… — Хотела сказать, что ее недавно, полуживую, принесли так же, как он сейчас этого ребенка, но не решилась. — В ремесленном учусь.
— Скажешь тетке, что Грицько принес. Она меня знает. Ну, не стой, а помой да обогрей ребенка! — прикрикнул он.
После этого при встречах на улице он всегда смотрел на нее тем самым странным взглядом, как тогда, а она смущалась. Не могла и сейчас никак не может его понять.
Веки слипаются, тревожный сон пролетает перед глазами неясными видениями. Это на развалинах суетятся люди, дети. Потом все исчезает. Она идет по асфальтированной дорожке зеленого парка.
— А посмотри, — слышит голос Ивана, — скульптура бойца с ребенком на руках!
Она останавливается в удивлении:
— Иван, это же Грицько!
Но Ивана уже нет около нее, только Грицько улыбается с постамента, будто он не каменный.
— Я и не знала, что ты умеешь смеяться, — шепчет Маруся и крепко засыпает.
Утром Иван проснулся с чувством солнечного света в сердце. Хотелось бежать по улице к Марусиному дому, встать перед верандой, окликнуть и спросить, как ей спалось, потому что вчера была первая встреча с любимой девушкой. Он обнял двумя руками подушку. Есть у него тайна, большая тайна, которую он будет хранить.
В школе Иван встретился со своими друзьями. Ему было горько и стыдно. Ожидал, что Грицько плюнет сквозь зубы в его сторону и снова назовет бабником. Он даже хотел этого. Иван тогда б признался во всем Грицьку, и они бы наверняка помирились.
Но Грицько мимоходом поздоровался, будто боялся, что Иван заглянет ему в глаза и увидит в них не злобу, а печаль.
Остальные ребята тоже как-то притихли. Ходили молчаливые. С болью в сердце понял Иван, что дружба с ребятами лопнула и он во всем виноват. Готов был все что угодно сделать для друзей, чтобы восстановить прежние отношения с ними, но знал: придется убеждать, что он не бабник. Разве это можно было сделать сейчас?
Иван и Маруся продолжали встречаться. Только он никак не мог убедиться, действительно ли она ради него выходит по вечерам за калитку. Выбежит из-за живой изгороди и исчезнет. Если бы не окликнул, кажется, и не отозвалась бы. Робко подходил к ней, и они молча шли наугад — бродили по берегу реки или уходили далеко в поле, пробираясь густыми зарослями ивняка. Они чувствовали, что идут не одни, что всегда с ними идет кто-то третий.
Иван ожидал встречи весь день. Долго обдумывал, что скажет Марусе. Сколько смелых планов роилось в его голове! То он представлял, как зажмет в своих ладонях ее смуглые щечки и горячо прошепчет: «Люблю до смерти»; то до боли сожмет в объятиях ее, хрупкую и нежную, спрашивая: «Любишь или балуешься?» Но при встрече вся его смелость таяла, как дым на ветру. Думать, мечтать — дело одно. В мыслях можно стать гигантом, а в действительности ты — обыкновенный человек. Не прозвучат ли комично в твоих устах великие слова?
Иван молчал. Иногда обращал внимание Маруси на волшебство лунной ночи, но и это было лишним. Разве нужно говорить о том, что несравненно красивее самых пышных слов?
Маруся обстоятельно рассказывала о прошедшем дне, а потом тоже умолкала. Друзей не вспоминали ни одним словом.
«Кто нам мешает?» — спрашивали они себя молча и не находили ответа.
Проходило время. Каждый день был насыщен волнующими событиями. Советская Армия добивала врага в Берлине. Иван затосковал по товарищам. Хлопцы уже не собирались на выгоне. В школе он с ними встречался редко, потому что учились в разных классах, а на работы больше не посылали. Что они делали, где теряли время, Иван не знал. Только из случайно услышанного разговора узнал, что хлопцы собираются отметить победу большим взрывом.
Как-то майским вечером Иван сказал Марусе то, что не давало ему покоя уже много дней:
— У тебя брат на фронте, у меня — отец. Чем мы отметим День Победы?
Маруся уловила легкий упрек в его словах. Он и сам его почувствовал. Ему страшно не хватало компании хлопцев, с которыми претерпел не одну тяжелую минуту в жизни. Теперь бы он мог вместе со всеми готовиться к великому, всенародному празднику. Иван даже представил себе, как это будет. Вечером хлопцы разожгут на берегу Прута четыре костра и в каждый бросят по большой коробке с толом. Тол теперь легко достать. Пламя поднимется вверх, мириады искр полетят над рекой, а потом осядут и станут звездами в ее вечерней глубине. И громкое «урра-а!» потрясет вечернюю тишину. А как же они с Марусей отметят эту дату?
— В День Победы, — сказала она задумчиво, — посадим два деревца, два ясеня возле моей веранды. Я их уже заприметила.
Если бы такое сказал кто-либо другой, Иван поднял бы того на смех. Но это скромное желание, высказанное Марусей, приобрело глубокий смысл. День Победы — конец войне, взрывам, смерти, страданиям. Не лучше ли именно в этот день дать начало молодой зеленой жизни?
Иван схватил Марусю за плечи и хотел сжать ее в своих объятиях, но тут же они увидели, что возле Марусиного окна кто-то стоял: на дорогу падала длинная тень. Присмотрелись — узнали Грицька… Тень качнулась и пропала.
Иван долго молчал, а потом спросил глухим голосом:
— Вы давно знакомы?
— С тех пор, как он спасенного ребенка к нам принес.
И она до сих пор молчала!
Сейчас Маруся рассказала все-все. Перед Иваном Грицько предстал в новом свете.
Полный раздумий о своем близком товарище, о дружбе, возвращался Иван домой.
Маруся крикнула ему вдогонку:
— Грицьк!.. Иван!!
Застеснялась и подумала: «Обидится».
•
Когда Грицько пришел домой, мать уже спала. Он бережно прикрыл ее одеялом и склонился над братиком, который тоже засыпал.
— Ты ужинал сегодня, Славочка? — спросил как никогда ранее ласково.
Малыш удивленно посмотрел на брата.
— Ужинал… А ты? Где ты был так долго, Грицько?
— Спи, спи, плакса малая…
Уже засыпая, Грицько убеждал себя самого: «К черту мне все эти любовные дела… Я только извиниться, попросить прощения у нее хотел за ту „серенаду“».
•
Следующий день начался необычно.
В городе гремели выстрелы, солдаты выпускали в воздух автоматные очереди — конец войне. Целый день не утихал веселый шум на улицах. Люди обнимались, щебетала детвора, из раскрытых окон неслись песни, веселый смех, музыка — праздновали Победу.
Целый день Иван не находил себе места. Противоречивые мысли не давали ему покоя. Перед вечером увидел друзей. Они собрались на улице, о чем-то посоветовались и подались к Пруту.
Иван, забыв о всякой осторожности, прибежал к Марусиной веранде и позвал ее. Она быстро отворила окошко веранды, выглянула и стрелой выбежала на улицу.
— Знаешь что, Маруся, — заторопился Иван. — Я решил… я думаю… вот что: пойдем к хлопцам, будем вместе с ними. И ясени посадим все вместе.
— Неужели?! Иванко! — вскрикнула Маруся и закрыла ладонями покрасневшие щеки.
Иван также радовался вместе с нею, но ее радость была большей, и он с болью почувствовал, как невидимый барьер возник между ними раз и навсегда и никто из них не перешагнет его.
На покрытом мелкой галькой берегу пылал костер. Грицько сидел посередине, освещенный пламенем, по сторонам — ребята, задумчивые, серьезные. Только теперь заметил Иван, как они все изменились за последнее время. Изменился, конечно, и сам Иван. Еще издали всматривался он в лицо Грицька: что-то новое вместе с задумчивостью лежало на нем. Постоянная ненависть, озлобленность, жестокость, осевшие в глубоких темных глазах, сменились серьезностью и легкой грустью. Все вспомнилось Ивану: мост, ссора, Марусин рассказ о Грицьке, его фигура у Марусиной веранды, — и смешанное чувство уважения и участия растопило вконец ледок в Ивановом сердце. Каким был Грицько в этот вечер!
Иван с Марусей долго стояли незамеченными. Волновались.
Вдруг Мирон всмотрелся в темноту и крикнул:
— Смотрите, хлопцы, кто пришел!
— И не один, — добавил Петр.
Иван насторожился, опасаясь взрыва хохота и насмешек. Кто-то неуверенно хихикнул. Грицько взглянул на всех исподлобья, сурово. Уважительно поднялся с места и обратился к Марусе прерывающимся от волнения голосом:
— Садитесь с нами…
Маруся, не сводя с Грицька взгляда, села рядом с ним. Все облегченно вздохнули. Иван подал всем по очереди руку.
— Ну, взрывайте свои бомбы, — сказал он авторитетно, как когда-то, — и айда отсюда, не то еще патруль поймает. Пойдем деревья сажать, чтобы воспоминание было об этом дне.
Предложение увлекло всех. Деревца! Они будут называться деревьями победы!
Повскакивали с мест и с веселыми песнями лугами вышли на дорогу.
Глухой и сильный взрыв остановил всех. «Урра-а-а!» — прокатилось до первых домов и затерялось в улицах городка.
Два ясеневых саженца уже ожидали их. Маруся выкопала их еще утром. Сажали все, сохраняя молчание, а каждый думал: «Пройдут годы — и кто-то встретится здесь, в тени наших деревьев. Кто встретится?»
— Только бы никто не срубил, — подумал вслух Иван.
— Никто не срубит, — твердо сказал Грицько, и эхом за ним повторила Маруся:
— Никто не срубит…
Когда все было закончено, Грицько отослал младших ребят по домам — было уже поздно. Иван сказал, глядя куда-то на звезды:
— Иду и я…
— Да ты что, Иван! — испугался Грицько. — Подожди, вместе пойдем…
— Иванко, куда же ты? — окликнула его Маруся.
Но Иван уже не слышал ее, а то бы, может, вернулся.
•
В последующие дни все друзья, уже вместе с Марусей, снова собирались на выгоне. Сначала хлопцы испытывали неловкость: того не скажешь, этого не сделаешь… Но быстро привыкли. В конце концов, Маруся не хуже всех могла бегать, весело смеяться и прыгать через огонь.
Каждый раз, когда догорал костер, Иван стремился уйти первым. Грицько быстро догонял его.
— Чего ты увязался за мной? А еще вожак! — сердился Иван. — У меня, знаешь, такое дело, что не требуется никаких свидетелей, — намекал он значительно.
Маруся слушала и благодарно, смущаясь, опускала голову.
— Этот черноволосый галчонок, кажется, серьезно влюбился в нашего хмурого Грицька. И что она нашла в нем? — бормотал Иван, идя домой, и не замечал при этом, что сам смеялся от счастья за Марусю и Грицька. Двоих любил, а кого больше — не смог бы сказать. Да и не хотел гадать.
…Этой весной Иван разлучился с товарищами. Отец его вернулся из армии, и они переехали в другой город.
В последний вечер Иван никого не застал на выгоне. Это Грицько всем строго наказал не приходить. Пусть, мол, поговорят без свидетелей.
Из-за живой изгороди тихо вышла Маруся.
— Едешь?
— Еду… На механика буду учиться.
Маруся не сдерживала слез. Иван утешал:
— Ты останешься теперь с хорошими друзьями, Маруся: Петр, Мирон, ну, и… Грицько.
Проглянуло солнышко сквозь дождь.
— Ты добрейший из всех, — прошептала. — Мы тебя никогда не забудем, Иванко…
•
Сегодня я приехал в родной, поднятый из развалин город. Все, что развеялось среди жизненных перипетий и забылось, как прерванный сон, вынырнуло из глубины души и повело заросшей тропинкой в мою юность.
Иду, взволнованный, знакомой дорогой к берегу Прута, а навстречу мне незнакомые люди, и больше всего — юноши с девушками. Я всматриваюсь в их лица — задумчивые, веселые, серьезные, безмятежные; шлю им искренние пожелания: «Счастливой дороги».
Теплые воспоминания волнуют грудь. Выгон уже застроен. Там без умолку работает двигатель, — может, кто из наших управляет им? Обветшалый готический домик показался только одной своей башенкой из-за зелени. Где же теперь Маруся? Работает? С детьми занимается? Мужа ждет обедать? Грицька? Если бы Грицька! Нет, все мы разбрелись своими дорогами, которые не сходятся, не перекрещиваются; разве только в мечтах.
Вдруг останавливаюсь, потрясенный, и не верю своим глазам.
Два красавца ясеня заслонили старую веранду и уже через крышу смотрят зелеными кронами в кружевные поля за городом. Наши ясени! Впервые подсчитываю, сколько же лет прошло, сколько морщин пролегло на лице, рубцов на сердце. Никогда ведь раньше не считал.
Зайти, расспросить? Стоит ли напоминать?
Стою и молча заклинаю сегодняшних и будущих хозяев ветхого готического домика: не рубите ясеней — ровесников нашей юности и новой жизни на земле! Пусть растут! Они еще напомнят нашим друзьям о далеком, тяжелом и дорогом времени, как молодежь напоминает старшим о далекой юности.
Сам не знаю, как это случилось, что я не успел подсчитать своих лет, морщин на своем лице, рубцов на сердце. Обо всем этом напомнили мне сегодня два стройных ясеня, заслонившие своими густыми ветвями обветшалый готический домик на окраине города.
Остановился я перед ними, свернув сюда с широкой дороги, постоял на тропке своей юности и посмотрел вдаль. Далеко-далеко убежала эта тропинка, теряясь в травах, в цветах, в воспоминаниях весенних.
Когда это было? Вчера? Кажется, вчера, только ясени из тонких саженцев раскидистыми деревьями стали.
•
Происходило это в последний год войны. В когда-то зеленом, теперь в черных пепелищах, небольшом городке над Прутом только-только начинала пробуждаться новая жизнь. Она поднималась в опустошенных кварталах, на заброшенных улицах, шла рядом с сиротством, нищетой и беспризорностью, постукивала на восстановительных работах, теплилась в стенах разрушенных школ, в детских садах и неодолимо шла вперед.
…Налево от дороги, кравшейся задворками предместья и терявшейся в прибрежной гальке Прута, напротив старого готического дома с небольшой верандой, раскинулся поросший бурьяном выгон. Сюда каждый вечер сходилась компания уличных мальчишек. Среди подростков особенно выделялись четверо неразлучных друзей. Пятнадцатилетние братья-близнецы Петр и Мирон — круглые сироты (их родителей гитлеровцы схватили во время оккупации и вывезли в Германию) — жили у старшей сестры-вдовы. Иван, которому шел уже семнадцатый год, ютился с матерью в уцелевшей каморке разбитого снарядами дома. Отец его был на фронте. Немногим старше Ивана, Грицько был главой семьи. С тех пор как фашисты на глазах у всех расстреляли его отца, мать лежала, разбитая параличом. Сын должен был заботиться о ней и о маленьком своем братишке.
Грицько командовал ребятами не потому, что был старшим: он имел перед друзьями особую заслугу. После смерти отца готовил фашистам кровавую месть, целый год собирал тол и сам сконструировал мину. Когда гитлеровцы отступали, он вместе с ребятами подложил ее под центральную арку моста, перекинувшегося через Прут. Спрятавшись далеко в прибрежных кустах, мальчишки кипели от радости, глядя на ошалелых от страха фашистов, когда мост взлетел на воздух. За это Грицька признали вожаком.
Сразу же после освобождения ребята два дня подряд ходили на кладбище, где в то время хоронили замученных фашистами людей. С тех пор ребята перестали смеяться. Потом зарабатывали деньги на строительных работах. Осенью открылась школа в полуразрушенном здании гимназии. Занятия проходили с перебоями: не хватало учебников и тетрадей. Поэтому время до обеда ребята кое-как проводили в школе, а потом снова на улицу. Собирали на развалинах топливо, курили солдатскую махорку и враждовали с девочками. Это с тех пор, как две школьницы с улицы Сенкевича — из тех, что с подкрашенными губами ходят в десятый класс, — обозвали хлопцев сорвиголовами. За это им досталось! Девушки чуть не одурели от «серенад», которые ребята устраивали им под окнами. А вообще — кто такие девчонки? Мужчины воюют, мальчики помогают матерям, а они только варят обеды из готовенького, штопают старые тряпки, да еще от мальчишек на улице отворачиваются или убегают. А посему здороваться с девчонками было строго запрещено, и что-либо похожее на любовь считалось среди ребят позором. Да и не удивительно. Никто из них не думал о модной одежде, никто не трудился над прической и не брил густого моха, сползавшего от висков по щекам. Не принято было у них и дружить с девочками. И никто не смел думать о пустяках, когда отцы и братья сражались на фронте.
Сильна была мальчишеская дружба, скрепленная лихолетьем. Прочно привязала она ребят к улице, а та держала их в своих жестких объятиях, не желая отпускать. И вдруг нежданно-негаданно эта дружба дала трещину.
•
В готическом домике, смотревшем своими узкими окнами на поросший бурьяном выгон, на сборища ребят, поселилась какая-то девочка. Она не дразнила мальчишек, только всегда тоскливым взглядом сопровождала их шумную компанию, когда ребята оставляли выгон.
Казалось, всем было не до нее. Но неприметно и даже непонятно, как это существо с черной кудрявой головкой и большими круглыми глазами начало занимать все больше и больше места в жизни всей мальчишеской компании. Или это потому, что не училась она вместе с ребятами в одной школе, или, может быть, оттого, что вместо пренебрежения, которым их потчевали другие девочки, она посылала им вслед всегда тоскующий, печальный взгляд?
Мало того, что Петр и Мирон засматривались иногда на маленькую, застекленную зелеными окнами веранду, но даже Иван, самый яростный ненавистник девчат, начал как-то странно вести себя. Когда она сидела у окна, он незаметно отставал от компании и шел последним, сердясь на товарищей за их развязность. Думал парень, что этого никто не замечает. Да и в самом деле, Петр и Мирон не смогли бы ответить, почему они смотрят на ее окно. Не видели они никаких настораживающих изменений и в поведении Ивана, разве только стали обращать на себя внимание непонятные споры между старшими.
Не удалось Ивану скрыть свои неясные чувства от наблюдательных Грицьковых глаз. Но Грицько, который первый поднял бы «бабника» на смех, почему-то молчал, над чем-то думал, стал неразговорчив. Ребята знали — люди говорили, — что Грицько ранней весной спас ребенка из охваченного пожаром дома. Но об этом он упорно не хотел говорить.
Грицькова скрытность до боли обижала Ивана. Что он таит и почему? Почему всех интересует эта девушка (Иван-то хорошо видит), лишь один Грицько так самоуверенно-равнодушен? Однако не смел спрашивать и не мог. Как-то мальчишки подняли страшный шум на выгоне, начали браниться. Грицько вдруг насторожился, будто прикрикнуть хотел на них, а потом и вправду крикнул:
— Замолчите!..
Ивана словно кто иглой уколол.
— Это почему же? Кого стыдишься? — бросил он.
— Себя постыдись, болван!
— Интересно, с каких это пор ты стал таким святым?
— С завтрева! Но тебе лучше бы не допытываться, Иван.
Стояли друг против друга: Иван — нежный с лица, как девушка, круглолицый, синеглазый; Грицько — неуклюжий, нахмуренный, с постоянно злыми глазами. Так и смотрели один на другого настороженно, а взгляд каждого спрашивал: «В чем смеешь меня подозревать?»
Это недоразумение закончилось миром. Собственно, потому, что оно только для Петра и Мирона имело вид недоразумения. Грицько и Иван договорились не говорить больше об этом, а поглядывать на веранду готического домика и на черноволосую головку с большими глазами — запрещалось. Разве нет сейчас других дел?
А события развивались действительно чрезвычайные.
Была последняя военная весна. Все уже знали: скоро придет Победа. Кто ее не ждал? Кто не хотел, чтобы к этому дню ушли из города черные пепелища?
Работали все, от стара до мала. Грицько возглавлял бригаду подростков первой школы по расчистке самого центра города. Рядом работали ученики ремесленного училища.
Кое-кто из жителей иронически улыбался, когда толпа подростков — юношей и девушек — останавливалась перед огромными грудами битого камня и бетона.
— Машины бы сюда, не детей, — говорили.
Но молодежь думала иначе.
Утомленные, почерневшие от пыли, ели свой постный завтрак. Отдельно — хлопцы, отдельно — девчата. Неподалеку завтракали ремесленники — те сидели все вместе.
— Ты посмотри, — шепнул Мирон Ивану, — фабзаучники все начисто обабились.
Иван стрельнул исподлобья на Грицька, но тот о чем-то думал и словно не слыхал их разговора.
— А интересно, что построят на расчищенном месте? — спросил не столько ребят, сколько самого себя.
Вопрос вызвал интерес. А и в самом деле — что?
— Здесь будет клуб для молодежи, — высказал Петр свою собственную мечту. Он всегда мечтал о зеркальных залах, светлых комнатах, о полках, полных книг.
Мирон возразил. Клуб для молодежи — это хорошо, но работает здесь не только молодежь, почему же ей такие привилегии?
— Клуб для всех, — уточнил свою мысль Мирон.
— Могла бы здесь разместиться и школа с большим кабинетом техники. Чтобы на механика сразу выучиться, — включился в разговор Иван.
— Школа будет там, где и сейчас, — категорически заявил Грицько. — Я посадил бы здесь деревья, чтобы парк был.
И продолжал:
— В парке одни только каштаны и ясени. На клумбах пионы, васильки (а сам думал: «Такие вот, как на могиле отца. Те — сами выросли»). Посередине — аллея, а по краям — скульптуры героев.
— Каких?
— Да разве мало героев? Один, например, двумя руками душит фашиста. — Грицько растопыривает пальцы, глаза горят ненавистью — будто он сам душит. — Другой закрепляет красный флаг на башне магистрата…
— И еще один раненого солдата спасает, — увлекается Иван.
— Или танк подрывает связкой гранат, — добавляют вместе братья-близнецы.
— И такой, что ребенка из пылающего дома спасает, — слышится в стороне звонкий девичий голос.
Все оглянулись. Невысокая, стройная, черноволосая девушка, сказавшая эти слова, пристально смотрела на Грицька, будто хотела увидеть в его злых глазах искорки доброты, а на хмуром скуластом лице улыбку.
Грицько вскочил. Ничем не оправданное смущение смешалось с неожиданной радостью, — но лишь на мгновение. Сразу же это неясное чувство погасло. Взгляд его скользнул по зачарованному лицу Ивана, который стоял, дурашливо улыбаясь, глядя в ясные глаза девушки.
— Тебя кто сюда звал?
Опустила голову, смутилась.
— Никто… сама…
Ребята захохотали.
— Го-го! Хлопцы, смотрите, Грицька беда в юбке опутала! Скоро к Грицьку бригада девчонок прилетит!
Девушка убежала к своим, а Грицько, красный от стыда и злости, крикнул:
— А ну, тихо, черти…
•
В этот вечер Иван не выдержал. Червячок ревности впервые ощутимо зашевелился в его груди. Грицько знает эту девушку!
Разговор начал дипломатично.
— Ты не знаешь, случайно, Грицько, что это за синица в окошке? — кивнул головой в сторону веранды.
Грицько смерял Ивана взглядом с головы до ног. Но должен был ответить. Поссориться с Иваном — значит разбить всю компанию.
— Неизвестно откуда взялась, племянница тетки Фрузи, что в детдоме работает, — сказал небрежно, подчеркивая свое полное равнодушие к черноволосой головке. — В ремесленном учится.
Иван так и подскочил на месте. Вон оно что! Выходит, он давно с нею знаком и все это утаивает от товарищей!
Грицько почувствовал, что проговорился, и, стремясь рассеять всяческие подозрения, тут же выдал себя окончательно:
— Ты только ничего плохого не подумай. Я, паря, в этом деле, того — железо.
Иван деланно рассмеялся.
— Ты, может, и имя ее знаешь, Грицюня?
— Знаю, ну и что? Маруська!
— О-о, ты даже ласково ее называешь! Хлопцы, — обратился Иван к товарищам, настороженно слушавшим весь их разговор, — слыхали?
Ребята молчали, удивленные.
Никто не мог допустить, чтобы Грицько влюбился. А тот, грозный, подошел к Ивану.
— Мне бы следовало заехать тебе… — прошипел он, скрывая злость. — Доказательств хочешь?
— А хотя бы и так! — задирался Иван, не представляя себе, как Грицько сможет доказать свое равнодушие к этой девушке.
— Хлопцы! — скомандовал Грицько. — «Серенаду» поем Марусе! — А у самого был такой вид, будто на родную мать руку поднял.
Иван побледнел. Он этого совсем не хотел. Чем заслужила Маруся этот «кошачий концерт» под своими окнами, такое позорище?
Мальчишки не смели противиться, хотя приказ в данном случае был явным безрассудством. Послушные и смущенные, шумной гурьбой остановились они у живой изгороди перед верандой и уже начали постукивать железкой в жестяной лист.
— Стойте! — вскрикнул Иван, увидев, как Маруся отпрянула от окна. — А ну, все по домам!
«Серенада» оборвалась. Удивленные и злые, ребята уставились на Ивана. «Вот что ты за птица!»
Грицько выступил вперед, стиснул зубы.
— Болван! Бабник! Братва, за мной!
Иван остался у живой изгороди, один в вечерних сумерках. Свист и крики товарищей давно умолкли, а он все еще стоял и не мог собраться с мыслями. Впервые в жизни задумался, как без друзей жить, одному.
Кто-то коснулся его плеча. В голове мелькнула мысль: «Грицько!» Иван вздрогнул и уже поднял руку, чтоб дать ему наотмашь, но прикосновение было таким несмелым, чувствовалось, как ладонь дрожала на его плече.
Он понял и робко обернулся. Вечер сразу стал светлее, словно из-за тучи вышел полный месяц. Звезды замигали, улыбнулись и ярче засияли на своем темно-синем ковре. Перед ним стояла Маруся.
— Это все из-за меня… — прошептала она.
Иван молчал.
— Но мы пойдем к ним вдвоем. Не бойся, они тебя не оставят. — Приблизилась к нему и лишь одним дыханием вымолвила: — Спасибо.
Иван пожал ей руки. Порывался сказать, что он совсем не хочет возвращаться к друзьям, что ему хорошо с нею.
Маруся, словно угадала его мысли, спросила:
— Почему Грицько хотел это сделать?
Холодок пробежал по сердцу. Иван вздохнул. Грицько ее интересует. Она ведь давно знакома с ним, а теперь, наверное, поссорились. Значит, он будет всего-навсего посредником между ними.
— Почему хотел сделать? — переспросил Иван, чтобы выиграть время и собраться с мыслями.
— Почему он такой нехороший? — несколько по-иному повторила Маруся вопрос.
«Кто нехороший? Грицько нехороший? Да разве ты знаешь, какой Грицько? Он мост взорвал, ребенка спас». Но это последнее было бы первым шагом к отчуждению… Иван проглотил слова, что чуть-чуть не вырвались у него в защиту Грицька.
— Грицько хороший, — проговорил скупо. — Это он после смерти отца стал таким злым. А в сегодняшнем я виноват, — признался откровенно. — Он не хотел.
И сразу же у Ивана появилась охота к разговору. Он неуклюже взял Марусю за руку и начал рассказывать о своих товарищах. Пусть не думает, что они и впрямь какие-то сорвиголовы… Это их так назвали белоручки с соседней улицы, которые не знают даже, откуда хлеб берется. А вообще девчат они, это правда, не почитают. Разве паренек, который водится с девчатами, способен на героическое дело? Куда там…
Иван увлекся, позабыв, что сам идет с девушкой. Маруся напомнила ему об этом.
— А разве девушки не воюют на фронтах? — возразила она. — Ты этого не слыхал?
Не дождалась ответа. Вот она девушка, а сколько испытала горя! Хотя тетя Фрузя ей как мать родная, все ж она сирота. Брат в армии еще с сорокового года, она одна осталась изо всей семьи. Сто километров пешком шла в этот город. Выбилась из сил, упала на дороге, голодная, и если бы не солдаты… А теперь она тетке помогает и учится. Хочет всю жизнь учиться. И любит веселую компанию. Пришла бы к ним, только…
— Да ты не смотри, что Грицько такой, ну… — горячо заговорил Иван. — У Грицька доброе сердце. Я же говорю тебе, он этой весной ребенка спас от смерти, как тогда тебя солдаты. Об этом все знают, хотя он и утаивает…
Иван заметил, как прояснилось лицо девушки и она мечтательно улыбнулась.
— Ты что?
— Так…
Вновь холодок пробежал по самому сердцу, и Иван вздохнул. Для Грицька эта улыбка, не для него.
Маруся развеяла холодок.
— Ты завтра придешь, как стемнеет? — услышал он и не поверил. Может, почудилось? А пока опомнился, Маруси уже рядом не было. Только дверь хлопнула.
Он стоял как завороженный минуту или весь век, потом, сдерживаясь, чтобы не закричать от радости, помчался стрелой по темной улице, футболя мелкие камешки.
•
Тетя Фрузя спрашивала Марусю:
— Знакомилась с героем? — и лукаво посмотрела на девушку.
— Ваш герой чистейший грубиян, — отмахнулась. — Он на всех смотрит так зло, как на врагов. Я с другим, с Иваном, говорила, — промолвила вполголоса, будто тайну открыла, а сама смутилась.
Тетка покачала головой: рано, мол, еще с парнями по вечерам встречаться.
— Вы, тетя Фрузя, не думайте… Он такой славный. И за что только он этого Грицька так расхваливает?
— Видно, есть за что.
Тетка лежала в постели и мерно дышала — спала, а Маруся переворачивалась с боку на бок. Совсем пропал сон.
«Разве есть за что хвалить?»
…Как-то еще ранней весной постучался к ним в дом незнакомый парень с посиневшим от холода и черным от пыли маленьким ребенком на руках.
— Где тетка Фрузя? — спросил он Марусю, сурово взглянув на нее.
— На работе.
— Возьми этого ребенка и отдай ей. Да только смотри, ворона, если что случится…
Потом окинул ее взглядом, будто видит впервые, да так странно, что ей не по себе стало.
— Ты откуда здесь объявилась, такая черная? — спросил погодя. — Как зовут?
— Маруся… — Хотела сказать, что ее недавно, полуживую, принесли так же, как он сейчас этого ребенка, но не решилась. — В ремесленном учусь.
— Скажешь тетке, что Грицько принес. Она меня знает. Ну, не стой, а помой да обогрей ребенка! — прикрикнул он.
После этого при встречах на улице он всегда смотрел на нее тем самым странным взглядом, как тогда, а она смущалась. Не могла и сейчас никак не может его понять.
Веки слипаются, тревожный сон пролетает перед глазами неясными видениями. Это на развалинах суетятся люди, дети. Потом все исчезает. Она идет по асфальтированной дорожке зеленого парка.
— А посмотри, — слышит голос Ивана, — скульптура бойца с ребенком на руках!
Она останавливается в удивлении:
— Иван, это же Грицько!
Но Ивана уже нет около нее, только Грицько улыбается с постамента, будто он не каменный.
— Я и не знала, что ты умеешь смеяться, — шепчет Маруся и крепко засыпает.
Утром Иван проснулся с чувством солнечного света в сердце. Хотелось бежать по улице к Марусиному дому, встать перед верандой, окликнуть и спросить, как ей спалось, потому что вчера была первая встреча с любимой девушкой. Он обнял двумя руками подушку. Есть у него тайна, большая тайна, которую он будет хранить.
В школе Иван встретился со своими друзьями. Ему было горько и стыдно. Ожидал, что Грицько плюнет сквозь зубы в его сторону и снова назовет бабником. Он даже хотел этого. Иван тогда б признался во всем Грицьку, и они бы наверняка помирились.
Но Грицько мимоходом поздоровался, будто боялся, что Иван заглянет ему в глаза и увидит в них не злобу, а печаль.
Остальные ребята тоже как-то притихли. Ходили молчаливые. С болью в сердце понял Иван, что дружба с ребятами лопнула и он во всем виноват. Готов был все что угодно сделать для друзей, чтобы восстановить прежние отношения с ними, но знал: придется убеждать, что он не бабник. Разве это можно было сделать сейчас?
Иван и Маруся продолжали встречаться. Только он никак не мог убедиться, действительно ли она ради него выходит по вечерам за калитку. Выбежит из-за живой изгороди и исчезнет. Если бы не окликнул, кажется, и не отозвалась бы. Робко подходил к ней, и они молча шли наугад — бродили по берегу реки или уходили далеко в поле, пробираясь густыми зарослями ивняка. Они чувствовали, что идут не одни, что всегда с ними идет кто-то третий.
Иван ожидал встречи весь день. Долго обдумывал, что скажет Марусе. Сколько смелых планов роилось в его голове! То он представлял, как зажмет в своих ладонях ее смуглые щечки и горячо прошепчет: «Люблю до смерти»; то до боли сожмет в объятиях ее, хрупкую и нежную, спрашивая: «Любишь или балуешься?» Но при встрече вся его смелость таяла, как дым на ветру. Думать, мечтать — дело одно. В мыслях можно стать гигантом, а в действительности ты — обыкновенный человек. Не прозвучат ли комично в твоих устах великие слова?
Иван молчал. Иногда обращал внимание Маруси на волшебство лунной ночи, но и это было лишним. Разве нужно говорить о том, что несравненно красивее самых пышных слов?
Маруся обстоятельно рассказывала о прошедшем дне, а потом тоже умолкала. Друзей не вспоминали ни одним словом.
«Кто нам мешает?» — спрашивали они себя молча и не находили ответа.
Проходило время. Каждый день был насыщен волнующими событиями. Советская Армия добивала врага в Берлине. Иван затосковал по товарищам. Хлопцы уже не собирались на выгоне. В школе он с ними встречался редко, потому что учились в разных классах, а на работы больше не посылали. Что они делали, где теряли время, Иван не знал. Только из случайно услышанного разговора узнал, что хлопцы собираются отметить победу большим взрывом.
Как-то майским вечером Иван сказал Марусе то, что не давало ему покоя уже много дней:
— У тебя брат на фронте, у меня — отец. Чем мы отметим День Победы?
Маруся уловила легкий упрек в его словах. Он и сам его почувствовал. Ему страшно не хватало компании хлопцев, с которыми претерпел не одну тяжелую минуту в жизни. Теперь бы он мог вместе со всеми готовиться к великому, всенародному празднику. Иван даже представил себе, как это будет. Вечером хлопцы разожгут на берегу Прута четыре костра и в каждый бросят по большой коробке с толом. Тол теперь легко достать. Пламя поднимется вверх, мириады искр полетят над рекой, а потом осядут и станут звездами в ее вечерней глубине. И громкое «урра-а!» потрясет вечернюю тишину. А как же они с Марусей отметят эту дату?
— В День Победы, — сказала она задумчиво, — посадим два деревца, два ясеня возле моей веранды. Я их уже заприметила.
Если бы такое сказал кто-либо другой, Иван поднял бы того на смех. Но это скромное желание, высказанное Марусей, приобрело глубокий смысл. День Победы — конец войне, взрывам, смерти, страданиям. Не лучше ли именно в этот день дать начало молодой зеленой жизни?
Иван схватил Марусю за плечи и хотел сжать ее в своих объятиях, но тут же они увидели, что возле Марусиного окна кто-то стоял: на дорогу падала длинная тень. Присмотрелись — узнали Грицька… Тень качнулась и пропала.
Иван долго молчал, а потом спросил глухим голосом:
— Вы давно знакомы?
— С тех пор, как он спасенного ребенка к нам принес.
И она до сих пор молчала!
Сейчас Маруся рассказала все-все. Перед Иваном Грицько предстал в новом свете.
Полный раздумий о своем близком товарище, о дружбе, возвращался Иван домой.
Маруся крикнула ему вдогонку:
— Грицьк!.. Иван!!
Застеснялась и подумала: «Обидится».
•
Когда Грицько пришел домой, мать уже спала. Он бережно прикрыл ее одеялом и склонился над братиком, который тоже засыпал.
— Ты ужинал сегодня, Славочка? — спросил как никогда ранее ласково.
Малыш удивленно посмотрел на брата.
— Ужинал… А ты? Где ты был так долго, Грицько?
— Спи, спи, плакса малая…
Уже засыпая, Грицько убеждал себя самого: «К черту мне все эти любовные дела… Я только извиниться, попросить прощения у нее хотел за ту „серенаду“».
•
Следующий день начался необычно.
В городе гремели выстрелы, солдаты выпускали в воздух автоматные очереди — конец войне. Целый день не утихал веселый шум на улицах. Люди обнимались, щебетала детвора, из раскрытых окон неслись песни, веселый смех, музыка — праздновали Победу.
Целый день Иван не находил себе места. Противоречивые мысли не давали ему покоя. Перед вечером увидел друзей. Они собрались на улице, о чем-то посоветовались и подались к Пруту.
Иван, забыв о всякой осторожности, прибежал к Марусиной веранде и позвал ее. Она быстро отворила окошко веранды, выглянула и стрелой выбежала на улицу.
— Знаешь что, Маруся, — заторопился Иван. — Я решил… я думаю… вот что: пойдем к хлопцам, будем вместе с ними. И ясени посадим все вместе.
— Неужели?! Иванко! — вскрикнула Маруся и закрыла ладонями покрасневшие щеки.
Иван также радовался вместе с нею, но ее радость была большей, и он с болью почувствовал, как невидимый барьер возник между ними раз и навсегда и никто из них не перешагнет его.
На покрытом мелкой галькой берегу пылал костер. Грицько сидел посередине, освещенный пламенем, по сторонам — ребята, задумчивые, серьезные. Только теперь заметил Иван, как они все изменились за последнее время. Изменился, конечно, и сам Иван. Еще издали всматривался он в лицо Грицька: что-то новое вместе с задумчивостью лежало на нем. Постоянная ненависть, озлобленность, жестокость, осевшие в глубоких темных глазах, сменились серьезностью и легкой грустью. Все вспомнилось Ивану: мост, ссора, Марусин рассказ о Грицьке, его фигура у Марусиной веранды, — и смешанное чувство уважения и участия растопило вконец ледок в Ивановом сердце. Каким был Грицько в этот вечер!
Иван с Марусей долго стояли незамеченными. Волновались.
Вдруг Мирон всмотрелся в темноту и крикнул:
— Смотрите, хлопцы, кто пришел!
— И не один, — добавил Петр.
Иван насторожился, опасаясь взрыва хохота и насмешек. Кто-то неуверенно хихикнул. Грицько взглянул на всех исподлобья, сурово. Уважительно поднялся с места и обратился к Марусе прерывающимся от волнения голосом:
— Садитесь с нами…
Маруся, не сводя с Грицька взгляда, села рядом с ним. Все облегченно вздохнули. Иван подал всем по очереди руку.
— Ну, взрывайте свои бомбы, — сказал он авторитетно, как когда-то, — и айда отсюда, не то еще патруль поймает. Пойдем деревья сажать, чтобы воспоминание было об этом дне.
Предложение увлекло всех. Деревца! Они будут называться деревьями победы!
Повскакивали с мест и с веселыми песнями лугами вышли на дорогу.
Глухой и сильный взрыв остановил всех. «Урра-а-а!» — прокатилось до первых домов и затерялось в улицах городка.
Два ясеневых саженца уже ожидали их. Маруся выкопала их еще утром. Сажали все, сохраняя молчание, а каждый думал: «Пройдут годы — и кто-то встретится здесь, в тени наших деревьев. Кто встретится?»
— Только бы никто не срубил, — подумал вслух Иван.
— Никто не срубит, — твердо сказал Грицько, и эхом за ним повторила Маруся:
— Никто не срубит…
Когда все было закончено, Грицько отослал младших ребят по домам — было уже поздно. Иван сказал, глядя куда-то на звезды:
— Иду и я…
— Да ты что, Иван! — испугался Грицько. — Подожди, вместе пойдем…
— Иванко, куда же ты? — окликнула его Маруся.
Но Иван уже не слышал ее, а то бы, может, вернулся.
•
В последующие дни все друзья, уже вместе с Марусей, снова собирались на выгоне. Сначала хлопцы испытывали неловкость: того не скажешь, этого не сделаешь… Но быстро привыкли. В конце концов, Маруся не хуже всех могла бегать, весело смеяться и прыгать через огонь.
Каждый раз, когда догорал костер, Иван стремился уйти первым. Грицько быстро догонял его.
— Чего ты увязался за мной? А еще вожак! — сердился Иван. — У меня, знаешь, такое дело, что не требуется никаких свидетелей, — намекал он значительно.
Маруся слушала и благодарно, смущаясь, опускала голову.
— Этот черноволосый галчонок, кажется, серьезно влюбился в нашего хмурого Грицька. И что она нашла в нем? — бормотал Иван, идя домой, и не замечал при этом, что сам смеялся от счастья за Марусю и Грицька. Двоих любил, а кого больше — не смог бы сказать. Да и не хотел гадать.
…Этой весной Иван разлучился с товарищами. Отец его вернулся из армии, и они переехали в другой город.
В последний вечер Иван никого не застал на выгоне. Это Грицько всем строго наказал не приходить. Пусть, мол, поговорят без свидетелей.
Из-за живой изгороди тихо вышла Маруся.
— Едешь?
— Еду… На механика буду учиться.
Маруся не сдерживала слез. Иван утешал:
— Ты останешься теперь с хорошими друзьями, Маруся: Петр, Мирон, ну, и… Грицько.
Проглянуло солнышко сквозь дождь.
— Ты добрейший из всех, — прошептала. — Мы тебя никогда не забудем, Иванко…
•
Сегодня я приехал в родной, поднятый из развалин город. Все, что развеялось среди жизненных перипетий и забылось, как прерванный сон, вынырнуло из глубины души и повело заросшей тропинкой в мою юность.
Иду, взволнованный, знакомой дорогой к берегу Прута, а навстречу мне незнакомые люди, и больше всего — юноши с девушками. Я всматриваюсь в их лица — задумчивые, веселые, серьезные, безмятежные; шлю им искренние пожелания: «Счастливой дороги».
Теплые воспоминания волнуют грудь. Выгон уже застроен. Там без умолку работает двигатель, — может, кто из наших управляет им? Обветшалый готический домик показался только одной своей башенкой из-за зелени. Где же теперь Маруся? Работает? С детьми занимается? Мужа ждет обедать? Грицька? Если бы Грицька! Нет, все мы разбрелись своими дорогами, которые не сходятся, не перекрещиваются; разве только в мечтах.
Вдруг останавливаюсь, потрясенный, и не верю своим глазам.
Два красавца ясеня заслонили старую веранду и уже через крышу смотрят зелеными кронами в кружевные поля за городом. Наши ясени! Впервые подсчитываю, сколько же лет прошло, сколько морщин пролегло на лице, рубцов на сердце. Никогда ведь раньше не считал.
Зайти, расспросить? Стоит ли напоминать?
Стою и молча заклинаю сегодняшних и будущих хозяев ветхого готического домика: не рубите ясеней — ровесников нашей юности и новой жизни на земле! Пусть растут! Они еще напомнят нашим друзьям о далеком, тяжелом и дорогом времени, как молодежь напоминает старшим о далекой юности.
1959
Порванная фотография
 Выслушай меня спокойно, прошу тебя. Ты ревнуешь меня ко всему, даже к нереальному. Мало того, что я не имею права заговорить неофициальным тоном со знакомой женщиной, — мне еще и не могут нравиться артистки кино, а из моего альбома поисчезали почти все фотографии прежних моих знакомых девушек, тех, которые давно уже обзавелись собственными семьями и любят своих мужей. Правда, может быть, иной, нежели ты, любовью. Однако они оставили в моей памяти теплые воспоминания о юности. Смотри, у меня в висках седина, у нас две маленькие девочки, которым мы передаем свою собственную молодость, у меня столько хлопот и забот, столько работы, а ты еще и к работе меня ревнуешь. А сегодня ты так варварски порвала фотографию Лиды. Чем она перед тобой провинилась? Что когда-то любила меня, что я ее любил?
Теперь ты складываешь кусочки старого фото, плачешь, просишь прощения, хочешь склеить их…
Их можно еще склеить, можно перефотографировать, но не склеишь уже того, что порвалось здесь, в самом сердце. Ведь и у тебя были свои святыни. Возможно, это не была первая любовь. Разве непременно любовь? Может быть, это был один весенний день, в который ты всем сердцем почувствовала красоту и силу солнца, когда тебе хотелось упасть на землю и целовать еще не высохшие росинки весенней ночи, когда ты впервые почувствовала свою зрелость? А может быть, это был утренний богатырский иней в вишневом саду, может, встреча Нового года, единственный новогодний карнавал, запомнившийся на всю жизнь?
Это было, это должно было быть и у тебя. Ты унесла его с собою, как драгоценное сокровище, в долгую дорогу жизни. Это сокровище помогает тебе жить. Этим не угасшим в пепле будней огоньком согреваешь ты свою семью, воспитываешь детей, встречаешь меня, когда я прихожу, утомленный, с работы. Я рад, что он есть у тебя, и всегда стараюсь поддержать его горение. Я знаю, что в трудные минуты он поможет тебе бороться, он — ощущение прожитого полно, всеми силами и способностями твоего «я», пережитого, выстраданного, неповторимого дня в твоей жизни. А ты изорвала его в клочья.
Нет, нет, ты напрасно просишь меня, чтобы я не сердился. Я совсем не гневаюсь, мне просто больно, даже как-то пусто в сердце. Пойми — это чувство сильной и нежной любви, которое живет в моем сердце, которое я трепетно перенес в наш семейный уголок, неотъемлемая частица нашей жизни. Когда я целую на сон наших детей, целую твои работящие руки, это только потому, что во мне живет это неугасимое чувство. Оно родилось во мне благодаря этой женщине, чье фото ты сегодня разорвала.
Не плачь, я больше не буду упрекать. Расскажу только одну быль, которую услышал совсем недавно от матери. Да, да, от моей старой матери, которая еще и теперь плачет при воспоминании о давно умершем муже. В ее комнате висит небольшой портрет красивой женщины. Это любимая женщина моего отца.
Тяжело пережив неразделенную любовь, отец покинул те места, где каждый предмет напоминал о ней, осел в глухом горном селе, учительствовал там, а со временем и женился. С собою он взял только ее фотографию.
Однажды мама застала отца склоненным над столом. Он так углубился в свои мысли, что не услышал, как она подошла к нему. Она хотела закрыть ему ладонями глаза и по-детски спросить: «А кто это?» — но вдруг увидела фото красивой женщины и слезы… слезы на глазах мужа.
Отец смутился, попытался незаметно спрятать фотографию в карман и пожаловался на головную боль. Но тут же почувствовал, как наивно звучит эта неправда. Рассказал все жене и отдал ей в руки свою святыню.
Мать молчала весь вечер. На другой день, вернувшись с работы, отец увидел над своим столиком фотографию. Это было сверх его ожидания. Он снял со стены фотографию и хотел бросить в печь, но мать остановила его:
— Фотография сгорит, но сгорит ли она в сердце?
— А как же иначе?
— Нет. Пусть висит. Придет время — снимешь…
Отец снял фото через многие годы. Снял, будто ненароком, перед побелкой и больше его не вывешивал.
А после смерти отца мать достала из сундучка пожелтевшую фотографию незнакомой женщины, вечно молодой и красивой соперницы, вытерла ее и вновь повесила на стену над столиком отца. Это была память о начале полного ее семейного счастья, доверия, взаимного понимания.
Выслушай меня спокойно, прошу тебя. Ты ревнуешь меня ко всему, даже к нереальному. Мало того, что я не имею права заговорить неофициальным тоном со знакомой женщиной, — мне еще и не могут нравиться артистки кино, а из моего альбома поисчезали почти все фотографии прежних моих знакомых девушек, тех, которые давно уже обзавелись собственными семьями и любят своих мужей. Правда, может быть, иной, нежели ты, любовью. Однако они оставили в моей памяти теплые воспоминания о юности. Смотри, у меня в висках седина, у нас две маленькие девочки, которым мы передаем свою собственную молодость, у меня столько хлопот и забот, столько работы, а ты еще и к работе меня ревнуешь. А сегодня ты так варварски порвала фотографию Лиды. Чем она перед тобой провинилась? Что когда-то любила меня, что я ее любил?
Теперь ты складываешь кусочки старого фото, плачешь, просишь прощения, хочешь склеить их…
Их можно еще склеить, можно перефотографировать, но не склеишь уже того, что порвалось здесь, в самом сердце. Ведь и у тебя были свои святыни. Возможно, это не была первая любовь. Разве непременно любовь? Может быть, это был один весенний день, в который ты всем сердцем почувствовала красоту и силу солнца, когда тебе хотелось упасть на землю и целовать еще не высохшие росинки весенней ночи, когда ты впервые почувствовала свою зрелость? А может быть, это был утренний богатырский иней в вишневом саду, может, встреча Нового года, единственный новогодний карнавал, запомнившийся на всю жизнь?
Это было, это должно было быть и у тебя. Ты унесла его с собою, как драгоценное сокровище, в долгую дорогу жизни. Это сокровище помогает тебе жить. Этим не угасшим в пепле будней огоньком согреваешь ты свою семью, воспитываешь детей, встречаешь меня, когда я прихожу, утомленный, с работы. Я рад, что он есть у тебя, и всегда стараюсь поддержать его горение. Я знаю, что в трудные минуты он поможет тебе бороться, он — ощущение прожитого полно, всеми силами и способностями твоего «я», пережитого, выстраданного, неповторимого дня в твоей жизни. А ты изорвала его в клочья.
Нет, нет, ты напрасно просишь меня, чтобы я не сердился. Я совсем не гневаюсь, мне просто больно, даже как-то пусто в сердце. Пойми — это чувство сильной и нежной любви, которое живет в моем сердце, которое я трепетно перенес в наш семейный уголок, неотъемлемая частица нашей жизни. Когда я целую на сон наших детей, целую твои работящие руки, это только потому, что во мне живет это неугасимое чувство. Оно родилось во мне благодаря этой женщине, чье фото ты сегодня разорвала.
Не плачь, я больше не буду упрекать. Расскажу только одну быль, которую услышал совсем недавно от матери. Да, да, от моей старой матери, которая еще и теперь плачет при воспоминании о давно умершем муже. В ее комнате висит небольшой портрет красивой женщины. Это любимая женщина моего отца.
Тяжело пережив неразделенную любовь, отец покинул те места, где каждый предмет напоминал о ней, осел в глухом горном селе, учительствовал там, а со временем и женился. С собою он взял только ее фотографию.
Однажды мама застала отца склоненным над столом. Он так углубился в свои мысли, что не услышал, как она подошла к нему. Она хотела закрыть ему ладонями глаза и по-детски спросить: «А кто это?» — но вдруг увидела фото красивой женщины и слезы… слезы на глазах мужа.
Отец смутился, попытался незаметно спрятать фотографию в карман и пожаловался на головную боль. Но тут же почувствовал, как наивно звучит эта неправда. Рассказал все жене и отдал ей в руки свою святыню.
Мать молчала весь вечер. На другой день, вернувшись с работы, отец увидел над своим столиком фотографию. Это было сверх его ожидания. Он снял со стены фотографию и хотел бросить в печь, но мать остановила его:
— Фотография сгорит, но сгорит ли она в сердце?
— А как же иначе?
— Нет. Пусть висит. Придет время — снимешь…
Отец снял фото через многие годы. Снял, будто ненароком, перед побелкой и больше его не вывешивал.
А после смерти отца мать достала из сундучка пожелтевшую фотографию незнакомой женщины, вечно молодой и красивой соперницы, вытерла ее и вновь повесила на стену над столиком отца. Это была память о начале полного ее семейного счастья, доверия, взаимного понимания.
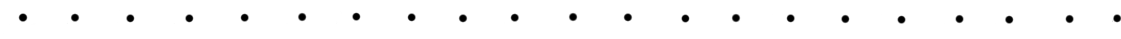 Ты еще никогда так не говорил со мною… Почему ты всегда был молчалив и этим разжигал мою ревность? Прости меня… Нет, даже прощения не могу просить у тебя сейчас… Я поняла, что любовь — это негаснущее чувство. Родившись однажды в сердце человека, оно не уходит, оно живет, светит и излучает теплоту. Мне горько, что я порвала фотокарточку. Не слишком ли это дорогая плата за то, что я почувствовала себя счастливой?
Ты еще никогда так не говорил со мною… Почему ты всегда был молчалив и этим разжигал мою ревность? Прости меня… Нет, даже прощения не могу просить у тебя сейчас… Я поняла, что любовь — это негаснущее чувство. Родившись однажды в сердце человека, оно не уходит, оно живет, светит и излучает теплоту. Мне горько, что я порвала фотокарточку. Не слишком ли это дорогая плата за то, что я почувствовала себя счастливой?
1958
Новогодний бокал за счастье
 За окном кружатся пушинки снега. Летят в неведомую темень, шелестят по карнизам, тихо целуют стекла и тают…
В комнате один Тарас. Восемь коек нетронутыми, немятыми стоят до самого утра. Потому что сегодня Новый год и хлопцы встречают его в женском общежитии.
На тумбочке возле Тарасовой койки — раскрытое письмо. «Приезжай сегодня, — просит Оля, — хоть один раз отпразднуем вместе. Я хочу выпить с тобой за счастье».
— За счастье… Не могу… Я уже выпил за него давно.
Уткнулся лицом в подушку, чтобы не видеть письма. Его принесли перед обедом, но еще и сейчас, за два часа до отхода поезда, Тарас не знает, поедет он или нет.
Новый год… С самого утра идет густой снег, мягко ложится на землю. С самого утра летят мысли по заметенным тропинкам в далекое прошлое. Хоть бы метель или буран поднялся, что ли, — так нет, такой же легкий и густой снег, как тогда… Не снег — незабываемая нежная мелодия, не снег, а терпкое, припорошенное пылью времени воспоминание.
Был когда-то такой же новогодний вечер. Оркестр играл вальс. В вестибюле много девушек — знакомых и незнакомых, у всех на лицах радость, а в волосах звезды. Он ходил меж колоннами, искал. Ее нет. А других не замечал. Хотелось уйти отсюда прочь.
Вдруг увидел: светлые глаза, завитушки русых волос, спадающих на лоб, розовое платье — все это промелькнуло в вихре вальса.
Окончился вальс. Замечтавшаяся, свежая, как лепесток пиона, стоит Неля одна, будто ждет кого-то… Кого же?
Тарас подходит, а в груди, как в кузнице: стук… стук… Приглашает танцевать, предлагает провести вместе этот вечер, просит подойти к буфету, выпить бокал новогоднего вина. Вино искрится, играет красками, сладкое и хмельное, как любовь.
— С Новым годом!
— С новым счастьем!
Неля смеется, не пьет до дна. Какая-то грусть проникает в сердце юноши. Он тоже не допивает.
…Убаюканная предрассветным глубоким сном улочка, и падающие снежинки, и она с заснеженными кудрями возле него.
— Я люблю вас… — неосмотрительно срывается с его губ…
В ответ — легонькая улыбка, едва уловимая искорка иронии в ее глазах и слова: «Это же был всего-навсего Новый год!»
Кто-то безжалостно примял букет белых ромашек…
А все же Тарас теперь мечтательно улыбнулся. Не однажды, словно тень Нели, проплывал перед глазами образ Ольги и исчезал.
Новогодняя ночь заглядывала в пустую комнату, бились снежинки о стекла освещенного окна. Ни о чем больше не хотелось думать. Прижался лицом к подушке, — так, казалось, не слышны укоры совести.
За окном шелестел ветер, тикали на тумбочке часы, завершая восьмой час… Тик-так… Тик-так… Монотонно, мерно, без конца…
В дверь как будто бы кто-то постучал. Ах, сегодня так не хотелось кого-либо видеть, что даже не отозвался словом: «Войдите». Однако дверьотворилась, и в комнату вошла девушка. Из-под шапочки выглядывали слегка припорошенные снегом завитки волос, на румяных от мороза щеках ямочки.
— Неля!.. — словно вихрем влетело в грудь счастье.
Девушка не смутилась.
— Я знала, что сегодня ты должен быть здесь. Потому и пришла. К тебе.
— Ко мне? Но ведь… — заговорили вместо Тараса осторожность, боязнь, совесть.
— Знаю, зачем говорить? Ты пойдешь со мною встречать Новый год. Допивать вино…
Не имея сил промолвить ни единого слова, Тарас молча протянул ей письмо от Ольги. Но Неля не хотела читать. Умоляюще посмотрела на Тараса, и он увидел в ее глазах что-то такое близкое, будто свое, родное.
— Для нее ты на всю жизнь, для меня — на один вечер. Нет, ты не сможешь отказать мне.
Сердце его учащенно забилось.
— Один вечер! — проговорил он. — Один вечер! А до моей жизни, до моей любви тебе и дела нет?
— Как же так нет? — удивленно спросила девушка. — Я ведь сберегла и принесла тебе сегодня твое «люблю». Разве напрасно это слово ты отдал тогда мне?
— О нет! — ответил Тарас.
— Тогда идем вместе встречать Новый год.
Он покорно взял ее под руку, и они тихо вышли.
А дальше все было, как бывает в сказке. Как-то очень быстро миновали дома, потом очутились в поезде, который увозил их неизвестно куда. К ней? К Неле? К счастью? Белые снеговые поля пролетали за окнами вагона и таяли в темноте. Тарас не ощущал бега времени. Неля ни о чем не спрашивала. Молчал и он. Мелькали станции, проплывали мимо села… Может быть, мимо того села, где живет Ольга… Ольга? Ах, да, Ольга! Воспоминание о ней вывело Тараса из состояния задумчивости. Припомнилось:
— Любишь? — спрашивала она, когда он впервые ее поцеловал. — Любишь?
Он тогда ничего не ответил, потому что не мог это слово повторить, не смог найти его в душе своей. Тарас тогда поцеловал Ольгу еще и еще раз за ее большую любовь к нему, но не сказал слова «люблю».
— Если поцелуешь другую, счастья у нас не будет…
…А поезд летел… Тарас посмотрел на часы:
— Почему только восемь? Мы же столько проехали…
— Время сегодня мое, а ты все еще не со мною. Ты все время с нею.
— С тобой я…
— Забудь обо всем, обо всех, кроме меня.
— С тобой — минута, с нею — жизнь.
— Минута любви дороже всей жизни без любви.
— Кто же отнял у меня любовь?
— Я…
Теперь Тарас посмотрел ей в глаза, но почему-то их не увидел.
— Ты знаешь, что-то я не вижу твоих глаз.
— Это потому, что их застилает пелена неуверенности.
— Какая ты странная. Почему неуверенности?
— Правда ли было то, что ты мне когда-то говорил?
— О, да! Тогда это была правда. В тебе осталось то слово, которое я не мог высказать Ольге. Если бы я смог вернуть его себе.
Наконец поезд остановился. Теперь они пошли бескрайним полем, по смерзшемуся снегу туда, где светился огонек.
Тарас снова посмотрел на часы — восемь. Приложил к уху — идут. Действительно, время остановилось. Возле Тараса — Неля. Это она, словно волшебница, остановила время и ждет, чтобы повторился прошедший новогодний вечер. Тарас тоже этого хочет, но в его душе пусто и тоскливо, как поздней осенью в поле.
Неля спросила, почему он молчит, почему мыслями ушел так далеко от нее.
— Нет мыслей, — ответил. — А пустыми словами ни жизни, ни времени не пробудишь.
— А слова, стоящего жизни, у тебя нет?
— Ты еще тогда его растоптала.
— Неправда это. Взгляни!
В это мгновение Тарас увидел ее глаза. В них светилось его давнее слово «люблю», как далекий, слабый огонек, готовый вот-вот погаснуть. Тарасу хотелось рвануться к этому огоньку, как к утерянному счастью, вернуть себе это слово, чтобы заполнить пустоту в своей душе.
— Верни мне меня самого.
— Бери, — прошептала она, обдавая его жарким дыханием, пьянящим, как запах черемухи. — Выпей недопитое вино…
Тарас припал к ее устам.
Опомнился он от бездушного смеха:
— Это же был только Новый год! А ты расплескал вино своего счастья!
Кто это сказал? Девушка или сама судьба?
Неля исчезла. Ой, не ромашки, не ландыши вернул он себе ценою измены…
А время шло. Ночь сменяла день, день — ночь. Возле Тараса никого не было. Снегу намело еще больше, поднялась вьюга, усилился мороз. А у Тараса не было сил бороться. Кругом — бескрайнее поле. Только один конопляный стебелек виден из-под снега, как он — одинокий. Пробирался куда-то вперед, но ничего не видел перед собою. Стыли ноги, руки, морозило все тело. Чувствовал, что не холод, а одиночество опустошает его.
И он перестал бороться. Снеговая постель окутала его, холодные мотыльки садились на лицо, на руки, на плечи.
Вдруг он увидел (понял, что это последний сон замерзающего): в холодном воздухе, далеко-далеко, светится открытое окно. За столом сидит старенькая-старенькая женщина — его мать, а в окне — Ольга с ребенком на руках. Она тоскливо смотрит на сына, качает его и утешает, что отец скоро придет, и украдкой вытирает слезы. И это он променял на тот поцелуй!
В последнюю минуту Тарас изо всех сил рванулся, протянул руку и что-то беззвучно прошептал. Прощения ли просил или хотел сказать что-то важное, самое главное в жизни.
Снег уже заметал его. И снова он делал усилия в борьбе со смертью, снова делал попытки произнести застывшими губами заветное слово. А мороз уже крепко держал его в своих ледяных руках, подбирался к самому сердцу, и все же губы прошептали… Слово было таким выстраданным, горячим, что корочка снега начала медленно таять. А Тарас повторял и повторял его неустанно, и все вокруг оживало.
…Впрочем, кто-то дотронулся до его плеча. Кто это? Раскрыл глаза и зажмурился от яркого света. Сначала не мог понять, что с ним происходит. Возле него стояли друзья.
— Что тебе приснилось, Тарас? Ты плакал во сне.
— Снилось? Ах… — вздохнул облегченно Тарас, вытирая пот со лба.
— Нам только что сказали, что ты не поехал. Идем же к нам.
На тумбочке тикали часы, показывали девятый. Еще час до отхода поезда. Тарас вскочил и лихорадочно начал собираться.
— Да ты не спеши, подождем, — останавливали его друзья.
— Что значит — подождете? — спросил Тарас. — Меня? Спасибо, что разбудили. Я же еду встречать Новый год к семье.
За окном кружатся пушинки снега. Летят в неведомую темень, шелестят по карнизам, тихо целуют стекла и тают…
В комнате один Тарас. Восемь коек нетронутыми, немятыми стоят до самого утра. Потому что сегодня Новый год и хлопцы встречают его в женском общежитии.
На тумбочке возле Тарасовой койки — раскрытое письмо. «Приезжай сегодня, — просит Оля, — хоть один раз отпразднуем вместе. Я хочу выпить с тобой за счастье».
— За счастье… Не могу… Я уже выпил за него давно.
Уткнулся лицом в подушку, чтобы не видеть письма. Его принесли перед обедом, но еще и сейчас, за два часа до отхода поезда, Тарас не знает, поедет он или нет.
Новый год… С самого утра идет густой снег, мягко ложится на землю. С самого утра летят мысли по заметенным тропинкам в далекое прошлое. Хоть бы метель или буран поднялся, что ли, — так нет, такой же легкий и густой снег, как тогда… Не снег — незабываемая нежная мелодия, не снег, а терпкое, припорошенное пылью времени воспоминание.
Был когда-то такой же новогодний вечер. Оркестр играл вальс. В вестибюле много девушек — знакомых и незнакомых, у всех на лицах радость, а в волосах звезды. Он ходил меж колоннами, искал. Ее нет. А других не замечал. Хотелось уйти отсюда прочь.
Вдруг увидел: светлые глаза, завитушки русых волос, спадающих на лоб, розовое платье — все это промелькнуло в вихре вальса.
Окончился вальс. Замечтавшаяся, свежая, как лепесток пиона, стоит Неля одна, будто ждет кого-то… Кого же?
Тарас подходит, а в груди, как в кузнице: стук… стук… Приглашает танцевать, предлагает провести вместе этот вечер, просит подойти к буфету, выпить бокал новогоднего вина. Вино искрится, играет красками, сладкое и хмельное, как любовь.
— С Новым годом!
— С новым счастьем!
Неля смеется, не пьет до дна. Какая-то грусть проникает в сердце юноши. Он тоже не допивает.
…Убаюканная предрассветным глубоким сном улочка, и падающие снежинки, и она с заснеженными кудрями возле него.
— Я люблю вас… — неосмотрительно срывается с его губ…
В ответ — легонькая улыбка, едва уловимая искорка иронии в ее глазах и слова: «Это же был всего-навсего Новый год!»
Кто-то безжалостно примял букет белых ромашек…
А все же Тарас теперь мечтательно улыбнулся. Не однажды, словно тень Нели, проплывал перед глазами образ Ольги и исчезал.
Новогодняя ночь заглядывала в пустую комнату, бились снежинки о стекла освещенного окна. Ни о чем больше не хотелось думать. Прижался лицом к подушке, — так, казалось, не слышны укоры совести.
За окном шелестел ветер, тикали на тумбочке часы, завершая восьмой час… Тик-так… Тик-так… Монотонно, мерно, без конца…
В дверь как будто бы кто-то постучал. Ах, сегодня так не хотелось кого-либо видеть, что даже не отозвался словом: «Войдите». Однако дверьотворилась, и в комнату вошла девушка. Из-под шапочки выглядывали слегка припорошенные снегом завитки волос, на румяных от мороза щеках ямочки.
— Неля!.. — словно вихрем влетело в грудь счастье.
Девушка не смутилась.
— Я знала, что сегодня ты должен быть здесь. Потому и пришла. К тебе.
— Ко мне? Но ведь… — заговорили вместо Тараса осторожность, боязнь, совесть.
— Знаю, зачем говорить? Ты пойдешь со мною встречать Новый год. Допивать вино…
Не имея сил промолвить ни единого слова, Тарас молча протянул ей письмо от Ольги. Но Неля не хотела читать. Умоляюще посмотрела на Тараса, и он увидел в ее глазах что-то такое близкое, будто свое, родное.
— Для нее ты на всю жизнь, для меня — на один вечер. Нет, ты не сможешь отказать мне.
Сердце его учащенно забилось.
— Один вечер! — проговорил он. — Один вечер! А до моей жизни, до моей любви тебе и дела нет?
— Как же так нет? — удивленно спросила девушка. — Я ведь сберегла и принесла тебе сегодня твое «люблю». Разве напрасно это слово ты отдал тогда мне?
— О нет! — ответил Тарас.
— Тогда идем вместе встречать Новый год.
Он покорно взял ее под руку, и они тихо вышли.
А дальше все было, как бывает в сказке. Как-то очень быстро миновали дома, потом очутились в поезде, который увозил их неизвестно куда. К ней? К Неле? К счастью? Белые снеговые поля пролетали за окнами вагона и таяли в темноте. Тарас не ощущал бега времени. Неля ни о чем не спрашивала. Молчал и он. Мелькали станции, проплывали мимо села… Может быть, мимо того села, где живет Ольга… Ольга? Ах, да, Ольга! Воспоминание о ней вывело Тараса из состояния задумчивости. Припомнилось:
— Любишь? — спрашивала она, когда он впервые ее поцеловал. — Любишь?
Он тогда ничего не ответил, потому что не мог это слово повторить, не смог найти его в душе своей. Тарас тогда поцеловал Ольгу еще и еще раз за ее большую любовь к нему, но не сказал слова «люблю».
— Если поцелуешь другую, счастья у нас не будет…
…А поезд летел… Тарас посмотрел на часы:
— Почему только восемь? Мы же столько проехали…
— Время сегодня мое, а ты все еще не со мною. Ты все время с нею.
— С тобой я…
— Забудь обо всем, обо всех, кроме меня.
— С тобой — минута, с нею — жизнь.
— Минута любви дороже всей жизни без любви.
— Кто же отнял у меня любовь?
— Я…
Теперь Тарас посмотрел ей в глаза, но почему-то их не увидел.
— Ты знаешь, что-то я не вижу твоих глаз.
— Это потому, что их застилает пелена неуверенности.
— Какая ты странная. Почему неуверенности?
— Правда ли было то, что ты мне когда-то говорил?
— О, да! Тогда это была правда. В тебе осталось то слово, которое я не мог высказать Ольге. Если бы я смог вернуть его себе.
Наконец поезд остановился. Теперь они пошли бескрайним полем, по смерзшемуся снегу туда, где светился огонек.
Тарас снова посмотрел на часы — восемь. Приложил к уху — идут. Действительно, время остановилось. Возле Тараса — Неля. Это она, словно волшебница, остановила время и ждет, чтобы повторился прошедший новогодний вечер. Тарас тоже этого хочет, но в его душе пусто и тоскливо, как поздней осенью в поле.
Неля спросила, почему он молчит, почему мыслями ушел так далеко от нее.
— Нет мыслей, — ответил. — А пустыми словами ни жизни, ни времени не пробудишь.
— А слова, стоящего жизни, у тебя нет?
— Ты еще тогда его растоптала.
— Неправда это. Взгляни!
В это мгновение Тарас увидел ее глаза. В них светилось его давнее слово «люблю», как далекий, слабый огонек, готовый вот-вот погаснуть. Тарасу хотелось рвануться к этому огоньку, как к утерянному счастью, вернуть себе это слово, чтобы заполнить пустоту в своей душе.
— Верни мне меня самого.
— Бери, — прошептала она, обдавая его жарким дыханием, пьянящим, как запах черемухи. — Выпей недопитое вино…
Тарас припал к ее устам.
Опомнился он от бездушного смеха:
— Это же был только Новый год! А ты расплескал вино своего счастья!
Кто это сказал? Девушка или сама судьба?
Неля исчезла. Ой, не ромашки, не ландыши вернул он себе ценою измены…
А время шло. Ночь сменяла день, день — ночь. Возле Тараса никого не было. Снегу намело еще больше, поднялась вьюга, усилился мороз. А у Тараса не было сил бороться. Кругом — бескрайнее поле. Только один конопляный стебелек виден из-под снега, как он — одинокий. Пробирался куда-то вперед, но ничего не видел перед собою. Стыли ноги, руки, морозило все тело. Чувствовал, что не холод, а одиночество опустошает его.
И он перестал бороться. Снеговая постель окутала его, холодные мотыльки садились на лицо, на руки, на плечи.
Вдруг он увидел (понял, что это последний сон замерзающего): в холодном воздухе, далеко-далеко, светится открытое окно. За столом сидит старенькая-старенькая женщина — его мать, а в окне — Ольга с ребенком на руках. Она тоскливо смотрит на сына, качает его и утешает, что отец скоро придет, и украдкой вытирает слезы. И это он променял на тот поцелуй!
В последнюю минуту Тарас изо всех сил рванулся, протянул руку и что-то беззвучно прошептал. Прощения ли просил или хотел сказать что-то важное, самое главное в жизни.
Снег уже заметал его. И снова он делал усилия в борьбе со смертью, снова делал попытки произнести застывшими губами заветное слово. А мороз уже крепко держал его в своих ледяных руках, подбирался к самому сердцу, и все же губы прошептали… Слово было таким выстраданным, горячим, что корочка снега начала медленно таять. А Тарас повторял и повторял его неустанно, и все вокруг оживало.
…Впрочем, кто-то дотронулся до его плеча. Кто это? Раскрыл глаза и зажмурился от яркого света. Сначала не мог понять, что с ним происходит. Возле него стояли друзья.
— Что тебе приснилось, Тарас? Ты плакал во сне.
— Снилось? Ах… — вздохнул облегченно Тарас, вытирая пот со лба.
— Нам только что сказали, что ты не поехал. Идем же к нам.
На тумбочке тикали часы, показывали девятый. Еще час до отхода поезда. Тарас вскочил и лихорадочно начал собираться.
— Да ты не спеши, подождем, — останавливали его друзья.
— Что значит — подождете? — спросил Тарас. — Меня? Спасибо, что разбудили. Я же еду встречать Новый год к семье.
Воровство?
 Белыми змейками вьется снег по дороге. Идут телеграфные столбы один за другим, как печальные прохожие, наигрывает ветер в проводах морозную песню. Я возвращаюсь в свое предместье. Мне не холодно. Меня греет мое счастье.
Вызванивает в проводах тоскливая мелодия, а у меня на сердце — радость. Я иду, иду, а темень висит, колышется над землей, густая морозная темень, — рождественская.
И вдруг из темноты кто-то бросает два слова, как две жгучие пощечины: «Ты — вор!» Бросает не как обвинение, а как приговор. Вздрагиваю, словно от выстрела над самым ухом. Кто сказал такое? Осматриваюсь кругом, заглядываю в собственную душу, ищу — и отовсюду слышу молчаливое:
— Ты — вор.
Вспоминаю… Эти два страшных слова шли, будто тень, следом за мною уже долгое время, и я знал, что рано или поздно они вплотную подойдут и встанут передо мною, как мои двойники. И тогда наступит развязка. А пока эти шипящие слова, едва уловимые осуждающие взгляды одобряют приговор, позвольте мне сказать свое слово.
Нет, я не вор. Я не украл чужого счастья. Нет, нет. Я только хочу построить его, создать свое собственное счастье. Выслушайте же меня, и, может быть, вы увидите во мне самую малость хорошего.
Осенним днем сидел я на скамье в парке. В небе плыли белые, разорванные в клочья облака, такие же, как мои мысли. И приятно было смотреть на них — и видеть там себя.
Маленькая девочка в коротеньком красном платьице оставила свое ведерко с песком и подошла ко мне.
— Ты кто такая? Чья ты?
— Я спряталась от мамы, а…
Провела пальчиком по моему колену.
— У тебя новый костюм, а мне мама купит новенькие туфельки.
Протянула ручку к моему лицу.
— Какие у тебя усы! — Дотронулась и быстро отняла ручку. — Ты плачешь, у тебя слезы?
Тогда я схватил ее, поднял и поцеловал в розовые щечки.
— Чья ты?
— Мамина.
— А мама где?
— Там… я спряталась.
— А мама найдет тебя?
— Да.
— А если я возьму тебя с собой, пойдешь?
— И маму возьмешь?
— Возьму, — весело ответил я девочке на слегка удививший меня вопрос.
По аллее быстро шла молодая женщина и негромко звала девочку:
— Люба! Любочка!
Девочка шепнула мне:
— Спрячемся за кустик, — и потащила меня за руку.
Я повиновался. Притаились мы за густыми кустами сирени и пристально смотрели. Люба, как мышонок, следила хитренькими глазками за голубым платьем своей мамы, закрывала рукой ротик. Я также присматривался сквозь гребенку ветвей к молодой женщине, темноволосой, невысокой, с милой и несколько смущенной улыбкой.
— Хватит забавляться, Люба, отзовись.
— Мама, мы здесь!
Лицо молодой женщины на мгновение осветилось невыразимо нежным светом.
— Ты что здесь делаешь? От мамы прятаться? Вот не возьму тебя с собой в другой раз.
Тогда малышка выпорхнула воробышком из-за куста, подбежала к матери — и головку в подол голубого платья.
— Не сердись, мама, мы с дядей…
Я смахивал с брюк песок и виновато разводил руками:
— Извините, не устоял перед вашей дочкой.
Мать рассмеялась звонким, девичьим смехом.
— Она у меня такая! — сказала не без нотки гордости. — Ну, вы нас извините, а нам уже пора домой.
Я поклонился.
Любочка подбежала ко мне:
— Дядя, а ты тоже пойдешь с нами?
— Люба, как тебе не стыдно! — крикнула мать. — Иди сюда!
— Мамочка, а дядя сказал, что меня возьмет с собой… и тебя тоже…
Мать подошла и, как мне показалось, резковато взяла девочку за руку. Ревниво, с болью и обидой, посмотрела на меня. «Не надо, не надо, у меня и без вас довольно горя», — прочел я в ее грустном взгляде. И, может, именно поэтому взял я Любочку за другую ручку и сказал:
— Ну вот, я и иду с тобой.
Шли мы молча, только Люба весело щебетала.
— Два толстенные-претолстенные червяка, как твой, мама, мизинец, были там. Их воробьи съедят, да? Я хотела сесть на скамеечку, а меня мальчишка прогнал, говорит — папа придет. И тогда я побежала-побежала. Мама, скажи, из пластилина можно и хлебчики делать или только игрушки? У меня волчок испортился, нам дядя исправит, правда? Мама, ты говорила — взрослые не плачут, а дядя плакал…
Мать вскинула на меня быстрый пытливый взгляд.
— Да н-нет, это не так… не совсем так.
— Любочка еще не умеет говорить неправды.
— Это могло ей показаться… на солнышке.
— Солнышко сегодня совсем по-летнему греет, — сказала она с приязнью.
Возможно, что упоминание о моей слабости пробудило в ней эту приязнь ко мне (людям не хочется быть одинокими в горе); она начала непринужденно и с интересом говорить со мной, расспрашивать, где я живу, чем занимаюсь. Я отвечал скупо. Время от времени посматривал на ее худое… нет, не худое, слегка удлиненное, нежное лицо, на темные брови, близко сбежавшиеся у переносья, и чем-то встревоженные, даже во время улыбки, глаза. Она была похожа на многих моих знакомых и вместе с тем совсем иная. Жизнь уже успела наложить на нее свою печать, в ее взгляде без труда угадывался нелегко полученный опыт, и при всем этом она была молодая и красивая.
Меня интересовал только один вопрос: почему малышка предложила и маму взять с собой? Дети ничего не говорят попусту.
— Кто ваш муж? — спросил я и почувствовал неуместность, даже бестактность своего вопроса.
Она заметно смутилась. Я уже готов был вырвать свой язык за этот вопрос, но было поздно. Может быть, она разведена, может быть, мать-одиночка или вдова, и ей нелегко говорить об этом. Я ожидал, что она своим ответом пристыдит меня, однако услышал спокойное:
— Мой муж работает с вами… в редакции.
Ответ ее совершенно сбил меня с толку. Отчего же она так смутилась?
— Как же его фамилия?
— Андрейчук, Петр…
И теперь мне стало все ясно. Петр — мой коллега.
Вспомнились беседы, споры, его высказывания о женщинах. В памяти моей всплыли его слова, сказанные в одной из откровенных бесед со мною: «Нет ничего горше на свете, коллега, когда с женой не находишь общего языка. Это страшно. Женись и ты наконец, но ищи себе равную по образованию».
Это был разговор о женщине, которая шла сейчас рядом со мной. Тогда я что-то возражал приятелю. Сейчас я пристально смотрел на нее. Действительно ли она не годится Петру в спутницы?
— Мы уже пришли, — сказала женщина, остановившись у подъезда на улице Шопена. — Спасибо вам, прощайте.
Я пожелал всего лучшего.
Но девочка не отпускала моей руки.
— Идем к нам, будем лепить хлебчики из пластилина.
— В другой раз, Любочка.
— Когда — в другой? Ну, когда?
— Завтра, хорошо?
— Завтра, завтра! Мама, дядя завтра придет!
Наши взгляды с матерью встретились.
— Не приходите, — шепнула она чуть слышно…
Я кивнул.
Проходили дни и недели, а эта встреча не выходила у меня из головы. Меня влекло к этой женщине что-то такое, что делало мою жизнь интересной. Я не пытался анализировать свое состояние, я только чувствовал, что в моем сердце поселилась любовь.
И я шел навстречу этой любви, не испрашивая ничьего разрешения.
Меня стал злить нетрезвый вид моего коллеги, иногда я резко отвечал ему на его циничные высказывания, иногда на улице мерещилась мне маленькая Люба, и я невольно искал глазами ее мать.
Однажды без всякой причины я пошел в редакцию по улице Шопена. Будто бы безразлично посмотрел на знакомый номер, вроде бы и не быстро прошел улочку и все же горько разочаровался, что никого не встретил.
С тех пор я уже не ходил по другой улице. Это доставляло мне удивительную радость. Лучше работалось, словно бы я уже и не был одиноким. И сам я не знал, кого мне больше хотелось увидеть, дочку или маму. Люба становилась для меня символом семейного счастья, мама же ее…
Совсем случайно я встретился с ними снова.
В окне второго этажа, прислонившись лицом к замерзшему стеклу, сидела моя маленькая знакомая. Я посмотрел вверх, помахал рукой, она меня узнала. Застучала в окно:
— Дядя, дядя, иди к нам!
Я заколебался.
— Дядя, я одна дома! Иди, я открою дверь.
Тогда я пошел.
Она уселась ко мне на колени и защебетала, защебетала:
— Мама пошла на рынок за дровами. Каждый день туда ходит, потому что газ еще не подключили, а папа только ночью приходит. У меня много пластилина. Он уже высох, потому что я не умею лепить. На, разомни и вылепи мне куклу.
Я мял пластилин, а она не унималась:
— Я теперь всегда одна дома. Папа часто совсем не приходит, и мама каждый день уходит. Но мне скучно только тогда, когда киска засыпает. Мама спит очень мало — она поздно ложится и рано встает… Мне же шесть лет, дядя. Я скоро в школу пойду. Буду много-много учиться, чтобы никто не называл меня дурой.
— А кто тебя так называет?
— Вчера папа кричал на маму, говорил: «Ты ничего не понимаешь!» Бросил в нее книгой. А мама сегодня дала книгу мне — у нее нет времени читать. Да только книжка неинтересная, без картинок.
Разговор прервала скрипнувшая дверь. Вошла мать. В угол положила охапку дров. Я подошел, подал ей руку. Смущение, легкое вздрагивание руки и тень испуга в глубоком взгляде выдали ее лишь на мгновение. Но она быстро овладела собой и спросила спокойно, даже холодно:
— Вы к мужу?
— Нет! Меня в окошко позвала Любочка.
Молчала. Я поднялся.
— Простите, я не подумал, что могу огорчить вас.
Она вспыхнула, слезы чуть было не брызнули из ее глаз, но она сдержалась.
— О нет. Мне приятно, — проговорила она, не поднимая глаз.
— Можно будет мне еще раз зайти к Любе?
— Лучше — нет…
— Ну что ж, тогда до свиданья.
Мне никто не ответил, никто не проводил до двери. И лишь когда я спустился по лестнице, на меня чуть ли не кубарем свалилась Люба и повисла на моей шее, она крепко прижималась к моей груди.
Я поцеловал ее личико. Мне показалось, что в коридоре плакала мать…
Первый раз в жизни возвращался я домой, чувствуя себя богатым, сильным, счастливым.
И только дома я долго думал над тем, что мое счастье врастает корнем в чужую ниву. «Нет, нет, — говорил во мне внутренний голос, — там, где есть любовь, там ничего чужого нет».
Я не смел заходить в их дом, но не мог жить и без них. Они были нужны мне, им был нужен я.
Не заходя в дом, я ждал на улице, заглядывал в окна, подолгу стоял на углу, чтобы увидеть ее.
Наконец я ее увидел. Сегодня вечером она сама вышла на улицу и позвала меня в коридор.
— Так дальше нельзя, — говорила она, — я все вижу… Не приходите, не приходите каждый вечер — это нестерпимо. О, как это нестерпимо!
Она слабо прижималась ко мне, молча просила забыть о любви к ней, молча просила прощения за свою любовь.
Я спросил:
— Как вы будете жить?
— Теперь мне будет легче… — И не защищалась от моих поцелуев.
Просила, чтобы я ушел.
— Только с вами…
— О, это сумасшествие…
Нет, это говорило не сумасшествие, это сказала наша любовь. И она — не тайна, не воровство! Мы во весь голос расскажем об этом. Всем! Во весь голос!
И я возвращаюсь. Возвращаюсь уже не один, а с огромной любовью. И разве правомочно назвать это чувство ворованным счастьем?
Возвращаюсь, оставляя частицу своего «я» дорогим мне людям, оставляя всего себя навсегда, на всю жизнь.
«Ты — вор!» — слышу негласный приговор пустомель и сплетниц. А я гордо прохожу мимо и думаю, что в ваших сердцах, судьи мои, все же проснется хоть маковое зернышко объективности в наше оправдание!
Каждый из нас имеет право на счастье. Виноваты ли мы в том, что оно иногда улыбается нам, но поймать его подчас труднее, чем ртуть, рассыпанную по земле, чем солнечный зайчик, брошенный на стену золотистой полосой рассвета?
Белыми змейками вьется снег по дороге. Идут телеграфные столбы один за другим, как печальные прохожие, наигрывает ветер в проводах морозную песню. Я возвращаюсь в свое предместье. Мне не холодно. Меня греет мое счастье.
Вызванивает в проводах тоскливая мелодия, а у меня на сердце — радость. Я иду, иду, а темень висит, колышется над землей, густая морозная темень, — рождественская.
И вдруг из темноты кто-то бросает два слова, как две жгучие пощечины: «Ты — вор!» Бросает не как обвинение, а как приговор. Вздрагиваю, словно от выстрела над самым ухом. Кто сказал такое? Осматриваюсь кругом, заглядываю в собственную душу, ищу — и отовсюду слышу молчаливое:
— Ты — вор.
Вспоминаю… Эти два страшных слова шли, будто тень, следом за мною уже долгое время, и я знал, что рано или поздно они вплотную подойдут и встанут передо мною, как мои двойники. И тогда наступит развязка. А пока эти шипящие слова, едва уловимые осуждающие взгляды одобряют приговор, позвольте мне сказать свое слово.
Нет, я не вор. Я не украл чужого счастья. Нет, нет. Я только хочу построить его, создать свое собственное счастье. Выслушайте же меня, и, может быть, вы увидите во мне самую малость хорошего.
Осенним днем сидел я на скамье в парке. В небе плыли белые, разорванные в клочья облака, такие же, как мои мысли. И приятно было смотреть на них — и видеть там себя.
Маленькая девочка в коротеньком красном платьице оставила свое ведерко с песком и подошла ко мне.
— Ты кто такая? Чья ты?
— Я спряталась от мамы, а…
Провела пальчиком по моему колену.
— У тебя новый костюм, а мне мама купит новенькие туфельки.
Протянула ручку к моему лицу.
— Какие у тебя усы! — Дотронулась и быстро отняла ручку. — Ты плачешь, у тебя слезы?
Тогда я схватил ее, поднял и поцеловал в розовые щечки.
— Чья ты?
— Мамина.
— А мама где?
— Там… я спряталась.
— А мама найдет тебя?
— Да.
— А если я возьму тебя с собой, пойдешь?
— И маму возьмешь?
— Возьму, — весело ответил я девочке на слегка удививший меня вопрос.
По аллее быстро шла молодая женщина и негромко звала девочку:
— Люба! Любочка!
Девочка шепнула мне:
— Спрячемся за кустик, — и потащила меня за руку.
Я повиновался. Притаились мы за густыми кустами сирени и пристально смотрели. Люба, как мышонок, следила хитренькими глазками за голубым платьем своей мамы, закрывала рукой ротик. Я также присматривался сквозь гребенку ветвей к молодой женщине, темноволосой, невысокой, с милой и несколько смущенной улыбкой.
— Хватит забавляться, Люба, отзовись.
— Мама, мы здесь!
Лицо молодой женщины на мгновение осветилось невыразимо нежным светом.
— Ты что здесь делаешь? От мамы прятаться? Вот не возьму тебя с собой в другой раз.
Тогда малышка выпорхнула воробышком из-за куста, подбежала к матери — и головку в подол голубого платья.
— Не сердись, мама, мы с дядей…
Я смахивал с брюк песок и виновато разводил руками:
— Извините, не устоял перед вашей дочкой.
Мать рассмеялась звонким, девичьим смехом.
— Она у меня такая! — сказала не без нотки гордости. — Ну, вы нас извините, а нам уже пора домой.
Я поклонился.
Любочка подбежала ко мне:
— Дядя, а ты тоже пойдешь с нами?
— Люба, как тебе не стыдно! — крикнула мать. — Иди сюда!
— Мамочка, а дядя сказал, что меня возьмет с собой… и тебя тоже…
Мать подошла и, как мне показалось, резковато взяла девочку за руку. Ревниво, с болью и обидой, посмотрела на меня. «Не надо, не надо, у меня и без вас довольно горя», — прочел я в ее грустном взгляде. И, может, именно поэтому взял я Любочку за другую ручку и сказал:
— Ну вот, я и иду с тобой.
Шли мы молча, только Люба весело щебетала.
— Два толстенные-претолстенные червяка, как твой, мама, мизинец, были там. Их воробьи съедят, да? Я хотела сесть на скамеечку, а меня мальчишка прогнал, говорит — папа придет. И тогда я побежала-побежала. Мама, скажи, из пластилина можно и хлебчики делать или только игрушки? У меня волчок испортился, нам дядя исправит, правда? Мама, ты говорила — взрослые не плачут, а дядя плакал…
Мать вскинула на меня быстрый пытливый взгляд.
— Да н-нет, это не так… не совсем так.
— Любочка еще не умеет говорить неправды.
— Это могло ей показаться… на солнышке.
— Солнышко сегодня совсем по-летнему греет, — сказала она с приязнью.
Возможно, что упоминание о моей слабости пробудило в ней эту приязнь ко мне (людям не хочется быть одинокими в горе); она начала непринужденно и с интересом говорить со мной, расспрашивать, где я живу, чем занимаюсь. Я отвечал скупо. Время от времени посматривал на ее худое… нет, не худое, слегка удлиненное, нежное лицо, на темные брови, близко сбежавшиеся у переносья, и чем-то встревоженные, даже во время улыбки, глаза. Она была похожа на многих моих знакомых и вместе с тем совсем иная. Жизнь уже успела наложить на нее свою печать, в ее взгляде без труда угадывался нелегко полученный опыт, и при всем этом она была молодая и красивая.
Меня интересовал только один вопрос: почему малышка предложила и маму взять с собой? Дети ничего не говорят попусту.
— Кто ваш муж? — спросил я и почувствовал неуместность, даже бестактность своего вопроса.
Она заметно смутилась. Я уже готов был вырвать свой язык за этот вопрос, но было поздно. Может быть, она разведена, может быть, мать-одиночка или вдова, и ей нелегко говорить об этом. Я ожидал, что она своим ответом пристыдит меня, однако услышал спокойное:
— Мой муж работает с вами… в редакции.
Ответ ее совершенно сбил меня с толку. Отчего же она так смутилась?
— Как же его фамилия?
— Андрейчук, Петр…
И теперь мне стало все ясно. Петр — мой коллега.
Вспомнились беседы, споры, его высказывания о женщинах. В памяти моей всплыли его слова, сказанные в одной из откровенных бесед со мною: «Нет ничего горше на свете, коллега, когда с женой не находишь общего языка. Это страшно. Женись и ты наконец, но ищи себе равную по образованию».
Это был разговор о женщине, которая шла сейчас рядом со мной. Тогда я что-то возражал приятелю. Сейчас я пристально смотрел на нее. Действительно ли она не годится Петру в спутницы?
— Мы уже пришли, — сказала женщина, остановившись у подъезда на улице Шопена. — Спасибо вам, прощайте.
Я пожелал всего лучшего.
Но девочка не отпускала моей руки.
— Идем к нам, будем лепить хлебчики из пластилина.
— В другой раз, Любочка.
— Когда — в другой? Ну, когда?
— Завтра, хорошо?
— Завтра, завтра! Мама, дядя завтра придет!
Наши взгляды с матерью встретились.
— Не приходите, — шепнула она чуть слышно…
Я кивнул.
Проходили дни и недели, а эта встреча не выходила у меня из головы. Меня влекло к этой женщине что-то такое, что делало мою жизнь интересной. Я не пытался анализировать свое состояние, я только чувствовал, что в моем сердце поселилась любовь.
И я шел навстречу этой любви, не испрашивая ничьего разрешения.
Меня стал злить нетрезвый вид моего коллеги, иногда я резко отвечал ему на его циничные высказывания, иногда на улице мерещилась мне маленькая Люба, и я невольно искал глазами ее мать.
Однажды без всякой причины я пошел в редакцию по улице Шопена. Будто бы безразлично посмотрел на знакомый номер, вроде бы и не быстро прошел улочку и все же горько разочаровался, что никого не встретил.
С тех пор я уже не ходил по другой улице. Это доставляло мне удивительную радость. Лучше работалось, словно бы я уже и не был одиноким. И сам я не знал, кого мне больше хотелось увидеть, дочку или маму. Люба становилась для меня символом семейного счастья, мама же ее…
Совсем случайно я встретился с ними снова.
В окне второго этажа, прислонившись лицом к замерзшему стеклу, сидела моя маленькая знакомая. Я посмотрел вверх, помахал рукой, она меня узнала. Застучала в окно:
— Дядя, дядя, иди к нам!
Я заколебался.
— Дядя, я одна дома! Иди, я открою дверь.
Тогда я пошел.
Она уселась ко мне на колени и защебетала, защебетала:
— Мама пошла на рынок за дровами. Каждый день туда ходит, потому что газ еще не подключили, а папа только ночью приходит. У меня много пластилина. Он уже высох, потому что я не умею лепить. На, разомни и вылепи мне куклу.
Я мял пластилин, а она не унималась:
— Я теперь всегда одна дома. Папа часто совсем не приходит, и мама каждый день уходит. Но мне скучно только тогда, когда киска засыпает. Мама спит очень мало — она поздно ложится и рано встает… Мне же шесть лет, дядя. Я скоро в школу пойду. Буду много-много учиться, чтобы никто не называл меня дурой.
— А кто тебя так называет?
— Вчера папа кричал на маму, говорил: «Ты ничего не понимаешь!» Бросил в нее книгой. А мама сегодня дала книгу мне — у нее нет времени читать. Да только книжка неинтересная, без картинок.
Разговор прервала скрипнувшая дверь. Вошла мать. В угол положила охапку дров. Я подошел, подал ей руку. Смущение, легкое вздрагивание руки и тень испуга в глубоком взгляде выдали ее лишь на мгновение. Но она быстро овладела собой и спросила спокойно, даже холодно:
— Вы к мужу?
— Нет! Меня в окошко позвала Любочка.
Молчала. Я поднялся.
— Простите, я не подумал, что могу огорчить вас.
Она вспыхнула, слезы чуть было не брызнули из ее глаз, но она сдержалась.
— О нет. Мне приятно, — проговорила она, не поднимая глаз.
— Можно будет мне еще раз зайти к Любе?
— Лучше — нет…
— Ну что ж, тогда до свиданья.
Мне никто не ответил, никто не проводил до двери. И лишь когда я спустился по лестнице, на меня чуть ли не кубарем свалилась Люба и повисла на моей шее, она крепко прижималась к моей груди.
Я поцеловал ее личико. Мне показалось, что в коридоре плакала мать…
Первый раз в жизни возвращался я домой, чувствуя себя богатым, сильным, счастливым.
И только дома я долго думал над тем, что мое счастье врастает корнем в чужую ниву. «Нет, нет, — говорил во мне внутренний голос, — там, где есть любовь, там ничего чужого нет».
Я не смел заходить в их дом, но не мог жить и без них. Они были нужны мне, им был нужен я.
Не заходя в дом, я ждал на улице, заглядывал в окна, подолгу стоял на углу, чтобы увидеть ее.
Наконец я ее увидел. Сегодня вечером она сама вышла на улицу и позвала меня в коридор.
— Так дальше нельзя, — говорила она, — я все вижу… Не приходите, не приходите каждый вечер — это нестерпимо. О, как это нестерпимо!
Она слабо прижималась ко мне, молча просила забыть о любви к ней, молча просила прощения за свою любовь.
Я спросил:
— Как вы будете жить?
— Теперь мне будет легче… — И не защищалась от моих поцелуев.
Просила, чтобы я ушел.
— Только с вами…
— О, это сумасшествие…
Нет, это говорило не сумасшествие, это сказала наша любовь. И она — не тайна, не воровство! Мы во весь голос расскажем об этом. Всем! Во весь голос!
И я возвращаюсь. Возвращаюсь уже не один, а с огромной любовью. И разве правомочно назвать это чувство ворованным счастьем?
Возвращаюсь, оставляя частицу своего «я» дорогим мне людям, оставляя всего себя навсегда, на всю жизнь.
«Ты — вор!» — слышу негласный приговор пустомель и сплетниц. А я гордо прохожу мимо и думаю, что в ваших сердцах, судьи мои, все же проснется хоть маковое зернышко объективности в наше оправдание!
Каждый из нас имеет право на счастье. Виноваты ли мы в том, что оно иногда улыбается нам, но поймать его подчас труднее, чем ртуть, рассыпанную по земле, чем солнечный зайчик, брошенный на стену золотистой полосой рассвета?
1957
Плюшевый медвежонок
 Снег местами уже побурел, ветки вербы покрылись котиками. Откуда-то повеял дивный запах — то ли колотых буковых поленьев, то ли ольховых опилок, — откуда он налетел?.. Меня охватило беспокойство. Так бывает, когда из памяти вдруг ускользнет только что оформившаяся мысль.
Когда это было? Когда еще так пахла весна?
Кончиками пальцев прикасаюсь к плюшевому котику на веточке, и опять… что-то совсем было вспомнилось и тут же исчезло, как неуловимые картины перед глазами засыпающего.
«Верба бьет, не я бью… верба бьет, не я бью…» — пытаюсь воскресить в памяти что-то далекое. Напрасно!..
Ко мне ластится ветка вербы, еще раз захватываю горстью пушистые котики, а они нежные-нежные, как кошачьи лапки, как гусиный пушок или… или?
А что, если войти к себе в комнату и коснуться пальцами какой-нибудь старой вещи или книги?
Но в комнате развеялись даже эти смутные намеки.
Пришла почта, жена подала мне письма. Опять деловые. Неужели хотя бы сегодня нельзя без них обойтись!
Машинально вскрываю белый конверт с голубой каемкой — глянцевитая открытка скользнула в руку. Гм, с днем рождения кто-то поторопился поздравить! И, почему-то довольный, что жена не спросила, от кого, торопливо иду в свою комнату.
«Поздравляю, Андрейко! Сто лет!
Плюшевый медвежонок»,— и обратный адрес.
Марта!.. Смотри ты, через столько лет! Стремительно направляюсь в кухню. «Галина, знаешь, от кого поздравление?» — хочу сказать и уже открыл дверь, чтобы поведать Гале полузабытую историю из моей далекой юности. Это же так интересно: «Наша Ульянка скоро в школу пойдет, Игорек уже на лошадку игрушечную взобрался, а поздравление знаешь от кого?» Но тут я осторожно прикрываю дверь, воровато прячу в карман открытку и внезапно ошеломляю жену известием, что завтра уезжаю в командировку. Что? День рождения? Успею!
На следующий день теплее, чем обычно, прощаюсь с семьей, и вот уже мчит меня поезд, в окна дышит знакомыми запахами весна, покачиваются ветки верб с тысячами плюшевых медвежат.
Что я делаю? Для чего это?..
«Ни для чего, слышишь ты! — кричу я в ответ голосу совести. — Поездка в молодость, понятно? Я имею право на свое прошлое, замолчи!»
Смело нажимаю на кнопку звонка, он почему-то боязливо и коротко звонит, растягиваю губы в скептическую улыбку, но они, как назло, сжимаются плотно и напряженно, принимаю нарочито небрежную позу, но чувствую, что весь подобрался, как туго сжатая пружина.
Легкие шаги за дверью, — наверно, в тапочках. Затаил дыхание. Вдруг выстрелил звонок, вскрикнули дверные петли. На пороге встала та самая девушка, которая когда-то в десятом классе сидела за соседней партой, та золотоволосая Мартуся, из-за которой ссорились мальчишки, та самая, которая когда-то шептала мне: «Губам больно, наверное, не так надо целоваться?»
Та самая девушка… Но такой она была лишь одно мгновенье. Смущение, испуг разлились по лицу, и она снова стала другой, вернее, не другой, а теперешней. На одно лишь мгновение юность ожила и исчезла.
— Андрей! — тихо вскрикнула эта чужая женщина. — Что ж ты…
— Здравствуй, Марта…
Она еще продолжала стоять в дверях, решительно загородив вход в свое святилище, потом руки ее опустились, а я переступал с ноги на ногу, не зная, с чего начать разговор.
— Я узнал твой адрес и…
— Что ж ты…
Внезапная злость прогнала мое смущение. «Я же не просил тебя указывать на поздравительной открытке свой адрес, не просил и поздравлять меня… Столько лет молчала, могла бы и до конца не отзываться; твои прежние капризные выходки уж никак не подходят к этим лучикам у глаз и подковкам по обе стороны губ, и если это еще один эксперимент надо мной, так захлопни дверь перед моим носом».
— Что же ты стоишь? — наконец вымолвила она, потянула меня за руку, провела в комнату и долго смотрела на меня, стараясь прочесть по седине на висках, по морщинам повесть моей жизни.
— Такой, как был… Садись!
«Нет, не такой… И ты не такая, Мартуся. Твое когда-то тоненькое тело налилось теперь щедрой зрелостью — так зеленая вишня наливается спелым соком в июле, твои резкие движения сменились плавными, грациозными — чужими. Ты очаровательна, но не та, и мне грустно, что я не могу сейчас вспомнить нашу юность, ты прелестная женщина, в которую можно до беспамятства влюбиться, но ты не прежняя Мартуся, и я не тот. И мне взгрустнулось сейчас по нашей молодости…»
— Я постарела, да? — Она подошла к кушетке, движением пальца раскачала плюшевого медвежонка, висевшего на стене. — Вот он не старится. Узнаешь? Смешно, что я и поныне так называю себя, правда?
Я не ответил, потому что это была правда.
Медвежонок смотрел на нас выпуклыми бусинками глаз, удивляясь, почему с ним больше не играют, не подбрасывают, не ласкают его и не целуют, почему он из любимой игрушки обратился в скучную декорацию. Он повернулся на ниточке, глянул на меня:
«Я сразу узнал тебя, Андрей. Где же ты был столько времени, как жил?»
— Как поживаешь, Андрей? — спросила Марта.
— Помаленьку, — ответил я.
«А меня ты припоминаешь? — снова заговорил медвежонок. — Я же вас и познакомил обоих. Как-то вечером — весна тогда была такая же, как нынче, — ты подошел к костру, который мальчишки развели на выгоне возле дома, где ты жил, и увидел, как кудрявая русая девчоночка прыгает вместе с ними через огонь. Ты стоял в тени, не сводя с нее глаз, а потом, когда костер погас, пошел следом за ней и спросил: „Кто ты?“ — „Я Марта. Приезжая. Буду учиться в первой школе, а завтра у меня день рождения“. Вот ты и купил меня в подарок Марте на день рождения, а потом и ее назвал моим именем».
— Кто твой муж, Марта?
— Инженер. Сейчас в экспедиции.
— Степан?
— Нет, не Степан…
Медвежонок снова крутнулся на ниточке, и пока в комнате царило молчание, говорил он.
«Потом между вами появился Степан. Он любил похваляться отцовским полковничьим званием, хорошо танцевал, всегда был вежливым, но манерным. Девушки им увлекались, а ты ревновал и ехидно называл Степкой-бесклепкой. Ты мог его вовсе не бояться. Марта любила тебя. Но ты сам выдумал соперника. Ты изводил бедную девушку, упрекал ее, дулся, называл кокеткой. Она часто плакала, прижимала меня к сердцу. Потом перестала ласкать, потом совсем обо мне забыла. И ты не приходил больше. Мне стало грустно. А потом я услышал такое, от чего мне захотелось заплакать: Степка-бесклепка пожелал, чтобы Марта выкинула меня вон, — мол, уже не ребенок. Она не послушалась, но сняла меня со стены, где я висел над кроватью, и спрятала в комод».
— Вы давно разошлись со Степаном?
— Мы и не были женаты.
«В комоде я пролежал немало времени. Наконец открылось оконце моей тюрьмы, нежные руки Мартуси взяли меня, она плакала надо мной, — наверное, просила прощения, хоть я и не сердился… А потом появился третий».
— Ты очень любишь своего мужа?
— ?..
«Этот третий совсем ко мне равнодушен. Даже не замечает. Да и вообще обо мне часто забывают. Разве иной раз Мартуся возьмет меня в руки, приласкает, поцелует… А где ты так долго пропадал?»
— Где ты был эти годы, Андрей?
— Везде понемногу… Как ты узнала мой адрес?
— Нашла…
— Для чего?
— Не знаю…
А часы на стене тикали упрямо. Те самые старомодные часы, которые отсчитали уже шестнадцать лет со времени нашего знакомства, которые начали теперь счет семнадцатому году, и нам обоим не хотелось смотреть на них. Я присматривался к этой красивой чужой женщине, она совсем не похожа была на маленькую мою Мартусю, но мне хотелось смотреть на нее без конца.
— У тебя есть еще время, Андрейка. До поезда — целый час.
Мы пили вино. Вели какой-то пустой разговор. Оба втайне ждали, чтобы скорее прошел этот час, который встал на меже нашей встречи и разлуки, но когда час перешел за эту черту, нас вместо радости охватил страх перед неизбежностью.
Я начал торопливо собираться.
Марта, побледнев и ссутулившись, вымолвила еле слышно:
— Куда сейчас… на ночь глядя?..
— На вокзал… Скоро поезд.
Она повернулась к стене, сняла плюшевого медвежонка и протянула мне:
— Возьми его с собой…
В ее голосе дрожала мольба и отчаяние. Я понял: она хочет сегодня освободиться от этой памятки, как и от всего, что связано с нею. Сжиться с сегодняшним днем наше прошлое в ее сердце не может.
— Выбрось его…
Она загородила мне дорогу, протянула руку с медвежонком, прекрасная и чужая. Родной в этом доме была только плюшевая игрушка. Я провел пальцем по лбу медвежонка, до меня еще раз дотронулась весна вербными бархатными котиками, дохнула в последний раз запахами колотых буковых поленьев, а передо мной стояла совсем чужая женщина, которую я вижу впервые, которую можно полюбить до беспамятства.
Я остался.
…Лежу на кушетке. Марта — в спальне. Надо мной раскачивается мой плюшевый друг, моя юность. Она стала сегодня игрушкой, ее можно выбросить и растоптать. И можно сохранить.
Забываю о жене и детях, в спальне ждет меня милая женщина. Нет, не Марта, совсем другая женщина, которая встретилась мне только сегодня.
Срываюсь с кушетки, медвежонок закачался сильнее, задрожал, заблестели в темноте его бусинки — глазки.
«Постой! Заслони ладонью глаза и хорошенько присмотрись. Видишь? Гаснет костер у ивняка, искры от него взлетели к небу и повисли над головой, все разошлись, и худенькая тень четко вырисовалась на фиолетовом фоне неба. Затаив дыхание подходишь ты к этой тени, она оживает, дрожит, убегает, чтоб подальше, подальше от людей и от звезд уйти, утонуть в прохладе ночи и в твоих объятиях. Ты видишь это? Ты слышишь, как пахнет талый снег на потемневших лугах, слышишь, как ластится к тебе ивовая ветка своими бархатными котиками? Не топчи этого, вы возненавидите себя, когда поймете, что уничтожено вами навсегда».
Отрываю от глаз ладонь, порываюсь вперед.
«Стой! Степка-бесклепка обидел ее… так же, как хочешь это теперь сделать ты».
«Замолчи. Она давно должна была быть моей…»
«Погоди еще минутку. Еще раз заслони глаза ладонью».
Прикрыв глаза, лежал я на кушетке до рассвета, и мне виделись сны моей далекой юности.
Утром я услышал, как Марта молча хозяйничала на кухне. Я стоял одетый посреди комнаты с чувством неловкости или вины и не знал, как с нею теперь попрощаться.
— Садись пить чай, — тихо сказала она и скупо улыбнулась. И не знаю, от этой ли мягкой, спокойной улыбки или от первых лучей солнца ее лицо стало нежнее, моложе; за ее спиной на стене тикали старомодные часы, и я вдруг увидел, как стрелки бешено завертелись назад, возвращая нам час за часом целые годы: стройнее становилась Марта, таяла седина у меня на висках. Я робко подступил к ней, хрупкой, маленькой моей Мартусе, и неуклюже сжал ее в объятиях.
— Губам больно, — прошептала она, — наверное, не так надо целоваться, мой хороший, милый Андрейко…
…Гремит, летит мой поезд по весенней земле, по полям, — я возвращаюсь из далекой поездки домой. Все более четко вырисовываются очертания лиц жены и детей. Бьет могучим прибоем в мою грудь весна, и я впитываю ее ароматы, вдыхаю запахи то ли буковых поленьев, то ли ольховых опилок, а в ивняке танцуют тысячи плюшевых медвежат и улыбаются мне.
Снег местами уже побурел, ветки вербы покрылись котиками. Откуда-то повеял дивный запах — то ли колотых буковых поленьев, то ли ольховых опилок, — откуда он налетел?.. Меня охватило беспокойство. Так бывает, когда из памяти вдруг ускользнет только что оформившаяся мысль.
Когда это было? Когда еще так пахла весна?
Кончиками пальцев прикасаюсь к плюшевому котику на веточке, и опять… что-то совсем было вспомнилось и тут же исчезло, как неуловимые картины перед глазами засыпающего.
«Верба бьет, не я бью… верба бьет, не я бью…» — пытаюсь воскресить в памяти что-то далекое. Напрасно!..
Ко мне ластится ветка вербы, еще раз захватываю горстью пушистые котики, а они нежные-нежные, как кошачьи лапки, как гусиный пушок или… или?
А что, если войти к себе в комнату и коснуться пальцами какой-нибудь старой вещи или книги?
Но в комнате развеялись даже эти смутные намеки.
Пришла почта, жена подала мне письма. Опять деловые. Неужели хотя бы сегодня нельзя без них обойтись!
Машинально вскрываю белый конверт с голубой каемкой — глянцевитая открытка скользнула в руку. Гм, с днем рождения кто-то поторопился поздравить! И, почему-то довольный, что жена не спросила, от кого, торопливо иду в свою комнату.
«Поздравляю, Андрейко! Сто лет!
Плюшевый медвежонок»,— и обратный адрес.
Марта!.. Смотри ты, через столько лет! Стремительно направляюсь в кухню. «Галина, знаешь, от кого поздравление?» — хочу сказать и уже открыл дверь, чтобы поведать Гале полузабытую историю из моей далекой юности. Это же так интересно: «Наша Ульянка скоро в школу пойдет, Игорек уже на лошадку игрушечную взобрался, а поздравление знаешь от кого?» Но тут я осторожно прикрываю дверь, воровато прячу в карман открытку и внезапно ошеломляю жену известием, что завтра уезжаю в командировку. Что? День рождения? Успею!
На следующий день теплее, чем обычно, прощаюсь с семьей, и вот уже мчит меня поезд, в окна дышит знакомыми запахами весна, покачиваются ветки верб с тысячами плюшевых медвежат.
Что я делаю? Для чего это?..
«Ни для чего, слышишь ты! — кричу я в ответ голосу совести. — Поездка в молодость, понятно? Я имею право на свое прошлое, замолчи!»
Смело нажимаю на кнопку звонка, он почему-то боязливо и коротко звонит, растягиваю губы в скептическую улыбку, но они, как назло, сжимаются плотно и напряженно, принимаю нарочито небрежную позу, но чувствую, что весь подобрался, как туго сжатая пружина.
Легкие шаги за дверью, — наверно, в тапочках. Затаил дыхание. Вдруг выстрелил звонок, вскрикнули дверные петли. На пороге встала та самая девушка, которая когда-то в десятом классе сидела за соседней партой, та золотоволосая Мартуся, из-за которой ссорились мальчишки, та самая, которая когда-то шептала мне: «Губам больно, наверное, не так надо целоваться?»
Та самая девушка… Но такой она была лишь одно мгновенье. Смущение, испуг разлились по лицу, и она снова стала другой, вернее, не другой, а теперешней. На одно лишь мгновение юность ожила и исчезла.
— Андрей! — тихо вскрикнула эта чужая женщина. — Что ж ты…
— Здравствуй, Марта…
Она еще продолжала стоять в дверях, решительно загородив вход в свое святилище, потом руки ее опустились, а я переступал с ноги на ногу, не зная, с чего начать разговор.
— Я узнал твой адрес и…
— Что ж ты…
Внезапная злость прогнала мое смущение. «Я же не просил тебя указывать на поздравительной открытке свой адрес, не просил и поздравлять меня… Столько лет молчала, могла бы и до конца не отзываться; твои прежние капризные выходки уж никак не подходят к этим лучикам у глаз и подковкам по обе стороны губ, и если это еще один эксперимент надо мной, так захлопни дверь перед моим носом».
— Что же ты стоишь? — наконец вымолвила она, потянула меня за руку, провела в комнату и долго смотрела на меня, стараясь прочесть по седине на висках, по морщинам повесть моей жизни.
— Такой, как был… Садись!
«Нет, не такой… И ты не такая, Мартуся. Твое когда-то тоненькое тело налилось теперь щедрой зрелостью — так зеленая вишня наливается спелым соком в июле, твои резкие движения сменились плавными, грациозными — чужими. Ты очаровательна, но не та, и мне грустно, что я не могу сейчас вспомнить нашу юность, ты прелестная женщина, в которую можно до беспамятства влюбиться, но ты не прежняя Мартуся, и я не тот. И мне взгрустнулось сейчас по нашей молодости…»
— Я постарела, да? — Она подошла к кушетке, движением пальца раскачала плюшевого медвежонка, висевшего на стене. — Вот он не старится. Узнаешь? Смешно, что я и поныне так называю себя, правда?
Я не ответил, потому что это была правда.
Медвежонок смотрел на нас выпуклыми бусинками глаз, удивляясь, почему с ним больше не играют, не подбрасывают, не ласкают его и не целуют, почему он из любимой игрушки обратился в скучную декорацию. Он повернулся на ниточке, глянул на меня:
«Я сразу узнал тебя, Андрей. Где же ты был столько времени, как жил?»
— Как поживаешь, Андрей? — спросила Марта.
— Помаленьку, — ответил я.
«А меня ты припоминаешь? — снова заговорил медвежонок. — Я же вас и познакомил обоих. Как-то вечером — весна тогда была такая же, как нынче, — ты подошел к костру, который мальчишки развели на выгоне возле дома, где ты жил, и увидел, как кудрявая русая девчоночка прыгает вместе с ними через огонь. Ты стоял в тени, не сводя с нее глаз, а потом, когда костер погас, пошел следом за ней и спросил: „Кто ты?“ — „Я Марта. Приезжая. Буду учиться в первой школе, а завтра у меня день рождения“. Вот ты и купил меня в подарок Марте на день рождения, а потом и ее назвал моим именем».
— Кто твой муж, Марта?
— Инженер. Сейчас в экспедиции.
— Степан?
— Нет, не Степан…
Медвежонок снова крутнулся на ниточке, и пока в комнате царило молчание, говорил он.
«Потом между вами появился Степан. Он любил похваляться отцовским полковничьим званием, хорошо танцевал, всегда был вежливым, но манерным. Девушки им увлекались, а ты ревновал и ехидно называл Степкой-бесклепкой. Ты мог его вовсе не бояться. Марта любила тебя. Но ты сам выдумал соперника. Ты изводил бедную девушку, упрекал ее, дулся, называл кокеткой. Она часто плакала, прижимала меня к сердцу. Потом перестала ласкать, потом совсем обо мне забыла. И ты не приходил больше. Мне стало грустно. А потом я услышал такое, от чего мне захотелось заплакать: Степка-бесклепка пожелал, чтобы Марта выкинула меня вон, — мол, уже не ребенок. Она не послушалась, но сняла меня со стены, где я висел над кроватью, и спрятала в комод».
— Вы давно разошлись со Степаном?
— Мы и не были женаты.
«В комоде я пролежал немало времени. Наконец открылось оконце моей тюрьмы, нежные руки Мартуси взяли меня, она плакала надо мной, — наверное, просила прощения, хоть я и не сердился… А потом появился третий».
— Ты очень любишь своего мужа?
— ?..
«Этот третий совсем ко мне равнодушен. Даже не замечает. Да и вообще обо мне часто забывают. Разве иной раз Мартуся возьмет меня в руки, приласкает, поцелует… А где ты так долго пропадал?»
— Где ты был эти годы, Андрей?
— Везде понемногу… Как ты узнала мой адрес?
— Нашла…
— Для чего?
— Не знаю…
А часы на стене тикали упрямо. Те самые старомодные часы, которые отсчитали уже шестнадцать лет со времени нашего знакомства, которые начали теперь счет семнадцатому году, и нам обоим не хотелось смотреть на них. Я присматривался к этой красивой чужой женщине, она совсем не похожа была на маленькую мою Мартусю, но мне хотелось смотреть на нее без конца.
— У тебя есть еще время, Андрейка. До поезда — целый час.
Мы пили вино. Вели какой-то пустой разговор. Оба втайне ждали, чтобы скорее прошел этот час, который встал на меже нашей встречи и разлуки, но когда час перешел за эту черту, нас вместо радости охватил страх перед неизбежностью.
Я начал торопливо собираться.
Марта, побледнев и ссутулившись, вымолвила еле слышно:
— Куда сейчас… на ночь глядя?..
— На вокзал… Скоро поезд.
Она повернулась к стене, сняла плюшевого медвежонка и протянула мне:
— Возьми его с собой…
В ее голосе дрожала мольба и отчаяние. Я понял: она хочет сегодня освободиться от этой памятки, как и от всего, что связано с нею. Сжиться с сегодняшним днем наше прошлое в ее сердце не может.
— Выбрось его…
Она загородила мне дорогу, протянула руку с медвежонком, прекрасная и чужая. Родной в этом доме была только плюшевая игрушка. Я провел пальцем по лбу медвежонка, до меня еще раз дотронулась весна вербными бархатными котиками, дохнула в последний раз запахами колотых буковых поленьев, а передо мной стояла совсем чужая женщина, которую я вижу впервые, которую можно полюбить до беспамятства.
Я остался.
…Лежу на кушетке. Марта — в спальне. Надо мной раскачивается мой плюшевый друг, моя юность. Она стала сегодня игрушкой, ее можно выбросить и растоптать. И можно сохранить.
Забываю о жене и детях, в спальне ждет меня милая женщина. Нет, не Марта, совсем другая женщина, которая встретилась мне только сегодня.
Срываюсь с кушетки, медвежонок закачался сильнее, задрожал, заблестели в темноте его бусинки — глазки.
«Постой! Заслони ладонью глаза и хорошенько присмотрись. Видишь? Гаснет костер у ивняка, искры от него взлетели к небу и повисли над головой, все разошлись, и худенькая тень четко вырисовалась на фиолетовом фоне неба. Затаив дыхание подходишь ты к этой тени, она оживает, дрожит, убегает, чтоб подальше, подальше от людей и от звезд уйти, утонуть в прохладе ночи и в твоих объятиях. Ты видишь это? Ты слышишь, как пахнет талый снег на потемневших лугах, слышишь, как ластится к тебе ивовая ветка своими бархатными котиками? Не топчи этого, вы возненавидите себя, когда поймете, что уничтожено вами навсегда».
Отрываю от глаз ладонь, порываюсь вперед.
«Стой! Степка-бесклепка обидел ее… так же, как хочешь это теперь сделать ты».
«Замолчи. Она давно должна была быть моей…»
«Погоди еще минутку. Еще раз заслони глаза ладонью».
Прикрыв глаза, лежал я на кушетке до рассвета, и мне виделись сны моей далекой юности.
Утром я услышал, как Марта молча хозяйничала на кухне. Я стоял одетый посреди комнаты с чувством неловкости или вины и не знал, как с нею теперь попрощаться.
— Садись пить чай, — тихо сказала она и скупо улыбнулась. И не знаю, от этой ли мягкой, спокойной улыбки или от первых лучей солнца ее лицо стало нежнее, моложе; за ее спиной на стене тикали старомодные часы, и я вдруг увидел, как стрелки бешено завертелись назад, возвращая нам час за часом целые годы: стройнее становилась Марта, таяла седина у меня на висках. Я робко подступил к ней, хрупкой, маленькой моей Мартусе, и неуклюже сжал ее в объятиях.
— Губам больно, — прошептала она, — наверное, не так надо целоваться, мой хороший, милый Андрейко…
…Гремит, летит мой поезд по весенней земле, по полям, — я возвращаюсь из далекой поездки домой. Все более четко вырисовываются очертания лиц жены и детей. Бьет могучим прибоем в мою грудь весна, и я впитываю ее ароматы, вдыхаю запахи то ли буковых поленьев, то ли ольховых опилок, а в ивняке танцуют тысячи плюшевых медвежат и улыбаются мне.
1963
Смерть Довбуша[8]
 «— Отвори двери, Дзвинка! Слышишь, отвори и впусти в хату!
— У меня дверь тесовая — ворам не разломать!
— Ты что сказала, сука?!»
С неукротимой злобой Довбуш саданул ногой в дверь, и она соскочила с петель. В этот момент прогремел выстрел.
Довбуш, выпятив грудь, всем телом подался вперед, будто навстречу пуле, и грузно упал… на сцену.
Я сижу в первом ряду, увлеченный игрой односельчан. В роли Довбуша мой ровесник, Иван Базилюк. Ладони сами начинают аплодировать, а зал гремит за моей спиной. И вдруг я чувствую, как гул восторга куда-то отдаляется от меня, затихает, а из далекой, как старина, дали — что это? — доносится топот конских копыт… И уплывает куда-то сцена, и я уже — маленький мальчик — сижу возле окна и смотрю на спокойное предвечернее село. Тихо, даже слишком тихо — ни шума, ни песен. И вдруг…
…Вдоль села по узкой улице между хатами пронеслись всадники, и густая завеса пыли укрыла их от людских взоров.
Ударилось об окна низких хат тревожное эхо, и его тут же подхватил крик женщин и детей. От двора к двору катился испуг, запирались на запоры двери, ворота — на засовы, прятались люди — кто на печь, кто в густолистую кукурузу.
— Гомик в селе!
— Разбойник Гомик в селе!
Онемели дворы, затаили дыхание. А потом мужики начали выходить с топорами и вилами, и кто-то уже бежал напрямик, через леваду, в волостную полицию — известить. Собирались мужики, испуганные, но решительные, и останавливались у дороги на краю села.
Как раз напротив окон нашей хаты.
Я цепенел от страха, прижимаясь лбом к оконному стеклу, но оторвать от улицы взгляд не было сил.
На меня прикрикнула мать: «Отойди от окна!» — и потянула меня за руку, но тут… Тут я увидел, как, разорвав завесу пыли, словно пройдя сквозь дым пожарища, показался высокий, складный мужик. Он шел, опустив руки, с поникшей головой…
— Он, — прошептала мать и судорожно обняла меня за плечи. Но сейчас я уже не разделял маминого страха: по дороге шагал совсем не страшный человек, хотя его именем пугали детей, — он был какой-то грустный, притихший, шел немного сгорбившись, словно придавленный непосильной ношей, и только одним отличался от тех, что стояли стеной на дороге, — в его опущенной руке был карабин.
Подошел к ощетинившейся вилами и топорами людской стене и остановился. Я приоткрыл окно.
— Кого из вас я ограбил, люди? — спросил человек громко, но мягко.
Стена покачнулась, но молчала.
— Кому петуха пустил, ребенка обидел, дочку обесчестил? — спрашивал он, обводя взглядом лица людей. — Я же за вас… против панов, которым скоро конец… Зачем вы с вилами?.. Подымайтесь лучше против панов да флаги красные вывешивайте… Да полицаев бейте — вон они, все село оцепили…
Стена молчала, но уже расступилась — каждый поближе к своим воротам. А потом чей-то глухой голос из толпы:
— Иди от нас, мы хотим жить спокойно…
— Эх, люди… люди! — почти прошептал человек, поднял руку и с силой швырнул карабин в дорожную пыль.
Еще один миг постоял, пытаясь заглянуть в глаза людям, но те, опустив головы, расступались молча, открывали ему проход, а сами жались каждый к своему тыну.
И по этому проходу, не оборачиваясь, прошел Гомик пыльной улицей и скрылся за вербами.
А низкие хаты печально смотрели ему вслед запыленными окнами, и казалось, бельма были у них на глазах.
Опустела улица. Только карабин Гомика чернел посреди дороги.
Его не поднял никто.
…А на следующий день, в воскресенье, в сельской читальне ставили пьесу «Довбуш».
Наконец-то!
Целый год волостная полиция не разрешала, два раза разгоняла людей после первого действия. Село роптало, молодежь возмущалась: кто имеет право запрещать пьесу про легендарного опришка?!
Послали в уезд делегацию «просвитян». И наконец из уезда прибыло разрешение.
Шло третье действие. Я стоял у входа, в толпе мальчишек, на цыпочках, вытянув шею, глядел на сцену. Я еще не умел толком разобраться в содержании пьесы и чуть не плакал оттого, что не мог распознать, кто из этих людей, одетых в набивные кептари[9], в разукрашенных цветами кресанях, — кто из них Довбуш?
А мне так хотелось увидеть его, этого опришка, о котором рассказывали сказки на сон грядущий, этого разбойника, которым почему-то не пугали детей, а убаюкивали.
Ах, вот он… на сцену вышел тот самый человек, который вчера бросил карабин на пыльную дорогу… Люди в зале ахнули и затаили дыхание.
«Это же Гомик в роли самого Довбуша, — подумал я. — Почему же тогда Гомика боялись и малышей им пугали?»
Гомик гневно посмотрел на оторопевших артистов, окинул взглядом онемевший от страха зал и крикнул:
— Довбуша чествуете? А панов боитесь!! Не вам… не вам подпоясываться опришковскими поясами!
Я спокойно всматривался в него в то мгновение, пока люди не успели еще вскрикнуть. Ведь я думал, что все так и должно быть на сцене, — разве не он играет Довбуша?
Гомик расстегнул кептарь, вынул пистолет и так же, как тогда, на дороге, с горечью сказал:
— Люди… Эх, люди!..
Грянул выстрел. Я вздрогнул. Сердце мое колотилось. «Наверное, в какого-то пана», — подумал, но тут же увидел, что упал сам Довбуш и его сорочку залила кровь. «Убили!.. Ну да, его и должны были убить».
Только я не понимал, почему кричали люди и теснились к выходу, почему в дверях на противоположной стороне зала появились полицейские.
Я стоял за косяком двери, трясся от страха и широко раскрытыми глазами смотрел на мертвого вожака опришков…
…Мои воспоминания рассеял новый гром аплодисментов, раздавшихся прямо над моей головой. Занавес поднялся еще раз. Иван Базилюк, прославленный красный партизан Великой Отечественной войны, мой ровесник, поправляя на себе опришковский пояс и скромно и виновато улыбаясь, низко кланялся со сцены гудевшим от восторга зрителям.
«— Отвори двери, Дзвинка! Слышишь, отвори и впусти в хату!
— У меня дверь тесовая — ворам не разломать!
— Ты что сказала, сука?!»
С неукротимой злобой Довбуш саданул ногой в дверь, и она соскочила с петель. В этот момент прогремел выстрел.
Довбуш, выпятив грудь, всем телом подался вперед, будто навстречу пуле, и грузно упал… на сцену.
Я сижу в первом ряду, увлеченный игрой односельчан. В роли Довбуша мой ровесник, Иван Базилюк. Ладони сами начинают аплодировать, а зал гремит за моей спиной. И вдруг я чувствую, как гул восторга куда-то отдаляется от меня, затихает, а из далекой, как старина, дали — что это? — доносится топот конских копыт… И уплывает куда-то сцена, и я уже — маленький мальчик — сижу возле окна и смотрю на спокойное предвечернее село. Тихо, даже слишком тихо — ни шума, ни песен. И вдруг…
…Вдоль села по узкой улице между хатами пронеслись всадники, и густая завеса пыли укрыла их от людских взоров.
Ударилось об окна низких хат тревожное эхо, и его тут же подхватил крик женщин и детей. От двора к двору катился испуг, запирались на запоры двери, ворота — на засовы, прятались люди — кто на печь, кто в густолистую кукурузу.
— Гомик в селе!
— Разбойник Гомик в селе!
Онемели дворы, затаили дыхание. А потом мужики начали выходить с топорами и вилами, и кто-то уже бежал напрямик, через леваду, в волостную полицию — известить. Собирались мужики, испуганные, но решительные, и останавливались у дороги на краю села.
Как раз напротив окон нашей хаты.
Я цепенел от страха, прижимаясь лбом к оконному стеклу, но оторвать от улицы взгляд не было сил.
На меня прикрикнула мать: «Отойди от окна!» — и потянула меня за руку, но тут… Тут я увидел, как, разорвав завесу пыли, словно пройдя сквозь дым пожарища, показался высокий, складный мужик. Он шел, опустив руки, с поникшей головой…
— Он, — прошептала мать и судорожно обняла меня за плечи. Но сейчас я уже не разделял маминого страха: по дороге шагал совсем не страшный человек, хотя его именем пугали детей, — он был какой-то грустный, притихший, шел немного сгорбившись, словно придавленный непосильной ношей, и только одним отличался от тех, что стояли стеной на дороге, — в его опущенной руке был карабин.
Подошел к ощетинившейся вилами и топорами людской стене и остановился. Я приоткрыл окно.
— Кого из вас я ограбил, люди? — спросил человек громко, но мягко.
Стена покачнулась, но молчала.
— Кому петуха пустил, ребенка обидел, дочку обесчестил? — спрашивал он, обводя взглядом лица людей. — Я же за вас… против панов, которым скоро конец… Зачем вы с вилами?.. Подымайтесь лучше против панов да флаги красные вывешивайте… Да полицаев бейте — вон они, все село оцепили…
Стена молчала, но уже расступилась — каждый поближе к своим воротам. А потом чей-то глухой голос из толпы:
— Иди от нас, мы хотим жить спокойно…
— Эх, люди… люди! — почти прошептал человек, поднял руку и с силой швырнул карабин в дорожную пыль.
Еще один миг постоял, пытаясь заглянуть в глаза людям, но те, опустив головы, расступались молча, открывали ему проход, а сами жались каждый к своему тыну.
И по этому проходу, не оборачиваясь, прошел Гомик пыльной улицей и скрылся за вербами.
А низкие хаты печально смотрели ему вслед запыленными окнами, и казалось, бельма были у них на глазах.
Опустела улица. Только карабин Гомика чернел посреди дороги.
Его не поднял никто.
…А на следующий день, в воскресенье, в сельской читальне ставили пьесу «Довбуш».
Наконец-то!
Целый год волостная полиция не разрешала, два раза разгоняла людей после первого действия. Село роптало, молодежь возмущалась: кто имеет право запрещать пьесу про легендарного опришка?!
Послали в уезд делегацию «просвитян». И наконец из уезда прибыло разрешение.
Шло третье действие. Я стоял у входа, в толпе мальчишек, на цыпочках, вытянув шею, глядел на сцену. Я еще не умел толком разобраться в содержании пьесы и чуть не плакал оттого, что не мог распознать, кто из этих людей, одетых в набивные кептари[9], в разукрашенных цветами кресанях, — кто из них Довбуш?
А мне так хотелось увидеть его, этого опришка, о котором рассказывали сказки на сон грядущий, этого разбойника, которым почему-то не пугали детей, а убаюкивали.
Ах, вот он… на сцену вышел тот самый человек, который вчера бросил карабин на пыльную дорогу… Люди в зале ахнули и затаили дыхание.
«Это же Гомик в роли самого Довбуша, — подумал я. — Почему же тогда Гомика боялись и малышей им пугали?»
Гомик гневно посмотрел на оторопевших артистов, окинул взглядом онемевший от страха зал и крикнул:
— Довбуша чествуете? А панов боитесь!! Не вам… не вам подпоясываться опришковскими поясами!
Я спокойно всматривался в него в то мгновение, пока люди не успели еще вскрикнуть. Ведь я думал, что все так и должно быть на сцене, — разве не он играет Довбуша?
Гомик расстегнул кептарь, вынул пистолет и так же, как тогда, на дороге, с горечью сказал:
— Люди… Эх, люди!..
Грянул выстрел. Я вздрогнул. Сердце мое колотилось. «Наверное, в какого-то пана», — подумал, но тут же увидел, что упал сам Довбуш и его сорочку залила кровь. «Убили!.. Ну да, его и должны были убить».
Только я не понимал, почему кричали люди и теснились к выходу, почему в дверях на противоположной стороне зала появились полицейские.
Я стоял за косяком двери, трясся от страха и широко раскрытыми глазами смотрел на мертвого вожака опришков…
…Мои воспоминания рассеял новый гром аплодисментов, раздавшихся прямо над моей головой. Занавес поднялся еще раз. Иван Базилюк, прославленный красный партизан Великой Отечественной войны, мой ровесник, поправляя на себе опришковский пояс и скромно и виновато улыбаясь, низко кланялся со сцены гудевшим от восторга зрителям.
1964
Доктор Бровко
 Последние лучи осеннего солнца освещали почерневшие крыши строений. Бледнели, скользили и гасли. Оседала на улицах пыль, на площадях города затихал шум, с грохотом опускали лавочники железные шторы магазинов.
Я торопился из гимназии к бурсе. На повороте к ратуше наткнулся на человека.
— Прошу прощения.
Среднего роста человечек, худой, лицо в морщинах. Серые, блестящие, будто стеклянные, глаза взглянули поверх сдвинутых на самый кончик носа очков и растерянно улыбнулись.
— Добрый вечер, господин.
— Доброго здоровья…
Я посторонился, чтобы обойти его, но человечек вновь преградил мне дорогу. Правой рукой он затолкал в рот кусок хлеба, а левой сделал какой-то жест, будто хотел что-то спросить у меня.
Я присмотрелся повнимательнее к этой странной фигуре.
Старое зимнее пальто, подпоясанное шнурком, обвисшие поля шляпы, ботинки, перевязанные шпагатом через подошву. Под мышкой — туго набитый портфель, из которого выглядывал старый словарь латинского языка.
— Я очень рад, господин, что вижу вас, — говорил человечек быстро, словно боялся, что я его перебью, — вы давно мне нравитесь, да только никак не удавалось завязать с вами разговор.
— Чем могу служить?
— Я владею шестью языками: латинским, греческим, — перечислял он, загибая пальцы, — и… и… французским, английским и… итальянским. Кроме того, знаю чешский, сербский, словацкий. Я бы с радостью взял ученика за низкую плату. За год-полтора овладеет иностранным языком. Может, вы порекомендуете кого-нибудь?
Я посмотрел на незнакомого как на какого-то сумасшедшего.
— Вы разрешили себе немного развлечься, господин, но у меня мало времени, и мне не до шуток.
Он посмотрел на меня глазами, полными укора и обиды. Мне даже показалось, что они повлажнели.
— Прошу принять к сведению, что я доктор философии, — и он поднял очки на лоб. — Мой адрес: Петра Скарги, шестнадцать. Доктор Бровко. До свидания!
Повернулся и пошел.
Я стоял, сбитый с толку, и смотрел вслед печальной фигуре. Вдруг из соседней улицы вылетела стайка ребятишек.
— Доктор Бровко, доктор Бровко! Тяв-тяв-тяв! Бровка, иди сюда! Гав-гав-гав! — Они дергали его за полы старого пальто, тащили в сторону, бросали в него комочками земли.
Доктор Бровко бросился бежать, но напрасно. Уличные мальчишки окружили его со всех сторон. Тогда он посмотрел беспомощно кругом и заскулил:
— И чего вы опять хотите от меня?
В стороне стоял полицейский и задыхался от смеха. Я подбежал к нему:
— Наведите порядок!
— Господин хочет быть патроном этого идиота? Не советую, не советую вам, господин!
Тогда я один бросился к мальчишкам, разогнал их, взял доктора под руку, и мы пошли боковой улицей. За углом он посмотрел на меня с благодарностью, утер слезу и крепко пожал мне руку.
— Заходите как-нибудь ко мне, господин.
— Спасибо, зайду.
В самом конце улицы Петра Скарги стоял одинокий, как круглая сирота, домик. Старенький заборчик и четыре куста сирени отделяли его от длинного блока высоких домов. Потрескавшиеся стены, подгнившие ступеньки на крыльце и старомодный шнурковый звонок на дверях.
За этот шнурок я дергал через два дня после приключения с доктором Бровко.
За дверью кто-то бубнил стихи Овидия. Я улыбнулся по поводу такой предвечерней молитвы, хотел было уже повернуть обратно, но любопытство все же победило. Дернул еще раз за шнурок. Послышался кашель, дверь распахнулась.
— А-а, мое почтенье! Я верил, что вы придете! Прошу, прошу!
Густой запах плесени, пота и прокисшей пищи ударил в лицо. На столе — гора книг и немытая кастрюля, на вешалке — зимнее пальто, — это, видимо, все добро доктора Бровко.
— Вы сами решили брать у меня уроки?
— Да, по английскому языку.
— Имеете понятие об этом языке?
— Очень слабое.
— Садитесь, начнем.
Меня поразили педагогические способности этого ученого чудака доктора.
Я быстро освоил азы английского языка.
Доктор Бровко упорно над чем-то работал. Я постоянно заставал его за книгами. На мои вопросы он не давал точного ответа. Говорил об оттенках в диалектах эпохи вульгарной латыни, о новом проекте международной фонетической транскрипции, о языке эсперанто, — видимо, он писал новую научную работу.
Однажды я довольно неосторожно спросил, верит ли он, что исследования будут опубликованы. Доктор посмотрел на меня, подумал и тяжко вздохнул.
— Нет…
— Расскажите что-либо о себе, доктор.
Он устремил на меня свой взгляд, и в нем я заметил какой-то неистовый огонек. Но тут же он опустил низко голову и прошептал:
— До свидания, друг мой…
Проходили месяцы. Однажды мне пришлось очень долго ожидать доктора. Уже стемнело, когда с улицы донесся крик, шум детских голосов, смех. Я понял, что произошло. Сбежал с веранды, прогнал детвору и ввел доктора в комнату.
Обессиленный, он упал в кресло и заплакал, как дитя.
Успокоившись, сказал:
— Нет, нет, я не боюсь детей, но эта их наивная и жестокая травля наводит на меня такой ужас, что иногда мне кажется — сойду с ума… Вам трудно будет понять, вы не осудите меня, когда услышите мой рассказ…
…Я ничего не сделал для бессмертия, мой друг. Это смешно звучит, правда? Но сама история всей моей жизни стала бы бессмертной, если бы в мире жили только счастливые люди. Да что там… Много на свете таких, как я, энтузиастов, готовых работать в поте лица для людей и неспособных заработать куска хлеба для себя.
Я родился в убогой крестьянской семье на Покутье. Меня отдали учиться портняжному делу. Но я тянулся к книге. Тайком, чтобы отец не знал, прибегал я в школу. Добрая учительница заметила мои способности и посоветовала отцу послать меня учиться в город. Он, помню, посмотрел на нее удивленно и громко рассмеялся.
«Я, пани, вас уважаю, но если вы будете говорить такие глупости… — Лицо его налилось злостью. — Нищета нас заедает… вот что».
Я расплакался и прижался к моей доброй учительнице, будто хотел защитить ее от рассвирепевшего отца.
«Я хочу в школу!»
Отец размахнулся, но худенькая рука учительницы закрыла мое лицо.
«Не горячитесь. Я выучу вашего сына за свой счет».
Так я очутился в гимназии. Потом с огромными трудностями был зачислен на философский факультет университета во Львове. И здесь я встретился со своей судьбой, здесь и началась трагедия моей жизни.
Университет раскрыл передо мною новый мир. Когда-то в гимназии я знал только книжку, а больше ничего и знать не хотел. Ни насмешки, ни добрые советы, ни горькие обиды не будили во мне желания бороться против зла и несправедливости. Как вол в ярме, никогда не задумывался я даже над причинами личного горя.
А здесь словно полуду кто-то снял с моих глаз. Я увидел, что книги, а вместе с ними и студент, абстрагированный от всего окружающего, — это еще не все в моей жизни.
Она совсем иная. Какая — я еще не знал, но должен был познавать, потому что она расстилала предо мной совсем иную дорогу.
Лекции, диспуты, кружки — как всего этого было мало! Мы говорили обо всем. Наши молодые сердца жаждали чего-то высокого, недосягаемого. Мы готовы были посвятить себя борьбе, но за что?
Трудно теперь сказать, за что. Я бился о стены действительности, но выхода не находил. Межнациональная грызня, дешевые споры буржуазных партий, патетические речи… Но правды, простойжизненной мудрости, я не видел нигде. И подчас сомнения просачивались в душу.
Это было ужасно. Я задыхался в отравленной атмосфере и начинал ненавидеть все.
И вот я встретил человека. Это была простая польская девушка, работница Гелька.
На одном из литературных вечеров я выступил с докладом о значении художественной литературы для развития индивидуума и общества. Мне аплодировали за смелые мысли. «Для нас нет авторитетов, для нас нет религии, богов, — заканчивал я свое выступление. — Мы верим в правду. Не является ли правда для нас своеобразным божком? Кто видел то, что должно стоять за этим словом? Кто может конкретизировать эту абстракцию? Кто найдет ключ, чтобы прочитать этот известный всем иероглиф? Кто сможет заполнить это пустое слово жизнью?»
Я не думал над тем, от чьего имени я говорю, не знал, к кому обращаюсь. И никто не думал отвечать на мои вопросы.
В коридоре ко мне подошла девушка. Она отличалась от других простой одеждой, внешностью и манерами. Лицом — даже некрасива, только темные серьезные глаза поразили меня.
— Позвольте вас спросить… — Она смущенным движением руки провела по коротким волнистым волосам. Фигурка ее мне показалась совсем маленькой, а глаза смотрели прямо. — Я не студентка, я мало понимаю, может, но интересуюсь… Позвольте вас спросить: что вы понимаете под словом «жизнь» и как вы хотите заполнить пустоту, о которой только что говорили?
Я не смог ничего ответить. И верно, задумывался ли я глубоко до этой минуты над словом «жизнь»? А передо мною стояла она, такая простая и непосредственная, с потрескавшимися кончиками пальцев натруженных рук, и ждала ответа. А я молчал. Первый раз в жизни не мог ответить на вопрос. Мысли бросились в мой багаж знаний, пролетели мимо всех философских трактатов, какие я только знал, и вернулись к ее глазам.
«Я часто слушала вас… Извините… вы сами не знаете, чего хотите».
«А вы?»
«Мы знаем».
«Кто „мы“?»
«Приходите на Цитадельную, восемь, квартира три. Сегодня…»
…На Цитадельной я познакомился с особенными людьми. Здесь были украинцы, евреи, поляки. Измученные работой лица, не отмывающиеся от машинного масла руки, липкая одежда трубочиста…
Здесь не было абстрактных профессорских лекций, пустых дискуссий. Здесь падали веские слова, угловатые и твердые, как каменья из-под молота каменотеса:
«Эксплуатация… Забастовка… Рабочая честь… Борьба за свои права…»
Это были рабочие люди, может быть члены профсоюза, которые решили бороться за свою рабочую правду. В рамках существовавшей легальности они говорили о своих правах. Слушая их, я много думал о жизни. Моя неуверенность начинала исчезать. Нет, жизнь не суета. Жизнь — это эстафета. Каждый берет ее у своего предшественника, пробегает свою дистанцию и передает эстафету молодому поколению.
Мне доверяли, меня слушали, но никто не вовлекал меня в рабочую организацию. С Гелькой мы проводили в разговорах и спорах целые вечера. Мы дополняли друг друга: я — знаниями, она — практическим жизненным опытом. Нас связывало что-то более глубокое, чем наука, поэзия или философия, чем любовь. Мы тосковали, если не виделись сутки, и встречались с неприкрытой радостью…
Я многим обязан ей за то, что она помогала мне в жизни, и горюю, что не нашел в себе сил идти с нею до конца.
Доктор плакал… Не утирая слез, продолжал:
— Со временем я поместил статью в одной газете: «Как надо бороться, или Почему мы нищие?». Статья наделала много шуму, появились отклики, волною пронеслись дискуссии в клубах, тавернах, студенческих кружках. Со мною знакомились, меня приглашали на заседания представители разных партий, вслед мне швыряли камни в темных улочках, я получал анонимные письма с угрозами. Я был героем дня в мутном ореоле славы. Гелька была счастлива. На Цитадельной ко мне начали относиться с уважением, советовались со мною, считались с моими соображениями.
Наконец Гелька сказала — готовится общая забастовка.
В этот день ректор вызвал меня на аудиенцию. Он предложил мне написать в эту самую газету статью, в которой я должен был раскритиковать самого себя, отказаться от своих взглядов, признать свои радикальные утверждения ошибкой молодого ума.
«Это невозможно, господин профессор».
«Тогда вам придется оставить стены университета».
«Это наделает шуму больше, чем моя статья, профессор. Вам невыгодно».
Далее ректор обошелся со мною удивительно спокойно. Даже попросил прощения. Но его колючая усмешка заставила меня задуматься. Какое-то предчувствие тревожило меня целыми днями. Я хотел поделиться с Гелькой своими опасениями, но боялся, что она назовет меня трусом. Хотелось поговорить хоть с кем-нибудь.
Через несколько дней встретил на Академической знакомых из университета. Было послеобеденное время — я в эти часы обычно возвращался домой. Они будто поджидали меня. Стояли на углу, курили, а увидев меня, подошли и засыпали вопросами: что нового, какие отклики на статью, не собираюсь ли написать новую…
Среди них были мои явные недруги. Лозинский, несколько дней тому назад назвавший меня глашатаем хамских идей, теперь расплылся в дружеской улыбке, рассыпал по моему адресу похвалы и наконец предложил выпить пива.
Мы зашли в погребок. Вместо пива на столе появилось шампанское, и у меня, непривычного к хмельному, закружилась голова.
А Лозинский от политических тем переходил к шуткам, рассказывал двусмысленные анекдоты, все хохотали, а я не знал, как мне вырваться из этой компании.
«Господа! — поднял Лозинский бокал. — Позвольте мне от вашего имени поблагодарить господина Бровко, что не пренебрег и зашел выпить с нами бокальчик».
Все притихли.
«Мы все его знаем. Этот человек прекрасен если не внешностью своей, то золотыми богатствами своей души. Это способный и, я бы сказал, почти гениальный человек нашего времени».
Я поднялся, чтобы остановить его, но Лозинский продолжал:
«Родина его — село Дубовино — прекрасная, почти сказочная местность. Это страна романтики, песен, добрых мужланов и медведей!»
«Замолчите!» — крикнул я не своим голосом, но в ответ поднялся хохот и свист. Кругом собралось много незнакомых людей. Я понял: это компрометация, трюк ректора. И решил вырваться, но…
«Пустите его! — выкрикнул кто-то. — Он торопится к Гельке!»
«Гельке? Швейке? Это новость для нас! Господин Бровко водится с проститутками?»
Один подлец зашатался от удара кулаком в лицо, второй получил бутылкой шампанского…
Опомнился я, когда меня связывали и несли на улицу.
«Что случилось?» — спрашивали в толпе.
«Он свихнулся».
«О, матка боска!»
Вы, вероятно, не допускаете, мой дорогой, что я угодил в сумасшедший дом, где пробыл месяц. Все было сработано чисто. Психиатры признали меня больным. А далее… Нет, не буду рассказывать, это очень уж тяжело. Я не перенес всего. Что-то надломилось в моей душе, в моем сознании, куда отравой влились слабость и испуг.
Уже никому не страшный, вернулся я снова в университет. Согласился написать реабилитационную статью. Вскоре вышла другая заметка — «Блуждания молодого энтузиаста». После появления этой статьи я долго — без мыслей, без желаний, без жизни — лежал на своем топчане и ничего не хотел, кроме смерти. И вы знаете, — доктор сжал ладонями виски, — я тогда слышал этот насмешливый вой вокруг — пренебрежение и оскорбления. И потому сейчас я боюсь крика этих детей…
Это наказание, бич за мою слабость, за измену друзьям и самому себе… Я боюсь, что сойду с ума когда-нибудь.
Как-то вечером отворились двери моей комнаты. Я думал — галлюцинация. Но нет, это была Гелька. Маленькая, с худыми плечиками, с темными глазами. Она медленно подходила ко мне, глядя на меня в упор. В ее взгляде я читал свой приговор, в ее глазах я в последний раз видел правду, которую искал всю жизнь. Но я уже не мог достичь ее — руки мои были замараны.
Поднявшись, ждал слова, ждал удара в лицо, ждал всего, только не этого молчаливого презрения.
Искал слезинки в ее глазах, малейшего сочувствия — напрасно. Ничего, кроме презрения, не нашел.
Она ушла. Навсегда. А я остался одиноким. Одиноким на всю жизнь, со своим больным, разбитым сердцем. Вот и все, друг мой.
Я еще мог рассказать, как защищал магистерскую, а потом докторскую диссертацию, как в конце концов мне не дали работы. Теперь я подхожу к концу своего пути, а другим передать нечего.
Я пристально посмотрел на доктора. Его лицо было очень бледным, а странный блеск в глазах испугал меня. Минуту стояла гнетущая тишина. Потом он попросил оставить его одного.
…Через несколько дней я зашел к доктору Бровко на очередной урок английского языка. На дверях висел огромный замок. От соседей узнал, что доктор умер и его похоронили на городском кладбище.
Еще и сегодня могу показать его могилу. Она едва заметна среди травы и цветов. И все же, когда я прохожу мимо, снимаю шапку и думаю: «Что передал бедный доктор пришедшему поколению, что я взял от него?»
Взял. Его слабость научила меня быть стойким в борьбе.
Последние лучи осеннего солнца освещали почерневшие крыши строений. Бледнели, скользили и гасли. Оседала на улицах пыль, на площадях города затихал шум, с грохотом опускали лавочники железные шторы магазинов.
Я торопился из гимназии к бурсе. На повороте к ратуше наткнулся на человека.
— Прошу прощения.
Среднего роста человечек, худой, лицо в морщинах. Серые, блестящие, будто стеклянные, глаза взглянули поверх сдвинутых на самый кончик носа очков и растерянно улыбнулись.
— Добрый вечер, господин.
— Доброго здоровья…
Я посторонился, чтобы обойти его, но человечек вновь преградил мне дорогу. Правой рукой он затолкал в рот кусок хлеба, а левой сделал какой-то жест, будто хотел что-то спросить у меня.
Я присмотрелся повнимательнее к этой странной фигуре.
Старое зимнее пальто, подпоясанное шнурком, обвисшие поля шляпы, ботинки, перевязанные шпагатом через подошву. Под мышкой — туго набитый портфель, из которого выглядывал старый словарь латинского языка.
— Я очень рад, господин, что вижу вас, — говорил человечек быстро, словно боялся, что я его перебью, — вы давно мне нравитесь, да только никак не удавалось завязать с вами разговор.
— Чем могу служить?
— Я владею шестью языками: латинским, греческим, — перечислял он, загибая пальцы, — и… и… французским, английским и… итальянским. Кроме того, знаю чешский, сербский, словацкий. Я бы с радостью взял ученика за низкую плату. За год-полтора овладеет иностранным языком. Может, вы порекомендуете кого-нибудь?
Я посмотрел на незнакомого как на какого-то сумасшедшего.
— Вы разрешили себе немного развлечься, господин, но у меня мало времени, и мне не до шуток.
Он посмотрел на меня глазами, полными укора и обиды. Мне даже показалось, что они повлажнели.
— Прошу принять к сведению, что я доктор философии, — и он поднял очки на лоб. — Мой адрес: Петра Скарги, шестнадцать. Доктор Бровко. До свидания!
Повернулся и пошел.
Я стоял, сбитый с толку, и смотрел вслед печальной фигуре. Вдруг из соседней улицы вылетела стайка ребятишек.
— Доктор Бровко, доктор Бровко! Тяв-тяв-тяв! Бровка, иди сюда! Гав-гав-гав! — Они дергали его за полы старого пальто, тащили в сторону, бросали в него комочками земли.
Доктор Бровко бросился бежать, но напрасно. Уличные мальчишки окружили его со всех сторон. Тогда он посмотрел беспомощно кругом и заскулил:
— И чего вы опять хотите от меня?
В стороне стоял полицейский и задыхался от смеха. Я подбежал к нему:
— Наведите порядок!
— Господин хочет быть патроном этого идиота? Не советую, не советую вам, господин!
Тогда я один бросился к мальчишкам, разогнал их, взял доктора под руку, и мы пошли боковой улицей. За углом он посмотрел на меня с благодарностью, утер слезу и крепко пожал мне руку.
— Заходите как-нибудь ко мне, господин.
— Спасибо, зайду.
В самом конце улицы Петра Скарги стоял одинокий, как круглая сирота, домик. Старенький заборчик и четыре куста сирени отделяли его от длинного блока высоких домов. Потрескавшиеся стены, подгнившие ступеньки на крыльце и старомодный шнурковый звонок на дверях.
За этот шнурок я дергал через два дня после приключения с доктором Бровко.
За дверью кто-то бубнил стихи Овидия. Я улыбнулся по поводу такой предвечерней молитвы, хотел было уже повернуть обратно, но любопытство все же победило. Дернул еще раз за шнурок. Послышался кашель, дверь распахнулась.
— А-а, мое почтенье! Я верил, что вы придете! Прошу, прошу!
Густой запах плесени, пота и прокисшей пищи ударил в лицо. На столе — гора книг и немытая кастрюля, на вешалке — зимнее пальто, — это, видимо, все добро доктора Бровко.
— Вы сами решили брать у меня уроки?
— Да, по английскому языку.
— Имеете понятие об этом языке?
— Очень слабое.
— Садитесь, начнем.
Меня поразили педагогические способности этого ученого чудака доктора.
Я быстро освоил азы английского языка.
Доктор Бровко упорно над чем-то работал. Я постоянно заставал его за книгами. На мои вопросы он не давал точного ответа. Говорил об оттенках в диалектах эпохи вульгарной латыни, о новом проекте международной фонетической транскрипции, о языке эсперанто, — видимо, он писал новую научную работу.
Однажды я довольно неосторожно спросил, верит ли он, что исследования будут опубликованы. Доктор посмотрел на меня, подумал и тяжко вздохнул.
— Нет…
— Расскажите что-либо о себе, доктор.
Он устремил на меня свой взгляд, и в нем я заметил какой-то неистовый огонек. Но тут же он опустил низко голову и прошептал:
— До свидания, друг мой…
Проходили месяцы. Однажды мне пришлось очень долго ожидать доктора. Уже стемнело, когда с улицы донесся крик, шум детских голосов, смех. Я понял, что произошло. Сбежал с веранды, прогнал детвору и ввел доктора в комнату.
Обессиленный, он упал в кресло и заплакал, как дитя.
Успокоившись, сказал:
— Нет, нет, я не боюсь детей, но эта их наивная и жестокая травля наводит на меня такой ужас, что иногда мне кажется — сойду с ума… Вам трудно будет понять, вы не осудите меня, когда услышите мой рассказ…
…Я ничего не сделал для бессмертия, мой друг. Это смешно звучит, правда? Но сама история всей моей жизни стала бы бессмертной, если бы в мире жили только счастливые люди. Да что там… Много на свете таких, как я, энтузиастов, готовых работать в поте лица для людей и неспособных заработать куска хлеба для себя.
Я родился в убогой крестьянской семье на Покутье. Меня отдали учиться портняжному делу. Но я тянулся к книге. Тайком, чтобы отец не знал, прибегал я в школу. Добрая учительница заметила мои способности и посоветовала отцу послать меня учиться в город. Он, помню, посмотрел на нее удивленно и громко рассмеялся.
«Я, пани, вас уважаю, но если вы будете говорить такие глупости… — Лицо его налилось злостью. — Нищета нас заедает… вот что».
Я расплакался и прижался к моей доброй учительнице, будто хотел защитить ее от рассвирепевшего отца.
«Я хочу в школу!»
Отец размахнулся, но худенькая рука учительницы закрыла мое лицо.
«Не горячитесь. Я выучу вашего сына за свой счет».
Так я очутился в гимназии. Потом с огромными трудностями был зачислен на философский факультет университета во Львове. И здесь я встретился со своей судьбой, здесь и началась трагедия моей жизни.
Университет раскрыл передо мною новый мир. Когда-то в гимназии я знал только книжку, а больше ничего и знать не хотел. Ни насмешки, ни добрые советы, ни горькие обиды не будили во мне желания бороться против зла и несправедливости. Как вол в ярме, никогда не задумывался я даже над причинами личного горя.
А здесь словно полуду кто-то снял с моих глаз. Я увидел, что книги, а вместе с ними и студент, абстрагированный от всего окружающего, — это еще не все в моей жизни.
Она совсем иная. Какая — я еще не знал, но должен был познавать, потому что она расстилала предо мной совсем иную дорогу.
Лекции, диспуты, кружки — как всего этого было мало! Мы говорили обо всем. Наши молодые сердца жаждали чего-то высокого, недосягаемого. Мы готовы были посвятить себя борьбе, но за что?
Трудно теперь сказать, за что. Я бился о стены действительности, но выхода не находил. Межнациональная грызня, дешевые споры буржуазных партий, патетические речи… Но правды, простойжизненной мудрости, я не видел нигде. И подчас сомнения просачивались в душу.
Это было ужасно. Я задыхался в отравленной атмосфере и начинал ненавидеть все.
И вот я встретил человека. Это была простая польская девушка, работница Гелька.
На одном из литературных вечеров я выступил с докладом о значении художественной литературы для развития индивидуума и общества. Мне аплодировали за смелые мысли. «Для нас нет авторитетов, для нас нет религии, богов, — заканчивал я свое выступление. — Мы верим в правду. Не является ли правда для нас своеобразным божком? Кто видел то, что должно стоять за этим словом? Кто может конкретизировать эту абстракцию? Кто найдет ключ, чтобы прочитать этот известный всем иероглиф? Кто сможет заполнить это пустое слово жизнью?»
Я не думал над тем, от чьего имени я говорю, не знал, к кому обращаюсь. И никто не думал отвечать на мои вопросы.
В коридоре ко мне подошла девушка. Она отличалась от других простой одеждой, внешностью и манерами. Лицом — даже некрасива, только темные серьезные глаза поразили меня.
— Позвольте вас спросить… — Она смущенным движением руки провела по коротким волнистым волосам. Фигурка ее мне показалась совсем маленькой, а глаза смотрели прямо. — Я не студентка, я мало понимаю, может, но интересуюсь… Позвольте вас спросить: что вы понимаете под словом «жизнь» и как вы хотите заполнить пустоту, о которой только что говорили?
Я не смог ничего ответить. И верно, задумывался ли я глубоко до этой минуты над словом «жизнь»? А передо мною стояла она, такая простая и непосредственная, с потрескавшимися кончиками пальцев натруженных рук, и ждала ответа. А я молчал. Первый раз в жизни не мог ответить на вопрос. Мысли бросились в мой багаж знаний, пролетели мимо всех философских трактатов, какие я только знал, и вернулись к ее глазам.
«Я часто слушала вас… Извините… вы сами не знаете, чего хотите».
«А вы?»
«Мы знаем».
«Кто „мы“?»
«Приходите на Цитадельную, восемь, квартира три. Сегодня…»
…На Цитадельной я познакомился с особенными людьми. Здесь были украинцы, евреи, поляки. Измученные работой лица, не отмывающиеся от машинного масла руки, липкая одежда трубочиста…
Здесь не было абстрактных профессорских лекций, пустых дискуссий. Здесь падали веские слова, угловатые и твердые, как каменья из-под молота каменотеса:
«Эксплуатация… Забастовка… Рабочая честь… Борьба за свои права…»
Это были рабочие люди, может быть члены профсоюза, которые решили бороться за свою рабочую правду. В рамках существовавшей легальности они говорили о своих правах. Слушая их, я много думал о жизни. Моя неуверенность начинала исчезать. Нет, жизнь не суета. Жизнь — это эстафета. Каждый берет ее у своего предшественника, пробегает свою дистанцию и передает эстафету молодому поколению.
Мне доверяли, меня слушали, но никто не вовлекал меня в рабочую организацию. С Гелькой мы проводили в разговорах и спорах целые вечера. Мы дополняли друг друга: я — знаниями, она — практическим жизненным опытом. Нас связывало что-то более глубокое, чем наука, поэзия или философия, чем любовь. Мы тосковали, если не виделись сутки, и встречались с неприкрытой радостью…
Я многим обязан ей за то, что она помогала мне в жизни, и горюю, что не нашел в себе сил идти с нею до конца.
Доктор плакал… Не утирая слез, продолжал:
— Со временем я поместил статью в одной газете: «Как надо бороться, или Почему мы нищие?». Статья наделала много шуму, появились отклики, волною пронеслись дискуссии в клубах, тавернах, студенческих кружках. Со мною знакомились, меня приглашали на заседания представители разных партий, вслед мне швыряли камни в темных улочках, я получал анонимные письма с угрозами. Я был героем дня в мутном ореоле славы. Гелька была счастлива. На Цитадельной ко мне начали относиться с уважением, советовались со мною, считались с моими соображениями.
Наконец Гелька сказала — готовится общая забастовка.
В этот день ректор вызвал меня на аудиенцию. Он предложил мне написать в эту самую газету статью, в которой я должен был раскритиковать самого себя, отказаться от своих взглядов, признать свои радикальные утверждения ошибкой молодого ума.
«Это невозможно, господин профессор».
«Тогда вам придется оставить стены университета».
«Это наделает шуму больше, чем моя статья, профессор. Вам невыгодно».
Далее ректор обошелся со мною удивительно спокойно. Даже попросил прощения. Но его колючая усмешка заставила меня задуматься. Какое-то предчувствие тревожило меня целыми днями. Я хотел поделиться с Гелькой своими опасениями, но боялся, что она назовет меня трусом. Хотелось поговорить хоть с кем-нибудь.
Через несколько дней встретил на Академической знакомых из университета. Было послеобеденное время — я в эти часы обычно возвращался домой. Они будто поджидали меня. Стояли на углу, курили, а увидев меня, подошли и засыпали вопросами: что нового, какие отклики на статью, не собираюсь ли написать новую…
Среди них были мои явные недруги. Лозинский, несколько дней тому назад назвавший меня глашатаем хамских идей, теперь расплылся в дружеской улыбке, рассыпал по моему адресу похвалы и наконец предложил выпить пива.
Мы зашли в погребок. Вместо пива на столе появилось шампанское, и у меня, непривычного к хмельному, закружилась голова.
А Лозинский от политических тем переходил к шуткам, рассказывал двусмысленные анекдоты, все хохотали, а я не знал, как мне вырваться из этой компании.
«Господа! — поднял Лозинский бокал. — Позвольте мне от вашего имени поблагодарить господина Бровко, что не пренебрег и зашел выпить с нами бокальчик».
Все притихли.
«Мы все его знаем. Этот человек прекрасен если не внешностью своей, то золотыми богатствами своей души. Это способный и, я бы сказал, почти гениальный человек нашего времени».
Я поднялся, чтобы остановить его, но Лозинский продолжал:
«Родина его — село Дубовино — прекрасная, почти сказочная местность. Это страна романтики, песен, добрых мужланов и медведей!»
«Замолчите!» — крикнул я не своим голосом, но в ответ поднялся хохот и свист. Кругом собралось много незнакомых людей. Я понял: это компрометация, трюк ректора. И решил вырваться, но…
«Пустите его! — выкрикнул кто-то. — Он торопится к Гельке!»
«Гельке? Швейке? Это новость для нас! Господин Бровко водится с проститутками?»
Один подлец зашатался от удара кулаком в лицо, второй получил бутылкой шампанского…
Опомнился я, когда меня связывали и несли на улицу.
«Что случилось?» — спрашивали в толпе.
«Он свихнулся».
«О, матка боска!»
Вы, вероятно, не допускаете, мой дорогой, что я угодил в сумасшедший дом, где пробыл месяц. Все было сработано чисто. Психиатры признали меня больным. А далее… Нет, не буду рассказывать, это очень уж тяжело. Я не перенес всего. Что-то надломилось в моей душе, в моем сознании, куда отравой влились слабость и испуг.
Уже никому не страшный, вернулся я снова в университет. Согласился написать реабилитационную статью. Вскоре вышла другая заметка — «Блуждания молодого энтузиаста». После появления этой статьи я долго — без мыслей, без желаний, без жизни — лежал на своем топчане и ничего не хотел, кроме смерти. И вы знаете, — доктор сжал ладонями виски, — я тогда слышал этот насмешливый вой вокруг — пренебрежение и оскорбления. И потому сейчас я боюсь крика этих детей…
Это наказание, бич за мою слабость, за измену друзьям и самому себе… Я боюсь, что сойду с ума когда-нибудь.
Как-то вечером отворились двери моей комнаты. Я думал — галлюцинация. Но нет, это была Гелька. Маленькая, с худыми плечиками, с темными глазами. Она медленно подходила ко мне, глядя на меня в упор. В ее взгляде я читал свой приговор, в ее глазах я в последний раз видел правду, которую искал всю жизнь. Но я уже не мог достичь ее — руки мои были замараны.
Поднявшись, ждал слова, ждал удара в лицо, ждал всего, только не этого молчаливого презрения.
Искал слезинки в ее глазах, малейшего сочувствия — напрасно. Ничего, кроме презрения, не нашел.
Она ушла. Навсегда. А я остался одиноким. Одиноким на всю жизнь, со своим больным, разбитым сердцем. Вот и все, друг мой.
Я еще мог рассказать, как защищал магистерскую, а потом докторскую диссертацию, как в конце концов мне не дали работы. Теперь я подхожу к концу своего пути, а другим передать нечего.
Я пристально посмотрел на доктора. Его лицо было очень бледным, а странный блеск в глазах испугал меня. Минуту стояла гнетущая тишина. Потом он попросил оставить его одного.
…Через несколько дней я зашел к доктору Бровко на очередной урок английского языка. На дверях висел огромный замок. От соседей узнал, что доктор умер и его похоронили на городском кладбище.
Еще и сегодня могу показать его могилу. Она едва заметна среди травы и цветов. И все же, когда я прохожу мимо, снимаю шапку и думаю: «Что передал бедный доктор пришедшему поколению, что я взял от него?»
Взял. Его слабость научила меня быть стойким в борьбе.
1956
Зима не вечна
 — Марина, Марина! Где вы? А-гей!..
Нет ответа. Марина старенькая и плоховато слышит, а подчас и нарочно не отзывается, потому что госпожа Анеля ей уже надоела. Вот так целый день. Анеле одной страшно оставаться в доме, перебирать пух в старых перинах или гадать на засаленных картах, а потом, бросив все, выскакивать на крыльцо и звать, надрываться.
Соседи втихомолку посмеиваются:
— Пропала бы поповская дочь без Марины, как собака на ярмарке.
— И все же это неблагодарное поповское семя со дня на день откладывает заключение контракта. Марина давно уже жалуется.
А сегодня было так.
Возвращались они вдвоем с базара. Каждый четверг вместе идут из города. Высокая, сгорбленная от старости Марина несет покупки и гнется под их тяжестью. Вполовину меньше ее, старая дева Анеля ничего не несет, потому что у них повелось еще с тех прежних времен: Анеля — госпожа, Марина — служанка.
С самого раннего утра сегодня сек холодный ноябрьский ветер с дождем. Осенняя слякоть навевает на Марину хворь, Анеле напоминает ее обещание — переписать на имя служанки половину дома.
Возвращаясь с базара, Анеля вспомнила об этом и, забыв все на свете, озабоченная, побежала, оставив далеко позади расхворавшуюся Марину, которая не могла ее ни догнать, ни докричаться.
Прибежала и трясла запертую дверь.
— Да где же вы, Марина?! — который уже раз звала и не замечала, что старая служанка, морщинистая и пожелтевшая, стоит за ее спиной и укоризненно покачивает головой.
— Здесь я, господи милостивый! Мы же вместе шли, что же вы кричите?
Анеля всплеснула руками. Бледное лицо ее осветилось виноватой улыбкой.
— Я начисто забыла. Зову и зову. Не удивляйтесь, Мариночка, вы же знаете, что я без вас как без рук.
Старуха поковыляла в дом, за нею — госпожа Анеля.
•
Для Марины свет клином не сошелся на Анелином доме, а все же она прожила в нем весь свой век. Анеля была еще маленькой, когда Марина начала служить у ее папаши-вдовца, у попа Островецкого. Никто, даже сам батюшка, не знал, что эта здоровая, милая девушка — совсем не девушка, а мать незаконнорожденной дочери. Могла бы жить вместе с нею на своем клочке, но хотелось своему ребенку дать лучшее приданое, чем полморга поля. Дочь росла у сестры, а Марина работала как вол, собрала деньжат, купила поле. В последние годы, еще при панах, хотела заняться своим собственным хозяйством, но внезапно умер Островецкий, а молодой попович, пьяница и картежник, продал все имущество и, почуяв, что в мире пахнет порохом, махнул за границу, оставив Марине беспомощную, наивную сестру — старую деву Анелю.
Анеля поплакала, но не впала в отчаяние — она же не одинока. Но та самая покорная служанка, которая с юности до седых волос не водилась с парнями, вдруг — словно гром с ясного неба — сказала:
— Пора и мне на свое, пани Анеля. Дочь моя замуж вышла, пойду к ней. Весь век работала, чтобы на старости лет приют был.
Анеля смогла лишь пролепетать:
— Дочка?! У вас? Вы совсем уходите?! А я?.. — и тут у нее подкосились ноги.
Марина осталась служить. Видно, такова ее судьба. Дочку в люди вывела, теперь будет работать для внуков. Дочери дала свое поле, старшему внуку хату даст.
Много тяжких и долгих лет провели вместе. Времена менялись, даже самое слово «служанка» вышло из употребления, а у них все шло по-старому. Анеля целыми днями просиживала за картами, читала французские романы или перебирала пух в старых перинах, Марина работала по дому с утра до вечера. В огороде кроме картофеля и овощей выращивала цветы. Пламенели у нее пионы, покачивались чайные розы, струили свои ароматы гвоздики, мята, любисток. Гневалась за это поповна. Лучше бы луку побольше, все же польза какая-то. Но, увидев, что старая прочно стоит на своем, Анеля перенесла гнев на детей, приходивших к тете Марине за цветами.
Марина не могла жить не работая. Если иногда выпадало свободное время, брала тяпку и шла с женщинами на колхозное поле. Женщины подшучивали и радовались за Марину.
— За авансом приходите завтра!
— Какой там аванс, — отвечала. — Вот скоро внучка к вам придет. Эта всех обгонит в работе. А я старая, пользы от меня мало.
Но только в работе чувствовала себя крепкой. Когда же начиналась осенняя слякоть и в огороде не оставалось ничего, кроме сухих подсолнуховых стеблей да долголетних хризантем у забора, Марина тяжко укладывалась на своем скрипучем топчане в углу под черными иконами и, поглядывая на заплаканные оконные стекла, стонала:
— Плоха я стала… совсем ослабла… Не пережить мне эту зиму.
Но это только так говорилось. Она не могла смотреть, как Анеля сама носит воду, расплескивая и обливаясь, как подгорает масло на сковородке, а молоко сбегает перед самым ее носом. Вставала и, кряхтя, делала все сама. Анеля была тогда навязчиво вежлива и ворожила ей на картах, предсказывая долгие лета и счастливую судьбу.
Марина напоминала о контракте. При упоминании об этом у Анели все валилось из рук, она просила:
— Пусть уже потеплеет, тогда пойдем вместе. Я не знаю, куда идти надо, да ведь мы не умираем, успеется, Мариночка.
Обещал пан: «Кожух дам…» Теплело — обещание забывалось.
•
Сегодня Марина чувствовала себя плохо. Едва приплелась с базара. Ломота в костях — это бы еще ничего: дышать стало нечем. Так плохо Марине не было еще никогда. Она упала на топчан, схватилась за сердце.
Анеля засуетилась. Сначала выскочила во двор, но поняла, что не туда надо бежать, метнулась обратно в дом, зацепила кресло, чуть таз с водой не перевернула и наконец вспомнила. Выхватила из буфета ящичек, высыпала на стол все, что там было: свои бумажные накрутки для волос, Маринины мешочки с семенами цветов, сушеные яблоки и вишни — и нашла лекарство.
— Что это вы, Мариночка, разболелись?.. Бога побойтесь… Выпейте вот… — А сама пристально всматривалась в лицо Марины: притворяется Марина или на сей раз действительно больна?
Видела, что не до шуток. Женщина, носившая полные мешки картофеля с огорода, вдруг сникла, ослабла, осунулась.
Марина смотрела повлажневшими в лихорадочном блеске глазами на запотевшие стекла окон.
— Рано зима началась. Не выживу, Анеля.
Анеля хотела утешить больную, но тут же забыла, что хотела сказать. Снова вспомнила свое обещание — отписать ей половину дома… Половину старого приходского помещения, где подрастали поколения Островецких, отдать незаконнорожденной дочери своей прислуги Марины. Отдать задаром, когда случаются покупатели с большими деньгами.
Рука невольно тянется к колоде засаленных карт, напоминавших ей поповские балы, молодых священников, танго и преферанс. Что скажут карты? Не дай бог, напророчат смерть Марине. Анеля не может без нее, но если что… все же надо знать… надо что-то делать.
Марина вяло махнула рукой.
— Не ворожите, панна… Уже не надо…
Анеля отодвинула карты. Марине лучше знать. Но надо бежать за доктором. Может, какую-то помощь окажет.
— Я за доктором пойду, Марина.
— Не надо и этого. Все равно я раньше вас умру, — намекнула на обещание Анели.
Поповна сделала вид, что не слышит. Быстро надела пальто и старомодную шляпку.
— Надо спасать Марину от смерти, — бубнила всю дорогу до амбулатории.
Не лекарства в каждую зиму спасали Марину от смерти. Единственным лекарством для нее была весна. Поэтому она у себя в комнате возрождала весну. Почти до самого рождества цвели возле Марины в горшочках хризантемы, а когда и они увядали, делала бумажные цветы, украшала ими иконы и окна, доставала из ящичка пучки засушенной мяты, любисток и растирала пальцами, чтоб пахли. Так и заставала ее настоящая весна. Тогда Марина выходила во двор, дышала весенним свежим воздухом — и хворь как рукой снимало. Марина бралась за работу.
Однако теперь почувствовала, что ни хризантемы, ни мята уже не помогут.
Врач не установил диагноза. Старость. Возможно, и выздоровеет, но ко всему надо быть готовым. Время…
Завывала в трубе вьюга. Марине снилась внучка Оксана. Умненькая такая, учится на агронома. Никакие беды ей не страшны, потому что теперь не только учат бесплатно, а еще за учебу и деньги платят. Не то что когда-то… А бабуня весь свой век прослужила, чтобы внучка имела свою хату, как только работать пойдет. Ихнему колхозу — Марина уже выведала — агроном нужен.
Просыпалась и спрашивала у Анели прямо, без намеков:
— Когда нотариуса приведете, пани?
Анеля растерянно смотрела на свою служанку и опускала глаза.
— Завтра поеду, — обещала.
И действительно, ехала в райцентр. Ей даже становилось легче на душе, она исполнит свое обещание. Но от дверей нотариальной конторы возвращалась назад, не в силах этого сделать. Кто же за ней присматривать будет? Дом надо продать, а с деньгами примет… ну, хотя бы и священник из соседнего села. Бог простит, он великодушен…
«Бог, может, и простит, — думала Марина, потому что сил не хватало говорить, когда Анеля каждый раз выдумывала, что не застала нотариуса, — а я не прощу и на том свете. Всю жизнь даром работала».
Тянулись холодные дни. Залепляла окна лапчатая снежная зима, а мороз вырисовывал на стеклах причудливые узоры. Каждым утром виделась Марине иная картина: сад зеленеет, цветет, дети гоняются с прутиками за майскими жуками. Если бы могла руками пошевельнуть, вышила бы себе весну на полотне. Обрадовалась такой мысли и уже ни о чем другом не мечтала. Лишь бы руки послушны были. Но в них сидела жестокая болезнь — так чувствовала Марина. Если болезнь с рук перекинется на грудь — жизни конец. А все же любой ценой хотелось ей успеть вышить весну на полотне и с весной умереть.
Анеля хлопотала около Марины, да все без толку. В доме грязно, посуда немыта, поповна опустилась. Ах, пусть…
Марина уже не обращает на нее внимания. На окне с каждым днем весна красуется. Какое счастье, что человек всегда может найти в жизни что-то весеннее.
В один из таких весенних дней больная ощутила, как по ее рукам бегут и бегут мурашки, будто хотят свить себе гнездо в самом сердце. Шевельнулись пальцы, согнулись руки в локтях. Обрадовалась Марина. Поднялась, достала из шкафа полотно и нитки и начала вышивать.
— Выздоравливаете, Мариночка! — пискнула Анеля.
— Нет, не выздоравливаю, голубушка, — прохрипела старая. — Умру скоро. Вся слабость в грудь перешла.
Видела, как испуганно забегали глаза у Анели, как насторожилась поповна, ожидая от Марины последнего напоминания.
— У меня есть к вам единственная просьба, — не спускала служанка глаз со своей госпожи, — и вы это сделаете, потому что хоть немного имеете бога в сердце. Там, в платочке, в самом уголку шкафа, — мои деньги. Пойдите на почту и отправьте телеграмму дочери. Вышлите ей телеграфом десять рублей…
— Хорошо, Марина.
Анеля торопилась на почту. Она немедля даст телеграмму и вышлет деньги. Потом приготовится к их приезду и примет как равных и эту незаконнорожденную дочку и внучку Марины. Расскажет о ее доброте, о том, как та всю жизнь была верной слугою в доме Островецких. И все вместе будут плакать по доброй Марине.
Составляла телеграмму.
«А теперь отписывайте, пани, половину дома, так, как обещали», — будто услыхала чей-то голос. Встрепенулась. Сжала деньги вместе с телеграфным бланком и крадучись, на цыпочках, вышла из помещения.
«Прости меня, господи…»
Марина вышивала весну: сельская хата спряталась в саду. Еще должны быть цветы. А в груди огнем печет, бегают, бегают мурашки, подбираются к самому сердцу. Надо побыстрее вышить все, чтобы умереть с весною.
— Отослали?
— Да, — не смотрела в глаза Анеля.
Две ночи молилась поповна, чтобы Марина выздоровела. А на третий день увидела, что старая едва-едва дышит. На стене над нею висела нехитро вышитая на полотне весна: из садика выглядывала хата, перед нею алели цветы, в небе смеялось солнце — у него были глаза, рот и нос.
Видно, Марина всю ночь не спала, заканчивала, а теперь спокойно лежит в ожидании смерти.
Анеля перепугалась. Она боится мертвецов. Тихонько собралась и вышла из дома.
За ночь растаял снег. Побежали мутные ручейки между комочками земли на огородах. Зима шла на убыль. Анеля торопилась в соседнее село, к знакомому священнику, коллеге ее отца. Надо условиться. Может, возьмет ее к себе с теми деньгами, которые выручит она от продажи дома…
Поп встретил ее холодно, но, услыхав о деньгах, сразу стал приветливее. У него найдется для нее место, почему же нет. А сейчас пусть переночует, погостит немного. Не страшно, если Марина и одна умрет. Душа старой мученицы и без исповеди найдет себе место на том свете, а похоронить он придет. О смерти дадут знать. Поповна успокоилась, впервые за долгие дни.
Марина раскрыла глаза — в доме никого нет. Позвала — никто не отозвался.
«Почему Ганна с Оксаной не приехали? — сверлила ее мысль. — Ведь уже три дня прошло, как отослана телеграмма».
Перед обедом соскочило с полотна вышитое солнце и село на окно. Марина улыбнулась, махнула рукой, чтобы прогнать удивительное марево, а солнце всполошилось, шасть с подоконника — да прямо в синее небо за окном. Долго всматривалась в небо Марина, — думала, дивный сон ей снится.
Перед вечером снова проснулась. Солнце уже сидело на полотне и смеялось своим широким желтым ртом.
Неожиданно для себя Марина поднялась, села.
— Вроде бы полегчало, — прошептала. — Анеля! — позвала.
Никто не ответил. Не было сил подумать, почему никого нет. Крепко заснула, и всю ночь ей снились вешние воды. По крыше барабанил первый дождь.
Наутро Марина увидела, что наступила весна. Солнечный свет вливался в комнату, веселил все кругом, играя на окнах, на стенах, на полу. Рванулась к окну. Весна! Весна! Словно ее вышивка слетела со стены и, как гигантская плахта, раскинулась за окном.
Хрустнули, распрямляясь, старые суставы, а мурашки, как ошпаренные, ринулись из груди, пробежали по рукам, скользнули по кончикам пальцев и — исчезли.
— Анеля, весна! Панночка моя милая, весна! Да куда же вы девались?
Неуверенно ступила на пол. Прошлась, заглянула в комнаты. Нигде никого нет. Начала примечать вещи: пальто, шерстяного платка нет. Выходит, ушла куда-то ее Анеля. Припоминает — два дня уже прошло. Уехала? Куда?
Ждала свою госпожу. Вышла во двор. Весна возвращала ей силы. Спрашивала соседей, где Анеля. Никто не знал. Начала понемногу наводить порядок в комнатах. В Анелиной тумбочке нашла смятый телеграфный бланк, а в нем десять рублей. Узнала! Это же ее деньги. Разгладила бланк, прочитала по складам: «При-ез-жай-те не-мед-ле-нно, ма-ма…» — и не дописано.
Поняла. Все поняла! Разъяренным взглядом окинула весь дом.
— Выродок… Погоди же, святоша!
Собрала все свои вещи в сундучок. Заперла. Оделась, взяла деньги.
— Прощай, поповское гнездо! — Хлопнула дверью, да так, что потрескавшаяся краска посыпалась на крыльцо.
На ветвях вишен весело, по-весеннему, щебетали воробьи.
•
Старый поп не смеялся — хохотал так, что мешки под глазами синели.
— Вознеслась покойница на небо!..
Поповна Анеля не заметила даже, когда он уехал. Хваталась то за кресло, то за котелки, бегала по всем комнатам, спотыкалась. Хотела понять, что же произошло, и не могла.
Вновь и вновь выскакивала на крыльцо и в отчаянии звала:
— Марина, Маринка, Мариночка! Где вы? А-гей…
— Марина, Марина! Где вы? А-гей!..
Нет ответа. Марина старенькая и плоховато слышит, а подчас и нарочно не отзывается, потому что госпожа Анеля ей уже надоела. Вот так целый день. Анеле одной страшно оставаться в доме, перебирать пух в старых перинах или гадать на засаленных картах, а потом, бросив все, выскакивать на крыльцо и звать, надрываться.
Соседи втихомолку посмеиваются:
— Пропала бы поповская дочь без Марины, как собака на ярмарке.
— И все же это неблагодарное поповское семя со дня на день откладывает заключение контракта. Марина давно уже жалуется.
А сегодня было так.
Возвращались они вдвоем с базара. Каждый четверг вместе идут из города. Высокая, сгорбленная от старости Марина несет покупки и гнется под их тяжестью. Вполовину меньше ее, старая дева Анеля ничего не несет, потому что у них повелось еще с тех прежних времен: Анеля — госпожа, Марина — служанка.
С самого раннего утра сегодня сек холодный ноябрьский ветер с дождем. Осенняя слякоть навевает на Марину хворь, Анеле напоминает ее обещание — переписать на имя служанки половину дома.
Возвращаясь с базара, Анеля вспомнила об этом и, забыв все на свете, озабоченная, побежала, оставив далеко позади расхворавшуюся Марину, которая не могла ее ни догнать, ни докричаться.
Прибежала и трясла запертую дверь.
— Да где же вы, Марина?! — который уже раз звала и не замечала, что старая служанка, морщинистая и пожелтевшая, стоит за ее спиной и укоризненно покачивает головой.
— Здесь я, господи милостивый! Мы же вместе шли, что же вы кричите?
Анеля всплеснула руками. Бледное лицо ее осветилось виноватой улыбкой.
— Я начисто забыла. Зову и зову. Не удивляйтесь, Мариночка, вы же знаете, что я без вас как без рук.
Старуха поковыляла в дом, за нею — госпожа Анеля.
•
Для Марины свет клином не сошелся на Анелином доме, а все же она прожила в нем весь свой век. Анеля была еще маленькой, когда Марина начала служить у ее папаши-вдовца, у попа Островецкого. Никто, даже сам батюшка, не знал, что эта здоровая, милая девушка — совсем не девушка, а мать незаконнорожденной дочери. Могла бы жить вместе с нею на своем клочке, но хотелось своему ребенку дать лучшее приданое, чем полморга поля. Дочь росла у сестры, а Марина работала как вол, собрала деньжат, купила поле. В последние годы, еще при панах, хотела заняться своим собственным хозяйством, но внезапно умер Островецкий, а молодой попович, пьяница и картежник, продал все имущество и, почуяв, что в мире пахнет порохом, махнул за границу, оставив Марине беспомощную, наивную сестру — старую деву Анелю.
Анеля поплакала, но не впала в отчаяние — она же не одинока. Но та самая покорная служанка, которая с юности до седых волос не водилась с парнями, вдруг — словно гром с ясного неба — сказала:
— Пора и мне на свое, пани Анеля. Дочь моя замуж вышла, пойду к ней. Весь век работала, чтобы на старости лет приют был.
Анеля смогла лишь пролепетать:
— Дочка?! У вас? Вы совсем уходите?! А я?.. — и тут у нее подкосились ноги.
Марина осталась служить. Видно, такова ее судьба. Дочку в люди вывела, теперь будет работать для внуков. Дочери дала свое поле, старшему внуку хату даст.
Много тяжких и долгих лет провели вместе. Времена менялись, даже самое слово «служанка» вышло из употребления, а у них все шло по-старому. Анеля целыми днями просиживала за картами, читала французские романы или перебирала пух в старых перинах, Марина работала по дому с утра до вечера. В огороде кроме картофеля и овощей выращивала цветы. Пламенели у нее пионы, покачивались чайные розы, струили свои ароматы гвоздики, мята, любисток. Гневалась за это поповна. Лучше бы луку побольше, все же польза какая-то. Но, увидев, что старая прочно стоит на своем, Анеля перенесла гнев на детей, приходивших к тете Марине за цветами.
Марина не могла жить не работая. Если иногда выпадало свободное время, брала тяпку и шла с женщинами на колхозное поле. Женщины подшучивали и радовались за Марину.
— За авансом приходите завтра!
— Какой там аванс, — отвечала. — Вот скоро внучка к вам придет. Эта всех обгонит в работе. А я старая, пользы от меня мало.
Но только в работе чувствовала себя крепкой. Когда же начиналась осенняя слякоть и в огороде не оставалось ничего, кроме сухих подсолнуховых стеблей да долголетних хризантем у забора, Марина тяжко укладывалась на своем скрипучем топчане в углу под черными иконами и, поглядывая на заплаканные оконные стекла, стонала:
— Плоха я стала… совсем ослабла… Не пережить мне эту зиму.
Но это только так говорилось. Она не могла смотреть, как Анеля сама носит воду, расплескивая и обливаясь, как подгорает масло на сковородке, а молоко сбегает перед самым ее носом. Вставала и, кряхтя, делала все сама. Анеля была тогда навязчиво вежлива и ворожила ей на картах, предсказывая долгие лета и счастливую судьбу.
Марина напоминала о контракте. При упоминании об этом у Анели все валилось из рук, она просила:
— Пусть уже потеплеет, тогда пойдем вместе. Я не знаю, куда идти надо, да ведь мы не умираем, успеется, Мариночка.
Обещал пан: «Кожух дам…» Теплело — обещание забывалось.
•
Сегодня Марина чувствовала себя плохо. Едва приплелась с базара. Ломота в костях — это бы еще ничего: дышать стало нечем. Так плохо Марине не было еще никогда. Она упала на топчан, схватилась за сердце.
Анеля засуетилась. Сначала выскочила во двор, но поняла, что не туда надо бежать, метнулась обратно в дом, зацепила кресло, чуть таз с водой не перевернула и наконец вспомнила. Выхватила из буфета ящичек, высыпала на стол все, что там было: свои бумажные накрутки для волос, Маринины мешочки с семенами цветов, сушеные яблоки и вишни — и нашла лекарство.
— Что это вы, Мариночка, разболелись?.. Бога побойтесь… Выпейте вот… — А сама пристально всматривалась в лицо Марины: притворяется Марина или на сей раз действительно больна?
Видела, что не до шуток. Женщина, носившая полные мешки картофеля с огорода, вдруг сникла, ослабла, осунулась.
Марина смотрела повлажневшими в лихорадочном блеске глазами на запотевшие стекла окон.
— Рано зима началась. Не выживу, Анеля.
Анеля хотела утешить больную, но тут же забыла, что хотела сказать. Снова вспомнила свое обещание — отписать ей половину дома… Половину старого приходского помещения, где подрастали поколения Островецких, отдать незаконнорожденной дочери своей прислуги Марины. Отдать задаром, когда случаются покупатели с большими деньгами.
Рука невольно тянется к колоде засаленных карт, напоминавших ей поповские балы, молодых священников, танго и преферанс. Что скажут карты? Не дай бог, напророчат смерть Марине. Анеля не может без нее, но если что… все же надо знать… надо что-то делать.
Марина вяло махнула рукой.
— Не ворожите, панна… Уже не надо…
Анеля отодвинула карты. Марине лучше знать. Но надо бежать за доктором. Может, какую-то помощь окажет.
— Я за доктором пойду, Марина.
— Не надо и этого. Все равно я раньше вас умру, — намекнула на обещание Анели.
Поповна сделала вид, что не слышит. Быстро надела пальто и старомодную шляпку.
— Надо спасать Марину от смерти, — бубнила всю дорогу до амбулатории.
Не лекарства в каждую зиму спасали Марину от смерти. Единственным лекарством для нее была весна. Поэтому она у себя в комнате возрождала весну. Почти до самого рождества цвели возле Марины в горшочках хризантемы, а когда и они увядали, делала бумажные цветы, украшала ими иконы и окна, доставала из ящичка пучки засушенной мяты, любисток и растирала пальцами, чтоб пахли. Так и заставала ее настоящая весна. Тогда Марина выходила во двор, дышала весенним свежим воздухом — и хворь как рукой снимало. Марина бралась за работу.
Однако теперь почувствовала, что ни хризантемы, ни мята уже не помогут.
Врач не установил диагноза. Старость. Возможно, и выздоровеет, но ко всему надо быть готовым. Время…
Завывала в трубе вьюга. Марине снилась внучка Оксана. Умненькая такая, учится на агронома. Никакие беды ей не страшны, потому что теперь не только учат бесплатно, а еще за учебу и деньги платят. Не то что когда-то… А бабуня весь свой век прослужила, чтобы внучка имела свою хату, как только работать пойдет. Ихнему колхозу — Марина уже выведала — агроном нужен.
Просыпалась и спрашивала у Анели прямо, без намеков:
— Когда нотариуса приведете, пани?
Анеля растерянно смотрела на свою служанку и опускала глаза.
— Завтра поеду, — обещала.
И действительно, ехала в райцентр. Ей даже становилось легче на душе, она исполнит свое обещание. Но от дверей нотариальной конторы возвращалась назад, не в силах этого сделать. Кто же за ней присматривать будет? Дом надо продать, а с деньгами примет… ну, хотя бы и священник из соседнего села. Бог простит, он великодушен…
«Бог, может, и простит, — думала Марина, потому что сил не хватало говорить, когда Анеля каждый раз выдумывала, что не застала нотариуса, — а я не прощу и на том свете. Всю жизнь даром работала».
Тянулись холодные дни. Залепляла окна лапчатая снежная зима, а мороз вырисовывал на стеклах причудливые узоры. Каждым утром виделась Марине иная картина: сад зеленеет, цветет, дети гоняются с прутиками за майскими жуками. Если бы могла руками пошевельнуть, вышила бы себе весну на полотне. Обрадовалась такой мысли и уже ни о чем другом не мечтала. Лишь бы руки послушны были. Но в них сидела жестокая болезнь — так чувствовала Марина. Если болезнь с рук перекинется на грудь — жизни конец. А все же любой ценой хотелось ей успеть вышить весну на полотне и с весной умереть.
Анеля хлопотала около Марины, да все без толку. В доме грязно, посуда немыта, поповна опустилась. Ах, пусть…
Марина уже не обращает на нее внимания. На окне с каждым днем весна красуется. Какое счастье, что человек всегда может найти в жизни что-то весеннее.
В один из таких весенних дней больная ощутила, как по ее рукам бегут и бегут мурашки, будто хотят свить себе гнездо в самом сердце. Шевельнулись пальцы, согнулись руки в локтях. Обрадовалась Марина. Поднялась, достала из шкафа полотно и нитки и начала вышивать.
— Выздоравливаете, Мариночка! — пискнула Анеля.
— Нет, не выздоравливаю, голубушка, — прохрипела старая. — Умру скоро. Вся слабость в грудь перешла.
Видела, как испуганно забегали глаза у Анели, как насторожилась поповна, ожидая от Марины последнего напоминания.
— У меня есть к вам единственная просьба, — не спускала служанка глаз со своей госпожи, — и вы это сделаете, потому что хоть немного имеете бога в сердце. Там, в платочке, в самом уголку шкафа, — мои деньги. Пойдите на почту и отправьте телеграмму дочери. Вышлите ей телеграфом десять рублей…
— Хорошо, Марина.
Анеля торопилась на почту. Она немедля даст телеграмму и вышлет деньги. Потом приготовится к их приезду и примет как равных и эту незаконнорожденную дочку и внучку Марины. Расскажет о ее доброте, о том, как та всю жизнь была верной слугою в доме Островецких. И все вместе будут плакать по доброй Марине.
Составляла телеграмму.
«А теперь отписывайте, пани, половину дома, так, как обещали», — будто услыхала чей-то голос. Встрепенулась. Сжала деньги вместе с телеграфным бланком и крадучись, на цыпочках, вышла из помещения.
«Прости меня, господи…»
Марина вышивала весну: сельская хата спряталась в саду. Еще должны быть цветы. А в груди огнем печет, бегают, бегают мурашки, подбираются к самому сердцу. Надо побыстрее вышить все, чтобы умереть с весною.
— Отослали?
— Да, — не смотрела в глаза Анеля.
Две ночи молилась поповна, чтобы Марина выздоровела. А на третий день увидела, что старая едва-едва дышит. На стене над нею висела нехитро вышитая на полотне весна: из садика выглядывала хата, перед нею алели цветы, в небе смеялось солнце — у него были глаза, рот и нос.
Видно, Марина всю ночь не спала, заканчивала, а теперь спокойно лежит в ожидании смерти.
Анеля перепугалась. Она боится мертвецов. Тихонько собралась и вышла из дома.
За ночь растаял снег. Побежали мутные ручейки между комочками земли на огородах. Зима шла на убыль. Анеля торопилась в соседнее село, к знакомому священнику, коллеге ее отца. Надо условиться. Может, возьмет ее к себе с теми деньгами, которые выручит она от продажи дома…
Поп встретил ее холодно, но, услыхав о деньгах, сразу стал приветливее. У него найдется для нее место, почему же нет. А сейчас пусть переночует, погостит немного. Не страшно, если Марина и одна умрет. Душа старой мученицы и без исповеди найдет себе место на том свете, а похоронить он придет. О смерти дадут знать. Поповна успокоилась, впервые за долгие дни.
Марина раскрыла глаза — в доме никого нет. Позвала — никто не отозвался.
«Почему Ганна с Оксаной не приехали? — сверлила ее мысль. — Ведь уже три дня прошло, как отослана телеграмма».
Перед обедом соскочило с полотна вышитое солнце и село на окно. Марина улыбнулась, махнула рукой, чтобы прогнать удивительное марево, а солнце всполошилось, шасть с подоконника — да прямо в синее небо за окном. Долго всматривалась в небо Марина, — думала, дивный сон ей снится.
Перед вечером снова проснулась. Солнце уже сидело на полотне и смеялось своим широким желтым ртом.
Неожиданно для себя Марина поднялась, села.
— Вроде бы полегчало, — прошептала. — Анеля! — позвала.
Никто не ответил. Не было сил подумать, почему никого нет. Крепко заснула, и всю ночь ей снились вешние воды. По крыше барабанил первый дождь.
Наутро Марина увидела, что наступила весна. Солнечный свет вливался в комнату, веселил все кругом, играя на окнах, на стенах, на полу. Рванулась к окну. Весна! Весна! Словно ее вышивка слетела со стены и, как гигантская плахта, раскинулась за окном.
Хрустнули, распрямляясь, старые суставы, а мурашки, как ошпаренные, ринулись из груди, пробежали по рукам, скользнули по кончикам пальцев и — исчезли.
— Анеля, весна! Панночка моя милая, весна! Да куда же вы девались?
Неуверенно ступила на пол. Прошлась, заглянула в комнаты. Нигде никого нет. Начала примечать вещи: пальто, шерстяного платка нет. Выходит, ушла куда-то ее Анеля. Припоминает — два дня уже прошло. Уехала? Куда?
Ждала свою госпожу. Вышла во двор. Весна возвращала ей силы. Спрашивала соседей, где Анеля. Никто не знал. Начала понемногу наводить порядок в комнатах. В Анелиной тумбочке нашла смятый телеграфный бланк, а в нем десять рублей. Узнала! Это же ее деньги. Разгладила бланк, прочитала по складам: «При-ез-жай-те не-мед-ле-нно, ма-ма…» — и не дописано.
Поняла. Все поняла! Разъяренным взглядом окинула весь дом.
— Выродок… Погоди же, святоша!
Собрала все свои вещи в сундучок. Заперла. Оделась, взяла деньги.
— Прощай, поповское гнездо! — Хлопнула дверью, да так, что потрескавшаяся краска посыпалась на крыльцо.
На ветвях вишен весело, по-весеннему, щебетали воробьи.
•
Старый поп не смеялся — хохотал так, что мешки под глазами синели.
— Вознеслась покойница на небо!..
Поповна Анеля не заметила даже, когда он уехал. Хваталась то за кресло, то за котелки, бегала по всем комнатам, спотыкалась. Хотела понять, что же произошло, и не могла.
Вновь и вновь выскакивала на крыльцо и в отчаянии звала:
— Марина, Маринка, Мариночка! Где вы? А-гей…
1958
На пороге
 Володька в этом году заметно изменился. На это обратили внимание сначала учителя, а потом и одноклассники. Максим Иванович, директор школы, не без гордости заявил на педсовете, что перемена в поведении Володи Зайца — результат его, директора, кропотливой работы. Старенькая учительница Олена Григорьевна усмотрела в этом совсем другие причины, но молчала и только отрицательно покачивала головой. Максим Иванович не терпел возражений.
— Да, да, именно так, уважаемая Елена Григорьевна. Вы напрасно качаете головой! В позапрошлом году он был у Козубенко. И что же? Вылетали оконные стекла, а на гвозди, вбитые в парты и стулья, садились не только ученики, но, бывало, приземлялся и сам Иван Иванович. В прошлом году, в восьмом классе, он был у вас. Исключали? Исключали. Принимали обратно? Принимали. И снова исключали.
— Я, Максим Иванович, никогда не стояла за исключение. Он способный ученик. Это уж, позвольте сказать, вы сами…
— Та-ак! Позвольте сказать… Позвольте сказать, что вы только это и знали — защищать. А конкретно что вы сделали? В этом году лично я им занялся. И вот — результаты.
Елена Григорьевна хотя и замолчала, но продолжала покачивать головой, причем лукавая, загадочная улыбка, появившаяся на ее лице, еще больше углубляла старческие морщины.
Некоторые одноклассники были явно недовольны Володькой. Всего полгода назад они считали его своим вожаком. Ему достаточно было мигнуть Юрке или Ваське, чтобы они уже были готовы к очередной проказе. А сейчас… Что это сталось с их верховодом? Сначала подумали, что он захворал. Но потом убедились в полном его благополучии. Здоров, растет не по дням, а по часам, а в лице появилась серьезность, которую подчеркивал черный пушок под носом. Тогда решили, что он зазнался.
А Володе это было обидно. Он и сам не знал, отчего ему расхотелось проказить. И вообще он много чего не понимал. То голос начнет срываться, то вдруг объявится бас. И еще этот мох на верхней губе. Как часто хотелось кого-нибудь толкнуть или подставить ножку девочке, иной раз он едва сдерживал свое желание запустить камнем в кошку на улице. Но что-то уже не позволяло ему это делать — что-то неумолимое, неведомое, новое.
А друзья-товарищи, все те же неразумные Юрко и Васёк, отошли от него, держатся в сторонке. От этого Володе было очень горько. Он постепенно замыкался в себе. А тут еще увидели его в кино с восьмиклассницей Олей Побегущей.
Это произошло совершенно случайно. Володька стоял в очереди за билетами. Когда подошел к окошечку, увидел, что в самом конце очереди стоит Оля. Он просто пожалел ее и взял два билета. Подошел, поздоровался.
— Я тебе взял… — Он оторвал билет.
— Спасибо, — обрадовалась девочка и вышла из очереди. Володя в эту минуту заметил, что у Оли синие-синие глаза.
Оля протянула было руку за билетом, но вдруг опустила. У Володи сжалось сердце от глухой обиды. «Она боится меня, потому и не хочет брать билет», — промелькнуло у него в голове, и он уже хотел отойти от нее, как вдруг Оля сказала:
— Ах, я совсем забыла, мы же с Галкой условились.
— А-а… Я же не знал… Ну, тогда, знаешь что… возьми оба билета.
— А ты?
— Да я… Я завтра… Или в другой раз… — и отвернулся.
Эту сценку наблюдали Юрко и Васёк, пробиравшиеся к кассе без очереди.
— Оле отдал, кавалер! А нам не хотел взять! — бросили ему вслед.
Будто кипятком плеснули на Володьку. Резко повернулся и схватил Юрка за грудки. Тот испуганно смотрел на товарища и, чтобы как-то нейтрализовать злость опасного противника, попробовал оправдаться:
— Да я так, в шутку, брось…
— Смотри!.. И в очередь становись.
— Тьфу, какой! Ты же сам никогда не стоял!
Василько куда-то исчез, не хотел связываться с Володькой. Володя оттолкнул Юрка, обернулся и встретился взглядом с Ольгой. По выражению ее глаз было видно, что она довольна поступком Володи. Но он был очень смущен и этого не заметил.
— Что стоишь? — буркнул. — Иди, иди кляузничай, что я снова начинаю драки у кинотеатра!
В ответ Оля протянула ему билет:
— Возьми, Галя не идет.
— Что?
— Билет, говорю, возьми. Галя не идет.
— Ну давай… — Взял и быстро отошел.
В кино они сидели рядом. Володька украдкой поглядывал на прямой носик соседки и думал, о чем бы заговорить с нею. Взгляд его остановился на пушистой пряди волос у самой мочки уха, и это как бы мешало ему начать разговор. Сзади слышался шепот Юрка и Василька:
— Сидят рядом, смотри! Хи-хи-хи!
— Парочка…
Оля — как на раскаленных угольях. Володя чувствовал себя не лучше. Что было на экране, они не смогли бы толком рассказать. Да и меж собой — ни слова. Как-то неловко. Володю бросало в дрожь при мысли о том, как он должен себя вести после окончания сеанса: проводить ли Ольгу домой или пожелать ей доброй ночи и уйти? Но не пришлось делать ни того, ни другого. При выходе Оля затерялась в толпе, и Володя облегченно вздохнул.
А на другой день все в классе словно сговорились. Если встретится с кем-либо взглядом — лукавые улыбки, отвернется — шушуканье. И явственно выделяются слова «Оля», «кавалер», «ужасная любовь».
Володе было обидно. Хотелось обернуться и залепить кому-нибудь, кто первый подвернется, кто шепчется. Но сдерживался. Думал: что бы на это сказали другие? Поймал себя на том, что думал именно об Оле. Это было приятно. Смело и с гордостью посмотрел на товарищей. А они, увидев, что на лице Володи нет ни малейшего смущения, его и след простыл, побежденные, опустили глаза.
С этой поры у Володи возникли развлечения совсем другого порядка. Каждый день он приходил в школу раньше всех и ожидал в коридоре, когда прогремит первый звонок. Прохаживался у стенгазеты или внимательно разглядывал плакаты, словно открывал в них заново что-то необычное. В результате он знал на память почти все статьи в стенгазете, все подписи на фотомонтажах, а буквы на плакатах все больше напоминали ему живых существ.
Во время таких занятий Володя старался ни на кого не смотреть. И все же он не мог не поздороваться с Еленой Григорьевной. Это, видимо, потому, что она очень медленно поднималась вверх по лестнице. А может быть, и потому, что на ее слегка морщинистых губах всегда была приветливая улыбка, а взгляд был ласковым и теплым.
Нередко с нею вместе или перед ее приходом поднималась невысокая, щупленькая девочка. В талии тоненькая — пальцами обхватил бы, а темно-каштановые толстые косы едва умещались на ее головке. С нею Володька тоже здоровался. Она отвечала кивком головы и бегом направлялась в класс. Если же она шла еще с какими-нибудь девочками, она не смотрела на Володю и недовольной гримасой отвечала на многочисленные намеки и жесты своих подруг. В таких случаях Володька хмурил брови и так плотно сжимал губы, что на остром подбородке выступала ямочка, и шел в класс.
Так проходило время.
Но однажды случилось такое, чего не ожидали ни ученики, ни учителя, ни даже сам Максим Иванович.
Володька за что-то (никто не знал, за что!) попал в отделение милиции, где его продержали всю ночь. Пока дело выяснялось в кабинете директора, эта весть молнией облетела школу. Даже ученики младших классов перешептывались. Заяц сидел под арестом, его исключат. И разные варианты причин: за хулиганство… а вернее всего — за кражу на рынке.
У дверей канцелярии — встревоженные ученики. В дверях показалась взволнованная Елена Григорьевна. Видно было, как перед суровым директором стоял Володя Заяц. Черные волосы упали на опущенный лоб, темные глаза уставились в ножку стола.
Максим Иванович строго и холодно, как судья, смотрит на Володьку из-под сдвинутых на нос очков. В его взгляде что-то похожее на укор и пренебрежение к своему неблагодарному воспитаннику. Володя чувствовал это и жаждал, чтобы все быстрее закончилось.
— Ну, ты все же расскажи, Заяц, как вчера попал в милицию, — с ноткой злости в голосе — директор.
Володька молчит.
Максим Иванович еще и еще раз повторил вопрос, но ответа не услышал.
— Слушай, Володя, — уже чуть помягче, — ты должен рассказать. Что ты вчера делал в оранжереях парка?
Володя вздрогнул, но продолжал молчать. Только загадочная улыбка на миг коснулась его губ и сразу же погасла. Нет, он не скажет ни слова.
Ему ярко припомнилась вчерашняя неприятность, и в темных глазах промелькнула та же удивительная улыбка.
Во всем виновата, конечно, подруга Оли — Галя. Третьего дня после уроков она побежала к Володе и под большим секретом сказала, что очень скоро (то есть завтра) день рождения Оли (пятнадцать лет), и что отец разрешил ей собраться со своими друзьями, и что Оля хочет пригласить Володю, только сама стесняется это сделать. Володя растаял от счастья, с благодарностью пожал Гале руку и бегом помчался домой.
Дома задумался: как же быть, с каким подарком прийти? И здесь сразу препятствия. Вечером пришла с работы мать и послала Володю к соседке Тоне взять денег взаймы. Стало ясно, что ему от матери не достанется и рубля. Он начал осматривать все свои книги, но ни одной подходящей не нашел: все старые, с обтрепавшимися переплетами. Тогда Володя придумал другое: нарисует орнамент (он умеет рисовать), а под ним напишет стихотворение. Вскоре орнамент был готов, но ничего не получалось со стихотворением. Промучился над стихотворением всю ночь, но, кроме строки «Оды пышные не в моде», ничего не смог написать.
Парень был близок к отчаянию. На другой день повстречался с Олей в коридоре. Раскрасневшаяся, как пион, пробежала она мимо него и только в дверях класса оглянулась. Качнула вопросительно головкой, что означало: «Придешь?» Володька ответил кивком: «Приду».
И он решился на самый рискованный шаг. Когда стемнело, крадучись подбирался к оранжереям парка. Сторож дремал, а сквозь покатые стеклянные стены виднелись освещенные неоновыми лампами пионы и кремовые розы. Только две возьмет — разве это кража?
Тихо скрипнул помост, — Володька затаил дыхание, прислонился к стенке. Сторож спал. Ступил еще один шаг. И вдруг что-то с дребезгом упало и, звеня, покатилось по полу. Сторож вскрикнул, Володя — к выходу, сбил старика с ног — и бежать. Но старик ковылял за ним и кричал во все свое стариковское горло. Володька надеялся убежать, но тут… При выходе из парка ему загородила дорогу внушительная фигура в милицейской форме и сказала ледяным голосом:
— Стой! Ваши документы?
…Максим Иванович начал уже терять уравновешенность. Стукнул кулаком по столу и крикнул:
— Последний раз спрашиваю: что делал вчера в теплицах?
— Не могу этого сказать, Максим Иванович.
— Тогда раз и навсегда прощайся со школой.
Володьку душили слезы. То, что сказал директор, казалось ему почти невероятным. Перед глазами вставала фигура его старой матери-вдовы, которая всегда перед зарплатой берет взаймы деньги у соседки Тони. Молча вытер кулаком непрошеные слезы.
— Можешь идти, — сказал последние слова директор.
Но тут внезапно распахнулись двери канцелярии и перед директором очутилась Оля. За нею вошла Елена Григорьевна.
— Кто разрешил входить? — грозно спросил Олю Максим Иванович.
Оля решительно подошла к столу и стала рядом с Володей.
— Это я виновата. Это мне в день рождения Володя хотел принести цветы.
На секунду стало совсем тихо. Только Елена Григорьевна сдержанно улыбалась, в глазах ее светилась ласка и нежность.
Оля глубоко и часто дышала, положив на грудь ладонь.
Володя растерянно смотрел на окружающих и наконец остановил свой взгляд на пылающем лице Оли. Максим Иванович хотел было что-то сказать, но вдруг заметил, что перед ним стоят не дети. И это открытие его смутило.
…Бывает часто: какая-то мелодия напоминает давно забытое, теплое, доброе. Бывает, что улыбающееся лицо чужого человека согреет зачерствевшее сердце. Случается — две тени среди густой листвы цветущей сирени будят далекие воспоминания, припорошенные пылью времени.
Перед Максимом Ивановичем стояли молодые люди, которые только что вступили на порог юности. Позавидовав этой счастливой и такой короткой, единственной минуте в жизни, директор неожиданно для себя самого усмехнулся.
— Хорошо! Можете идти…
И, склонившись над телефоном, он начал набирать номер отделения милиции.
Володька в этом году заметно изменился. На это обратили внимание сначала учителя, а потом и одноклассники. Максим Иванович, директор школы, не без гордости заявил на педсовете, что перемена в поведении Володи Зайца — результат его, директора, кропотливой работы. Старенькая учительница Олена Григорьевна усмотрела в этом совсем другие причины, но молчала и только отрицательно покачивала головой. Максим Иванович не терпел возражений.
— Да, да, именно так, уважаемая Елена Григорьевна. Вы напрасно качаете головой! В позапрошлом году он был у Козубенко. И что же? Вылетали оконные стекла, а на гвозди, вбитые в парты и стулья, садились не только ученики, но, бывало, приземлялся и сам Иван Иванович. В прошлом году, в восьмом классе, он был у вас. Исключали? Исключали. Принимали обратно? Принимали. И снова исключали.
— Я, Максим Иванович, никогда не стояла за исключение. Он способный ученик. Это уж, позвольте сказать, вы сами…
— Та-ак! Позвольте сказать… Позвольте сказать, что вы только это и знали — защищать. А конкретно что вы сделали? В этом году лично я им занялся. И вот — результаты.
Елена Григорьевна хотя и замолчала, но продолжала покачивать головой, причем лукавая, загадочная улыбка, появившаяся на ее лице, еще больше углубляла старческие морщины.
Некоторые одноклассники были явно недовольны Володькой. Всего полгода назад они считали его своим вожаком. Ему достаточно было мигнуть Юрке или Ваське, чтобы они уже были готовы к очередной проказе. А сейчас… Что это сталось с их верховодом? Сначала подумали, что он захворал. Но потом убедились в полном его благополучии. Здоров, растет не по дням, а по часам, а в лице появилась серьезность, которую подчеркивал черный пушок под носом. Тогда решили, что он зазнался.
А Володе это было обидно. Он и сам не знал, отчего ему расхотелось проказить. И вообще он много чего не понимал. То голос начнет срываться, то вдруг объявится бас. И еще этот мох на верхней губе. Как часто хотелось кого-нибудь толкнуть или подставить ножку девочке, иной раз он едва сдерживал свое желание запустить камнем в кошку на улице. Но что-то уже не позволяло ему это делать — что-то неумолимое, неведомое, новое.
А друзья-товарищи, все те же неразумные Юрко и Васёк, отошли от него, держатся в сторонке. От этого Володе было очень горько. Он постепенно замыкался в себе. А тут еще увидели его в кино с восьмиклассницей Олей Побегущей.
Это произошло совершенно случайно. Володька стоял в очереди за билетами. Когда подошел к окошечку, увидел, что в самом конце очереди стоит Оля. Он просто пожалел ее и взял два билета. Подошел, поздоровался.
— Я тебе взял… — Он оторвал билет.
— Спасибо, — обрадовалась девочка и вышла из очереди. Володя в эту минуту заметил, что у Оли синие-синие глаза.
Оля протянула было руку за билетом, но вдруг опустила. У Володи сжалось сердце от глухой обиды. «Она боится меня, потому и не хочет брать билет», — промелькнуло у него в голове, и он уже хотел отойти от нее, как вдруг Оля сказала:
— Ах, я совсем забыла, мы же с Галкой условились.
— А-а… Я же не знал… Ну, тогда, знаешь что… возьми оба билета.
— А ты?
— Да я… Я завтра… Или в другой раз… — и отвернулся.
Эту сценку наблюдали Юрко и Васёк, пробиравшиеся к кассе без очереди.
— Оле отдал, кавалер! А нам не хотел взять! — бросили ему вслед.
Будто кипятком плеснули на Володьку. Резко повернулся и схватил Юрка за грудки. Тот испуганно смотрел на товарища и, чтобы как-то нейтрализовать злость опасного противника, попробовал оправдаться:
— Да я так, в шутку, брось…
— Смотри!.. И в очередь становись.
— Тьфу, какой! Ты же сам никогда не стоял!
Василько куда-то исчез, не хотел связываться с Володькой. Володя оттолкнул Юрка, обернулся и встретился взглядом с Ольгой. По выражению ее глаз было видно, что она довольна поступком Володи. Но он был очень смущен и этого не заметил.
— Что стоишь? — буркнул. — Иди, иди кляузничай, что я снова начинаю драки у кинотеатра!
В ответ Оля протянула ему билет:
— Возьми, Галя не идет.
— Что?
— Билет, говорю, возьми. Галя не идет.
— Ну давай… — Взял и быстро отошел.
В кино они сидели рядом. Володька украдкой поглядывал на прямой носик соседки и думал, о чем бы заговорить с нею. Взгляд его остановился на пушистой пряди волос у самой мочки уха, и это как бы мешало ему начать разговор. Сзади слышался шепот Юрка и Василька:
— Сидят рядом, смотри! Хи-хи-хи!
— Парочка…
Оля — как на раскаленных угольях. Володя чувствовал себя не лучше. Что было на экране, они не смогли бы толком рассказать. Да и меж собой — ни слова. Как-то неловко. Володю бросало в дрожь при мысли о том, как он должен себя вести после окончания сеанса: проводить ли Ольгу домой или пожелать ей доброй ночи и уйти? Но не пришлось делать ни того, ни другого. При выходе Оля затерялась в толпе, и Володя облегченно вздохнул.
А на другой день все в классе словно сговорились. Если встретится с кем-либо взглядом — лукавые улыбки, отвернется — шушуканье. И явственно выделяются слова «Оля», «кавалер», «ужасная любовь».
Володе было обидно. Хотелось обернуться и залепить кому-нибудь, кто первый подвернется, кто шепчется. Но сдерживался. Думал: что бы на это сказали другие? Поймал себя на том, что думал именно об Оле. Это было приятно. Смело и с гордостью посмотрел на товарищей. А они, увидев, что на лице Володи нет ни малейшего смущения, его и след простыл, побежденные, опустили глаза.
С этой поры у Володи возникли развлечения совсем другого порядка. Каждый день он приходил в школу раньше всех и ожидал в коридоре, когда прогремит первый звонок. Прохаживался у стенгазеты или внимательно разглядывал плакаты, словно открывал в них заново что-то необычное. В результате он знал на память почти все статьи в стенгазете, все подписи на фотомонтажах, а буквы на плакатах все больше напоминали ему живых существ.
Во время таких занятий Володя старался ни на кого не смотреть. И все же он не мог не поздороваться с Еленой Григорьевной. Это, видимо, потому, что она очень медленно поднималась вверх по лестнице. А может быть, и потому, что на ее слегка морщинистых губах всегда была приветливая улыбка, а взгляд был ласковым и теплым.
Нередко с нею вместе или перед ее приходом поднималась невысокая, щупленькая девочка. В талии тоненькая — пальцами обхватил бы, а темно-каштановые толстые косы едва умещались на ее головке. С нею Володька тоже здоровался. Она отвечала кивком головы и бегом направлялась в класс. Если же она шла еще с какими-нибудь девочками, она не смотрела на Володю и недовольной гримасой отвечала на многочисленные намеки и жесты своих подруг. В таких случаях Володька хмурил брови и так плотно сжимал губы, что на остром подбородке выступала ямочка, и шел в класс.
Так проходило время.
Но однажды случилось такое, чего не ожидали ни ученики, ни учителя, ни даже сам Максим Иванович.
Володька за что-то (никто не знал, за что!) попал в отделение милиции, где его продержали всю ночь. Пока дело выяснялось в кабинете директора, эта весть молнией облетела школу. Даже ученики младших классов перешептывались. Заяц сидел под арестом, его исключат. И разные варианты причин: за хулиганство… а вернее всего — за кражу на рынке.
У дверей канцелярии — встревоженные ученики. В дверях показалась взволнованная Елена Григорьевна. Видно было, как перед суровым директором стоял Володя Заяц. Черные волосы упали на опущенный лоб, темные глаза уставились в ножку стола.
Максим Иванович строго и холодно, как судья, смотрит на Володьку из-под сдвинутых на нос очков. В его взгляде что-то похожее на укор и пренебрежение к своему неблагодарному воспитаннику. Володя чувствовал это и жаждал, чтобы все быстрее закончилось.
— Ну, ты все же расскажи, Заяц, как вчера попал в милицию, — с ноткой злости в голосе — директор.
Володька молчит.
Максим Иванович еще и еще раз повторил вопрос, но ответа не услышал.
— Слушай, Володя, — уже чуть помягче, — ты должен рассказать. Что ты вчера делал в оранжереях парка?
Володя вздрогнул, но продолжал молчать. Только загадочная улыбка на миг коснулась его губ и сразу же погасла. Нет, он не скажет ни слова.
Ему ярко припомнилась вчерашняя неприятность, и в темных глазах промелькнула та же удивительная улыбка.
Во всем виновата, конечно, подруга Оли — Галя. Третьего дня после уроков она побежала к Володе и под большим секретом сказала, что очень скоро (то есть завтра) день рождения Оли (пятнадцать лет), и что отец разрешил ей собраться со своими друзьями, и что Оля хочет пригласить Володю, только сама стесняется это сделать. Володя растаял от счастья, с благодарностью пожал Гале руку и бегом помчался домой.
Дома задумался: как же быть, с каким подарком прийти? И здесь сразу препятствия. Вечером пришла с работы мать и послала Володю к соседке Тоне взять денег взаймы. Стало ясно, что ему от матери не достанется и рубля. Он начал осматривать все свои книги, но ни одной подходящей не нашел: все старые, с обтрепавшимися переплетами. Тогда Володя придумал другое: нарисует орнамент (он умеет рисовать), а под ним напишет стихотворение. Вскоре орнамент был готов, но ничего не получалось со стихотворением. Промучился над стихотворением всю ночь, но, кроме строки «Оды пышные не в моде», ничего не смог написать.
Парень был близок к отчаянию. На другой день повстречался с Олей в коридоре. Раскрасневшаяся, как пион, пробежала она мимо него и только в дверях класса оглянулась. Качнула вопросительно головкой, что означало: «Придешь?» Володька ответил кивком: «Приду».
И он решился на самый рискованный шаг. Когда стемнело, крадучись подбирался к оранжереям парка. Сторож дремал, а сквозь покатые стеклянные стены виднелись освещенные неоновыми лампами пионы и кремовые розы. Только две возьмет — разве это кража?
Тихо скрипнул помост, — Володька затаил дыхание, прислонился к стенке. Сторож спал. Ступил еще один шаг. И вдруг что-то с дребезгом упало и, звеня, покатилось по полу. Сторож вскрикнул, Володя — к выходу, сбил старика с ног — и бежать. Но старик ковылял за ним и кричал во все свое стариковское горло. Володька надеялся убежать, но тут… При выходе из парка ему загородила дорогу внушительная фигура в милицейской форме и сказала ледяным голосом:
— Стой! Ваши документы?
…Максим Иванович начал уже терять уравновешенность. Стукнул кулаком по столу и крикнул:
— Последний раз спрашиваю: что делал вчера в теплицах?
— Не могу этого сказать, Максим Иванович.
— Тогда раз и навсегда прощайся со школой.
Володьку душили слезы. То, что сказал директор, казалось ему почти невероятным. Перед глазами вставала фигура его старой матери-вдовы, которая всегда перед зарплатой берет взаймы деньги у соседки Тони. Молча вытер кулаком непрошеные слезы.
— Можешь идти, — сказал последние слова директор.
Но тут внезапно распахнулись двери канцелярии и перед директором очутилась Оля. За нею вошла Елена Григорьевна.
— Кто разрешил входить? — грозно спросил Олю Максим Иванович.
Оля решительно подошла к столу и стала рядом с Володей.
— Это я виновата. Это мне в день рождения Володя хотел принести цветы.
На секунду стало совсем тихо. Только Елена Григорьевна сдержанно улыбалась, в глазах ее светилась ласка и нежность.
Оля глубоко и часто дышала, положив на грудь ладонь.
Володя растерянно смотрел на окружающих и наконец остановил свой взгляд на пылающем лице Оли. Максим Иванович хотел было что-то сказать, но вдруг заметил, что перед ним стоят не дети. И это открытие его смутило.
…Бывает часто: какая-то мелодия напоминает давно забытое, теплое, доброе. Бывает, что улыбающееся лицо чужого человека согреет зачерствевшее сердце. Случается — две тени среди густой листвы цветущей сирени будят далекие воспоминания, припорошенные пылью времени.
Перед Максимом Ивановичем стояли молодые люди, которые только что вступили на порог юности. Позавидовав этой счастливой и такой короткой, единственной минуте в жизни, директор неожиданно для себя самого усмехнулся.
— Хорошо! Можете идти…
И, склонившись над телефоном, он начал набирать номер отделения милиции.
1957
Кому земля дарит свой аромат…
 Олесе четырнадцать лет. Личико у нее белое и волосы пушистые-пушистые, как пух одуванчика. Походка стремительная, и на устах улыбка, как у всех детей. Но темные ее глаза редко смеются, они налиты терпким соком зрелого терна — Олеся сирота.
Сегодня на уроке Олеся невнимательна. Сегодня сиротство коснулось самого ее сердца. У кого есть мать, тому не страшна обида приятелей, у кого нет — мельчайшая несправедливость холодом душу обдает.
Девочка Катруся, дочь дяди Павелка, виновато улыбается. За тепло и искренность улыбки любое зло можно простить, но Олеся извинения не принимает.
Голос учительницы доносится словно откуда-то издалека, а собственные мысли будто нашептывают над самым ухом: «Чему выучишься в школе, то и будет твоим приданым. Больше ничего тебе не дам». Нет, это не собственные мысли — это всплывают в памяти слова дяди Павелка. Так он говорил год назад, когда Олеся еще жила у него. Молча терпела, куда пойдешь? Там, за полевой тропинкой, бегущей по лугам, присела, будто от усталости, ее хата. Окна забиты досками.
— Не нужно мне ваше приданое, вуйку. И без него обойдусь.
— Очень ты умной стала. Может, и без меня обойдешься?
Ненасытный был Павелко. С тех пор как организовался в селе колхоз, он избегал людей. Запрятался, словно улитка в свой панцирь. Мало с кем говорил. Тайком поросятами спекулировал. Иногда можно было видеть, как в придорожных канавах он косил пыльную траву для коровы.
После похорон Павелковой сестры, Олесиной матери, соседи пришли за восьмилетней сироткой и удивились: не отдал Павелко.
— Ребенок моей сестры у меня будет.
Сначала говорили в селе:
— Душа проснулась в Павелке.
А потом поняли: государство ему платит за Олесю.
Олеся подрастала, а Павелко исподволь стал подумывать над тем, что девочка могла бы и одна прожить. Были у него свои расчеты.
…Как-то зимней порой у порога конюшни наткнулась Олеся на котенка. Приблудился облезлый, полузамерзший. Пригрела его, выходила. Котенок всюду ходил за девочкой, мурлыкал ночью у нее в ногах. Но пришла весна, молока стало меньше, и угрюмый дядько Павелко выбросил котенка за плетень и промолвил:
— И тебя еще кормить, приблуда! Мало у меня нахлебников!
Вот тогда и сказала Олеся:
— Я одна буду жить.
— А есть что будешь? — резко спросил Павелко и хмуро ждал ответа.
— Картошку у вас заработала.
— Ну, тогда — с богом! — обрадовался Павелко. — Когда переедешь?
— Сегодня.
Побаивался, правда, Павелко — разговоры на селе пойдут, люди не похвалят. Но соблазн был велик: теперь и хату не заберут, и приусадебный участок увеличат — патронат, а как же? А если какой наговор пойдет, так он же не выгонял, сама ушла…
Катруся заскучала по Олесе. Забегала к ней тайком от отца, приносила кое-чего поесть, бывало, и заночует — Олеся грозы боится.
Тогда девочки беседуют целый вечер, пока сон не одолеет. И больше всего разговору у них было об Алексее Андреевиче, новом биологе.
Алексей Андреевич хороший: взгляд добрый, руки большие, натруженные, а говорит — как книжку интересную читает.
«Человек должен любить землю. Она его кормит и радость дает. Посейте возле грядки душистый горошек или маттиолу, чтобы дарила вам земля свой аромат днем и ночью, чтоб радостно было по ней ходить, жить на ней».
Дети с увлечением работают на земле, учатся понимать ее. У Олеси на участке свое опытное поле. Здесь чисто, как в хате, здесь она работает так же усердно, как на своем огороде. В этом году Олеся выращивает капусту в торфяных горшочках. Если опыт удастся, то на будущий год ей дадут ученическое звено в колхозе. Об этом уж как-то обронил словечко бригадир Никифор. О, тогда все узнают, какие у нее будут урожаи!
Учитель разговаривает с Олесей как со взрослой. Олесе это нравится. Но если учитель ласково проведет рукой по ее волосам, тогда почему-то так и брызнут жгучие слезы.
В эту весну не нашлось смельчаков взять в колхозе яйца, чтобы вырастить цыплят для школьной птицефермы. А Олеся взяла целых двенадцать. И на днях птенцы вылупились, пушистые такие, хорошенькие.
Прибежала на радостях к Алексею Андреевичу:
— Вы обязательно приходите посмотреть на них.
Учитель пришел. О маме расспрашивал. Она показала фотографию, висевшую на стене. Двое молодых людей смотрели оттуда на чистую комнату, прибранную руками их дочери. Алексей Андреевич остался обедать у Олеси. Сам напросился. Не хвалил, только задумчиво смотрел на белесую детскую головку.
А вчера в школе один мальчик подошел к Олесе и с ехидцей спросил:
— Ты учеников на обеды тоже приглашаешь или только учителей? Подлиза!..
В классе засмеялись. Олеся вспыхнула и обернулась к Катрусе. Та виновато опустила глаза. «Катруся всем рассказала!..» — мелькнуло в голове.
Горькие мысли обступили Олесю. За что они над нею насмехаются? Зачем Катруся так поступила?
На следующий день Олеся не вышла на школьный участок. Глафира Петровна, классный руководитель, сердилась:
— Как это так — не вышла на участок? Нарушения дисциплины я никому не прощу.
И передала Олесин участок другому ученику.
…А Олеся тосковала у себя в хате. По двору ходила наседка с цыплятами, вызывала хозяйку. На клумбе жаловались неполитые цветы. Солнце скользило по бутонам картофельного цвета, заглядывало в хату.
Хозяйка не выходила.
Вдруг скрипнули двери, солнечный луч снопом пшеницы перевалил за порог, а за ним темной тучкою — Катруся.
— Олеся, что же ты не вышла на участок?
— Не приходи ко мне! — отвернулась Олеся. — И на порог моей хаты не показывайся!
•
На следующий день Глафира Петровна велела Олесе идти с ней на школьный участок. В вопросах дисциплины она была педантом и никогда не жалеладля этого времени. Учительница читала книжку под яблоней, а Олеся молча расчищала лопатой дорожку и думала о капусте на своем участке — два дня туда не наведывалась. Закончив работу, она побежала на свой участок.
— Кто тебе разрешил сюда идти? — строго спросила появившаяся здесь Глафира Петровна.
— Это мое поле! — ощетинилась Олеся. — Алексей Андреевич закрепил его за мной.
— До вчерашнего дня было твое, но ты вчера не пришла, и на твое место назначили другую.
Когда учительница скрылась из виду, Олеся вышла из яровой пшеницы, скрывавшей ее, и побежала к своей капусте. В отчаянии и горе она хватала руками и мяла хрупкие стебли, топтала их ногами. Потом упала на зелень и беззвучно заплакала, сжимая в кулаках смятые листики…
Тут и застал ее Алексей Андреевич. Он как раз возвращался из колхоза. Сегодня он пошел туда не по делам учительской производственной бригады, как обычно, — он хотел разузнать, почему Олеся живет одна. Беседовал с бригадиром Никифором. Тот не видел в этом ничего плохого. Чем жить у Павелка, лучше уж одной. Колхоз ее не забывает. Никифор сам завез ей картофель и дрова. «Мы из нее Героя труда воспитаем, девушка землю любит», — говорил Никифор.
А будущий Герой труда вон что натворил! Кто в этом виноват? Алексей Андреевич встретился сегодня с Глафирой Петровной, и между ними состоялся второй неприятный разговор. Первый был зимой…
Алексей Андреевич пошел тогда с учениками развозить навоз по школьным участкам. А Глафира Петровна не пошла. Она взяла справку из амбулатории об освобождении от физического труда. Работа работой, это еще полбеды, но навоз разбрасывать — увольте.
— Вижу, землица вам своих сокровищ не отдаст, — хмуро ответил ей Алексей Андреевич. — Навоза боитесь!
Вот и сейчас между ними вспыхнула плохо скрытая ссора.
— Почему вы без моего ведома передали подопытный участок другому ученику?
— Я борюсь за дисциплину.
— А что Олеся сирота, это вам известно?
— Вы говорите так, словно не я, а вы классный руководитель.
— И знаете ли вы, что она уже полгода живет одна? И что вы своими действиями отбиваете у ребенка охоту к труду? Что она в отчаянии уничтожила рассаду капусты на своем подопытном участке?
Глафира Петровна сразу было растерялась, но последнее известие вернуло ей воинственное настроение.
— Уничтожила? Как это уничтожила? Да за такой поступок — из школы вон! О-о, я сама пойду к директору…
Но разговор в директорском кабинете обернулся несколько по-другому, не так, как ожидала учительница. Там уже сидел бригадир Никифор.
— Выходит, Павелко продолжает получать деньги за патронат? — Директор бросил суровый взгляд на Глафиру Петровну. — Когда вы в последний раз навещали Олесю?
Учительница молчала. Вместо нее говорил Алексей Андреевич.
— Каждый из нас виноват, — подвел итог бригадир Никифор. — Но еще не поздно. Установите сегодня, с каких пор Олеся не живет у Павелка. И с докладной — в сельсовет. Мы заставим этого рвача вернуть все, что он забрал у девочки, и купим на эти деньги Олесе поросенка, чтобы картошку она ела с салом.
…Павелко смахивал с кресел пыль и пододвигал их пришедшим. В углу, у печки, стояла угрюмая Катруся. Ученики узнали об Олесином поступке раньше учителей и пришли к Катрусе. Одни резко осуждали, другие обвиняли бестактного ученика, который обозвал Олесю подлизой.
— Это я во всем виновата, — плакала Катруся. — Я не об обеде должна была всем рассказывать, а надо было сказать в школе, что Олеся сейчас живет одна. А я из зависти к ней — она все умеет делать, а я нет, — чистосердечно призналась девочка.
Дети зашумели. Катруся сегодня же извинится перед Олесей, а завтра они всем классом пойдут к Глафире Петровне. Она, видимо, ничего не знала, если так строго обошлась с нею.
Олеси дома не было. Дверь на замке. Это встревожило Катрусю. Хотела в школу бежать, рассказать обо всем директору или Алексею Андреевичу, — а тут и они явились.
Павелко улыбался и потирал руки.
— Весне, товарищ директор, как будто и конец. Туда-сюда, а время свое знает — летит, словно быстрая тройка.
Директор провел ладонью по лысине.
— Да, весна уходит… А Олеся с каких пор не у вас? — резко изменил он тон, глядя прямо Павелку в глаза, утерявшие сразу заискивающий блеск.
— Не у меня? Как это не у меня? А кто ей жратву дает, простите на слове?
— Я не об этом спрашиваю вас. Хочу знать, с каких пор она живет одна.
— Если уж вам так хочется знать, то могу сказать… Ну, с начала апреля… Но вы сперва спросите: кто дал ей картошку и дрова?
Катруся, настороженно поглядывавшая то на отца, то на гостей, вскочила.
— Неправда! — вскрикнула она. — С февраля не живет у нас. — Сказала и испуганно забилась в угол.
— Тсс, собака! — не сдержался Павелко и замахнулся было на дочку. — Простите на слове. Вы бы в школе ее ремнем учили, а то она очень уж на язык бойкая стала.
Директор не ответил. Обратился к Алексею Андреевичу:
— Пойдемте к ней. А вы, — посмотрел на Павелка, — зайдите сегодня в сельсовет.
Около ворот услыхали, как вскрикнула Катруся и опрометью побежала на огороды. После батьковской «науки» легче стало на сердце. Обошла огородами и спряталась за Олесиной хатой. Слыхала, как разговаривали директор и Алексей Андреевич.
— Может, в интернат устроить?
— Жаль девочку от земли отрывать. Я не советовал бы. Вы только посмотрите на ее огородик. Это дело работящих рук.
— А классным руководителем взялись бы?
— У меня и без того нагрузок много.
— А все же?
— Попробовать можно… поговорим еще об этом… Ну куда она девалась?
— Надо немедля разыскать.
«Немедля разыскать», — ёкнуло у Катруси сердце.
Олеся решила пойти к тетке на Заречье. Глафира Петровна ее не любит, в школе дразнят подлизой, а смятую капусту никогда себе не простит. Отнесла цыплят в школу. Завхоз принял их, похвалил Олесю. Потом собралась и, заперев дверь, пошла.
На горке остановилась и поглядела на село. Оно такое родное-родное. В долине над прудами — левады с мягкими, бархатистыми травами. Пойти бы туда, припасть к земле, как к матери. Школа огромными окнами смотрит, будто говорит: «Неблагодарная…» И родная хата так печально смотрит одним окном из-за Павелкова плетня: «Теперь мы настоящие сироты. И ты, и я…»
Звенит раннее лето над полями, щебечет и зовет:
«Вернись назад, Олеся, вернись!»
•
Уже совсем стемнело, когда к Алексею Андреевичу прибежали девочки-семиклассницы:
— Пришла. Сами видели.
•
Олеся недоверчиво отступила, когда все вошли в ее хату.
«Где ты была? Что надумала?» — хотел было спросить Алексей Андреевич, но по измученному виду девочки понял, что ничего спрашивать не надо.
— Ты не удивляйся, Олеся, что мы так поздно. Буду у вас классным руководителем, вот и обхожу своих учеников перед экзаменами. Где твой школьный уголок?
Олеся сначала не поняла: серьезно ли все это? Смотрела недоверчиво то на подруг, то на учителя. Взгляд ее постепенно прояснялся, глаза наполнялись радостью.
— Как? А почему же это?
— Полюбились вы мне, вот и все, — развел руками Алексей Андреевич. — Вы хорошие дети…
Он долго и деловито рассматривал комнату, листал Олесины тетради, потом склонился над привядшим букетом сирени на столе.
— Не пахнет уже. Пойдем принесем свежую.
В лицо повеяло теплым вечерним воздухом, густым от сладкого аромата сирени.
— Чувствуете, как пахнет земля? — спросил учитель. — Как она дышит? Легко и радостно тому жить на свете, кто слышит ее дыхание.
Олеся обвела радостным взором девочек, счастливая улыбка засияла у нее на устах, горечь ушла далеко-далеко и будто забылась. Кто говорит, что она сирота? Вдохнула свежий воздух и прижалась к учителю, как когда-то давным-давно к родной матери.
Олесе четырнадцать лет. Личико у нее белое и волосы пушистые-пушистые, как пух одуванчика. Походка стремительная, и на устах улыбка, как у всех детей. Но темные ее глаза редко смеются, они налиты терпким соком зрелого терна — Олеся сирота.
Сегодня на уроке Олеся невнимательна. Сегодня сиротство коснулось самого ее сердца. У кого есть мать, тому не страшна обида приятелей, у кого нет — мельчайшая несправедливость холодом душу обдает.
Девочка Катруся, дочь дяди Павелка, виновато улыбается. За тепло и искренность улыбки любое зло можно простить, но Олеся извинения не принимает.
Голос учительницы доносится словно откуда-то издалека, а собственные мысли будто нашептывают над самым ухом: «Чему выучишься в школе, то и будет твоим приданым. Больше ничего тебе не дам». Нет, это не собственные мысли — это всплывают в памяти слова дяди Павелка. Так он говорил год назад, когда Олеся еще жила у него. Молча терпела, куда пойдешь? Там, за полевой тропинкой, бегущей по лугам, присела, будто от усталости, ее хата. Окна забиты досками.
— Не нужно мне ваше приданое, вуйку. И без него обойдусь.
— Очень ты умной стала. Может, и без меня обойдешься?
Ненасытный был Павелко. С тех пор как организовался в селе колхоз, он избегал людей. Запрятался, словно улитка в свой панцирь. Мало с кем говорил. Тайком поросятами спекулировал. Иногда можно было видеть, как в придорожных канавах он косил пыльную траву для коровы.
После похорон Павелковой сестры, Олесиной матери, соседи пришли за восьмилетней сироткой и удивились: не отдал Павелко.
— Ребенок моей сестры у меня будет.
Сначала говорили в селе:
— Душа проснулась в Павелке.
А потом поняли: государство ему платит за Олесю.
Олеся подрастала, а Павелко исподволь стал подумывать над тем, что девочка могла бы и одна прожить. Были у него свои расчеты.
…Как-то зимней порой у порога конюшни наткнулась Олеся на котенка. Приблудился облезлый, полузамерзший. Пригрела его, выходила. Котенок всюду ходил за девочкой, мурлыкал ночью у нее в ногах. Но пришла весна, молока стало меньше, и угрюмый дядько Павелко выбросил котенка за плетень и промолвил:
— И тебя еще кормить, приблуда! Мало у меня нахлебников!
Вот тогда и сказала Олеся:
— Я одна буду жить.
— А есть что будешь? — резко спросил Павелко и хмуро ждал ответа.
— Картошку у вас заработала.
— Ну, тогда — с богом! — обрадовался Павелко. — Когда переедешь?
— Сегодня.
Побаивался, правда, Павелко — разговоры на селе пойдут, люди не похвалят. Но соблазн был велик: теперь и хату не заберут, и приусадебный участок увеличат — патронат, а как же? А если какой наговор пойдет, так он же не выгонял, сама ушла…
Катруся заскучала по Олесе. Забегала к ней тайком от отца, приносила кое-чего поесть, бывало, и заночует — Олеся грозы боится.
Тогда девочки беседуют целый вечер, пока сон не одолеет. И больше всего разговору у них было об Алексее Андреевиче, новом биологе.
Алексей Андреевич хороший: взгляд добрый, руки большие, натруженные, а говорит — как книжку интересную читает.
«Человек должен любить землю. Она его кормит и радость дает. Посейте возле грядки душистый горошек или маттиолу, чтобы дарила вам земля свой аромат днем и ночью, чтоб радостно было по ней ходить, жить на ней».
Дети с увлечением работают на земле, учатся понимать ее. У Олеси на участке свое опытное поле. Здесь чисто, как в хате, здесь она работает так же усердно, как на своем огороде. В этом году Олеся выращивает капусту в торфяных горшочках. Если опыт удастся, то на будущий год ей дадут ученическое звено в колхозе. Об этом уж как-то обронил словечко бригадир Никифор. О, тогда все узнают, какие у нее будут урожаи!
Учитель разговаривает с Олесей как со взрослой. Олесе это нравится. Но если учитель ласково проведет рукой по ее волосам, тогда почему-то так и брызнут жгучие слезы.
В эту весну не нашлось смельчаков взять в колхозе яйца, чтобы вырастить цыплят для школьной птицефермы. А Олеся взяла целых двенадцать. И на днях птенцы вылупились, пушистые такие, хорошенькие.
Прибежала на радостях к Алексею Андреевичу:
— Вы обязательно приходите посмотреть на них.
Учитель пришел. О маме расспрашивал. Она показала фотографию, висевшую на стене. Двое молодых людей смотрели оттуда на чистую комнату, прибранную руками их дочери. Алексей Андреевич остался обедать у Олеси. Сам напросился. Не хвалил, только задумчиво смотрел на белесую детскую головку.
А вчера в школе один мальчик подошел к Олесе и с ехидцей спросил:
— Ты учеников на обеды тоже приглашаешь или только учителей? Подлиза!..
В классе засмеялись. Олеся вспыхнула и обернулась к Катрусе. Та виновато опустила глаза. «Катруся всем рассказала!..» — мелькнуло в голове.
Горькие мысли обступили Олесю. За что они над нею насмехаются? Зачем Катруся так поступила?
На следующий день Олеся не вышла на школьный участок. Глафира Петровна, классный руководитель, сердилась:
— Как это так — не вышла на участок? Нарушения дисциплины я никому не прощу.
И передала Олесин участок другому ученику.
…А Олеся тосковала у себя в хате. По двору ходила наседка с цыплятами, вызывала хозяйку. На клумбе жаловались неполитые цветы. Солнце скользило по бутонам картофельного цвета, заглядывало в хату.
Хозяйка не выходила.
Вдруг скрипнули двери, солнечный луч снопом пшеницы перевалил за порог, а за ним темной тучкою — Катруся.
— Олеся, что же ты не вышла на участок?
— Не приходи ко мне! — отвернулась Олеся. — И на порог моей хаты не показывайся!
•
На следующий день Глафира Петровна велела Олесе идти с ней на школьный участок. В вопросах дисциплины она была педантом и никогда не жалеладля этого времени. Учительница читала книжку под яблоней, а Олеся молча расчищала лопатой дорожку и думала о капусте на своем участке — два дня туда не наведывалась. Закончив работу, она побежала на свой участок.
— Кто тебе разрешил сюда идти? — строго спросила появившаяся здесь Глафира Петровна.
— Это мое поле! — ощетинилась Олеся. — Алексей Андреевич закрепил его за мной.
— До вчерашнего дня было твое, но ты вчера не пришла, и на твое место назначили другую.
Когда учительница скрылась из виду, Олеся вышла из яровой пшеницы, скрывавшей ее, и побежала к своей капусте. В отчаянии и горе она хватала руками и мяла хрупкие стебли, топтала их ногами. Потом упала на зелень и беззвучно заплакала, сжимая в кулаках смятые листики…
Тут и застал ее Алексей Андреевич. Он как раз возвращался из колхоза. Сегодня он пошел туда не по делам учительской производственной бригады, как обычно, — он хотел разузнать, почему Олеся живет одна. Беседовал с бригадиром Никифором. Тот не видел в этом ничего плохого. Чем жить у Павелка, лучше уж одной. Колхоз ее не забывает. Никифор сам завез ей картофель и дрова. «Мы из нее Героя труда воспитаем, девушка землю любит», — говорил Никифор.
А будущий Герой труда вон что натворил! Кто в этом виноват? Алексей Андреевич встретился сегодня с Глафирой Петровной, и между ними состоялся второй неприятный разговор. Первый был зимой…
Алексей Андреевич пошел тогда с учениками развозить навоз по школьным участкам. А Глафира Петровна не пошла. Она взяла справку из амбулатории об освобождении от физического труда. Работа работой, это еще полбеды, но навоз разбрасывать — увольте.
— Вижу, землица вам своих сокровищ не отдаст, — хмуро ответил ей Алексей Андреевич. — Навоза боитесь!
Вот и сейчас между ними вспыхнула плохо скрытая ссора.
— Почему вы без моего ведома передали подопытный участок другому ученику?
— Я борюсь за дисциплину.
— А что Олеся сирота, это вам известно?
— Вы говорите так, словно не я, а вы классный руководитель.
— И знаете ли вы, что она уже полгода живет одна? И что вы своими действиями отбиваете у ребенка охоту к труду? Что она в отчаянии уничтожила рассаду капусты на своем подопытном участке?
Глафира Петровна сразу было растерялась, но последнее известие вернуло ей воинственное настроение.
— Уничтожила? Как это уничтожила? Да за такой поступок — из школы вон! О-о, я сама пойду к директору…
Но разговор в директорском кабинете обернулся несколько по-другому, не так, как ожидала учительница. Там уже сидел бригадир Никифор.
— Выходит, Павелко продолжает получать деньги за патронат? — Директор бросил суровый взгляд на Глафиру Петровну. — Когда вы в последний раз навещали Олесю?
Учительница молчала. Вместо нее говорил Алексей Андреевич.
— Каждый из нас виноват, — подвел итог бригадир Никифор. — Но еще не поздно. Установите сегодня, с каких пор Олеся не живет у Павелка. И с докладной — в сельсовет. Мы заставим этого рвача вернуть все, что он забрал у девочки, и купим на эти деньги Олесе поросенка, чтобы картошку она ела с салом.
…Павелко смахивал с кресел пыль и пододвигал их пришедшим. В углу, у печки, стояла угрюмая Катруся. Ученики узнали об Олесином поступке раньше учителей и пришли к Катрусе. Одни резко осуждали, другие обвиняли бестактного ученика, который обозвал Олесю подлизой.
— Это я во всем виновата, — плакала Катруся. — Я не об обеде должна была всем рассказывать, а надо было сказать в школе, что Олеся сейчас живет одна. А я из зависти к ней — она все умеет делать, а я нет, — чистосердечно призналась девочка.
Дети зашумели. Катруся сегодня же извинится перед Олесей, а завтра они всем классом пойдут к Глафире Петровне. Она, видимо, ничего не знала, если так строго обошлась с нею.
Олеси дома не было. Дверь на замке. Это встревожило Катрусю. Хотела в школу бежать, рассказать обо всем директору или Алексею Андреевичу, — а тут и они явились.
Павелко улыбался и потирал руки.
— Весне, товарищ директор, как будто и конец. Туда-сюда, а время свое знает — летит, словно быстрая тройка.
Директор провел ладонью по лысине.
— Да, весна уходит… А Олеся с каких пор не у вас? — резко изменил он тон, глядя прямо Павелку в глаза, утерявшие сразу заискивающий блеск.
— Не у меня? Как это не у меня? А кто ей жратву дает, простите на слове?
— Я не об этом спрашиваю вас. Хочу знать, с каких пор она живет одна.
— Если уж вам так хочется знать, то могу сказать… Ну, с начала апреля… Но вы сперва спросите: кто дал ей картошку и дрова?
Катруся, настороженно поглядывавшая то на отца, то на гостей, вскочила.
— Неправда! — вскрикнула она. — С февраля не живет у нас. — Сказала и испуганно забилась в угол.
— Тсс, собака! — не сдержался Павелко и замахнулся было на дочку. — Простите на слове. Вы бы в школе ее ремнем учили, а то она очень уж на язык бойкая стала.
Директор не ответил. Обратился к Алексею Андреевичу:
— Пойдемте к ней. А вы, — посмотрел на Павелка, — зайдите сегодня в сельсовет.
Около ворот услыхали, как вскрикнула Катруся и опрометью побежала на огороды. После батьковской «науки» легче стало на сердце. Обошла огородами и спряталась за Олесиной хатой. Слыхала, как разговаривали директор и Алексей Андреевич.
— Может, в интернат устроить?
— Жаль девочку от земли отрывать. Я не советовал бы. Вы только посмотрите на ее огородик. Это дело работящих рук.
— А классным руководителем взялись бы?
— У меня и без того нагрузок много.
— А все же?
— Попробовать можно… поговорим еще об этом… Ну куда она девалась?
— Надо немедля разыскать.
«Немедля разыскать», — ёкнуло у Катруси сердце.
Олеся решила пойти к тетке на Заречье. Глафира Петровна ее не любит, в школе дразнят подлизой, а смятую капусту никогда себе не простит. Отнесла цыплят в школу. Завхоз принял их, похвалил Олесю. Потом собралась и, заперев дверь, пошла.
На горке остановилась и поглядела на село. Оно такое родное-родное. В долине над прудами — левады с мягкими, бархатистыми травами. Пойти бы туда, припасть к земле, как к матери. Школа огромными окнами смотрит, будто говорит: «Неблагодарная…» И родная хата так печально смотрит одним окном из-за Павелкова плетня: «Теперь мы настоящие сироты. И ты, и я…»
Звенит раннее лето над полями, щебечет и зовет:
«Вернись назад, Олеся, вернись!»
•
Уже совсем стемнело, когда к Алексею Андреевичу прибежали девочки-семиклассницы:
— Пришла. Сами видели.
•
Олеся недоверчиво отступила, когда все вошли в ее хату.
«Где ты была? Что надумала?» — хотел было спросить Алексей Андреевич, но по измученному виду девочки понял, что ничего спрашивать не надо.
— Ты не удивляйся, Олеся, что мы так поздно. Буду у вас классным руководителем, вот и обхожу своих учеников перед экзаменами. Где твой школьный уголок?
Олеся сначала не поняла: серьезно ли все это? Смотрела недоверчиво то на подруг, то на учителя. Взгляд ее постепенно прояснялся, глаза наполнялись радостью.
— Как? А почему же это?
— Полюбились вы мне, вот и все, — развел руками Алексей Андреевич. — Вы хорошие дети…
Он долго и деловито рассматривал комнату, листал Олесины тетради, потом склонился над привядшим букетом сирени на столе.
— Не пахнет уже. Пойдем принесем свежую.
В лицо повеяло теплым вечерним воздухом, густым от сладкого аромата сирени.
— Чувствуете, как пахнет земля? — спросил учитель. — Как она дышит? Легко и радостно тому жить на свете, кто слышит ее дыхание.
Олеся обвела радостным взором девочек, счастливая улыбка засияла у нее на устах, горечь ушла далеко-далеко и будто забылась. Кто говорит, что она сирота? Вдохнула свежий воздух и прижалась к учителю, как когда-то давным-давно к родной матери.
1959
Айна
 Если бы мог чародей-художник уловить тона тихой зелени яльских виноградников и серебристый шум Кашкара-Чая, ласковую синеву азербайджанского неба и тревожное марево горных пространств, если бы мог всю эту гамму красок выразить послушной кистью, он нарисовал бы глаза Айны.
Айна… Я пришел сегодня в те места, где когда-то осыпалась лепестками ромашек, переплелась шипами терна моя любовь. Не узнаю ни Ахчаильска, ни жилья Айны, потому что на месте старой сакли вырос аккуратный финский домик; где когда-то стояли наши казармы, работает электростанция; вьется к Машкалану лента железной дороги, которую мы тогда только начинали строить, а с кругловерхой мечети осыпалась облицовка, и мечеть стоит какая-то осиротевшая.
Узнаю и не могу узнать тебя, Айна. И хотя между нами давно уже легло расстояние и неумолимое время, все же я пришел, потому что воспоминание о тебе до сих пор согревает мои сны. И вот я твой гость. Ты угощаешь меня старым вином — очаровательная и чужая. Твой муж, майор Гасанов, только что рассказал, как ему удалось разыскать свою бедную Айну. Это произошло на трубопрокатном заводе в Сумгаите пятнадцать лет назад. Он гордится сейчас своей женой — лучшей работницей на Ахчаильской станции. На коленях у меня возится твой смуглый Астан и увлеченно рассказывает о том, что он уже сам ездил на электричке в Машкалан. А ты… Ты прячешь свой взгляд от меня и, может быть, вспоминаешь незабываемое прошлое так же, как я. Далекая, нежная мечта моя.
…После войны я дослуживал свой срок в рабочем батальоне на строительстве железной дороги в южнокавказских горах. Мы наспех построили саманные казармы, огородились и с грустью думали, что долго нам придется здесь прожить, вдалеке от мира, в безлюдной долине над бурной речкой Кашкара-Чаем.
Но не успели мы здесь обжиться, как на дорогу, впритык к самым казармам, ежедневно начали приходить женщины с корзинками винограда, айвы, гранатов, персиков, черешен, с кувшинчиками вина — со всем тем, чем богаты горы в разные времена года… Это были жители небольшого селения Ахчаильска, прятавшегося недалеко от нас, за перевалом. Кучка глинобитных саклей таилась от людских глаз за холмами, за ветвистыми садами, каменными стенами и виноградниками. Только одно строение можно было увидеть издалека — кругловерхий купол высокой башни — мечети селения. Горские крестьяне занимались скотоводством, и чабаны каждой весной пригоняли сюда, на высокогорные яльские пастбища, скот из ханларского совхоза. На своих скудных каменистых землях жители растили сады и виноградники.
Нас удивляли эти люди. При встречах с мужчинами девушки закрывали платками половину лица. Дети ходили в районный центр Бахчинух в школу, но каждый день молились в ахчаильской мечети, а старый мулла каждый вечер отправлял громкий намаз и своим «алла-а, алла-а» загонял молодежь по домам. Женщины разговаривали с мужчинами только с их разрешения, а родители продавали своих новорожденных дочерей родителям пятилетних женихов.
Мы возмущались. Как до сих пор могут бытовать в народе такие варварские обычаи? Кто держит людские души в страхе и рабской покорности? Однако никто из нас не думал, что именно на нашу долю выпадет жребий пробить брешь в остатках полудиких пережитков восточных адатов, взбунтовать этих людей сперва против нас, а потом против тех, кто упорно заслонял им окно в мир. Но не мы начали борьбу с мусульманским мракобесием в глухом Ахчаильске. Ее начала маленькая Айна.
Если бы кто-нибудь мог… Не то… У Айны глаза совсем обычные, но в них — по капельке — собрано все, чем богата природа края: полутонами отразилась в них ласковая синева высокого неба, и переливы радуг в диких водах, и печаль рыжих скал. Да еще буйство орлицы и смирение домашней овцы.
Такова Айна.
Худенькая, почти ребенок; руки оттягивают тяжелые корзины с виноградом, тонкий, слабенький стан дугой выгибается под кувшином хмельного сока; развивающаяся грудь едва заметна под цыганским сарафаном — Айна еще девочка. Но папахой ее с ног не собьешь, ей шестнадцать лет, она — ханум. Поэтому должна опасливо прикрывать красным платочком смуглые щеки и черные волосы. Только глаз не может спрятать, опускает длинные ресницы и, не поднимая головы, тихо произносит:
— Пожалостя, изюм харош. Бир кило — бир манат.
Каждый день, лишь выпадет свободная минутка, выбегаю из казармы, заправляю под ремень выцветшую гимнастерку и выхожу на дорогу, где в длинном ряду стоят ахчаильские женщины с корзинами и кувшинчиками. Они наперебой приглашают попробовать, поднося к самым моим губам медовые кисти винограда, наливают в стаканы молодое вино. Но я не обращаю внимания, бросаю вежливое «рахмат, рахмат» и тороплюсь в конец ряда, где скромно, не хваля свой товар, стоит Айна.
— Бир манат? Один рубль? Я отдал бы тебе, любимая, горсть золота не за виноград, а только за то, что пришла сегодня, я полжизни отдал бы за твою улыбку и всего себя за твои глаза.
Но Айна не понимает моего языка, лишь видит мой жаркий взгляд и мою любовь. Ей становится страшно, она еще плотнее закрывает лицо и глаза свои отводит куда-то на пыльную дорогу.
«Айна, Айна! — прошу я молчаливо. — Разве ты не заметила, что уже целый год я прихожу сюда пробовать твои черешни и виноград, даже тогда, когда у меня нет и гроша за душой? Разве ты не слышишь, как я называю твое имя, когда ты исчезаешь за горой, возвращаясь в свое селение? Айна, взгляни на меня, ты же видишь, как я люблю тебя!»
И, уже не в силах бороться с моими мольбами, она поднимает глаза, и в них, глубоких и ласковых, как море, я читаю ее тоскливо-боязливое:
«Нет, нет…»
Почему?.. Почему?! До каких же пор ты будешь в ярме неразумных законов? Разве ты не была в городе, не видела, как преобразился старый Гяндж и Кировабад? Многое изменилось! Твои ровесницы давно уже ходят с открытыми лицами, равнодушно проходят мимо мечети, и призывы муллы больше не тревожат их. Они учатся в институтах и школах, а по вечерам идут на гулянья в городской парк, где ваш поэт-пророк Низами с высокого пьедестала благословляет новую жизнь. Почему же ты и до сих пор такая?
Молчит Айна и снова опускает глаза в дорожную пыль.
Почему — я узнал потом. Мне рассказал об этом мой командир Гасанов. От его проницательного взгляда не утаилась моя любовь.
Он стоял возле меня, высокий, выбритый до синевы, с толстыми яркими губами. Я смотрел вслед Айне, шептал ее имя и больше никого не видел. Гасанов прикоснулся рукой к моему плечу и разбудил меня. Его темные глаза неохотно встретились с моими, по лицу пробежала едва уловимая тень неловкости.
— Любишь? — спросил он.
— Люблю…
— И я люблю, — прошептал едва слышно Гасанов.
Я долго не мог вымолвить ни слова, ревниво смотрел на лейтенанта. Так вот откуда ее немота, вот почему она прячет от меня свой взгляд! Мои уста уже раскрылись, чтобы сказать сопернику: «Я, я ее люблю и все сделаю для того, чтобы она была моей!» Но тут же увидел перед собой не победителя, а человека, измученного безнадежностью.
— Я давно ее знаю, — проговорил Гасанов. — Айна продана, как рабыня продана.
Он рассказал мне о том, чего я не знал и во что трудно было поверить.
Айну, как только она родилась, купил для своего сына Яшара Ибрагим Курумбеков. Для Яшара! Я знал этого жениха, и оттого на душе становилось еще тяжелее. Горный цветок продан кретину, сельскому посмешищу! Ибрагим знал, что делал: недаром он отдал за Айну отару овец тогда, когда Яшару исполнилось пять лет.
Но овцы не пошли впрок — многие погибли, остальные потерялись на высокогорных пастбищах, — Айна же с малых лет стала несвободной. Ее оберегают, опасаются всяких неожиданностей, Айна не имеет права вечером выйти за ворота, не смеет парню в глаза посмотреть, показать людям свою красоту.
— Это дикость! Да за такое под суд надо отдать! — стискивал я зубы, чтобы не закричать от бессильной злобы.
Спрашивал Гасанова, что делать.
— Как ты ее спасешь? — развел руками и лейтенант. — Власть в этом деле не поможет. Купчей-то нет. Кого же под суд отдашь? Мулла держит верующих под страхом законов, а что с ним сделаешь? Можно бы разъяснить девушке, но она сама ни за кого не отважится выйти замуж.
— Нет, вы могли бы ее спасти, если… она вас любит…
— Если бы…
Взволнованный, с тревогой ходил я, искал Айну каждый день в длинном ряду женщин. Но она почему-то больше не появлялась.
Собрали виноград. Поснимали персики. Поползла осенняя слякоть над Кашкара-Чаем, прятались рыжие хребты в гиблых туманах. Ибрагим резал баранов на свадьбу, а где-то пропадала Айна.
Гасанов ошибся, думая, что Айна покорилась обычаям и мулле. Я не верил. Поверить в такое было свыше моих сил. Ведь во взоре Айны я сумел подметить ее душу. В ней тлела покорность домашнего животного, но и рвалось наружу буйство орлицы. Я не верил в слепую покорность Айны.
Осень безжалостно оборвала остатки молодости с прибрежных рощ, с виноградников Ахчаильска. Осень оборвала юность Айны — Ибрагим готовил дурачку Яшару свадьбу.
Наш батальон работал далеко от казарм. Железная дорога, повинуясь солдатским рукам, упорно тянулась к Машкалану.
Как-то в субботний вечер я возвращался с работы один. Бригада, построившись колонной, ушла раньше. Горы затянуло густой дымкой, и тучи опускались все ниже и ниже. Зловещий вой шакалов нагонял тоску. Я шел и думал об Айне. Я не переставал думать о ней, а переключить мысли на другое — не мог. Пойти к матери, просить, чтобы подождала со свадьбой хотя бы до весны, — не упросишь, а забрать теперь Айну из села — невозможно. Я же солдат… Гасанов должен… Да, Гасанов.
— Солдат, солдат! — эхом моих мыслей отозвался в сумерках незнакомый голос.
Не знаю почему, но сразу же я подумал, что это Айна. Громкого голоса ее я никогда не слыхал, но звать, как человек, стоящий на краю пропасти, — могла теперь только она.
Я перебежал через дорогу и схватил ее холодные руки. Айна стояла с открытым лицом. Черная, как смола, коса упала на ее грудь в немом отчаянии. Щеки Айны пылали огнем, но в глазах уже не было ни тоски, ни покорности, а светились решимость и отчаянное стремление к свободе и протесту.
— Айна, — проговорил я чуть слышно, — куда ты?
— Я убежала, я больше не вернусь домой, — говорила она, коверкая русские слова. — Там… там началась… свадьба.
Она дрожала от холода и страха. На ней было только свадебное белое платье. Прижималась ко мне, а я гладил ее лицо жесткой ладонью и не мог никак сообразить, что же делать.
— Куда же ты денешься? Ночь…
Она только теперь начала понимать свое бессилие, беспомощность.
— Я бежала… к тебе… Помоги мне…
— Ко мне?
Я понял: Айна любит. В хаосе мыслей блеснула одна. За нашими казармами стоит заброшенная контрольно-проходная будка. Там она сможет переночевать, а я еще успею сбегать к Гасанову: он человек с сердцем, поймет, оформит отпуск — надо действовать быстро.
Вдвоем с Айной тихо пробирались к казарме, пугали нас только окрики чабана за рекою.
Девушка опустилась на нары, прислонилась ко мне. Она долго всматривалась в мои глаза, хотела что-то сказать, не решалась. Потом выдохнула горячим шепотом:
— Возьми меня с собой… На свою родину возьми…
Я сказал, что не оставлю свою Айну никогда, что уже завтра она будет в полной безопасности, что любовь моя огромна, как бескрайнее небо. Я наклонился, чтобы поцеловать ее, но она отклонила голову и ласково сказала:
— Завтра… завтра…
За горой, в кишлаке, звенела зурна, тревожил ночную тишину бубен — в сакле жениха еще ожидали молодую. И вдруг все утихло, а потом поднялся шум. Заголосили, как на похоронах. Я понял, что означает этот взрыв криков, и с опаской посмотрел на Айну. Доверчиво прижавшись ко мне, Айна спала как дитя, у которого крадут и детство и еще не распустившуюся юность. Я осторожно положил ее на нары и побежал к Гасанову. Он жил довольно далеко, в Анджуне.
Мы возвратились перед рассветом. Бросились к будке и оторопели: Айны не было. Вдвоем побежали в кишлак.
…Мать Айны не спала всю ночь. Она знала, что произойдет утром. Весь кишлак сбежится. Курумбековы подхлестнут своих родственников, Айну начнут шельмовать, позорить. Если Айна вернется, — а она вернется, потому что деться ей некуда, — сам мулла принудит мать при людях отречься от дочери. Бежать в Бахчинух, к председателю сельсовета, — далеко, да и сил нет, а от позора все равно не уйти. Здесь мулла — председатель, а Ибрагим ему дал двух барашков.
Уже начинало рассветать, когда Айна пробиралась к своей сакле. «Убежал, убежал, убежал! — стучало у нее в голове. — А что говорил, шайтан, шакал, паршивец!»
Сначала плакала, но теперь была решительна — сама себе хозяйка. Ей только бы успеть переодеться, а там она подастся в Машкалан, где никто ее не отыщет. Не пропадет. А по родным местам и горевать нечего — здесь ее никто не любит…
Но не успела свернуть на узкую тропинку меж стенами, как перед нею выросла высокая фигура муллы.
— Прочь!
— Святой отче…
— Прочь, девка бесстыдная!
Начали сбегаться люди. Айна стояла перед черной фигурой муллы, перед хмурыми лицами соседей. Придурковатый Яшар проскользнул меж людьми, подскочил к Айне с перекошенным от сумасшедшей злобы лицом и, рванув, разорвал на ее груди платье.
— Камнями! — крикнул мулла, но никто не тронулся с места, только Ибрагим поднял руку с камнем.
Люди остановили его.
— Мать гулящей девки сюда! — вопил мулла.
Айна вздрогнула. Она всего ждала, только не этих слов. Брызнули слезы, она глухо застонала и крикнула:
— Неправда! Честная я, честная! Только не пойду за него, полоумного, хоть растопчите меня!
Мать Айны, держась одной рукой за стенку, другой за горло, глубоко дыша, пошатываясь, приближалась к толпе.
— Первая брось ей камень в лицо, за позор, за свою седую голову! — Мулла уже торопливо вложил в руку матери камень.
Толпа застыла в ожидании. Руку матери поднимал варварский обычай. Но не бросила — упала к ногам дочери и, замирая, просила у нее прощения.
Айна нагнулась, подняла мать и, обняв ее, крикнула мулле:
— Проклятье вам! Проклятье!!
Мулла ударил девушку кулаком по голове и свалил ее на землю, Ибрагим швырнул камень в лицо матери. Люди закричали, бросились сдерживать взбесившихся, кое-кто пустился наутек.
Мы с Гасановым бежали, не чувствуя земли под ногами. Лейтенант первый подскочил к мулле, встряхнул его и крикнул по-азербайджански:
— Что делаешь, мерзавец!
Мгновенно все утихло. Я поднял Айну и ее мать, вытер на их лицах кровь. Толпа молча смотрела на нас. Я понял, что наше вмешательство может повлиять на толпу по-разному. Многим противно было смотреть на расправу над девушкой, но эти взбудораженные люди при одном неосторожном слове начнут бросать камни — в нас. Мы здесь чужие и, может быть, виноваты в нарушении обычаев. Я протянул руку к людям и сказал, как только мог, спокойно:
— Опомнитесь…
Но в это время вышел вперед чабан Хамракул.
— А тебе какое дело до нас? Кто тебя просил быть защитником Айны? Кто она тебе — жена или, может, любовница? А не скажешь людям, солдат, где Айна спала в эту ночь? — Он пронизал меня ненавидящим взглядом и обернулся к людям: — Айна ночевала в казарме! Я сам видел — с ним шла! — показал на меня чабанской герлыгой.
У меня перехватило дыхание. Не боязнь, а невозможность доказать невиновность Айны лишила меня речи.
— А-а, вот какие солдаты? Законы наши не уважаете, топчете их, девушек портите, байстрюков по миру пускаете! — брызгал слюной прямо мне в лицо Ибрагим, а потом плюнул на меня.
Поднялся шум. Теперь уже десятки рук с камнями поднялись на нас.
— Бросайте, бросайте! — кричал мулла, и его бороденка дрожала от злобы.
Гасанов вырвался вперед, сверкнул грозным взглядом и, перекрывая шум толпы, крикнул:
— Стойте! Вы! Опустите руки! Ну! — Потом перевел дыхание и заговорил спокойнее: — Поверили подлой брехне? Да, Айна ночевала в казарме, потому что не нашла места среди вас, бессердечных. Но честность ее может установить суд, если вы ей не верите. — Лейтенант смерил взглядом смутившегося муллу и показал на него пальцем: — Кто вас опутывает? Посмотрите на свои рабочие руки и на его пухлые ладони. Посмотрите на небо, на свет! Девушку живьем в землю зарыть хотите… За кого замуж отдавали? — Гасанов взял за пиджак жалкого Яшара и показал его людям: — За вот это посмешище, за калым, за барашков?!
Остыла толпа. Глухо падали на землю камни.
Айна посмотрела на меня, будто говорила мне взглядом: «Зачем ты просил моей любви, зачем наговорил вчера так много хороших слов, а потом…» Резко отвернулась, подошла к Гасанову и кратко сказала:
— Спасибо.
Айна отвела мать в саклю и в будничном платье, с узелком в руке вышла из селения. Ей ничто больше не угрожало, но оставаться в селе она, ночевавшая в казарме, не могла. А на меня больше она не надеялась. Я побежал за нею, чтобы объяснить, почему я оставил ее одну ночью, но Айна даже не обернулась на мой оклик.
В последний раз я увидел ее, когда она остановилась на горе и долго смотрела на селение, прощаясь со всем, что было ей близким и дорогим, а может быть, и со мною.
В тот же день муллу и Ибрагима отправили в Кировабад.
Больше мы не видели Айны. Я просил Гасанова подать на розыски, но он молчал. Трудно было теперь узнать моего командира. Лейтенант почернел, губы его были плотно сжаты, а взгляд стал таким, как у человека, который в огромной толпе все время ищет знакомое лицо, а найти не может.
Я попросился в отпуск.
— Скоро демобилизуешься…
А потом он куда-то исчез. Солдаты говорили, что перевелся в другую часть.
Я ездил в Машкалан, но Айны не нашел…
•
Зачем я приехал сюда, в далекий Ахчаильск? Чтобы своими глазами увидеть и пожалеть о том, чего уже нельзя вернуть? Но тосковать сейчас можно только о юных годах. У каждого из нас есть своя жизнь.
Ты наливаешь мне хмельное вино, а глаза твои говорят:
«Я все знаю теперь и помню все. Я не раз вспоминала тебя… Но ты же сам видишь, как изменились наши горы. Потому и радуюсь, что не покинула их тогда.
Нелегко нам досталось счастье, а поэтому оно дорого и прекрасно».
У Айны первые морщинки под глазами. Она выросла, повзрослела, но лицом не изменилась. Ее глаза такие же, как и тогда, только вместо пугливости и печали в них светится гордость и тихая нежность материнства.
Ушли годы, пролетела юность. Айна стала женою Гасанова и матерью Астана.
А для меня, в душе моей, она осталась навеки символом человеческой красоты.
Если бы мог чародей-художник уловить тона тихой зелени яльских виноградников и серебристый шум Кашкара-Чая, ласковую синеву азербайджанского неба и тревожное марево горных пространств, если бы мог всю эту гамму красок выразить послушной кистью, он нарисовал бы глаза Айны.
Айна… Я пришел сегодня в те места, где когда-то осыпалась лепестками ромашек, переплелась шипами терна моя любовь. Не узнаю ни Ахчаильска, ни жилья Айны, потому что на месте старой сакли вырос аккуратный финский домик; где когда-то стояли наши казармы, работает электростанция; вьется к Машкалану лента железной дороги, которую мы тогда только начинали строить, а с кругловерхой мечети осыпалась облицовка, и мечеть стоит какая-то осиротевшая.
Узнаю и не могу узнать тебя, Айна. И хотя между нами давно уже легло расстояние и неумолимое время, все же я пришел, потому что воспоминание о тебе до сих пор согревает мои сны. И вот я твой гость. Ты угощаешь меня старым вином — очаровательная и чужая. Твой муж, майор Гасанов, только что рассказал, как ему удалось разыскать свою бедную Айну. Это произошло на трубопрокатном заводе в Сумгаите пятнадцать лет назад. Он гордится сейчас своей женой — лучшей работницей на Ахчаильской станции. На коленях у меня возится твой смуглый Астан и увлеченно рассказывает о том, что он уже сам ездил на электричке в Машкалан. А ты… Ты прячешь свой взгляд от меня и, может быть, вспоминаешь незабываемое прошлое так же, как я. Далекая, нежная мечта моя.
…После войны я дослуживал свой срок в рабочем батальоне на строительстве железной дороги в южнокавказских горах. Мы наспех построили саманные казармы, огородились и с грустью думали, что долго нам придется здесь прожить, вдалеке от мира, в безлюдной долине над бурной речкой Кашкара-Чаем.
Но не успели мы здесь обжиться, как на дорогу, впритык к самым казармам, ежедневно начали приходить женщины с корзинками винограда, айвы, гранатов, персиков, черешен, с кувшинчиками вина — со всем тем, чем богаты горы в разные времена года… Это были жители небольшого селения Ахчаильска, прятавшегося недалеко от нас, за перевалом. Кучка глинобитных саклей таилась от людских глаз за холмами, за ветвистыми садами, каменными стенами и виноградниками. Только одно строение можно было увидеть издалека — кругловерхий купол высокой башни — мечети селения. Горские крестьяне занимались скотоводством, и чабаны каждой весной пригоняли сюда, на высокогорные яльские пастбища, скот из ханларского совхоза. На своих скудных каменистых землях жители растили сады и виноградники.
Нас удивляли эти люди. При встречах с мужчинами девушки закрывали платками половину лица. Дети ходили в районный центр Бахчинух в школу, но каждый день молились в ахчаильской мечети, а старый мулла каждый вечер отправлял громкий намаз и своим «алла-а, алла-а» загонял молодежь по домам. Женщины разговаривали с мужчинами только с их разрешения, а родители продавали своих новорожденных дочерей родителям пятилетних женихов.
Мы возмущались. Как до сих пор могут бытовать в народе такие варварские обычаи? Кто держит людские души в страхе и рабской покорности? Однако никто из нас не думал, что именно на нашу долю выпадет жребий пробить брешь в остатках полудиких пережитков восточных адатов, взбунтовать этих людей сперва против нас, а потом против тех, кто упорно заслонял им окно в мир. Но не мы начали борьбу с мусульманским мракобесием в глухом Ахчаильске. Ее начала маленькая Айна.
Если бы кто-нибудь мог… Не то… У Айны глаза совсем обычные, но в них — по капельке — собрано все, чем богата природа края: полутонами отразилась в них ласковая синева высокого неба, и переливы радуг в диких водах, и печаль рыжих скал. Да еще буйство орлицы и смирение домашней овцы.
Такова Айна.
Худенькая, почти ребенок; руки оттягивают тяжелые корзины с виноградом, тонкий, слабенький стан дугой выгибается под кувшином хмельного сока; развивающаяся грудь едва заметна под цыганским сарафаном — Айна еще девочка. Но папахой ее с ног не собьешь, ей шестнадцать лет, она — ханум. Поэтому должна опасливо прикрывать красным платочком смуглые щеки и черные волосы. Только глаз не может спрятать, опускает длинные ресницы и, не поднимая головы, тихо произносит:
— Пожалостя, изюм харош. Бир кило — бир манат.
Каждый день, лишь выпадет свободная минутка, выбегаю из казармы, заправляю под ремень выцветшую гимнастерку и выхожу на дорогу, где в длинном ряду стоят ахчаильские женщины с корзинами и кувшинчиками. Они наперебой приглашают попробовать, поднося к самым моим губам медовые кисти винограда, наливают в стаканы молодое вино. Но я не обращаю внимания, бросаю вежливое «рахмат, рахмат» и тороплюсь в конец ряда, где скромно, не хваля свой товар, стоит Айна.
— Бир манат? Один рубль? Я отдал бы тебе, любимая, горсть золота не за виноград, а только за то, что пришла сегодня, я полжизни отдал бы за твою улыбку и всего себя за твои глаза.
Но Айна не понимает моего языка, лишь видит мой жаркий взгляд и мою любовь. Ей становится страшно, она еще плотнее закрывает лицо и глаза свои отводит куда-то на пыльную дорогу.
«Айна, Айна! — прошу я молчаливо. — Разве ты не заметила, что уже целый год я прихожу сюда пробовать твои черешни и виноград, даже тогда, когда у меня нет и гроша за душой? Разве ты не слышишь, как я называю твое имя, когда ты исчезаешь за горой, возвращаясь в свое селение? Айна, взгляни на меня, ты же видишь, как я люблю тебя!»
И, уже не в силах бороться с моими мольбами, она поднимает глаза, и в них, глубоких и ласковых, как море, я читаю ее тоскливо-боязливое:
«Нет, нет…»
Почему?.. Почему?! До каких же пор ты будешь в ярме неразумных законов? Разве ты не была в городе, не видела, как преобразился старый Гяндж и Кировабад? Многое изменилось! Твои ровесницы давно уже ходят с открытыми лицами, равнодушно проходят мимо мечети, и призывы муллы больше не тревожат их. Они учатся в институтах и школах, а по вечерам идут на гулянья в городской парк, где ваш поэт-пророк Низами с высокого пьедестала благословляет новую жизнь. Почему же ты и до сих пор такая?
Молчит Айна и снова опускает глаза в дорожную пыль.
Почему — я узнал потом. Мне рассказал об этом мой командир Гасанов. От его проницательного взгляда не утаилась моя любовь.
Он стоял возле меня, высокий, выбритый до синевы, с толстыми яркими губами. Я смотрел вслед Айне, шептал ее имя и больше никого не видел. Гасанов прикоснулся рукой к моему плечу и разбудил меня. Его темные глаза неохотно встретились с моими, по лицу пробежала едва уловимая тень неловкости.
— Любишь? — спросил он.
— Люблю…
— И я люблю, — прошептал едва слышно Гасанов.
Я долго не мог вымолвить ни слова, ревниво смотрел на лейтенанта. Так вот откуда ее немота, вот почему она прячет от меня свой взгляд! Мои уста уже раскрылись, чтобы сказать сопернику: «Я, я ее люблю и все сделаю для того, чтобы она была моей!» Но тут же увидел перед собой не победителя, а человека, измученного безнадежностью.
— Я давно ее знаю, — проговорил Гасанов. — Айна продана, как рабыня продана.
Он рассказал мне о том, чего я не знал и во что трудно было поверить.
Айну, как только она родилась, купил для своего сына Яшара Ибрагим Курумбеков. Для Яшара! Я знал этого жениха, и оттого на душе становилось еще тяжелее. Горный цветок продан кретину, сельскому посмешищу! Ибрагим знал, что делал: недаром он отдал за Айну отару овец тогда, когда Яшару исполнилось пять лет.
Но овцы не пошли впрок — многие погибли, остальные потерялись на высокогорных пастбищах, — Айна же с малых лет стала несвободной. Ее оберегают, опасаются всяких неожиданностей, Айна не имеет права вечером выйти за ворота, не смеет парню в глаза посмотреть, показать людям свою красоту.
— Это дикость! Да за такое под суд надо отдать! — стискивал я зубы, чтобы не закричать от бессильной злобы.
Спрашивал Гасанова, что делать.
— Как ты ее спасешь? — развел руками и лейтенант. — Власть в этом деле не поможет. Купчей-то нет. Кого же под суд отдашь? Мулла держит верующих под страхом законов, а что с ним сделаешь? Можно бы разъяснить девушке, но она сама ни за кого не отважится выйти замуж.
— Нет, вы могли бы ее спасти, если… она вас любит…
— Если бы…
Взволнованный, с тревогой ходил я, искал Айну каждый день в длинном ряду женщин. Но она почему-то больше не появлялась.
Собрали виноград. Поснимали персики. Поползла осенняя слякоть над Кашкара-Чаем, прятались рыжие хребты в гиблых туманах. Ибрагим резал баранов на свадьбу, а где-то пропадала Айна.
Гасанов ошибся, думая, что Айна покорилась обычаям и мулле. Я не верил. Поверить в такое было свыше моих сил. Ведь во взоре Айны я сумел подметить ее душу. В ней тлела покорность домашнего животного, но и рвалось наружу буйство орлицы. Я не верил в слепую покорность Айны.
Осень безжалостно оборвала остатки молодости с прибрежных рощ, с виноградников Ахчаильска. Осень оборвала юность Айны — Ибрагим готовил дурачку Яшару свадьбу.
Наш батальон работал далеко от казарм. Железная дорога, повинуясь солдатским рукам, упорно тянулась к Машкалану.
Как-то в субботний вечер я возвращался с работы один. Бригада, построившись колонной, ушла раньше. Горы затянуло густой дымкой, и тучи опускались все ниже и ниже. Зловещий вой шакалов нагонял тоску. Я шел и думал об Айне. Я не переставал думать о ней, а переключить мысли на другое — не мог. Пойти к матери, просить, чтобы подождала со свадьбой хотя бы до весны, — не упросишь, а забрать теперь Айну из села — невозможно. Я же солдат… Гасанов должен… Да, Гасанов.
— Солдат, солдат! — эхом моих мыслей отозвался в сумерках незнакомый голос.
Не знаю почему, но сразу же я подумал, что это Айна. Громкого голоса ее я никогда не слыхал, но звать, как человек, стоящий на краю пропасти, — могла теперь только она.
Я перебежал через дорогу и схватил ее холодные руки. Айна стояла с открытым лицом. Черная, как смола, коса упала на ее грудь в немом отчаянии. Щеки Айны пылали огнем, но в глазах уже не было ни тоски, ни покорности, а светились решимость и отчаянное стремление к свободе и протесту.
— Айна, — проговорил я чуть слышно, — куда ты?
— Я убежала, я больше не вернусь домой, — говорила она, коверкая русские слова. — Там… там началась… свадьба.
Она дрожала от холода и страха. На ней было только свадебное белое платье. Прижималась ко мне, а я гладил ее лицо жесткой ладонью и не мог никак сообразить, что же делать.
— Куда же ты денешься? Ночь…
Она только теперь начала понимать свое бессилие, беспомощность.
— Я бежала… к тебе… Помоги мне…
— Ко мне?
Я понял: Айна любит. В хаосе мыслей блеснула одна. За нашими казармами стоит заброшенная контрольно-проходная будка. Там она сможет переночевать, а я еще успею сбегать к Гасанову: он человек с сердцем, поймет, оформит отпуск — надо действовать быстро.
Вдвоем с Айной тихо пробирались к казарме, пугали нас только окрики чабана за рекою.
Девушка опустилась на нары, прислонилась ко мне. Она долго всматривалась в мои глаза, хотела что-то сказать, не решалась. Потом выдохнула горячим шепотом:
— Возьми меня с собой… На свою родину возьми…
Я сказал, что не оставлю свою Айну никогда, что уже завтра она будет в полной безопасности, что любовь моя огромна, как бескрайнее небо. Я наклонился, чтобы поцеловать ее, но она отклонила голову и ласково сказала:
— Завтра… завтра…
За горой, в кишлаке, звенела зурна, тревожил ночную тишину бубен — в сакле жениха еще ожидали молодую. И вдруг все утихло, а потом поднялся шум. Заголосили, как на похоронах. Я понял, что означает этот взрыв криков, и с опаской посмотрел на Айну. Доверчиво прижавшись ко мне, Айна спала как дитя, у которого крадут и детство и еще не распустившуюся юность. Я осторожно положил ее на нары и побежал к Гасанову. Он жил довольно далеко, в Анджуне.
Мы возвратились перед рассветом. Бросились к будке и оторопели: Айны не было. Вдвоем побежали в кишлак.
…Мать Айны не спала всю ночь. Она знала, что произойдет утром. Весь кишлак сбежится. Курумбековы подхлестнут своих родственников, Айну начнут шельмовать, позорить. Если Айна вернется, — а она вернется, потому что деться ей некуда, — сам мулла принудит мать при людях отречься от дочери. Бежать в Бахчинух, к председателю сельсовета, — далеко, да и сил нет, а от позора все равно не уйти. Здесь мулла — председатель, а Ибрагим ему дал двух барашков.
Уже начинало рассветать, когда Айна пробиралась к своей сакле. «Убежал, убежал, убежал! — стучало у нее в голове. — А что говорил, шайтан, шакал, паршивец!»
Сначала плакала, но теперь была решительна — сама себе хозяйка. Ей только бы успеть переодеться, а там она подастся в Машкалан, где никто ее не отыщет. Не пропадет. А по родным местам и горевать нечего — здесь ее никто не любит…
Но не успела свернуть на узкую тропинку меж стенами, как перед нею выросла высокая фигура муллы.
— Прочь!
— Святой отче…
— Прочь, девка бесстыдная!
Начали сбегаться люди. Айна стояла перед черной фигурой муллы, перед хмурыми лицами соседей. Придурковатый Яшар проскользнул меж людьми, подскочил к Айне с перекошенным от сумасшедшей злобы лицом и, рванув, разорвал на ее груди платье.
— Камнями! — крикнул мулла, но никто не тронулся с места, только Ибрагим поднял руку с камнем.
Люди остановили его.
— Мать гулящей девки сюда! — вопил мулла.
Айна вздрогнула. Она всего ждала, только не этих слов. Брызнули слезы, она глухо застонала и крикнула:
— Неправда! Честная я, честная! Только не пойду за него, полоумного, хоть растопчите меня!
Мать Айны, держась одной рукой за стенку, другой за горло, глубоко дыша, пошатываясь, приближалась к толпе.
— Первая брось ей камень в лицо, за позор, за свою седую голову! — Мулла уже торопливо вложил в руку матери камень.
Толпа застыла в ожидании. Руку матери поднимал варварский обычай. Но не бросила — упала к ногам дочери и, замирая, просила у нее прощения.
Айна нагнулась, подняла мать и, обняв ее, крикнула мулле:
— Проклятье вам! Проклятье!!
Мулла ударил девушку кулаком по голове и свалил ее на землю, Ибрагим швырнул камень в лицо матери. Люди закричали, бросились сдерживать взбесившихся, кое-кто пустился наутек.
Мы с Гасановым бежали, не чувствуя земли под ногами. Лейтенант первый подскочил к мулле, встряхнул его и крикнул по-азербайджански:
— Что делаешь, мерзавец!
Мгновенно все утихло. Я поднял Айну и ее мать, вытер на их лицах кровь. Толпа молча смотрела на нас. Я понял, что наше вмешательство может повлиять на толпу по-разному. Многим противно было смотреть на расправу над девушкой, но эти взбудораженные люди при одном неосторожном слове начнут бросать камни — в нас. Мы здесь чужие и, может быть, виноваты в нарушении обычаев. Я протянул руку к людям и сказал, как только мог, спокойно:
— Опомнитесь…
Но в это время вышел вперед чабан Хамракул.
— А тебе какое дело до нас? Кто тебя просил быть защитником Айны? Кто она тебе — жена или, может, любовница? А не скажешь людям, солдат, где Айна спала в эту ночь? — Он пронизал меня ненавидящим взглядом и обернулся к людям: — Айна ночевала в казарме! Я сам видел — с ним шла! — показал на меня чабанской герлыгой.
У меня перехватило дыхание. Не боязнь, а невозможность доказать невиновность Айны лишила меня речи.
— А-а, вот какие солдаты? Законы наши не уважаете, топчете их, девушек портите, байстрюков по миру пускаете! — брызгал слюной прямо мне в лицо Ибрагим, а потом плюнул на меня.
Поднялся шум. Теперь уже десятки рук с камнями поднялись на нас.
— Бросайте, бросайте! — кричал мулла, и его бороденка дрожала от злобы.
Гасанов вырвался вперед, сверкнул грозным взглядом и, перекрывая шум толпы, крикнул:
— Стойте! Вы! Опустите руки! Ну! — Потом перевел дыхание и заговорил спокойнее: — Поверили подлой брехне? Да, Айна ночевала в казарме, потому что не нашла места среди вас, бессердечных. Но честность ее может установить суд, если вы ей не верите. — Лейтенант смерил взглядом смутившегося муллу и показал на него пальцем: — Кто вас опутывает? Посмотрите на свои рабочие руки и на его пухлые ладони. Посмотрите на небо, на свет! Девушку живьем в землю зарыть хотите… За кого замуж отдавали? — Гасанов взял за пиджак жалкого Яшара и показал его людям: — За вот это посмешище, за калым, за барашков?!
Остыла толпа. Глухо падали на землю камни.
Айна посмотрела на меня, будто говорила мне взглядом: «Зачем ты просил моей любви, зачем наговорил вчера так много хороших слов, а потом…» Резко отвернулась, подошла к Гасанову и кратко сказала:
— Спасибо.
Айна отвела мать в саклю и в будничном платье, с узелком в руке вышла из селения. Ей ничто больше не угрожало, но оставаться в селе она, ночевавшая в казарме, не могла. А на меня больше она не надеялась. Я побежал за нею, чтобы объяснить, почему я оставил ее одну ночью, но Айна даже не обернулась на мой оклик.
В последний раз я увидел ее, когда она остановилась на горе и долго смотрела на селение, прощаясь со всем, что было ей близким и дорогим, а может быть, и со мною.
В тот же день муллу и Ибрагима отправили в Кировабад.
Больше мы не видели Айны. Я просил Гасанова подать на розыски, но он молчал. Трудно было теперь узнать моего командира. Лейтенант почернел, губы его были плотно сжаты, а взгляд стал таким, как у человека, который в огромной толпе все время ищет знакомое лицо, а найти не может.
Я попросился в отпуск.
— Скоро демобилизуешься…
А потом он куда-то исчез. Солдаты говорили, что перевелся в другую часть.
Я ездил в Машкалан, но Айны не нашел…
•
Зачем я приехал сюда, в далекий Ахчаильск? Чтобы своими глазами увидеть и пожалеть о том, чего уже нельзя вернуть? Но тосковать сейчас можно только о юных годах. У каждого из нас есть своя жизнь.
Ты наливаешь мне хмельное вино, а глаза твои говорят:
«Я все знаю теперь и помню все. Я не раз вспоминала тебя… Но ты же сам видишь, как изменились наши горы. Потому и радуюсь, что не покинула их тогда.
Нелегко нам досталось счастье, а поэтому оно дорого и прекрасно».
У Айны первые морщинки под глазами. Она выросла, повзрослела, но лицом не изменилась. Ее глаза такие же, как и тогда, только вместо пугливости и печали в них светится гордость и тихая нежность материнства.
Ушли годы, пролетела юность. Айна стала женою Гасанова и матерью Астана.
А для меня, в душе моей, она осталась навеки символом человеческой красоты.
1961
Кинжал
 Целый день бродил я отрогами Дашкесанских гор, пытаясь рассеять свою тоску по родному Прикарпатью. Я взошел на вершину Мамед-Дага, названную именем народного мстителя Хаджи Мамеда, и взобрался на менее высокую гору Рашид-Даг. Кто был этот Рашид — кавказский Довбуш, Кобылица или Шугай, — я не знал, да и спросить было не у кого: за весь день я не встретил в горах ни одной живой души.
И вдруг ко мне донесся монотонный звук зурны, прокатилась мелодия эхом по ущельям, взлетел в небо коршун. Шелестом листьев отозвался песне одинокий карагач, зашептал ветер, сметая своим невидимым крылом песок с порыжевших склонов, и я остановился, прислушался.
Поднявшись на вершину, я увидел выжженные солнцем полонины — эйлаги, по ним рассыпались стадами овцы и козы, а между двумя островерхими каменьями примостилась серая холщовая палатка.
Старый чабан с бороздами морщин на лице — оно смахивало на потрескавшуюся от засухи землю — перестал играть и пристально смотрел на меня; мне же казалось, что на меня глядит поблекшими глазами этого человека не он, а седая вечность гор. Вот он, наверное, знает, откуда пошли названия каждой горы и долины. Я уже хотел было спросить, как вдруг мне бросилось в глаза необычайное украшение, прикрепленное к поясу чабана. Дорогой кинжал с белой костяной рукояткой, сверкающие золотом ножны поразительно дисгармонировали с ветхим одеянием чабана. Я подошел поближе и робко сказал:
— О, какая у вас драгоценность…
Старик молча посмотрел на меня, и в выражении его глаз я уловил едва скрытое желание рассказать мне историю…
•
Давно это было, более полустолетия назад. В те времена в Ял-Кишлаке, что над Кашкара-Чаем, хозяйничал богатей Сейткамал. Молодой был, красивый, черноусый такой. В отличие от других беков, он не дружил с господами, одевался просто и не только не пренебрегал сельскими девчатами, но постоянно ухлестывал за ними. Его боялись, ненавидели, но все же приходили к нему в усадьбу с кувшинами вина женщины и девушки, потому что Сейткамал был щедрым и покупал у них вино.
В Самухах, недалеко от Ял-Кишлака, жила вдова Эминэ с дочерью Загрой и сыном-подростком Хатимом. Красивой была Загра, и поговаривали старые аксакалы: «По-разному наказывает аллах людей — кого уродливостью, кого чрезмерной красотой, — но как одно, так и другое приносит несчастье». Но Эминэ не прислушивалась к голосу соседей, не сумела спрятать красоту дочери своей от похотливых глаз молодого бека. Соблазнившись легким заработком, она повела дочь в усадьбу Сейткамала продавать вино.
Вот сейчас он выйдет, скользнет взглядом по лицам пришедших и прикажет купить кувшин с вином у самой красивой. Эминэ подталкивает Загру ближе к воротам, чтобы улыбнулась она, когда выйдет Сейткамал. Девушка принужденно улыбается.
— Поклонись, поклонись, Загра.
Сейткамал открыл ворота и крикнул: «Расходитесь сегодня все!» — да вдруг умолк, потрясенный, куда девалась его спесь, не богатей Сейткамал, а растерявшийся юноша стоял перед бедно одетой красавицей.
— Это твоя дочь, старая?
— Моя, господин…
— Сколько лет тебе, красавица?
— Семнадцать, — прошептала Загра.
— Возьми у нее вино! — приказал слуге и втиснул в ладонь Загры золотую монету. — Где ты живешь, красавица?
— Там, над рекой… — отвечала побледневшая Загра.
— Жди, старая, сегодня в гости, — сказал Сейткамал и ушел.
Эминэ проклинала себя и молилась аллаху, чтобы Сейткамал проехал мимо ее сакли. Но Сейткамал вечером пришел.
— Большая честь для меня, — кланялась мать и дрожала, ожидая, что скажет бек.
— Салам алейкум, Эминэ. А где же дочь твоя?
— К родичам пошла… Зачем ты… спрашиваешь о ней?..
Сейткамал присел на ковер, задымил трубкой.
— Зачем спрашиваю, говоришь? Послушай, Эминэ… Вижу, как ты боишься. Нехорошая слава идет обо мне в кишлаках, но все это выдумки. Я увидел сегодня твою дочку и понял, что для меня она выросла. Обвенчаться хочу с нею, Эминэ.
— Большую честь оказываешь мне, — снова поклонилась мать, — но извини, что скажу сейчас: не пара тебе моя Загра. Ты — богач. Земли твоих имений глазом не окинешь, пешком не обойдешь. Твои виноградники тянутся долиной Кашкара-Чая до подножия Кара-Дага. На эйлагах пасутся тысячи твоих овец, верблюды несут твое богатство на большой базар в Гяндж. А дочь моя богата разве только красотой своей. Нет, нет, не пара она тебе, смеяться будут над тобой друзья твои.
— Не отговаривай, Эминэ. Мне как раз и нужна ее красота, а золота у меня много. Вот оно! — и он высыпал пригоршню золотых монет на ковер.
Эминэ схватилась за голову.
— Помилуй, господин!.. Столько денег, столько золота… — Она начала собирать монеты, любуясь их блеском.
— Ты согласна, старая?
— Только чтобы кьябин… венчанье, господин…
— Мы обвенчаемся с нею.
— Согласна, господин…
— Вы у меня обе будете ходить в золоте!
— Не в золоте счастье! — прогремел зловещий голос за окном и утих во тьме.
— Кто это? — грозно спросил Сейткамал.
Смертельный страх охватил сердце Эминэ перед вспыхнувшим злобой богатеем.
— Прости, великий, прости! — залопотала она. — Я не сказала тебе, забыла сказать… Это Рашид, жених Загры. Твой чабан… Но если ты хочешь обвенчаться, то бери ее завтра, потому что Рашид украдет Загру, — лепетала старая, отуманенная блеском золота.
Задумался Сейткамал. Он должен завтра поехать в Тусаоби, договориться с муллой. А за это время… Поставить стражу у сакли Эминэ? Нельзя, может весь кишлак взбунтоваться. Кто бы смог дать знать слугам, когда в его отсутствие налетит Рашид?
Впрочем… Сейткамал посмотрел на дверь. У входа стоял парнишка и как завороженный смотрел на кинжал, прятавшийся в выложенных золотом ножнах. Взгляд его не мог оторваться, он тянулся к кинжалу, как бы говоря, что станет самым счастливым человеком на свете тот, кому удастся хоть подержать в руках этот чудесный кинжал.
Сейткамал уловил жадный взгляд подростка.
— Это твой сын, Эминэ?
— Да, младший брат Загры, Хатим.
— Скажи ему, пусть покажет мне дорогу. Что-то очень темно.
Поднимался месяц, и его холодные лучи переливались на золотой оправе кинжала. Хатим боязливо протянул руку, чтобы дотронуться до него. Сейткамал улыбнулся, склонился с коня к мальчику:
— Ты хотел бы иметь кинжал, Хатим?
— О, я не знал бы большего счастья!
Немного помолчав, Сейткамал спросил:
— Рашида, моего чабана, знаешь?
— Как не знать! Это мой лучший друг. Рашид смелый, как орел, и сильный, как барс. Все знают Рашида.
— Он у вас часто бывает?
— Каждый раз, когда спускается с гор. И сегодня будет. Рашид — жених Загры.
Сейткамал нахмурил брови.
— Это неправда, Хатим. Я жених Загры.
Хатим громко рассмеялся.
— Шутите, господин! Рашид и Загра уже давно обручены, и ни за кого другого она не пойдет.
— Глупенький ты, — ответил Сейткамал, сдерживая злость. — Я за нее сегодня дал твоей матери калым.
Хатим остановился, воинственно стиснув кулаки.
— Как она могла?! — И он с недобрыми огоньками в глазах подступил к беку. — Не знаешь ты Рашида, бек. И не тягайся с ним за мою сестру. Он ее со дна моря достанет. И не помогут тебе все твои слуги.
Сейткамал долго молчал. На крутом берегу реки остановил коня.
— Послушай, Хатим. — Положил руку на плечо мальчика, другой отстегнул от пояса кинжал. — Будь умным. Рашид сам не имеет крыши над головой, а со мною Загра будет счастлива. Я дарю тебе свой кинжал, как брату. Ну, не дрожи, бери. А завтра… завтра лишь одну мелочь сделай мне. Если увидишь, что кто-то скачет на коне к вашей сакле, прибежишь ко мне и крикнешь: «Сейткамал!» Слышишь? — И он отдал в дрожащие руки Хатима кинжал, а сам умчался в ночь.
Эта ночь стала для Хатима адом. Он закутался в старую отцовскую бурку, прижав к груди подарок Сейткамала. Кинжал жег его раскаленными угольями, и Хатим не смог заснуть ни на минуту. Он молился святому Исрафилу — не помогало. А когда на рассвете веки его мгновениями слипались, каждый раз являлся Рашид и спрашивал: «Неужели ты продашь сестру за кинжал?»
Хатим вскакивал с постели, вынимал из-за пазухи кинжал и снова прятал — расстаться с таким сокровищем было свыше его сил.
Загра вернулась в саклю перед рассветом. Вчера она, исполненная тревоги, ожидала на берегу реки Рашида. Он пришел поздно и рассказал ей, что видел своими глазами: мать взяла калым у Сейткамала… В эту ночь Загра стала женою Рашида. Думала, что мать будет бить ее, выгонит на улицу, но Эминэ водила помутневшим взором по сторонам и не смела посмотреть в глаза дочери.
День начался ясным, палящим солнцем, а для Хатима — мучениями совести. Он видел, как Загра вынесла из дому небольшой узелок. Хатим знал, что в нем ее свадебный наряд, приданое — красный платок и юбка из двенадцати полотнищ.
Мальчик пошел за нею в сад, остановил ее:
— Загра…
Загра с нежностью посмотрела на бледное лицо брата, она знала, как сильно любит ее Хатим, и утешила:
— Не плачь, Хатим, Сейткамал меня не возьмет.
Смятение разрывало сердце Хатима. Он простонал:
— Загра… Я должен… сегодня…
— Будь спокоен, мой маленький…
Хатим вырвался из рук Загры и побежал в направлении Сейткамаловой усадьбы. Он отдаст ему кинжал, он швырнет его в лицо богатею. Вот он уже и у ворот. Здесь Хатим почему-то обернулся и увидел вылетевших из Ял-Кишлака всадников. Это Рашид со своими друзьями. Мальчик заметался у ворот, кинжал сверкнул в его руке, и, не помня себя, он вдруг крикнул: «Сейткамал!» — и сам не узнал своего голоса.
Все, что случилось потом, казалось Хатиму чудовищным кошмаром. Он мчится на чьем-то коне в бешеном аллюре, с кинжалом в руке. Всадников много, звон сабель, крик, сумятица. Отчаянный вопль Загры, стон Рашида. И в этом шуме и лязге в его лицо ударяют слова:
— Будь ты проклят, сестропродавец!
Сейткамал вернулся из Тусаоби довольно поздно. Мулла сначала и слышать не хотел о свадьбе с сельской девушкой, но золото помогло и здесь. Однако отвязаться от муллы было не так легко. Должен был вместе с ним помолиться, отобедать, поговорить. Изо всех сил гнал коня обратно в Самухи. И не напрасно. Невеста в это время была уже у него во дворе.
Ял-кишлакский бек справлял свадьбу. Он швырял деньгами, пел, плясал. Пьяным взглядом смотрел на свою невесту и сам себе не верил, что судьба послала ему в жены этот прекрасный горный цветок.
А когда миновала полночь, он, по старинному обряду, отвел Загру в отдаленную комнату.
Загра стояла, каменея от страха и бессилия перед тем, что сейчас должно было произойти.
— Жена моя… — прошептал Сейткамал и тут же отшатнулся от ее крика:
— Нет, нет! Не твоя! Я давно уже, давно жена Рашида! Да! Да! Ты напрасно взял меня силой. Теперь закон не позволит тебе жить со мною. Ты должен вернуть меня моей матери и взять назад свое золото!
— Каналья! — заревел Сейткамал. — Думаешь, это тебя спасет? Не-ет, не опозорит себя Сейткамал! Наложницей моей будешь. В темной сакле при моем дворе будешь жить. А Рашида твоего завтра повешу. Ты проклянешь свою судьбу, гадина!
Он ударил Загру кулаком в грудь, и она упала на ковер…
…В плодородной долине Кашкара-Чая стонал народ. Слуги богатеев бегали с нагайками по кишлакам, отбирали за долги хлеб, за долги выгоняли людей на работу. Народ молчал, но в этой тишине таилась гроза, как в весенних, насыщенных электрическими разрядами, темно-синих облаках.
Сейткамал готовил смерть Рашиду. Мусульманин, обесчестивший девушку, должен умереть.
Рашид сидел в подвале и смотрел сквозь зарешеченное оконце на усеянное звездами небо. Он уже знал, что его убьют.
Под оконцем сидит сторож.
Рашида не страшит смерть, но до отчаяния доводит бессилие. Сейткамал издевается над Загрой, а у него связаны руки.
— Не гневи аллаха, Рашид, — доносится до него сочувственный голос сторожа. — Он дал жизнь, даст и смерть…
Рашид не может угадать, кто этот сторож, но голос очень знакомый.
— Не смерти я боюсь. Не хочется умирать не отомстив.
— Смирись, Рашид. Месть не спасение для души.
— Замолчи ты, ничтожество!
— Не ругай меня… Я ненавижу Сейткамала больше, чем ты. Разве не знаешь, из-за кого бросилась в воду моя дочь?
— Это ты, Ишан-Кули? — шепчет Рашид, и его глаза загораются надеждой. — Выпусти меня, друг!
— Не могу… Моя жена служит Сейткамалу. Он замучит ее.
— Бери жену и беги со мною!
В эту ночь тихо открылись двери подвала. Темень приняла в свои объятия беглецов.
Сейткамалом давно возмущались беки соседних селений. Заварил кашу, а теперь расхлебывать ее придется всем. Разъярил стадо бешеных волков, а ныне ни Хусам из Кирихли, ни мулла из Тусаоби да и сам Сейткамал не могут поручиться, что Рашид не поднимет крестьян на восстание, как когда-то Хаджи-Мамед.
Загра уже не плачет. Слезы высохли, сгустками крови запеклись на сердце. Моргает в сакле фитилек, грязные стены, словно ожидая Сейткамала, дрожат. Дрожит и Загра. Придет он — и снова начнутся побои, а потом и еще худшее: прикажет переодеться и идти с ним в его светлицу.
Не лучше ли умереть? В усадьбе все говорят, что Сейткамал повесил Рашида. Мать продала ее, брат предал, а она в тюрьме, опозоренная. Можно ли так жить?
Кто знает, убил бы бек Загру или нет, но страшная весть молнией облетела кишлаки: появился в горах новый разбойник (сардар), убежавший от Сейткамала, — Рашид.
Сейткамал обеспокоен. Бек Хусам почти каждый день приезжает к нему и в страхе трясет бородкой:
— Вчера исчезло пять мужиков из селения. Сегодня — семь… Рашид поднимает большое восстание. Что будет?
Сейткамал знает, что рано или поздно Рашид придет за Загрой. Слуги день и ночь стерегут усадьбу.
Загра ничего не знает.
Ночь… Сейткамала нет, куда-то уехал.
Не спится.
Тихо отворились двери сакли.
— Кто?
— Загра?
— Кто это?! Привидение!
— Нет, это я, твой Рашид!
Ишан-Кули стоит под окном и утирает слезы.
— Не оставляй меня здесь, Рашид, не оставляй.
— Любимая, я вырву тебя из этого пекла, но сегодня этого нельзя сделать. Мы пролезли через сад, мимо сторожей. Надо было узнать, где ты живешь. Нас только двое. Завтра жди меня.
Сейткамал вернулся на другой день вечером. Ездил в Гяндж просить у коменданта помощи, солдат. Дома слуги ему донесли, что утром около сакли Загры остались чьи-то следы.
Вошел, грозно посмотрел на Загру. Она стояла среди комнаты с распущенными волосами — смелая, гордая, несломленная. Ночь, как разбойник, лезла в окно, пугливо дрожал огонек. У Сейткамала кулаки стиснуты, губы прикушены.
— Кто был?
— Никого не было.
— Врешь. Вчера кто был здесь?
— Одна была.
— К тебе Рашид приходил!
— Мертвые не воскресают.
Сейткамал ударил Загру в лицо.
Ночь крылом открыла окно и метнула нож. Сейткамал отпрянул. Нож впился острием в стену сакли. Кто-то вскрикнул за окном, дверь слетела с петель, бек опомнился, схватил торчавший в стене кинжал и в одно мгновение всадил его в грудь Загры. Сам бросился в дверь.
— Слуги!
Загра даже не вскрикнула. Ночь полыхнула ярким пламенем и сразу погасла.
Слуг во дворе не было. Всюду суетились неизвестные люди.
Рашид подлетел к Сейткамалу и схватил его за горло.
С мертвым телом бедной Загры вернулись повстанцы в горы.
Зарево от пожара освещало им путь.
Друзья ожидали от Рашида приказа. Приказ был страшный.
…Одинокий Хатим бродит в горах. Конь убежал от него. Хатим прячется от людей, ест черешню и шелковицу, спит на камнях. Нет, не спит. Ночь терзает его ужасными сновидениями. Проклятие Рашида и плач Загры не дают покоя. Хатим теперь хотел бы обнять и дикого шакала, рассказать ему о своих мучениях.
Но шакалы воют далеко в горах, и вой их страшен, как укоры совести.
Хатим смотрит на золотой кинжал, купленный ценою измены, нацеливается острием в свою грудь, а решиться не может.
Ходит по горам, как призрак. В котловине — небольшой кишлак. Решается зайти в селение. С ним встречаются люди, расспрашивают его, но он молчит, никому не смотрит в глаза. Ему кажется, что все знают о его преступлении. Хатима кормят, укладывают спать и думают, что он немой или юродивый.
Всакле сидят седые старцы, курят трубки и беседуют.
— О, их уже много. Скоро беки не будут знать, где им скрываться.
— Вдоволь попили нашей крови.
— Говорят, Сейткамал силой забрал у Рашида невесту.
— И еще говорят, будто продал беку ее родной брат. За кинжал.
— И не убили предателя?
— Говорят, убежал.
Хатим лежит на подстилке и все слышит. Каждое слово огнем жжет.
— А где сейчас Рашид?
— Собирает повстанцев в ущельях Кара-Дага.
Когда все заснули, Хатим выбежал из сакли. Долго-долго шел он, пока не появился, утомленный, худой и изможденный, у подножия Кара-Дага.
Повстанцы, похоронив Загру, часто собирались у ее могилы. Часто бывал там и Рашид. Как раз в такой момент и подходил к ним Хатим.
— Кто идет? — послышался голос часового.
— Пропустите… Я… брат Загры…
Рашид поднял голову.
— Ты?! Зачем пришел к нам?
— За смертью, Рашид…
— Пусть тебя совесть убьет.
Хатим упал ему в ноги.
— Не гони меня, о, не гони! Я не могу больше так жить! Возьми этот оскверненный изменой кинжал и убей им изменника. Своего чистого лезвия не погань моей кровью. Только в живых меня не оставляй, Рашид, сократи мои страшные мучения.
Рашид молчал. Отвернулся от Хатима, а непрошеная слеза жалости к бедному парню скатилась по его щеке. Он поднял Хатима на ноги, посмотрел ему в глаза; сквозь слезы в глазах Хатима он увидел раскаяние.
— Пойдешь с нами, парень. Ты еще станешь честным мстителем. Бери этот кинжал и искупи свою вину.
…Ночи не спят. Зарево лижет небо. Звезды побледнели.
Горят Тусаоби, Самухи, Аджикент, Кири-Хли.
Радость угнетенным, страх богатеям.
•
Убегает Хусам в Гяндж. Его перехватывают на дороге вооруженные горцы-крестьяне и убивают.
Падает Али-бек на колени, просит пощады. Золотому кинжалу мало крови — он не знает пощады.
Заперся мулла в мечети и просит у аллаха защиты. Двери храма падают под натиском сильных плеч, рука мстителя душит лукавого ханжу…
А бурный Кашкара-Чай течет веками и несет на белом хребте славу минувших лет. Много утекло воды, много пролетело лет с той поры, когда погиб в неравной схватке мститель народный — Рашид.
Но еще и теперь на эйлагах в тихие сумерки затоскует иногда хозяин гор, вспоминая тех, кто пролил кровь свою за народ, заиграет на зурне так, что и горы и люди слушают его.
•
Умолк старик. Раскаленное солнце садилось за Рашид-Даг.
Рашид-Даг…
Но не все досказал чабан. Откуда же у него золотой кинжал? Я спросил об этом у старика.
Он снова взглянул на меня своими выцветшими глазами и, грустно улыбнувшись, ответил шепотом:
— Я, сынок, Хатим… Я — Хатим.
Целый день бродил я отрогами Дашкесанских гор, пытаясь рассеять свою тоску по родному Прикарпатью. Я взошел на вершину Мамед-Дага, названную именем народного мстителя Хаджи Мамеда, и взобрался на менее высокую гору Рашид-Даг. Кто был этот Рашид — кавказский Довбуш, Кобылица или Шугай, — я не знал, да и спросить было не у кого: за весь день я не встретил в горах ни одной живой души.
И вдруг ко мне донесся монотонный звук зурны, прокатилась мелодия эхом по ущельям, взлетел в небо коршун. Шелестом листьев отозвался песне одинокий карагач, зашептал ветер, сметая своим невидимым крылом песок с порыжевших склонов, и я остановился, прислушался.
Поднявшись на вершину, я увидел выжженные солнцем полонины — эйлаги, по ним рассыпались стадами овцы и козы, а между двумя островерхими каменьями примостилась серая холщовая палатка.
Старый чабан с бороздами морщин на лице — оно смахивало на потрескавшуюся от засухи землю — перестал играть и пристально смотрел на меня; мне же казалось, что на меня глядит поблекшими глазами этого человека не он, а седая вечность гор. Вот он, наверное, знает, откуда пошли названия каждой горы и долины. Я уже хотел было спросить, как вдруг мне бросилось в глаза необычайное украшение, прикрепленное к поясу чабана. Дорогой кинжал с белой костяной рукояткой, сверкающие золотом ножны поразительно дисгармонировали с ветхим одеянием чабана. Я подошел поближе и робко сказал:
— О, какая у вас драгоценность…
Старик молча посмотрел на меня, и в выражении его глаз я уловил едва скрытое желание рассказать мне историю…
•
Давно это было, более полустолетия назад. В те времена в Ял-Кишлаке, что над Кашкара-Чаем, хозяйничал богатей Сейткамал. Молодой был, красивый, черноусый такой. В отличие от других беков, он не дружил с господами, одевался просто и не только не пренебрегал сельскими девчатами, но постоянно ухлестывал за ними. Его боялись, ненавидели, но все же приходили к нему в усадьбу с кувшинами вина женщины и девушки, потому что Сейткамал был щедрым и покупал у них вино.
В Самухах, недалеко от Ял-Кишлака, жила вдова Эминэ с дочерью Загрой и сыном-подростком Хатимом. Красивой была Загра, и поговаривали старые аксакалы: «По-разному наказывает аллах людей — кого уродливостью, кого чрезмерной красотой, — но как одно, так и другое приносит несчастье». Но Эминэ не прислушивалась к голосу соседей, не сумела спрятать красоту дочери своей от похотливых глаз молодого бека. Соблазнившись легким заработком, она повела дочь в усадьбу Сейткамала продавать вино.
Вот сейчас он выйдет, скользнет взглядом по лицам пришедших и прикажет купить кувшин с вином у самой красивой. Эминэ подталкивает Загру ближе к воротам, чтобы улыбнулась она, когда выйдет Сейткамал. Девушка принужденно улыбается.
— Поклонись, поклонись, Загра.
Сейткамал открыл ворота и крикнул: «Расходитесь сегодня все!» — да вдруг умолк, потрясенный, куда девалась его спесь, не богатей Сейткамал, а растерявшийся юноша стоял перед бедно одетой красавицей.
— Это твоя дочь, старая?
— Моя, господин…
— Сколько лет тебе, красавица?
— Семнадцать, — прошептала Загра.
— Возьми у нее вино! — приказал слуге и втиснул в ладонь Загры золотую монету. — Где ты живешь, красавица?
— Там, над рекой… — отвечала побледневшая Загра.
— Жди, старая, сегодня в гости, — сказал Сейткамал и ушел.
Эминэ проклинала себя и молилась аллаху, чтобы Сейткамал проехал мимо ее сакли. Но Сейткамал вечером пришел.
— Большая честь для меня, — кланялась мать и дрожала, ожидая, что скажет бек.
— Салам алейкум, Эминэ. А где же дочь твоя?
— К родичам пошла… Зачем ты… спрашиваешь о ней?..
Сейткамал присел на ковер, задымил трубкой.
— Зачем спрашиваю, говоришь? Послушай, Эминэ… Вижу, как ты боишься. Нехорошая слава идет обо мне в кишлаках, но все это выдумки. Я увидел сегодня твою дочку и понял, что для меня она выросла. Обвенчаться хочу с нею, Эминэ.
— Большую честь оказываешь мне, — снова поклонилась мать, — но извини, что скажу сейчас: не пара тебе моя Загра. Ты — богач. Земли твоих имений глазом не окинешь, пешком не обойдешь. Твои виноградники тянутся долиной Кашкара-Чая до подножия Кара-Дага. На эйлагах пасутся тысячи твоих овец, верблюды несут твое богатство на большой базар в Гяндж. А дочь моя богата разве только красотой своей. Нет, нет, не пара она тебе, смеяться будут над тобой друзья твои.
— Не отговаривай, Эминэ. Мне как раз и нужна ее красота, а золота у меня много. Вот оно! — и он высыпал пригоршню золотых монет на ковер.
Эминэ схватилась за голову.
— Помилуй, господин!.. Столько денег, столько золота… — Она начала собирать монеты, любуясь их блеском.
— Ты согласна, старая?
— Только чтобы кьябин… венчанье, господин…
— Мы обвенчаемся с нею.
— Согласна, господин…
— Вы у меня обе будете ходить в золоте!
— Не в золоте счастье! — прогремел зловещий голос за окном и утих во тьме.
— Кто это? — грозно спросил Сейткамал.
Смертельный страх охватил сердце Эминэ перед вспыхнувшим злобой богатеем.
— Прости, великий, прости! — залопотала она. — Я не сказала тебе, забыла сказать… Это Рашид, жених Загры. Твой чабан… Но если ты хочешь обвенчаться, то бери ее завтра, потому что Рашид украдет Загру, — лепетала старая, отуманенная блеском золота.
Задумался Сейткамал. Он должен завтра поехать в Тусаоби, договориться с муллой. А за это время… Поставить стражу у сакли Эминэ? Нельзя, может весь кишлак взбунтоваться. Кто бы смог дать знать слугам, когда в его отсутствие налетит Рашид?
Впрочем… Сейткамал посмотрел на дверь. У входа стоял парнишка и как завороженный смотрел на кинжал, прятавшийся в выложенных золотом ножнах. Взгляд его не мог оторваться, он тянулся к кинжалу, как бы говоря, что станет самым счастливым человеком на свете тот, кому удастся хоть подержать в руках этот чудесный кинжал.
Сейткамал уловил жадный взгляд подростка.
— Это твой сын, Эминэ?
— Да, младший брат Загры, Хатим.
— Скажи ему, пусть покажет мне дорогу. Что-то очень темно.
Поднимался месяц, и его холодные лучи переливались на золотой оправе кинжала. Хатим боязливо протянул руку, чтобы дотронуться до него. Сейткамал улыбнулся, склонился с коня к мальчику:
— Ты хотел бы иметь кинжал, Хатим?
— О, я не знал бы большего счастья!
Немного помолчав, Сейткамал спросил:
— Рашида, моего чабана, знаешь?
— Как не знать! Это мой лучший друг. Рашид смелый, как орел, и сильный, как барс. Все знают Рашида.
— Он у вас часто бывает?
— Каждый раз, когда спускается с гор. И сегодня будет. Рашид — жених Загры.
Сейткамал нахмурил брови.
— Это неправда, Хатим. Я жених Загры.
Хатим громко рассмеялся.
— Шутите, господин! Рашид и Загра уже давно обручены, и ни за кого другого она не пойдет.
— Глупенький ты, — ответил Сейткамал, сдерживая злость. — Я за нее сегодня дал твоей матери калым.
Хатим остановился, воинственно стиснув кулаки.
— Как она могла?! — И он с недобрыми огоньками в глазах подступил к беку. — Не знаешь ты Рашида, бек. И не тягайся с ним за мою сестру. Он ее со дна моря достанет. И не помогут тебе все твои слуги.
Сейткамал долго молчал. На крутом берегу реки остановил коня.
— Послушай, Хатим. — Положил руку на плечо мальчика, другой отстегнул от пояса кинжал. — Будь умным. Рашид сам не имеет крыши над головой, а со мною Загра будет счастлива. Я дарю тебе свой кинжал, как брату. Ну, не дрожи, бери. А завтра… завтра лишь одну мелочь сделай мне. Если увидишь, что кто-то скачет на коне к вашей сакле, прибежишь ко мне и крикнешь: «Сейткамал!» Слышишь? — И он отдал в дрожащие руки Хатима кинжал, а сам умчался в ночь.
Эта ночь стала для Хатима адом. Он закутался в старую отцовскую бурку, прижав к груди подарок Сейткамала. Кинжал жег его раскаленными угольями, и Хатим не смог заснуть ни на минуту. Он молился святому Исрафилу — не помогало. А когда на рассвете веки его мгновениями слипались, каждый раз являлся Рашид и спрашивал: «Неужели ты продашь сестру за кинжал?»
Хатим вскакивал с постели, вынимал из-за пазухи кинжал и снова прятал — расстаться с таким сокровищем было свыше его сил.
Загра вернулась в саклю перед рассветом. Вчера она, исполненная тревоги, ожидала на берегу реки Рашида. Он пришел поздно и рассказал ей, что видел своими глазами: мать взяла калым у Сейткамала… В эту ночь Загра стала женою Рашида. Думала, что мать будет бить ее, выгонит на улицу, но Эминэ водила помутневшим взором по сторонам и не смела посмотреть в глаза дочери.
День начался ясным, палящим солнцем, а для Хатима — мучениями совести. Он видел, как Загра вынесла из дому небольшой узелок. Хатим знал, что в нем ее свадебный наряд, приданое — красный платок и юбка из двенадцати полотнищ.
Мальчик пошел за нею в сад, остановил ее:
— Загра…
Загра с нежностью посмотрела на бледное лицо брата, она знала, как сильно любит ее Хатим, и утешила:
— Не плачь, Хатим, Сейткамал меня не возьмет.
Смятение разрывало сердце Хатима. Он простонал:
— Загра… Я должен… сегодня…
— Будь спокоен, мой маленький…
Хатим вырвался из рук Загры и побежал в направлении Сейткамаловой усадьбы. Он отдаст ему кинжал, он швырнет его в лицо богатею. Вот он уже и у ворот. Здесь Хатим почему-то обернулся и увидел вылетевших из Ял-Кишлака всадников. Это Рашид со своими друзьями. Мальчик заметался у ворот, кинжал сверкнул в его руке, и, не помня себя, он вдруг крикнул: «Сейткамал!» — и сам не узнал своего голоса.
Все, что случилось потом, казалось Хатиму чудовищным кошмаром. Он мчится на чьем-то коне в бешеном аллюре, с кинжалом в руке. Всадников много, звон сабель, крик, сумятица. Отчаянный вопль Загры, стон Рашида. И в этом шуме и лязге в его лицо ударяют слова:
— Будь ты проклят, сестропродавец!
Сейткамал вернулся из Тусаоби довольно поздно. Мулла сначала и слышать не хотел о свадьбе с сельской девушкой, но золото помогло и здесь. Однако отвязаться от муллы было не так легко. Должен был вместе с ним помолиться, отобедать, поговорить. Изо всех сил гнал коня обратно в Самухи. И не напрасно. Невеста в это время была уже у него во дворе.
Ял-кишлакский бек справлял свадьбу. Он швырял деньгами, пел, плясал. Пьяным взглядом смотрел на свою невесту и сам себе не верил, что судьба послала ему в жены этот прекрасный горный цветок.
А когда миновала полночь, он, по старинному обряду, отвел Загру в отдаленную комнату.
Загра стояла, каменея от страха и бессилия перед тем, что сейчас должно было произойти.
— Жена моя… — прошептал Сейткамал и тут же отшатнулся от ее крика:
— Нет, нет! Не твоя! Я давно уже, давно жена Рашида! Да! Да! Ты напрасно взял меня силой. Теперь закон не позволит тебе жить со мною. Ты должен вернуть меня моей матери и взять назад свое золото!
— Каналья! — заревел Сейткамал. — Думаешь, это тебя спасет? Не-ет, не опозорит себя Сейткамал! Наложницей моей будешь. В темной сакле при моем дворе будешь жить. А Рашида твоего завтра повешу. Ты проклянешь свою судьбу, гадина!
Он ударил Загру кулаком в грудь, и она упала на ковер…
…В плодородной долине Кашкара-Чая стонал народ. Слуги богатеев бегали с нагайками по кишлакам, отбирали за долги хлеб, за долги выгоняли людей на работу. Народ молчал, но в этой тишине таилась гроза, как в весенних, насыщенных электрическими разрядами, темно-синих облаках.
Сейткамал готовил смерть Рашиду. Мусульманин, обесчестивший девушку, должен умереть.
Рашид сидел в подвале и смотрел сквозь зарешеченное оконце на усеянное звездами небо. Он уже знал, что его убьют.
Под оконцем сидит сторож.
Рашида не страшит смерть, но до отчаяния доводит бессилие. Сейткамал издевается над Загрой, а у него связаны руки.
— Не гневи аллаха, Рашид, — доносится до него сочувственный голос сторожа. — Он дал жизнь, даст и смерть…
Рашид не может угадать, кто этот сторож, но голос очень знакомый.
— Не смерти я боюсь. Не хочется умирать не отомстив.
— Смирись, Рашид. Месть не спасение для души.
— Замолчи ты, ничтожество!
— Не ругай меня… Я ненавижу Сейткамала больше, чем ты. Разве не знаешь, из-за кого бросилась в воду моя дочь?
— Это ты, Ишан-Кули? — шепчет Рашид, и его глаза загораются надеждой. — Выпусти меня, друг!
— Не могу… Моя жена служит Сейткамалу. Он замучит ее.
— Бери жену и беги со мною!
В эту ночь тихо открылись двери подвала. Темень приняла в свои объятия беглецов.
Сейткамалом давно возмущались беки соседних селений. Заварил кашу, а теперь расхлебывать ее придется всем. Разъярил стадо бешеных волков, а ныне ни Хусам из Кирихли, ни мулла из Тусаоби да и сам Сейткамал не могут поручиться, что Рашид не поднимет крестьян на восстание, как когда-то Хаджи-Мамед.
Загра уже не плачет. Слезы высохли, сгустками крови запеклись на сердце. Моргает в сакле фитилек, грязные стены, словно ожидая Сейткамала, дрожат. Дрожит и Загра. Придет он — и снова начнутся побои, а потом и еще худшее: прикажет переодеться и идти с ним в его светлицу.
Не лучше ли умереть? В усадьбе все говорят, что Сейткамал повесил Рашида. Мать продала ее, брат предал, а она в тюрьме, опозоренная. Можно ли так жить?
Кто знает, убил бы бек Загру или нет, но страшная весть молнией облетела кишлаки: появился в горах новый разбойник (сардар), убежавший от Сейткамала, — Рашид.
Сейткамал обеспокоен. Бек Хусам почти каждый день приезжает к нему и в страхе трясет бородкой:
— Вчера исчезло пять мужиков из селения. Сегодня — семь… Рашид поднимает большое восстание. Что будет?
Сейткамал знает, что рано или поздно Рашид придет за Загрой. Слуги день и ночь стерегут усадьбу.
Загра ничего не знает.
Ночь… Сейткамала нет, куда-то уехал.
Не спится.
Тихо отворились двери сакли.
— Кто?
— Загра?
— Кто это?! Привидение!
— Нет, это я, твой Рашид!
Ишан-Кули стоит под окном и утирает слезы.
— Не оставляй меня здесь, Рашид, не оставляй.
— Любимая, я вырву тебя из этого пекла, но сегодня этого нельзя сделать. Мы пролезли через сад, мимо сторожей. Надо было узнать, где ты живешь. Нас только двое. Завтра жди меня.
Сейткамал вернулся на другой день вечером. Ездил в Гяндж просить у коменданта помощи, солдат. Дома слуги ему донесли, что утром около сакли Загры остались чьи-то следы.
Вошел, грозно посмотрел на Загру. Она стояла среди комнаты с распущенными волосами — смелая, гордая, несломленная. Ночь, как разбойник, лезла в окно, пугливо дрожал огонек. У Сейткамала кулаки стиснуты, губы прикушены.
— Кто был?
— Никого не было.
— Врешь. Вчера кто был здесь?
— Одна была.
— К тебе Рашид приходил!
— Мертвые не воскресают.
Сейткамал ударил Загру в лицо.
Ночь крылом открыла окно и метнула нож. Сейткамал отпрянул. Нож впился острием в стену сакли. Кто-то вскрикнул за окном, дверь слетела с петель, бек опомнился, схватил торчавший в стене кинжал и в одно мгновение всадил его в грудь Загры. Сам бросился в дверь.
— Слуги!
Загра даже не вскрикнула. Ночь полыхнула ярким пламенем и сразу погасла.
Слуг во дворе не было. Всюду суетились неизвестные люди.
Рашид подлетел к Сейткамалу и схватил его за горло.
С мертвым телом бедной Загры вернулись повстанцы в горы.
Зарево от пожара освещало им путь.
Друзья ожидали от Рашида приказа. Приказ был страшный.
…Одинокий Хатим бродит в горах. Конь убежал от него. Хатим прячется от людей, ест черешню и шелковицу, спит на камнях. Нет, не спит. Ночь терзает его ужасными сновидениями. Проклятие Рашида и плач Загры не дают покоя. Хатим теперь хотел бы обнять и дикого шакала, рассказать ему о своих мучениях.
Но шакалы воют далеко в горах, и вой их страшен, как укоры совести.
Хатим смотрит на золотой кинжал, купленный ценою измены, нацеливается острием в свою грудь, а решиться не может.
Ходит по горам, как призрак. В котловине — небольшой кишлак. Решается зайти в селение. С ним встречаются люди, расспрашивают его, но он молчит, никому не смотрит в глаза. Ему кажется, что все знают о его преступлении. Хатима кормят, укладывают спать и думают, что он немой или юродивый.
Всакле сидят седые старцы, курят трубки и беседуют.
— О, их уже много. Скоро беки не будут знать, где им скрываться.
— Вдоволь попили нашей крови.
— Говорят, Сейткамал силой забрал у Рашида невесту.
— И еще говорят, будто продал беку ее родной брат. За кинжал.
— И не убили предателя?
— Говорят, убежал.
Хатим лежит на подстилке и все слышит. Каждое слово огнем жжет.
— А где сейчас Рашид?
— Собирает повстанцев в ущельях Кара-Дага.
Когда все заснули, Хатим выбежал из сакли. Долго-долго шел он, пока не появился, утомленный, худой и изможденный, у подножия Кара-Дага.
Повстанцы, похоронив Загру, часто собирались у ее могилы. Часто бывал там и Рашид. Как раз в такой момент и подходил к ним Хатим.
— Кто идет? — послышался голос часового.
— Пропустите… Я… брат Загры…
Рашид поднял голову.
— Ты?! Зачем пришел к нам?
— За смертью, Рашид…
— Пусть тебя совесть убьет.
Хатим упал ему в ноги.
— Не гони меня, о, не гони! Я не могу больше так жить! Возьми этот оскверненный изменой кинжал и убей им изменника. Своего чистого лезвия не погань моей кровью. Только в живых меня не оставляй, Рашид, сократи мои страшные мучения.
Рашид молчал. Отвернулся от Хатима, а непрошеная слеза жалости к бедному парню скатилась по его щеке. Он поднял Хатима на ноги, посмотрел ему в глаза; сквозь слезы в глазах Хатима он увидел раскаяние.
— Пойдешь с нами, парень. Ты еще станешь честным мстителем. Бери этот кинжал и искупи свою вину.
…Ночи не спят. Зарево лижет небо. Звезды побледнели.
Горят Тусаоби, Самухи, Аджикент, Кири-Хли.
Радость угнетенным, страх богатеям.
•
Убегает Хусам в Гяндж. Его перехватывают на дороге вооруженные горцы-крестьяне и убивают.
Падает Али-бек на колени, просит пощады. Золотому кинжалу мало крови — он не знает пощады.
Заперся мулла в мечети и просит у аллаха защиты. Двери храма падают под натиском сильных плеч, рука мстителя душит лукавого ханжу…
А бурный Кашкара-Чай течет веками и несет на белом хребте славу минувших лет. Много утекло воды, много пролетело лет с той поры, когда погиб в неравной схватке мститель народный — Рашид.
Но еще и теперь на эйлагах в тихие сумерки затоскует иногда хозяин гор, вспоминая тех, кто пролил кровь свою за народ, заиграет на зурне так, что и горы и люди слушают его.
•
Умолк старик. Раскаленное солнце садилось за Рашид-Даг.
Рашид-Даг…
Но не все досказал чабан. Откуда же у него золотой кинжал? Я спросил об этом у старика.
Он снова взглянул на меня своими выцветшими глазами и, грустно улыбнувшись, ответил шепотом:
— Я, сынок, Хатим… Я — Хатим.
1952
Расплата
Инженеру Андрею Канюзе
 Когда началась охота на уток, я вспоминал своего давнего друга, страстного охотника, — когда-то мы с ним не одну ночь откараулили на Заболотненских озерах, — и поехал к нему с предложением отправиться на охоту с ночевкой.
К моему удивлению, он отказался.
— Неужели ты оставил этот вид спорта?
— Это не спорт, а обыкновенное убийство, — ответил мне мой друг. Сказал он это с какой-то непонятной горечью и сразу же, видимо чтобы я не упрекал его в сентиментальности, добавил: — Спорт, говоришь… Дорогой мой, спортом называют также и мордобитие… Но мне сейчас другое вспомнилось. Хочешь, я расскажу тебе то, чего не знает даже моя жена? Возможно, что после этого и ты не пойдешь на уток, а будешь стрелять завтра по картонным мишеням. Вот это — спорт…
Все произошло в то самое жаркое лето, когда за страшные, казалось, грехи выгорела вокруг меня, куда ни кинешь взор, трава и я остался среди пустыни — одинокий, как скифский идол на степном раздорожье.
А впрочем, это не так. Травы здесь не было уже многие тысячелетия, никогда здесь не жил человек, но вначале я не чувствовал себя одиноким, — напротив, охвачен был своеобразной красотой каракумских степей, по которым в раскаленном пространстве скитались барханы, словно караваны утомленных верблюдов. И редкие стебли татарника, разбросанного среди песков, казались мне чуть ли не пальмами, а моя палатка — городом. Да, городом! Я связался по рации с Небит-Дагом, и сюда должны были вскоре прибыть туркменские рабочие, чтобы начать подготовительные работы к приему партии нефтяников. А тем временем я проводил целые дни на охоте.
Признаться, где-то глубоко в душе я ненавидел этот, как ты говоришь, спорт, хотя не пропускал ни одного утиного сезона. Приглушенное чувство жалости всегда шевелилось в сознании, когда я поднимал на болоте подстреленную крякву или зимой — еще теплого зайца. Засыпал снегом или затаптывал капли крови на болотистой земле, оставшиеся на роковом для жертвы месте. Я словно прятал эти капли от собственной совести и с детской наивностью думал тогда о маленьких зайчатах, об одиноком селезне, который не дождется в гнезде своей подруги. Собственно, как охотник, я был равнодушен к убитым, жалел осиротевших.
Охотиться в пустыне было морально легче. Возможно, это и не так, но я заметил здесь какое-то притупление семейного инстинкта у животных. Я не встречал птичьих гнезд, изредка проходили в одиночку — не табунами — сайгаки. Не заботились, как известно, о потомстве ящерицы, гадюки пожирали своих детенышей, и даже залетные утки небрежно присыпали песком снесенные ими яйца и летели дальше, а птенцов выгревала пустыня.
Я с жалостью смотрел на малышей зверьков, на птенцов-сирот и без сожаления — на взрослых: спокойно поднимал я на них свою двустволку.
Однажды я увидел новую добычу — степного орла. Он сидел на высокой сопке, настороженно вытянув шею и упорно всматриваясь в мое жилище. Взмахнув крыльями, орел стремительно взмыл в небо и повис в зените, прямо над моей головой.
Убивать его не было смысла, но тут я вспомнил: моя жена просила привезти из пустыни хоть какой-нибудь сувенир.
Так вот оно, чучело царя птиц или хотя бы орлиное крыло. Орел неподвижно висел надо мною, словно присматриваясь ко мне, и я видел его злые глаза. Они напоминали мне ненавидящий взгляд удава, которого я убил несколько дней назад за сопкой, — как много злого и хищного вложила в инстинкт своих обитателей эта дикая пустыня и как мало материнского! Я навел двустволку, прицелился и выстрелил.
Орел падал, простирая крылья к небу, — прощался с ним навеки. Он упал вблизи моей палатки и закричал. Это был не тот грозный орлиный клекот — так мог кричать только человек, взывая о помощи. Я вздрогнул и не осмеливался подойти к тому месту, где, поднимая голову к небу, умирала огромная птица.
Это случилось утром. Перед обедом, когда в душной, как баня, палатке меня сморил наконец неспокойный сон, послышался сильный шум в воздухе. Я вскочил с койки. Наверное, самолет — сбросит воду и продукты. Выбежал из палатки — и обомлел: могучий орел, чуть не вдвое больше того, который лежал мертвым на песке, кружил над моей палаткой на высоте нескольких метров. Увидев меня, он рванулся ввысь и застыл, словно подвешенный на невидимых нитях.
И я догадался — утром я убил орлицу, мать, жену, и вот вдовец прилетел, чтобы отомстить убийце. Мне надо было обороняться. Орел пробьет брезентовую палатку, и неизвестно, чем закончится поединок с этой огромной разъяренной птицей. Я бросился в палатку, схватил ружье и выбежал снова. Тем временем орел камнем упал на землю, подхватил кривыми когтями тело своей подруги и поднялся с нею в воздух. Низко пролетел над песками и сел на вершине сопки — там, где утром сидела орлица. Опоздал, сердешный. Может быть, орлят кормил или искал какую-либо поживу, чтобы угостить возлюбленную.
Теперь он сидел черным силуэтом над распростертым трупом, горбатой тенью вырисовывался на знойном фоне неба — неподвижно и скорбно.
Я постоял-постоял и вошел в палатку. Взял книгу в руки, но не читалось: из палатки видел я темный силуэт орла; я вышел и выстрелил в воздух, чтобы спугнуть его, но он даже не вздрогнул.
И тогда я впервые ощутил мертвенность пустыни. Вероятно, я убил что-то светлое и живое в самом себе, потому что только теперь увидел пустынность: ни стебелька пырея или осоки — только мертвая верблюжья колючка, только мертвые пески ползут барханами к раскаленному горизонту. Я сам убил жизнь пустыни.
Орел сидел на сопке и на другой, и на третий, и на четвертый день — живым укором моей совести. Я не мог больше выдержать его мучений и пошел к нему. Мне не верилось, что он будет есть консервированное мясо, но все же я прихватил его с собой. Металл двустволки обжигал мне ладонь. Я медленно приближался к орлу — он не двигался. Взмахнул рукой — не шевельнулся. Подошел совсем близко.
Орел был мертв.
Я положил у подножия сопки свое ружье и побрел назад, нестерпимо одинокий.
Через год, когда в пустыне выросли первые нефтяные вышки, я вернулся домой. С женой мы живем — другим позавидовать. Только с тех пор и поныне странная тревога ложится тенью между нами. Иногда среди ночи просыпаюсь от страшного предчувствия, порываюсь к детской колыбели и прислушиваюсь к ровному дыханию ребенка, а потом всматриваюсь в родное лицо моей любимой жены, и в эти минуты мне вспоминается скорбный горбатый силуэт орла над мертвой орлицей.
Я осторожно бужу жену, чтобы убедиться, что она жива…
А охоту — само собой разумеется — оставил навсегда.
Когда началась охота на уток, я вспоминал своего давнего друга, страстного охотника, — когда-то мы с ним не одну ночь откараулили на Заболотненских озерах, — и поехал к нему с предложением отправиться на охоту с ночевкой.
К моему удивлению, он отказался.
— Неужели ты оставил этот вид спорта?
— Это не спорт, а обыкновенное убийство, — ответил мне мой друг. Сказал он это с какой-то непонятной горечью и сразу же, видимо чтобы я не упрекал его в сентиментальности, добавил: — Спорт, говоришь… Дорогой мой, спортом называют также и мордобитие… Но мне сейчас другое вспомнилось. Хочешь, я расскажу тебе то, чего не знает даже моя жена? Возможно, что после этого и ты не пойдешь на уток, а будешь стрелять завтра по картонным мишеням. Вот это — спорт…
Все произошло в то самое жаркое лето, когда за страшные, казалось, грехи выгорела вокруг меня, куда ни кинешь взор, трава и я остался среди пустыни — одинокий, как скифский идол на степном раздорожье.
А впрочем, это не так. Травы здесь не было уже многие тысячелетия, никогда здесь не жил человек, но вначале я не чувствовал себя одиноким, — напротив, охвачен был своеобразной красотой каракумских степей, по которым в раскаленном пространстве скитались барханы, словно караваны утомленных верблюдов. И редкие стебли татарника, разбросанного среди песков, казались мне чуть ли не пальмами, а моя палатка — городом. Да, городом! Я связался по рации с Небит-Дагом, и сюда должны были вскоре прибыть туркменские рабочие, чтобы начать подготовительные работы к приему партии нефтяников. А тем временем я проводил целые дни на охоте.
Признаться, где-то глубоко в душе я ненавидел этот, как ты говоришь, спорт, хотя не пропускал ни одного утиного сезона. Приглушенное чувство жалости всегда шевелилось в сознании, когда я поднимал на болоте подстреленную крякву или зимой — еще теплого зайца. Засыпал снегом или затаптывал капли крови на болотистой земле, оставшиеся на роковом для жертвы месте. Я словно прятал эти капли от собственной совести и с детской наивностью думал тогда о маленьких зайчатах, об одиноком селезне, который не дождется в гнезде своей подруги. Собственно, как охотник, я был равнодушен к убитым, жалел осиротевших.
Охотиться в пустыне было морально легче. Возможно, это и не так, но я заметил здесь какое-то притупление семейного инстинкта у животных. Я не встречал птичьих гнезд, изредка проходили в одиночку — не табунами — сайгаки. Не заботились, как известно, о потомстве ящерицы, гадюки пожирали своих детенышей, и даже залетные утки небрежно присыпали песком снесенные ими яйца и летели дальше, а птенцов выгревала пустыня.
Я с жалостью смотрел на малышей зверьков, на птенцов-сирот и без сожаления — на взрослых: спокойно поднимал я на них свою двустволку.
Однажды я увидел новую добычу — степного орла. Он сидел на высокой сопке, настороженно вытянув шею и упорно всматриваясь в мое жилище. Взмахнув крыльями, орел стремительно взмыл в небо и повис в зените, прямо над моей головой.
Убивать его не было смысла, но тут я вспомнил: моя жена просила привезти из пустыни хоть какой-нибудь сувенир.
Так вот оно, чучело царя птиц или хотя бы орлиное крыло. Орел неподвижно висел надо мною, словно присматриваясь ко мне, и я видел его злые глаза. Они напоминали мне ненавидящий взгляд удава, которого я убил несколько дней назад за сопкой, — как много злого и хищного вложила в инстинкт своих обитателей эта дикая пустыня и как мало материнского! Я навел двустволку, прицелился и выстрелил.
Орел падал, простирая крылья к небу, — прощался с ним навеки. Он упал вблизи моей палатки и закричал. Это был не тот грозный орлиный клекот — так мог кричать только человек, взывая о помощи. Я вздрогнул и не осмеливался подойти к тому месту, где, поднимая голову к небу, умирала огромная птица.
Это случилось утром. Перед обедом, когда в душной, как баня, палатке меня сморил наконец неспокойный сон, послышался сильный шум в воздухе. Я вскочил с койки. Наверное, самолет — сбросит воду и продукты. Выбежал из палатки — и обомлел: могучий орел, чуть не вдвое больше того, который лежал мертвым на песке, кружил над моей палаткой на высоте нескольких метров. Увидев меня, он рванулся ввысь и застыл, словно подвешенный на невидимых нитях.
И я догадался — утром я убил орлицу, мать, жену, и вот вдовец прилетел, чтобы отомстить убийце. Мне надо было обороняться. Орел пробьет брезентовую палатку, и неизвестно, чем закончится поединок с этой огромной разъяренной птицей. Я бросился в палатку, схватил ружье и выбежал снова. Тем временем орел камнем упал на землю, подхватил кривыми когтями тело своей подруги и поднялся с нею в воздух. Низко пролетел над песками и сел на вершине сопки — там, где утром сидела орлица. Опоздал, сердешный. Может быть, орлят кормил или искал какую-либо поживу, чтобы угостить возлюбленную.
Теперь он сидел черным силуэтом над распростертым трупом, горбатой тенью вырисовывался на знойном фоне неба — неподвижно и скорбно.
Я постоял-постоял и вошел в палатку. Взял книгу в руки, но не читалось: из палатки видел я темный силуэт орла; я вышел и выстрелил в воздух, чтобы спугнуть его, но он даже не вздрогнул.
И тогда я впервые ощутил мертвенность пустыни. Вероятно, я убил что-то светлое и живое в самом себе, потому что только теперь увидел пустынность: ни стебелька пырея или осоки — только мертвая верблюжья колючка, только мертвые пески ползут барханами к раскаленному горизонту. Я сам убил жизнь пустыни.
Орел сидел на сопке и на другой, и на третий, и на четвертый день — живым укором моей совести. Я не мог больше выдержать его мучений и пошел к нему. Мне не верилось, что он будет есть консервированное мясо, но все же я прихватил его с собой. Металл двустволки обжигал мне ладонь. Я медленно приближался к орлу — он не двигался. Взмахнул рукой — не шевельнулся. Подошел совсем близко.
Орел был мертв.
Я положил у подножия сопки свое ружье и побрел назад, нестерпимо одинокий.
Через год, когда в пустыне выросли первые нефтяные вышки, я вернулся домой. С женой мы живем — другим позавидовать. Только с тех пор и поныне странная тревога ложится тенью между нами. Иногда среди ночи просыпаюсь от страшного предчувствия, порываюсь к детской колыбели и прислушиваюсь к ровному дыханию ребенка, а потом всматриваюсь в родное лицо моей любимой жены, и в эти минуты мне вспоминается скорбный горбатый силуэт орла над мертвой орлицей.
Я осторожно бужу жену, чтобы убедиться, что она жива…
А охоту — само собой разумеется — оставил навсегда.
1964
Мгновенье красоты
 Мне давно хотелось хотя бы на миг охватить всю красоту мира в едином фокусе. Чтобы постичь суть ее.
Мне давно хотелось понять безмолвие степи, увидеть многокрасочность неба, услышать стоголосое эхо гор, почувствовать беспредельное разнообразие красоты человеческой — в едином фокусе. Пусть только на одно мгновение. Увидеть то, о чем мечтало мое детство, то, что тревожило мою бессонную юность, что познала зрелость. В одной картине природы, в одном создании рук человеческих, в одном лице. Да, да, конечно, в лице — в этом дивном зеркале красоты вселенной.
Я долго искал его. В картинных галереях, в книгохранилищах, в собственном моем воображении, среди людей. Оно мне было необходимо, как импульс, как стимул к труду, как ключ к познанию.
И я нашел его наконец. Нашел там, где совсем не ожидал его увидеть, — у моря, среди сотен лиц, что мелькали, сливались и пропадали, подобно кристалликам в калейдоскопе.
Мы сидели вдвоем с моим ослепшим другом. Он рассказывал мне как раз о красоте последнего виденного им дня, о глазах женщины, которую видел тогда в последний раз. О, как он помнил эти глаза! Он говорил о них, как о произведении искусства, он гордился, что сберег для себя красоту их на всю жизнь.
Я кощунственно завидовал ему. Мне показалось счастьем ослепнуть и унести с собою в вечную ночь воспоминание о мгновенном явлении красоты.
И вдруг… Неподалеку от нас сидела на камне девушка в голубом платье — я не заметил, когда и откуда она появилась, — сидела и мечтательно смотрела, как трепещет, повиснув на солнечном луче, чайка, как падает она в соленую клокочущую глубь и вновь показывается из воды, радостно крича, с добычей в когтях.
Я смотрел на девушку затаив дыхание. Я бросал ревнивые взгляды вокруг. Я радовался, что никто, кроме меня, ее не заметил, в то же время я возмущался, что сотни глаз равнодушно скользят мимо, не замечая ее красоты.
Но ведь и я, я сам не мог найти ее до сегодняшнего дня.
А девушка не видела никого и ничего вокруг. Напрасно мягкий морской ветер кончиками нежных своих пальцев ласкал ее лицо, напрасно бархатистым шумом вливался в уши. Девушка не видела никого и ничего, кроме чайки, которая, падая из солнечного луча, садилась на волну. И, может быть, потому, что девушка умела видеть эту чайку, она была так светла и хороша. Возможно даже, что друг мой, будь он зрячим, познал бы новую красоту, которая затмила бы очарование последнего виденного им дня.
Слепой спросил, почему я вдруг замолчал. Я сжал его руку — тише, тише! — и он понял.
— Ты нашел?
— Да…
— Где вам, зрячим!.. Завтра другая красота вытеснит твою сегодняшнюю мечту. Я же сберег свою на всю жизнь.
Я смотрел на девушку и про себя молил ее: «Обернись ко мне!»
Она почувствовала устремленный на нее взгляд, повернула голову в мою сторону и затем перевела взгляд на море:
— Взгляните!
И я впервые в жизни увидел рассеянные по глади моря солнечные озерки, мириады разноцветных солнечных озер.
Это было второе открытие красоты вселенной, это был именно тот единый фокус в котором отразилась красота вселенной, и я понял, что с этого момента мне дано видеть тысячи раз красоту жизни.
Я не расспрашивал девушку, откуда она, я боялся, чтоб от слов моих не погасла красота ее бровей и глаз, не отлетела, оскорбившись, чайка, не скрылись озерки на море и неуловимое счастье видеть все это не исчезло, подобно пузырькам перламутровой пены в песке.
Когда я оглянулся, девушки уже не было.
…Ночью море разбушевалось, и я не мог уснуть. Я думал о девушке, мысленно вел с ней разговор:
«Я искал тебя всю жизнь. С той поры, как узнал, что ты существуешь на свете, моя большая красота, с той поры я искал тебя. Ты должна вернуться».
«Не торопись взять от меня все за один раз. Да это и невозможно. Я — вечное твое счастье познания, и ты будешь находить меня и открывать всю свою жизнь».
«Нет, я хочу знать одну тебя. Как мой друг…»
«И ничего больше? Но ведь друг твой слеп».
«Я хочу сорвать душистый цветок и вдыхать его аромат…»
«На лугу очень много красивых цветов. Будь осмотрителен. Наклонившись, чтоб сорвать один цветок, бойся растоптать десять, ведь они все — твои. Я только показала тебе дорожку на луг».
А море бесновалось. Оно вбирало в себя темноту, дыбилось, цепляло пенистыми гребнями холодное ночное небо, будто пытаясь постичь его красоту. Всю ночь напролет в слепой темноте взбешенное море, не постигшее красоту неба, таранило берег, мстило невиновному.
Когда же утром небосвод поднялся ввысь и взошло солнце, море отхлынуло от подножия скал и роптало на долю свою где-то там, далеко внизу.
Я выбежал на берег. Удивительно, как смутилось море, почуяв солнце! Притихшее, оно кротко синело, несмело перекатывая белые барашки.
И я снова увидел на нем солнечные озерки. И я был сейчас сильнее моря.
На уступе скалы не было девушки. Но я видел солнечные озерки, которые она мне открыла, а за ними протянулись голубые дороги познания красоты мира. Я пойду по этим дорогам и буду находить все новые и новые образы прекрасного.
Мой бедный слепой друг сидел на пропитанном утренней прохладой песке. Заслышав мои шаги, он повернулся ко мне.
— Что, нет ее? Не можешь даже припомнить ее глаз?
Он что-то еще говорил, но я не слушал. Мне хотелось, чтобы он хотя бы на мгновенье увидел солнечные озерки.
Теперь я не завидовал ему. Я плакал над ним и молил свою долю и совесть свою, чтоб они никогда не дали мне ослепнуть. Никогда!
Мне давно хотелось хотя бы на миг охватить всю красоту мира в едином фокусе. Чтобы постичь суть ее.
Мне давно хотелось понять безмолвие степи, увидеть многокрасочность неба, услышать стоголосое эхо гор, почувствовать беспредельное разнообразие красоты человеческой — в едином фокусе. Пусть только на одно мгновение. Увидеть то, о чем мечтало мое детство, то, что тревожило мою бессонную юность, что познала зрелость. В одной картине природы, в одном создании рук человеческих, в одном лице. Да, да, конечно, в лице — в этом дивном зеркале красоты вселенной.
Я долго искал его. В картинных галереях, в книгохранилищах, в собственном моем воображении, среди людей. Оно мне было необходимо, как импульс, как стимул к труду, как ключ к познанию.
И я нашел его наконец. Нашел там, где совсем не ожидал его увидеть, — у моря, среди сотен лиц, что мелькали, сливались и пропадали, подобно кристалликам в калейдоскопе.
Мы сидели вдвоем с моим ослепшим другом. Он рассказывал мне как раз о красоте последнего виденного им дня, о глазах женщины, которую видел тогда в последний раз. О, как он помнил эти глаза! Он говорил о них, как о произведении искусства, он гордился, что сберег для себя красоту их на всю жизнь.
Я кощунственно завидовал ему. Мне показалось счастьем ослепнуть и унести с собою в вечную ночь воспоминание о мгновенном явлении красоты.
И вдруг… Неподалеку от нас сидела на камне девушка в голубом платье — я не заметил, когда и откуда она появилась, — сидела и мечтательно смотрела, как трепещет, повиснув на солнечном луче, чайка, как падает она в соленую клокочущую глубь и вновь показывается из воды, радостно крича, с добычей в когтях.
Я смотрел на девушку затаив дыхание. Я бросал ревнивые взгляды вокруг. Я радовался, что никто, кроме меня, ее не заметил, в то же время я возмущался, что сотни глаз равнодушно скользят мимо, не замечая ее красоты.
Но ведь и я, я сам не мог найти ее до сегодняшнего дня.
А девушка не видела никого и ничего вокруг. Напрасно мягкий морской ветер кончиками нежных своих пальцев ласкал ее лицо, напрасно бархатистым шумом вливался в уши. Девушка не видела никого и ничего, кроме чайки, которая, падая из солнечного луча, садилась на волну. И, может быть, потому, что девушка умела видеть эту чайку, она была так светла и хороша. Возможно даже, что друг мой, будь он зрячим, познал бы новую красоту, которая затмила бы очарование последнего виденного им дня.
Слепой спросил, почему я вдруг замолчал. Я сжал его руку — тише, тише! — и он понял.
— Ты нашел?
— Да…
— Где вам, зрячим!.. Завтра другая красота вытеснит твою сегодняшнюю мечту. Я же сберег свою на всю жизнь.
Я смотрел на девушку и про себя молил ее: «Обернись ко мне!»
Она почувствовала устремленный на нее взгляд, повернула голову в мою сторону и затем перевела взгляд на море:
— Взгляните!
И я впервые в жизни увидел рассеянные по глади моря солнечные озерки, мириады разноцветных солнечных озер.
Это было второе открытие красоты вселенной, это был именно тот единый фокус в котором отразилась красота вселенной, и я понял, что с этого момента мне дано видеть тысячи раз красоту жизни.
Я не расспрашивал девушку, откуда она, я боялся, чтоб от слов моих не погасла красота ее бровей и глаз, не отлетела, оскорбившись, чайка, не скрылись озерки на море и неуловимое счастье видеть все это не исчезло, подобно пузырькам перламутровой пены в песке.
Когда я оглянулся, девушки уже не было.
…Ночью море разбушевалось, и я не мог уснуть. Я думал о девушке, мысленно вел с ней разговор:
«Я искал тебя всю жизнь. С той поры, как узнал, что ты существуешь на свете, моя большая красота, с той поры я искал тебя. Ты должна вернуться».
«Не торопись взять от меня все за один раз. Да это и невозможно. Я — вечное твое счастье познания, и ты будешь находить меня и открывать всю свою жизнь».
«Нет, я хочу знать одну тебя. Как мой друг…»
«И ничего больше? Но ведь друг твой слеп».
«Я хочу сорвать душистый цветок и вдыхать его аромат…»
«На лугу очень много красивых цветов. Будь осмотрителен. Наклонившись, чтоб сорвать один цветок, бойся растоптать десять, ведь они все — твои. Я только показала тебе дорожку на луг».
А море бесновалось. Оно вбирало в себя темноту, дыбилось, цепляло пенистыми гребнями холодное ночное небо, будто пытаясь постичь его красоту. Всю ночь напролет в слепой темноте взбешенное море, не постигшее красоту неба, таранило берег, мстило невиновному.
Когда же утром небосвод поднялся ввысь и взошло солнце, море отхлынуло от подножия скал и роптало на долю свою где-то там, далеко внизу.
Я выбежал на берег. Удивительно, как смутилось море, почуяв солнце! Притихшее, оно кротко синело, несмело перекатывая белые барашки.
И я снова увидел на нем солнечные озерки. И я был сейчас сильнее моря.
На уступе скалы не было девушки. Но я видел солнечные озерки, которые она мне открыла, а за ними протянулись голубые дороги познания красоты мира. Я пойду по этим дорогам и буду находить все новые и новые образы прекрасного.
Мой бедный слепой друг сидел на пропитанном утренней прохладой песке. Заслышав мои шаги, он повернулся ко мне.
— Что, нет ее? Не можешь даже припомнить ее глаз?
Он что-то еще говорил, но я не слушал. Мне хотелось, чтобы он хотя бы на мгновенье увидел солнечные озерки.
Теперь я не завидовал ему. Я плакал над ним и молил свою долю и совесть свою, чтоб они никогда не дали мне ослепнуть. Никогда!
Тополиная метель
Моей жене
 Над моей весной взвихрилась тополиная метель.
Миниатюрные пушистые парашютики несут в неведомые летние пространства созревшие семена. Они опускаются на карнизы зданий, на клумбы, на головы людей. А кое-какие внедряются и в щедрую землю.
Надо мною шелестит буйнозеленой листвою мой тополек.
Его без меня посадили, но я поливал его мартовскими слезами моего детства, согревал апрельским теплом ранней юности, поил майским счастьем моей любви.
И вырос он…
Рядом со мной под тополем сидишь и ты, моя родная, самая близкая. Ранней весной, когда на нашем дереве набухали почки, несмело кудрявились первыми листочками ветви, мы мечтали о нынешней тополиной метели.
А теперь как-то странно.
И тревожно. Летит пушок, а мы не знаем: взойдут ли семена?
Взойдут они или не взойдут — неизвестно, но лишь только белый пушок легонько коснулся наших волос; так и остался в них, а сдуть его уже не в наших силах.
Нет. Нам не грустно. Нам только немножечко тревожно в это наступающее лето. И оттого нам хочется вернуться в пору весеннего цветенья и спросить самих себя: радуемся ли мы тополиной зрелости?
Только нынче.
Потому что завтра уже будет лето. Будут и засуха и живительные дожди. И грозы, и град. Всего придется. И мы идем в лето, хотим идти.
А теперь я благодарю тебя, мой друг, за то, что не мешала мне искать среди моих весен капли росы для нашего тополька, за то, что увлажняла деревцо своей верой в жизнь, когда налетали суховеи, и вместе со мной радовалась весенним ливням.
Шумит надо мною июньскими листьями мой молодой тополь. И разве не красуется он среди нескончаемого ряда своих друзей? Скромно шелестит и упирается пышнозеленой головой в небо. Ему еще надо расти и расти.
Летят на белых парашютиках в безвестные летние просторы тополиные семена. Созревшими или увядшими несет их ветер? Какое из них, зацепившись за землю, поднимется стройным деревцем?
Метет, догуливает над миром моим тополиная метель — знамение лета.
Над моей весной взвихрилась тополиная метель.
Миниатюрные пушистые парашютики несут в неведомые летние пространства созревшие семена. Они опускаются на карнизы зданий, на клумбы, на головы людей. А кое-какие внедряются и в щедрую землю.
Надо мною шелестит буйнозеленой листвою мой тополек.
Его без меня посадили, но я поливал его мартовскими слезами моего детства, согревал апрельским теплом ранней юности, поил майским счастьем моей любви.
И вырос он…
Рядом со мной под тополем сидишь и ты, моя родная, самая близкая. Ранней весной, когда на нашем дереве набухали почки, несмело кудрявились первыми листочками ветви, мы мечтали о нынешней тополиной метели.
А теперь как-то странно.
И тревожно. Летит пушок, а мы не знаем: взойдут ли семена?
Взойдут они или не взойдут — неизвестно, но лишь только белый пушок легонько коснулся наших волос; так и остался в них, а сдуть его уже не в наших силах.
Нет. Нам не грустно. Нам только немножечко тревожно в это наступающее лето. И оттого нам хочется вернуться в пору весеннего цветенья и спросить самих себя: радуемся ли мы тополиной зрелости?
Только нынче.
Потому что завтра уже будет лето. Будут и засуха и живительные дожди. И грозы, и град. Всего придется. И мы идем в лето, хотим идти.
А теперь я благодарю тебя, мой друг, за то, что не мешала мне искать среди моих весен капли росы для нашего тополька, за то, что увлажняла деревцо своей верой в жизнь, когда налетали суховеи, и вместе со мной радовалась весенним ливням.
Шумит надо мною июньскими листьями мой молодой тополь. И разве не красуется он среди нескончаемого ряда своих друзей? Скромно шелестит и упирается пышнозеленой головой в небо. Ему еще надо расти и расти.
Летят на белых парашютиках в безвестные летние просторы тополиные семена. Созревшими или увядшими несет их ветер? Какое из них, зацепившись за землю, поднимется стройным деревцем?
Метет, догуливает над миром моим тополиная метель — знамение лета.
1964
Юра Фурщик
 Бывало иногда так: разыскивает кто-либо в Перегонцах Юру Васкула, а люди ничего сказать не могут, будто такой человек вовсе никогда в селе и не жил. Знал его настоящую фамилию, может быть, только один житель села — секретарь сельсовета, а односельчане — нет. Фурщик — и все. Или еще — Юра Фурщик.
Потому что не раз он как «вьёкнет» на лошадей в лесничестве да как прищелкнет в воздухе кнутом, так даже эхо по берегам Прутца прокатится. Это Юрино «вьё-о» слышно в самих Замулинцах. Как крылатые драконы, вылетают тогда из ворот запряженные в старомодную бричку лошади — муругий жеребец и серая в яблоках кобылица, и дети и старики — кто куда, во все стороны, машины и те на обочину сворачивают. Юра Фурщик едет! Сторонись! Гулко выстреливает бичом, но это лишь для острастки, потому что когда кто словом обмолвится, что Юра лошадь ударил, возьмет на душу тяжкий грех: каждый в Перегонцах знает, что Юра лошадей не бьет.
Чаще всего возил он лесничего на далекие обходы, иногда лесников развозил по участкам, рабочих «подбрасывал» на порубки, к саженцам, а подчас случалось даже и с районным начальством горделиво пронестись по главной улице села к лесничему. Это было не какое-нибудь бахвальство для Юры, не о себе думал — лошадьми гордился: видите, дескать, машины имеют, а Юру все же зовут. Лесничему, правда, хлопотно, потому что начальство есть начальство, каждый понимает: лесничиха себе голову сушит, как бы ужин получше подать, а Юре такая оказия в самый раз — вечером за стол посадят. И в хорошей компании побудет, и бокальчиком разок-другой с учеными людьми чокнется.
Если бы кто сказал, что он падок на этот махонький бокальчик, тоже погрешил бы против истины, потому что Юру никогда на чужое не тянет, он может и за свои позволить себе кое-когда раскошелиться на хорошую чарку. Юру другое интересует: о чем ученые люди говорят — не в конторе, а за столом, как они сидят, как едят.
Любит он наблюдать за важным начальником, у которого от чарки глаза веселеют и он становится таким же простым, как все люди. В кооперативе не то. Юра знает всех «забегальщиков» как свои пять пальцев, наперед может сказать, кто как ответит на его шутку, а здесь — новизна. Приглядится синими, слегка насмешливыми глазами к начальникам, хитро поведет своим на редкость курносым носом, а лесничий уже знает, что и Юра хочет вклиниться в разговор, хочет сказать припасенную им остроту, и поглядывает на него из-под бровей: «Ну, не стесняйтесь, Юра, говорите же, здесь все равны». А если по правде сказать, то и стеснения никакого нет: они, эти люди, умеют мудреные расчеты вычислять и таблицы вырисовывать, а править лошадьми — дудки, пусть бы кто попробовал. А у лесничего за столом все равны. А раз так, то почему бы не спросить вон того начальника с загнутым книзу носом, которого директором называют, хотя бы такое:
— Вам, — извините, что о таком спрашиваю, — вам нос не мешает, когда вы из бокальчика шампанское пьете?
Ну и что? Все смеются, еще и приговаривают: «А, чтоб вам добра всякого, Юра», — да так и должно быть — разве обидится Юра, если директор выпьет вот так за его нос?
А зимой, когда в горы понаедут туристы, приходится ли Юре отмахиваться от них, как лошадям от мух в Петров день? И его просят, и лесничего просят, чтоб разрешил Фурщику прокатить их на санях по тем горным дебрям, где пешему — один дым да нитка. И Юра — только бы лесничий не перечил — не отказывается… И то сказать: что за жизнь, если лошади в конюшне стоят и накормленные нудятся, а сам Юра Фурщик слоняется, как неприкаянный, у закрытого база…
Но и тот возьмет на душу большой грех, кто скажет, что Юра тайком деньги берет у туристов, этого никогда не бывало. Разве только от бокальчика не откажется, так это же не плата, а так, угощение. Он весь в любви к своим питомцам и готов биться об какой хотите заклад, что муругим никто править не сможет. Не думайте, у лошадей в упряжке так же, как у людей: есть старший, и его надо слушаться. Кнут — это уж известно — Юра держит в руках для порядка, а на лошадей только «вьёкает», и то на муругого, потому что он лучше чует все нюансы Юриного голоса и понимает их без вожжей, а кобылица должна его слушаться. Ей довериться нельзя еще и потому, что жеребенок бежит рядом. Иногда, ради шутки, Юра даст охочему туристу вожжи в руки и — только смех да срамота одна. Почует муругий чужую руку, станет сразу норовистым, а кобылица и себе дыбки дает. И если какой-нибудь упрямец вожжами ударит, тогда лошади со зла так шарахнутся, что, гляди, и ноги задерешь.
Каждый день Юра допоздна ухаживает за лошадьми, скребницей их чистит, разговаривает с ними, как с людьми, и за это получает неоценимую награду: умный муругий положит ему длинную, как бутылка, морду на плечо и так смотрит в глаза хозяину, будто вот-вот что-то скажет. Серая в яблоках кобылица более сдержанна, а может, озабочена, она — мама. А жеребенок, тот только наскоро ткнется мордочкой в вымя, а все больше возле Юры трется. Да и знает, почему: когда был совсем махоньким, то Фурщик его на руках, как кролика, в хату носил, чтоб не простудился в осеннюю непогоду.
О чем думают лошади перед сном, Юра знает: они довольны, что их никто не дергал и не бил, что хорошо днем поработали, а теперь сыты и вычесаны. Но о чем Юра думает, лошади не знают. А думает он все чаще о том, что скоро совсем постареет и тогда другого конюха возьмут на работу в лесничество…
К концу зимы Юра Фурщик вдруг сник, необычно отяжелел. И его «вьё-о!» не слышится уже в Замулинцах, и кнутом стреляет редко, в кооперативной лавке уже не звенят его шутки, и никакими просьбами теперь никто не уговорит выпить бокальчик с начальством. И лошади совсем обленились и уже не мчатся, как бывало, вовсю, словно драконы. Видимо, тоже одряхлели.
Возвращались как-то с лесничим поздним вечером из Форощанки — ездили бурелом осматривать. Пока обошли эту страшную, разрушенную ураганом местность, пока вволю наплакался и наохался лесничий, пока подсчитывал в памяти, сколько утрачено кубометров живого леса, уже и сумерки наступили. Едут, тянутся слишком уж медленно, мороз прямо до костей пробирает, а Юра ни «вьё-о!» ни «нно!» — ступают лошади так, будто ноги их в трясине вязнут, и недоуменно оглядывается муругий на своего хозяина: не спит ли он?
— Юра! — говорит нахмурившийся лесничий. — Или вы езжайте, или…
— А я вроде не стою… — равнодушно буркнул Юра.
Сани едва ползут по накатанной снежной дороге, прямо злость берет — так, глядишь, и полозья к снегу примерзнут.
— Юра, — спрашивает лесничий, — вы часом не выпили сегодня? С чего это носом клюете?
— Не-е, это я позавчера пил, но такую, что на третий день разбирает, — парирует Юра. — Не видите разве, что мой муругий приболел? Поглядите, — он ткнул коня кнутовищем под бок, — даже бебехи свесил.
— Свесил потому, что дремлет. Ну-ка, дайте мне вожжи.
— А когда это я вам больную лошадь в руки давал?..
— Да я только попробую, Юра.
— Ну-ну, пробуйте, — нагловато говорит Юра и так отдает вожжи в руки лесничего, как некий следователь протокол на подпись неграмотному: поставь, мол, крестик.
И вдруг случилось такое, чего и в помыслах никогда не было у Юры Фурщика. Причмокнул лесничий на лошадей по-Юриному, «вьёкнул» на муругого: «Гей-гей!» — и тоже по-Юриному; подтянул живот муругий, встрепенулась кобылица, понеслись лошади, а Юра лишь рот раскрыл.
Заерзал старый возница на сиденье, глазам своим не верит: да как это его лошади, которых он выпестовал, вырастил из малых жеребят, в чужих руках пошли?! Несмело протянул к лесничему руки:
— Отдайте вожжи мне…
Но, обозленный на опустошительный бурелом и сильную стужу, лесничий даже не повернул головы к Фурщику. Неслись лошади галопом, летели из-под копыт смерзшиеся комья снега и гулко бились о передок саней. Муругий принимал на себя и «висьта-а!» и «гат-тя-я!» — будто от самого Юры.
Дернул Юра за вожжи. «Да какое же ты имеешь право на моих лошадях, я же в твои бумаги не лезу и лесниками не командую, хотя они, может, мне не хуже бы, чем тебе, подчинялись…»
— Отдайте вожжи, говорю, — сказал с угрозой.
— Теперь уже сидите себе. Не видите разве, Юра, что не лошади, а вы сами ослабли, — щелкнул лесничий кнутом (а холера б его взяла: по-Юриному щелкнул!). И только свистнули сани по краю дороги — не занесло.
Что-то говорил, кричал Юра, в его голосе не было ни почтительности, ни уважения к лесничему, а только злость и обида.
Молчал лесничий как проклятый. Возможно, его теперь уже забавляло ущемленное Юрино самолюбие, а лошади — видно было при луне — даже шеи выгибали в быстром беге. Но вот лесничий резко натянул вожжи, остановил лошадей. Или ему это почудилось?
— Вы что, Юра, плачете?
Не ответил старик. Скинул рукавицу, высморкался, небрежно вытер слезы, стыдясь их, и слез с саней.
Лесничему стало жаль его.
— Ну нате, возьмите свои вожжи.
— Хе… возьмите, — прогнусавил Юра сквозь забитый слезами нос. — Как же это… Как же они… — и, не досказав, махнул рукой и подался звериной тропой в снежную темень леса.
На другой день, как всегда на рассвете, пришел Юра на подворье лесничества, открыл конюшню, но в нее не вошел. Две лошадиные головы повернулись к нему — одна с белой звездочкой на лбу, другая буланая, радостно заржал муругий, а жеребенок ткнулся мягкой мордочкой в Юрины ладони.
Только жеребенка приласкал. Укоризненно покачал головой, окинул горестным взглядом насторожившихся лошадей и вышел.
А когда открылась контора и лесничий в своем кабинете кричал в телефонную трубку о буреломе, Юра зашел в холодную приемную, сел за столик и, печальный и совсем постаревший, что-то долго, повторяя вслух по складам, писал на листке бумаги.
Потом тихо приоткрыл дверь в кабинет, неуверенно подошел к лесничему и подал ему исписанный каракулями листок.
— Я вас не отпущу! — вскочил с кресла лесничий. — Кто же отпустит такого, как вы, Фурщика, кто отпустит? Вы, Юра, словно маленький обидчивый ребенок…
— Вы не отпустите, — прошептал Юра. — Вы? Лошади мои… Годы мои… меня отпускают…
•
Как-то весною приплелся Юра на полонину, где паслись «его» лошади. Серая в яблоках кобылица щипала сочную молодую траву да хлопотливо поглядывала на жеребенка, вертевшегося поодаль, а муругий стоял смирный, сытый, положив длинную, как бутылка, морду на плечо молодому конюху.
Рослый жеребенок повернул голову на Юрины шаги.
Почмокал ему.
Но жеребец уже не узнавал Юру Фурщика.
Бывало иногда так: разыскивает кто-либо в Перегонцах Юру Васкула, а люди ничего сказать не могут, будто такой человек вовсе никогда в селе и не жил. Знал его настоящую фамилию, может быть, только один житель села — секретарь сельсовета, а односельчане — нет. Фурщик — и все. Или еще — Юра Фурщик.
Потому что не раз он как «вьёкнет» на лошадей в лесничестве да как прищелкнет в воздухе кнутом, так даже эхо по берегам Прутца прокатится. Это Юрино «вьё-о» слышно в самих Замулинцах. Как крылатые драконы, вылетают тогда из ворот запряженные в старомодную бричку лошади — муругий жеребец и серая в яблоках кобылица, и дети и старики — кто куда, во все стороны, машины и те на обочину сворачивают. Юра Фурщик едет! Сторонись! Гулко выстреливает бичом, но это лишь для острастки, потому что когда кто словом обмолвится, что Юра лошадь ударил, возьмет на душу тяжкий грех: каждый в Перегонцах знает, что Юра лошадей не бьет.
Чаще всего возил он лесничего на далекие обходы, иногда лесников развозил по участкам, рабочих «подбрасывал» на порубки, к саженцам, а подчас случалось даже и с районным начальством горделиво пронестись по главной улице села к лесничему. Это было не какое-нибудь бахвальство для Юры, не о себе думал — лошадьми гордился: видите, дескать, машины имеют, а Юру все же зовут. Лесничему, правда, хлопотно, потому что начальство есть начальство, каждый понимает: лесничиха себе голову сушит, как бы ужин получше подать, а Юре такая оказия в самый раз — вечером за стол посадят. И в хорошей компании побудет, и бокальчиком разок-другой с учеными людьми чокнется.
Если бы кто сказал, что он падок на этот махонький бокальчик, тоже погрешил бы против истины, потому что Юру никогда на чужое не тянет, он может и за свои позволить себе кое-когда раскошелиться на хорошую чарку. Юру другое интересует: о чем ученые люди говорят — не в конторе, а за столом, как они сидят, как едят.
Любит он наблюдать за важным начальником, у которого от чарки глаза веселеют и он становится таким же простым, как все люди. В кооперативе не то. Юра знает всех «забегальщиков» как свои пять пальцев, наперед может сказать, кто как ответит на его шутку, а здесь — новизна. Приглядится синими, слегка насмешливыми глазами к начальникам, хитро поведет своим на редкость курносым носом, а лесничий уже знает, что и Юра хочет вклиниться в разговор, хочет сказать припасенную им остроту, и поглядывает на него из-под бровей: «Ну, не стесняйтесь, Юра, говорите же, здесь все равны». А если по правде сказать, то и стеснения никакого нет: они, эти люди, умеют мудреные расчеты вычислять и таблицы вырисовывать, а править лошадьми — дудки, пусть бы кто попробовал. А у лесничего за столом все равны. А раз так, то почему бы не спросить вон того начальника с загнутым книзу носом, которого директором называют, хотя бы такое:
— Вам, — извините, что о таком спрашиваю, — вам нос не мешает, когда вы из бокальчика шампанское пьете?
Ну и что? Все смеются, еще и приговаривают: «А, чтоб вам добра всякого, Юра», — да так и должно быть — разве обидится Юра, если директор выпьет вот так за его нос?
А зимой, когда в горы понаедут туристы, приходится ли Юре отмахиваться от них, как лошадям от мух в Петров день? И его просят, и лесничего просят, чтоб разрешил Фурщику прокатить их на санях по тем горным дебрям, где пешему — один дым да нитка. И Юра — только бы лесничий не перечил — не отказывается… И то сказать: что за жизнь, если лошади в конюшне стоят и накормленные нудятся, а сам Юра Фурщик слоняется, как неприкаянный, у закрытого база…
Но и тот возьмет на душу большой грех, кто скажет, что Юра тайком деньги берет у туристов, этого никогда не бывало. Разве только от бокальчика не откажется, так это же не плата, а так, угощение. Он весь в любви к своим питомцам и готов биться об какой хотите заклад, что муругим никто править не сможет. Не думайте, у лошадей в упряжке так же, как у людей: есть старший, и его надо слушаться. Кнут — это уж известно — Юра держит в руках для порядка, а на лошадей только «вьёкает», и то на муругого, потому что он лучше чует все нюансы Юриного голоса и понимает их без вожжей, а кобылица должна его слушаться. Ей довериться нельзя еще и потому, что жеребенок бежит рядом. Иногда, ради шутки, Юра даст охочему туристу вожжи в руки и — только смех да срамота одна. Почует муругий чужую руку, станет сразу норовистым, а кобылица и себе дыбки дает. И если какой-нибудь упрямец вожжами ударит, тогда лошади со зла так шарахнутся, что, гляди, и ноги задерешь.
Каждый день Юра допоздна ухаживает за лошадьми, скребницей их чистит, разговаривает с ними, как с людьми, и за это получает неоценимую награду: умный муругий положит ему длинную, как бутылка, морду на плечо и так смотрит в глаза хозяину, будто вот-вот что-то скажет. Серая в яблоках кобылица более сдержанна, а может, озабочена, она — мама. А жеребенок, тот только наскоро ткнется мордочкой в вымя, а все больше возле Юры трется. Да и знает, почему: когда был совсем махоньким, то Фурщик его на руках, как кролика, в хату носил, чтоб не простудился в осеннюю непогоду.
О чем думают лошади перед сном, Юра знает: они довольны, что их никто не дергал и не бил, что хорошо днем поработали, а теперь сыты и вычесаны. Но о чем Юра думает, лошади не знают. А думает он все чаще о том, что скоро совсем постареет и тогда другого конюха возьмут на работу в лесничество…
К концу зимы Юра Фурщик вдруг сник, необычно отяжелел. И его «вьё-о!» не слышится уже в Замулинцах, и кнутом стреляет редко, в кооперативной лавке уже не звенят его шутки, и никакими просьбами теперь никто не уговорит выпить бокальчик с начальством. И лошади совсем обленились и уже не мчатся, как бывало, вовсю, словно драконы. Видимо, тоже одряхлели.
Возвращались как-то с лесничим поздним вечером из Форощанки — ездили бурелом осматривать. Пока обошли эту страшную, разрушенную ураганом местность, пока вволю наплакался и наохался лесничий, пока подсчитывал в памяти, сколько утрачено кубометров живого леса, уже и сумерки наступили. Едут, тянутся слишком уж медленно, мороз прямо до костей пробирает, а Юра ни «вьё-о!» ни «нно!» — ступают лошади так, будто ноги их в трясине вязнут, и недоуменно оглядывается муругий на своего хозяина: не спит ли он?
— Юра! — говорит нахмурившийся лесничий. — Или вы езжайте, или…
— А я вроде не стою… — равнодушно буркнул Юра.
Сани едва ползут по накатанной снежной дороге, прямо злость берет — так, глядишь, и полозья к снегу примерзнут.
— Юра, — спрашивает лесничий, — вы часом не выпили сегодня? С чего это носом клюете?
— Не-е, это я позавчера пил, но такую, что на третий день разбирает, — парирует Юра. — Не видите разве, что мой муругий приболел? Поглядите, — он ткнул коня кнутовищем под бок, — даже бебехи свесил.
— Свесил потому, что дремлет. Ну-ка, дайте мне вожжи.
— А когда это я вам больную лошадь в руки давал?..
— Да я только попробую, Юра.
— Ну-ну, пробуйте, — нагловато говорит Юра и так отдает вожжи в руки лесничего, как некий следователь протокол на подпись неграмотному: поставь, мол, крестик.
И вдруг случилось такое, чего и в помыслах никогда не было у Юры Фурщика. Причмокнул лесничий на лошадей по-Юриному, «вьёкнул» на муругого: «Гей-гей!» — и тоже по-Юриному; подтянул живот муругий, встрепенулась кобылица, понеслись лошади, а Юра лишь рот раскрыл.
Заерзал старый возница на сиденье, глазам своим не верит: да как это его лошади, которых он выпестовал, вырастил из малых жеребят, в чужих руках пошли?! Несмело протянул к лесничему руки:
— Отдайте вожжи мне…
Но, обозленный на опустошительный бурелом и сильную стужу, лесничий даже не повернул головы к Фурщику. Неслись лошади галопом, летели из-под копыт смерзшиеся комья снега и гулко бились о передок саней. Муругий принимал на себя и «висьта-а!» и «гат-тя-я!» — будто от самого Юры.
Дернул Юра за вожжи. «Да какое же ты имеешь право на моих лошадях, я же в твои бумаги не лезу и лесниками не командую, хотя они, может, мне не хуже бы, чем тебе, подчинялись…»
— Отдайте вожжи, говорю, — сказал с угрозой.
— Теперь уже сидите себе. Не видите разве, Юра, что не лошади, а вы сами ослабли, — щелкнул лесничий кнутом (а холера б его взяла: по-Юриному щелкнул!). И только свистнули сани по краю дороги — не занесло.
Что-то говорил, кричал Юра, в его голосе не было ни почтительности, ни уважения к лесничему, а только злость и обида.
Молчал лесничий как проклятый. Возможно, его теперь уже забавляло ущемленное Юрино самолюбие, а лошади — видно было при луне — даже шеи выгибали в быстром беге. Но вот лесничий резко натянул вожжи, остановил лошадей. Или ему это почудилось?
— Вы что, Юра, плачете?
Не ответил старик. Скинул рукавицу, высморкался, небрежно вытер слезы, стыдясь их, и слез с саней.
Лесничему стало жаль его.
— Ну нате, возьмите свои вожжи.
— Хе… возьмите, — прогнусавил Юра сквозь забитый слезами нос. — Как же это… Как же они… — и, не досказав, махнул рукой и подался звериной тропой в снежную темень леса.
На другой день, как всегда на рассвете, пришел Юра на подворье лесничества, открыл конюшню, но в нее не вошел. Две лошадиные головы повернулись к нему — одна с белой звездочкой на лбу, другая буланая, радостно заржал муругий, а жеребенок ткнулся мягкой мордочкой в Юрины ладони.
Только жеребенка приласкал. Укоризненно покачал головой, окинул горестным взглядом насторожившихся лошадей и вышел.
А когда открылась контора и лесничий в своем кабинете кричал в телефонную трубку о буреломе, Юра зашел в холодную приемную, сел за столик и, печальный и совсем постаревший, что-то долго, повторяя вслух по складам, писал на листке бумаги.
Потом тихо приоткрыл дверь в кабинет, неуверенно подошел к лесничему и подал ему исписанный каракулями листок.
— Я вас не отпущу! — вскочил с кресла лесничий. — Кто же отпустит такого, как вы, Фурщика, кто отпустит? Вы, Юра, словно маленький обидчивый ребенок…
— Вы не отпустите, — прошептал Юра. — Вы? Лошади мои… Годы мои… меня отпускают…
•
Как-то весною приплелся Юра на полонину, где паслись «его» лошади. Серая в яблоках кобылица щипала сочную молодую траву да хлопотливо поглядывала на жеребенка, вертевшегося поодаль, а муругий стоял смирный, сытый, положив длинную, как бутылка, морду на плечо молодому конюху.
Рослый жеребенок повернул голову на Юрины шаги.
Почмокал ему.
Но жеребец уже не узнавал Юру Фурщика.
1967
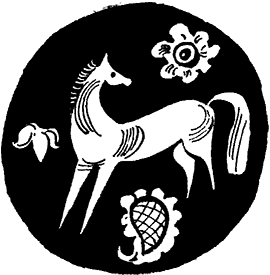

Последние комментарии
2 часов 13 минут назад
2 часов 21 минут назад
8 часов 34 минут назад
8 часов 37 минут назад
8 часов 48 минут назад
8 часов 54 минут назад