Дневники 1862–1910 [Софья Андреевна Толстая] (fb2) читать онлайн
- Дневники 1862–1910 [litres] 7.06 Мб, 751с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Софья Андреевна Толстая
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Софья Андреевна Толстая Дневники. 1862—1910
Тексты публикуются по изданию: С. А. Толстая Дневники в двух томах Москва, Художественная литература, 19781862
8 октября. Опять дневник, скучно, что повторение прежних привычек, которые я все оставила с тех пор, как вышла замуж. Бывало, я писала, когда тяжело, и теперь, верно, оттого же. Эти две недели я с ним, мужем, мне так казалось, была в простых отношениях, по крайней мере мне легко было, он был мой дневник, мне нечего было скрывать от него. А со вчерашнего дня, с тех пор, как сказал, что не верит любви моей, мне стало серьезно страшно. Но я знаю, отчего он не верит. Мне кажется, я не сумею ни рассказать, ни написать, что я думаю. Всегда, с давних пор, я мечтала о человеке, которого буду любить, как о совершенно целом, новом и чистом человеке. Я воображала себе, и это были детские мечты, с которыми до сих пор трудно расстаться, что этот человек будет всегда у меня на глазах, что я буду знать малейшую его мысль, чувство, что он будет во всю жизнь любить меня одну и, не в пример прочим, мы оба, и он и я, не будем перевешиваться, как все перебесятся и делаются солидными людьми. Мне так милы были все эти мечты! Благодаря им я стала П. будто бы любить; одним словом, любя свои мечты, я сделала П. приложением к ним[1]. Увлечься и идти дальше было нетрудно, да и никогда я не стояла, а всегда шла, не задумываясь, вперед. Теперь, когда я вышла замуж, я должна была все свои прежние мечты признать глупыми, отречься от них, а я не могу. Всё его (мужа) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним. Разве когда будут другие цели в жизни, дети, которых я так желаю, чтоб у меня было целое будущее, чтоб я в детях своих могла видеть эту чистоту без прошедшего, без гадостей, без всего, что теперь так горько видеть в муже. Он не понимает, что его прошедшее – целая жизнь с тысячами разных чувств, хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная бог знает на кого и на что. И не понимает он еще того, что я ему отдаю всё, что во мне ничего не потрачено, что ему не принадлежало только детство. Но и то принадлежало ему. Лучшие воспоминания – мое детское, но первое чувство к нему, которое я не виновата, что уничтожили, за что? Разве оно дурно было? Он протратил свою жизнь, свои силы и дошел до этого чувства, пройдя столько дурного; оно ему кажется так сильно, так хорошо потому, что давным-давно прошла та пора, когда он сразу мог стать на хорошее, как стала я теперь. И у меня в прошлом есть дурное, но не столько. Ему весело мучить меня, видеть, как я плачу от того, что он мне не верит. Ему бы хотелось, чтоб и я прошла такую жизнь и испытала столько же дурного, сколько он, чтоб и я поняла лучше хорошее. Ему инстинктивно досадно, что мне счастье легко далось, что я взяла его, не подумав, не пострадав. А я не буду плакать из самолюбия. Не хочу, чтоб он видел, как я мучаюсь, пусть думает, что мне всегда легко. Вчера у дедушки я пришла сверху нарочно, чтоб его увидать, и когда увидала, меня обхватило какое-то особенное чувство силы и любви. Я так любила его в ту минуту, хотела подойти к нему, но мне показалось, что если до него дотронусь, то мне уж так хорошо не будет, что это будет святотатство. Но я никогда не покажу и не могу показать, что во мне делается. У меня столько глупого самолюбия, что если я увижу малейшее недоверие или непонимание меня, то всё пропало. Я злюсь. И что он делает со мной; мало-помалу я вся уйду в себя и ему же буду отравлять жизнь. И как жаль мне его в те минуты, когда он не верит мне и слезы на глазах и такой кроткий, но грустный взгляд. Я бы его задушила от любви в ту минуту, а так и преследует мысль: не верит, не верит. И стала я сегодня вдруг чувствовать, что он и я делаемся как-то больше и больше сами по себе, что я начну создавать себе свой печальный мир, а он свой – недоверчивый, деловой. И в самом деле, показались мне пошлы наши отношения, и я стала не верить в его любовь. Он целует меня, а я думаю: не в первый раз ему увлекаться. И так оскорбительно, больно станет за свое чувство, которым он не довольствуется, а которое так мне дорого, потому что оно последнее и первое. Я тоже увлекалась, но воображением, а он – женщинами, живыми, хорошенькими, с чертами характера, лица и души, которые он любил, которыми любовался, как и мной пока любуется. Пошло, правда, но не от меня, а от его прошедшего. Что же мне делать, а я не могу простить Богу, что он так устроил, что все должны, прежде чем сделаться порядочными людьми, перебеситься. И что же мне делать, когда мне горько, больно, что мой муж попал под эту общую категорию. А он еще думает, что я не люблю его; так что же мне бы за дело было, если бы я не любила его, кто и что занимало его прежде, нынче или будет занимать когда-нибудь потом. Дурно, безвыходное положение; как доказать любовь человеку, который с тем женился, что «я иначе не могу, а она меня не любит». А есть ли минутка в моей жизни теперь, где бы я вызвала что-нибудь из прошедшего, чтоб пожалела о чем-нибудь, или есть минутка, когда бы я не только не любила его, но могла бы подумать о возможности разлюбить его? И неужели в самом деле хорошо ему, когда я плачу и начинаю чувствовать сильнее, что у нас есть что-то очень непростое в отношениях, которое нас постепенно совсем разлучит в нравственном отношении? Вот, кошке – игрушки, а мышке – слезки. Да игрушка-то эта непрочна, сломает – сам будет плакать. А я не могу выносить того, что он меня будет понемножку пилить, пилить. А он славный, милый. Его самого возмущает всё дурное, и он не может переносить его. Я, бывало, как любила всё хорошее, всей душой восхищалась, а теперь всё как-то замерло; только что станет весело, пристукнет он меня. 9 октября. Вчера объяснились, легче стало, совсем даже весело. Хорошо мы нынче верхом ездили, а все-таки тесно. Такие я сегодня видела тяжелые сны, не помню их всякую минуту, а тяжело на душе. Опять мама сегодня вспоминала, ужасно стало грустно, а вообще хорошо. Прошлого не жаль, всегда, однако, его буду благословлять. У меня в жизни было много счастия. Муж, кажется, покоен, верит, дай бог. Я вижу, это правда, что я ему даю мало счастия. Я вся как-то сплю и не могу проснуться. Если б я проснулась, стала бы другим человеком. А что надо для этого – не знаю. Тогда бы он видел, как я люблю его, тогда я могла бы говорить, рассказать ему, как я его люблю, увидела бы, как бывало, ясно, что у него на душе, и знала бы, как сделать его совсем счастливым. Надо, надо скорей проснуться. Сон этот напал на меня с тех пор, как я выехала летом из Покровского в Ивицы. Потом на время я проснулась, потом, как переехали в Москву, опять заснула – и с тех пор почти не просыпалась. Надо мной что-то тяготеет. Мне всё кажется, что я скоро умру. Теперь это странно, потому что у меня муж. Я слышу, как он спит, а мне одной страшно. К себе он меня не подпускает, и мне это грустно. Так противны все физические проявления… 11 октября. Ужасно, ужасно грустно. Всё более и более в себя ухожу. Муж болен, не в духе, меня не любит. Ждала я этого, да не думала, что так ужасно. Кто это думает о моем огромном счастии? Никто не знает, что я его не умею создавать ни для себя, ни для него. Бывало, когда очень грустно, думаешь: так зачем жить, когда самой дурно и другим нехорошо? И теперь страшно: всё приходит мне эта мысль. С каждым днем он делается холоднее, холоднее, а я, напротив, всё больше и больше люблю его. Скоро мне станет невыносимо, если он будет так холоден. А он честный, обманывать не станет. Не любит, так притворяться не станет, а любит – так в каждом движении видно. И всё меня волнует. Стал сегодня Гриша говорить про папашу, и так мне жаль его стало, что он не настоящий его сын, даже плакать хотела[2]. И про своих всё вспоминаю, как легко жилось, а теперь, боже мой, вся душа разрывается. Никто не любит: тетенька[3] – по какому-то долгу, а муж совсем перестает любить. Мамаша милая, Таня, какие они славные были, зачем я их оставила! А Лизу, бедную, измучила, так меня и точит, так грустно, ужас. А Левочка отличный какой, я чувствую, что я во всем, кругом виновата, и я боюсь показать ему, что я грустная, знаю, как этой глупой тоскою мужьям надоедают. Бывало, утешаешься, всё пройдет, обойдется, а теперь нет, ничего не обойдется, а будет хуже. Папа пишет: «Муж тебя страстно любит». Да, правда, любил страстно, да страсть-то проходит, этого никто не рассудил, только я поняла, что увлекся он, а не любил. Как я не рассудила, что за это увлечение он же поплатится, потому что каково жить долго, всю жизнь, с женой, которую не любишь. За что я его, милого, которого все так любят, погубила; эгоистически поступила я на этот раз, что вышла за него замуж. Смотрю я на него и думаю то, что он про меня думал: «Хотел бы я ее любить, да не могу больше». Вот уж прошло, как сон, это всё время. Подразнили меня, сказали: видишь, как бывает хорошо, да не думай об этом. И всё, что сначала было у меня, – энергия на занятия, жизнь, хозяйство, – всё пропало. Сидела бы себе целый день сложа руки, молчала бы да думала горькие думы. Работать хотела, но не могла; ну что рядиться в глупый чепчик, который только давит меня. Ужасно хочется поиграть, да тут так неудобно, наверху со всех сторон слышно, а внизу фортепьяно плохое. Сегодня предложил остаться, а он в Никольское поедет. Надо бы было согласиться, избавить его от своей особы, а у меня не хватило сил. Он, кажется, наверху играет с Ольгой в четыре руки. Бедный, везде ищет развлечения, чтоб как-нибудь от меня избавиться. Зачем я только на свете живу. 13 ноября. Дурное число – первое, что пришло в голову. А мне всегда легче, когда я с ним поговорю. Легче, как эгоистке, чтоб получить его и успокоиться. Правда, я не умею дела себе создать. Он счастливый, потому что умен и талантлив. А я – ни то ни другое. Одною любовью не проживешь, а я так ограниченна, что покуда только и думаю о нем. Ему нездоровится, думаю: ну как умрет, и вот пойдут черные мысли на три часа. Он весел, я думаю: как бы не прошло это расположение духа, и так наслаждаюсь сама им, что опять ни о чем больше не думаешь. А нет его или он занят, вот я и начну опять о нем же думать, прислушиваться, не идет ли, следить за выражением лица его, если он тут. Верно оттого, что я беременна, я теперь в таком ненормальном состоянии и имею не много влияния и на него. Дело найти не трудно, его много, но надо прежде увлечься этими мелочными делами, а потом заводить кур, бренчать на фортепьяно, читать много глупостей и очень мало хороших вещей и солить огурцы. Всё это придет, я знаю, когда я забуду свою девичью, праздную жизнь и сживусь с деревнею. Не хочу попадать в общую колею и скучать, да и не попаду. Я бы хотела, чтоб муж имел на меня больше влияния. Странно, я его ужасно люблю, а влияния еще чувствую мало. Бывают светлые минуты, когда я всё понимаю, вижу ясно, как хорошо жить на свете, сколько обязанностей на мне, и весело, что есть они, а потом пройдет, забудешь всё. Знаю я и жду, что, когда эта светлая минута придет и останется, тут заведется машина, а я начну жить, то есть жить деятельно. Странно, смотрю на это точно как на приходящее что-то, как смотришь на то, что праздники придут, что будет лето и проч. Я опять заснула теперь так, что даже поездка в Москву, будущий ребенок – всё это не производит во мне никакого волнения, никакой радости, ничего. Хотела бы знать средство, которое могло бы меня освежить, разбудить. Я давно не молилась. Прежде меня забавляла даже внешность в религии. Я, бывало, тихонько ото всех зажигала восковую свечку перед образом, клала цветы, а потом запру дверь, стану на колена и молюсь час, два. Теперь всё это смешно и глупо, а вспоминать хорошо. Так всё стало серьезно, а впечатления девичьи живы, расстаться еще трудно, а воротиться к ним нельзя. Вот так-то через несколько лет я создам себе женский, серьезный мир и его буду любить еще больше, потому что тут будет муж, дети, которых больше любишь, чем родителей и братьев. А пока не установилась. Качаюсь между прожитым и настоящим с будущим. Муж меня слишком любит, чтоб уметь сразу дать направление, да и трудно, сама выработаюсь, а он тоже чувствует, что я не та. Вот терпение, я буду прежняя, но не дева, а женщина, опять проснусь, и он, и я – мы будем довольны мной. Я уверена, что в Москве я освежусь в своей прежней жизни и пойму ясно настоящую, конечно, с хорошей стороны, потому что всё, что дурно, происходит от меня же. Только бы он перенес терпеливо мое несносное, переходное время… Вот сейчас я одна, смотришь кругом – грустно. Одна – это ужасно. Я не привыкла. Столько жизни было дома, а как мертво здесь, когда его нет. Он, всегда почти одинокий, не понимает этого. Привык быть один и утешаться не людьми близкими, как я, а делом. Ну, да и я привыкну. А теперь голоса веселого никогда не слышишь, точно умерли все. А он еще сердится, когда я не люблю оставаться без него. Несправедлив он в этом, но он и не может понять, у него семьи не было. А я буду всё делать, что ему хорошо, потому что он отличный, я гораздо хуже него, и потому еще, что я люблю его и для меня ничего, ничего не осталось, кроме него. И мне бывает скучно, потому что я бедная натура и не нахожу в себе ressource и потому что я привыкла к шумной жизни, а тут тишина, тишина мертвая. Привыкну, ко всему привыкают люди. А со временем и я заведу веселый, шумный дом и начну жить жизнью детей и своею, серьезною, деловою, радуясь на молодость детей. 23 ноября. Он мне гадок со своим народом. Я чувствую, что или я, то есть я, пока представительница семьи, или народ с горячею любовью к нему Л. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь, и я сегодня убежала, потому что мне все и всё стало гадко. И тетенька, и студенты, и Наталья Петровна, и стены, и жизнь, и я чуть не хохотала от радости, когда убежала одна тихонько из дому. Л. мне не был гадок, но я вдруг почувствовала, что он и я по разным сторонам, что его народ не может меня занимать всю, как его, а что его не могу занимать всего я, как занимает меня он. Очень просто. А если я его не занимаю, если я кукла, если я только жена, а не человек, так я жить так не могу и не хочу. Конечно, я бездельная, я еще не знаю, не убедилась, в чем и где дело. Он нетерпелив и злится. Бог с ним, мне сегодня так хорошо, свободно, потому что я сама по себе, а он, слава богу, был мрачен, но меня не трогал. Я знаю, он богатая натура, в нем много разных сил, он поэтический, умный, а меня сердит, что это всё занимает его с мрачной стороны. Иногда мне ужасно хочется высвободиться из-под его влияния, немного тяжелого, не заботиться о нем, да не могу. Оттого оно тяжело, что я думаю его мыслями, смотрю его взглядами; напрягаюсь, им не сделаюсь, а себя потеряю. Я и то уж не та, и мне стало труднее. Теперь всё буду уходить или уезжать куда, когда станет скучно. Выйдешь, и вдруг станет так свободно. И то всё думала о нем: бегал, искал, может, беспокоится, ну и мне стало тяжело, домой ушла. А он мрачный, я чуть-чуть не стала плакать. Ничего мне не говорит. Страшно с ним жить, вдруг народ полюбит опять, а я пропала, потому и меня любит, как любил школу, природу, народ, может быть, литературу свою, всего понемногу, а там новенькое. Пришла тетенька, спрашивает, зачем, куда ходила; я хотела ее позлить, говорю, от студентов, потому что она их защищает. А совсем неправда, я на них ни капельки не злюсь, а по старой привычке браню и жалуюсь. Я просто ушла, мне скучно всё на месте сидеть, я никогда дома долго не сидела. А тут всё тетенька, Наталья Петровна, опять тетенька, опять Наталья Петровна, студенты в перемешечку. Муж не мой и немой сегодня. Стало быть, его нет. Так бы ушла, ушла куда-нибудь далеко, посмотрела бы, что дома, а потом опять пришла бы сюда домой. Пойду еще поиграю. Он в ванне, он мне нынче чужой. 16 декабря. Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности. «Влюблен как никогда!» И просто баба, толстая, белая, ужасно![4] Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар – легко. Пока нет ребенка. И она тут, в нескольких шагах. Я просто как сумасшедшая. Еду кататься. Могу ее сейчас же увидать. Так вот как он любил ее. Хоть бы сжечь журнал его и всё его прошедшее. Приехала – хуже, голова болит, расстроена, а душу давит, давит. Так хорошо, привольно было на воздухе, широко. И думать хочется широко, и дышать широко, и жить. А жизнь такая мелочная. Любить трудно, а любишь так, что дух захватывает, что всю жизнь бы, душу положила, чтоб не прошла она ни с чьей стороны. И тесен, мал тот мирок, в котором я живу, если исключить его. А соединить нам мирки наши в один – нельзя. Он так умен, деятелен, способен, и потом это ужасное, длинное прошедшее. А у меня оно маленькое, ничтожное. Меня нынче испугала поездка в Москву. Я сделаюсь еще ничтожнее и чувствую, что если у меня будет жизнь, мир, которым я буду довольна, то он будет здесь, в Ясной, без людей, в семье, со всем, что я сама себе создала. Читала начала его сочинений, и везде, где любовь, где женщины, мне гадко, тяжело, я бы всё, всё сожгла. Пусть нигде не напомнится мне его прошедшее. И не жаль бы мне было его трудов, потому что от ревности я делаюсь страшная эгоистка. Если б я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то бы сделала с удовольствием.1863
9 января. Никогда в жизни я не была так несчастлива сознанием своей вины. Никогда не воображала, что могу быть виновата до такой степени. Мне так тяжело, что целый день слезы меня душат. Я боюсь говорить с ним, боюсь глядеть на него. Никогда он не был мне так мил и дорог, и никогда я не казалась себе так ничтожна и гадка. И он не сердится, он всё любит меня, и такой у него кроткий, святой взгляд. Можно умереть от счастия и от унижения с таким человеком. Мне очень дурно. От причины нравственной я больна физически. У меня была такая боль, что я думала, что выкину. Я стала как сумасшедшая. Я целый день молюсь, как будто от этого легче будет моя вина и как будто этим я могу возвратить то, что я сделала. Мне легче, когда его нет. Я могу и плакать, и любить его, а когда он тут, меня мучает совесть, мучает его милый взгляд и лицо его, на которое я уже не смотрела со вчерашнего вечера и которое так мне мило. И как я могу только делать ему что-нибудь неприятное! Всё думала я, как бы мне загладить (или не загладить, это глупое слово) и как бы мне сделаться лучше для него. Любить его я не могу больше, потому что люблю его до последней крайности, всеми силами, так, что нет ни одной мысли другой, нет никаких желаний, ничего нет во мне, кроме любви к нему. И в нем ничего нет дурного, ничего, в чем я хоть подумать бы могла упрекнуть его. Он мне всё не верит, думает, что мне нужны развлечения, а мне ничего не нужно, кроме него. Если б он только знал, как я радостно думаю о будущности, не с развлечениями, а с ним и со всем тем, что он любит. Я так стараюсь полюбить даже всё то, что мне и не нравилось, как Ауэрбах[5]. А вчера я была в ударе капризничать, прежде этого не было до такой степени. Неужели у меня такой отвратительный характер или это пошлые нервы и беременность? Пускай так лучше будет, потому что я знаю, что теперь буду беречь наше счастие, если я еще не очень испортила его. Это ужасно, могло бы быть так весело и хорошо. Он теперь здоров; что я наделала. Таня, Саша, Кузминский приехали, а я всё не могу не плакать. Я им ни за что не покажусь, они дети и не любили. Как я жду его! Господи, если он ко мне охладеет? Ну всё, решительно, теперь держится на нем. А я какая ничтожная, как тяжело это нравственное ничтожество. Он спохватится, наверное, какая я перед ним жалкая и гадкая. 11 января. Я немножко успокаиваюсь, потому что он делается лучше со мной. Но еще так свежо всё горе, что малейшее воспоминание производит во всей моей голове и теле сильную боль физическую. Физическую оттого, что я чувствую, как она проходит по всем жилам и нервам. Он ничего не говорил и не намекал даже о моем дневнике. Не знаю, читал ли он его. Я чувствую, что дневник был гадок, и мне неприятно его перечитывать. Я совсем одна, мне жутко, и оттого хотела писать много и искренно, а мысли пропадают от страха. Боюсь испуга, потому что беременна. Ревность моя – это врожденная болезнь, а может быть, она оттого происходит, что, любя его, не люблю больше ничего, что я вся ему отдалась, что только и могу быть счастлива от него и с ним и боюсь потерять его, как старики боятся потерять единственного ребенка, на котором держится вся их жизнь и которого они не могут более иметь. Говорили всегда, что я совсем не эгоистка, а ведь это самый большой эгоизм. Ни в чем другом я не эгоистка, а в этом – ужасная. Я так люблю его, что и это пройдет. Но терпение страшное и сила воли, иначе ничего не сделаешь. Бывают дни и часто, когда я его люблю до болезненности. Сегодня так. Это всегда, когда я неправа. Мне больно глядеть на него, слушать его, быть с ним так, как неловко быть со святым. Когда я сделаю что-нибудь для него приятное, за что он будет опять любить меня по-прежнему, тогда я опять буду с ним в более простых отношениях. А теперь заслуги не равны, оттого и отношения не равны. Заслуги никогда не равны – ну хоть поменьше дурного с моей стороны. Я прежде любила его смело, как-то самонадеянно, а теперь слава Богу и ему за всякое его доброе слово, за ласку, за снисхождение и добрый взгляд. Вот теперь живу, живу и только одного этого и выжидаю, этим и довольна. Была во мне какая-то гордость, что ребенка ношу и на свет скоро произведу, да это судьба, закон природы. И этого утешения нет. Только и есть муж, то есть Левочка, который всё, в котором и заслуга моя, потому что я его люблю ужасно, и ничто мне не дорого, кроме него. 14 января. Я опять одна, и скучно опять. Но между нами всё опять уладилось. Не знаю, на чем он помирился и на чем – я. Устроилось само собой. Только я одно знаю, что счастие опять воротилось ко мне. Мне хочется домой. У меня такие планы иногда, мечты, как я буду жить в Ясной с ним. Какое-то грустное чувство в душе, что я совсем, и телом и душою, отшатнулась от своих кремлевских[6]. Ужасно сильно чувствуешь, что мир мой переменился, а любовь к ним усилилась, особенно к мама, и иногда жалко, что я не член их больше. Живу вся в нем и для него, а часто тяжело, когда чувствуешь, что я-то не всё для него и что, если теперь меня не стало бы, он утешился бы чем-нибудь, потому что в нем самом много ressource, а я очень бедная натура: отдалась одному чему-нибудь и никогда бы не сумела найти себе, помимо этого, другой мир. Жизнь в гостинице меня тяготит. Если я чем-нибудь бываю довольна здесь, то когда я сижу в Кремле со своими и непременно с Левочкой. Я бы могла скоро уехать домой, я знаю, от меня много зависит, но не хватает духу прощаться опять со своими, да и лень подниматься. Я сегодня видела такой неприятный сон. Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты были все как барыни. Выходили откуда-то одна за другой, последняя вышла А. в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребенка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову – всё оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Левочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, это кукла. Я посмотрела, и в самом деле: вместо тела всё хлопки и лайка. И так мне досадно стало. Я часто мучаюсь, когда думаю о ней, даже здесь в Москве. Прошедшее мучает меня, а не настоящая ревность. Не может он мне отдаться вполне, как я ему, потому что прошедшее полно, велико и так разнообразно, что если б он теперь умер, то жизнь его была наполнена достаточно. Только не испытал он еще отцовского чувства. А мне теперь вдруг жизнь столько дала, чего я прежде не знала и не испытала, что я хватаюсь за свое счастие и боюсь потерять его, потому что не верю в него, не верю, что оно продолжится, благо не знала его прежде. Я всё думаю, что это случайное, проходящее, а то слишком хорошо. Это ужасно странно, что только один человек своею личностью, безо всякой другой причины, исключая его личные свойства, мог бы так вдруг взять меня в руки и сделать полное счастие. Мама правду говорит, что я подурела, то есть, пожалуй, только еще ленивее стали мысли. Это неприятное чувство, когда чувствуешь эту апатию. От физической происходит и нравственная. Мне жаль своей прежней живости, которая прошла. Но, я думаю, воротится. Я чувствую, что эта живость действовала бы лучше на Левочку, как, бывало, действовала на моих кремлевских. Первое время я и в Ясной была еще жива, а теперь совсем пропала. И Левочка тогда любил, когда я бесилась. Левочка как будто спит нравственно, хотя я знаю, что в душе он никогда не спит, а всегда происходит в нем сильная нравственная работа. Он очень похудел, и меня это мучает. Я бы дорого дала, чтоб влезть в его душу. Он даже журнал не пишет, что мне очень горестно. У меня бывает иногда глупое, но бессознательное желание испытывать свою власть над ним, то есть просто желание, чтоб он меня слушался. Но он всегда меня в этом осадит, чему я очень рада; и это пройдет. 17 января. Москва. Я только что была не в духе и сердилась за то, что он всё и всех любит, а я хочу, чтоб он любил меня одну. Теперь пришла и одна рассудила, что я капризничаю опять; он и хорош своею добротою и богатством чувств. И подумаешь: всё один у меня источник моих капризов, горя и проч. – этот эгоизм, чтоб он и жил, и думал, и любил – всё для меня. Себе я почему-то это поставила за правило. Как я только подумаю: вот я люблю того-то или то-то, сейчас оговорюсь, что нет, люблю одного Левочку. А надо любить непременно еще что-нибудь, как он любит дело, чтоб в те минуты, когда он ко мне остывает, я умела бы заняться тем, что люблю. А минуты эти будут повторяться всё чаще; незаметно как-то, это так и было до сих пор. Я вижу это ясно, потому что где же Левочке следить за ходом наших отношений до таких тонкостей, как я слежу, благо ничем больше не занимаюсь. И благодаря этому я учусь, как вести себя с ним, учусь не оттого, что поставила себе это задачей, а так, невольно. Не могу приложить еще эту науку к делу, но всё со временем. Скорее в Ясную, там он больше живет для меня и со мной. Все – тетенька да я, больше уже никого. И мне ужасно мила эта жизнь, ни на какую не променяла бы. Для этой жизни я всё готова делать. Мало-помалу я буду стараться обставить ее лучше и очень буду довольна, если сумею. Только бы Левочка не нуждался в людях, этих негде мне там взять, и не люблю я никого. А если Левочка захочет, то я и принимать буду, кого он хочет, главное, чтоб он не скучал и был доволен, тогда он и меня любит, а мне-то уж больше ничего не надо. Трудно жить и не ссориться, а я не буду все-таки, а то он правду говорит, что надрез. Мое несчастие – ревность. Вот что ему надо беречь, а мое дело – сдерживаться и беречь его. Ему не хочется брать меня с собой, шляпа, кринолины – всё его стесняет, а мне везде такая тоска без него. Навязываться страшно, а грустно, что в нем уже нет этой потребности быть вместе со мной, а не врозь. Во мне она всё усиливается. Ждала, ждала его и опять села писать. Есть же люди, которые живут в одиночестве. Это ужасно – быть одной. Верно, мы уже не пойдем на лекцию. Может быть, я его стеснила. Вот эта мысль меня мучает часто, потому что в этом-то я всего чаще виновата. Я ужасно стала любить мама и боюсь, потому что нам ведь не вместе жить. Таню я стала любить немного свысока, а с какого права? Расставаться с ними ужасно горько. Левочка не понимает – я умалчиваю. Тетеньку я рада видеть. Я ее эти дни очень люблю, потому что с Левочкой о ней не говорила. Он пристрастен. А я перед ней виновата, я должна больше ей угождать, хоть за то, что она Левочку вынянчила и моих понянчит. И ведь весело угождать – за это любят. То-то, что я боюсь льстить и фальшивить. А в сущности, ничего нет фальшивого в том, чтоб смиряться перед хорошей и доброй старушкой. Я стала односторонней. Меня только занимает жизнь наша и больше ничего; конечно, со всеми лицами и обстановкой. Третий час – всё не идет. Зачем он обещает? Хорошо ли, что он неаккуратен? Должно быть, хорошо, значит – не мелочен. Я не люблю, как он сердится. Так и пристанет, провинчивает; скорее отступай, а то совсем проткнет. Зато сердце скоро проходит, и почти никогда не ворчит. 29 января. Жизнь здесь, в Кремле, мне тягостна, оттого что отзывается тягостное чувство бездействия и бесцельной жизни, как бывало в девичье время. И всё, что я вообразила себе замужем долгом и целью, улетучилось с тех пор, как Левочка мне дал почувствовать, что нельзя удовольствоваться одною жизнью семейною и женою или мужем, а надо что-нибудь еще, постороннее дело. Ничего не надо, кроме тебя. Левочка всё врет[7]. 3 марта. Одна и пишу – всегда одна песнь. Но одна, и не скучно, привыкла. И потом это счастливое убеждение – любит, любит постоянно. И приедет, так славно подойдет ко мне, что-нибудь спросит, сам расскажет. Мне так легко, хорошо жить на свете. Читала его журнал, радостно стало. Я и дело. Больше его ничего не занимает. Вчера и сегодня сосредоточен. Я боюсь мешать, он пишет и думает. Боюсь, что ему станет досадно и он вспомнит, что я не могу ему быть везде и всегда не несносна. Я рада, что он пишет. Хотела нынче к обедне ехать, осталась и дома молилась. С тех пор как замужем, всё, что обряд, и всё, что фальшиво, мне стало еще противнее. Хочется изо всех сил хозяйничать и делать дело. Не умею и не знаю, как взяться. Всё придет. А хлопотать и обманывать себя и других, что занимаюсь — гадко. Да и кого обманывать, для чего? Иногда так мне сделается ясно, что делать, как полезно время проводить, а потом забудешь, рассеешься. Как мне стало легко, просто жить! Так чувствую, что тут мой долг, моя жизнь, что мне ничего не нужно. И когда сделается тесно, то и тогда, если б спросили: чего тебе надо? – я не знала бы, что отвечать. Тетеньку люблю, кажется, не искренно. Мне это грустно. Ее старчество меня реже трогает, нежели злит. Это дурно. Она часто сердится и часто неестественна. Как на дворе светло и на душе так же! Я понемногу мирюсь со всеми. И со студентами, и с народом, и с тетенькой, конечно, – со всем, что прежде бранила. Сильно влияние Левы, и радостно мне чувствовать его над собой. 26 марта. Нездорова, в апатии. Он в Туле с утра, а я точно его не видала месяц. Точно счастие мое было давно, давно. А вижу я его – и точно нет его все-таки, какой-то не живой, а призрак. Где-то далеко у меня сидит моя любовь к нему, а я всё так ее чувствую сильно и знаю, что на ней я только и держусь. Ходила по дворне – тяжелое чувство. Больные, несчастные, все жалуются. Кто болен, у кого горе. А много хитрых, стало скучнее. Тетенька добра и в покойном духе, а мне с ней тяжело – стара. Много думала о своих. У них жизни много. Часто грустно, что не с ними, но никогда не жаль своего прошлого житья. Теперь так хорошо. Часто боюсь любить его. Такому счастию так легко испортиться. Меня уж начинает точить, мучить, что он не едет. Вот так-то не поеду с ним, а потом и начну себя упрекать, что не поехала. Думаешь, вот лучше б он сердился, лучше я бы стесняла его, только бы не мучиться. Всякий раз одна история. Он не поедет в Никольское, и то я здесь с ума сойду. Если б только кто-нибудь мог понять, как тихо время идет. Сейчас приходила тетенька, она у меня поцеловала руку. Отчего? Меня это сильно тронуло. Она, верно, добрая, ей жаль, что я одна, и если она не в духе, то это желчь у ней разливается. А я молода, должна терпеть эти мелкие слабости, меня иногда мучает совесть за нетерпение мое и досаду против нее. Он вчера обиделся и не сказал прямо. Все-таки, значит, есть и между нами что-то непростое. А мне всегда ему скорее хочется всё сказать, что меня мучит или сердит, и боюсь иногда. Я избалована. Лева мне дает слишком много счастия. Люблю я его веселость, его недух, его доброе, доброе лицо, кротость, досаду; всё это так выражается хорошо, что никогда почти он не оскорбляет чувство. Мне вот теперь хорошо сидеть, машинально почти чертить по бумаге и думать о нем. Всё перебирать в голове, воображать себе его во всех видах, со всевозможными выражениями. Чертить пером – это только предлог, чтоб лучше углубиться и живее воображать себе его. Когда он возвращается, мне всегда как-то болезненно, радостно. Как он меня ни уверяй, а не может он меня так любить, как я его. Разве он ждал бы меня так мучительно нетерпеливо. 1 апреля. Нездорова, скучно. Лева уехал. Во мне большой недостаток – неуменье находить в себе самой ressource. А это важно и необходимо в жизни. Погода летняя, чудная, расположение духа летнее – грустное. Какая-то пустота, одиночество. Лева озабочен делами, хозяйством, а я не озабочена ничем… На что я способна? А так прожить нельзя. Хотела бы я побольше дела. Настоящего только. Бывало, всегда весною в такое чудное время чего-то хочется, куда-то всё нужно, бог знает о чем мечтаешь. А теперь ничего не нужно, нет этого глупого стремления куда-то, потому что чувствуешь невольно, что всё нашел и искать больше нечего, а все-таки немного скучно иногда. Много счастия – мало дела. И от хорошего устаешь. Надо дельного для противоположности. Что прежде замещалось мечтаниями, жизнью воображения, то теперь должно заместиться делом каким-нибудь, жизнью настоящего, а не жизнью воображения. Всё глупо – я злюсь. 8 апреля. Занялись хозяйством. Лева серьезно, я покуда – будто бы. Всё это весело, хорошо, не мелочно. Меня всё сильно интересует и часто радует. Он что-то скучен, озабочен, нездоров. Меня это так и точит, мучает постоянно. Я боюсь ему это дать почувствовать, а его приливы крови меня очень пугают. Страшно думать, а невольно приходит в голову, что вся теперешняя жизнь, всё это огромное счастие не настоящее, а так только судьба подразнила, и вдруг всё отнимется. Я боюсь… Вот глупо, а не могу написать. Я бы хотела, чтобы скорей прошел этот страх. Всю жизнь отравляет. Купили пчел, меня радует; всё это так интересно, а трудно хозяйство. [Соседи] Ауэрбахи все-таки скучны, никого не надо. Она[8] на меня нагоняла тоску. Ее как-то и почему-то жаль. Любит ли она мужа? Вот уж подлинно не узнаешь у всякого брачную мистерию. У Левы что-нибудь да есть. Как-то он стал неестественнее и скрытнее. Или всё это головная боль делает? Что ему надо, чем он недоволен? Я бы всё сделала, что он хочет, если бы могла. Теперь его нет, он придет, а я уж боюсь его, что он не в духе, что-нибудь еще больше раздражит его. Я его ужасно люблю, теперь хватилась, потому что чувствую, что всё могу от него перетерпеть, если б было что переносить. 9 апреля. Он поехал встречать папа в Тулу, я уже сильно скучаю. Перечитывала его письма к В.А.[9]. Еще молодо было, любил не ее, а любовь и жизнь семейную. А как хорошо узнаю я его везде, его правила, его чудное стремление ко всему, что хорошо, что добро! Ужасно он милый человек. И прочтя его письма, я как-то не ревновала, точно это был не он, а женщина, которую он должен был любить, скорее я, чем В. Перенеслась я в их мир. Она хорошенькая, пустая в сущности, и милая только молодостью, конечно, в нравственном смысле, а он всё тот же, как и теперь, без любви к В., а с любовью к любви и добру. Ясно стало мне и Судаково… и фортепьяно, сонаты, хорошенькая черненькая головка, доверчивая и незлая. Потом молодость (что такое? я уже думаю, что я стара), природа, деревенское уединение. Всё понятно и не грустно. Потом читала я его планы на семейную жизнь. Бедный, он еще слишком молод был и не понимал, что если прежде сочинишь счастие, то после хватишься, что не так его понимал и ожидал. А милые, отличные мечты. 24 апреля. Лева или стар, или несчастлив. Неужели, кроме дел денежных, хозяйственных, винокуренных, ничего и ничто его не занимает? Если он не ест, не спит и не молчит, то рыскает по хозяйству, ходит, ходит, всё один. А мне скучно – я одна, совсем одна. Любовь его ко мне выражается машинальным целованием рук и тем, что он мне делает добро, а не зло. Погода отличная, время вообще располагающее хорошо, а меня что-то точит. Бывало, с Татьяной хорошо мы понимали, что такое весна, лето, как-то вместе наслаждались, и весело нам было, чем больше мы могли быть совсем вместе, то есть одинаково думать, понимать всё, не рассчитывать, что стоит завод, какие аппараты – скучно ужасно. Я ужасно буду рада, когда она приедет. Я так люблю молодых вообще, а еще таких милых, как Таня, в особенности. Мне стало неловко с Левой. Мне стало всё совестно и стыдно, что касается до меня. Отчего это, ведь у меня на совести ничего нет – я перед ним еще ни в чем не виновата. Вот теперь пишу это, потому что так думаю, и меня так всю и коробит от мысли, что он прочтет это. Любить я его так боюсь – боюсь, что он это будет видеть, мне кажется, что я надоедаю, что не до этого ему. Чего я хочу, верно, спросили бы, а я сама не знаю. Это всё само собой делается. 25 апреля. Всё утро та же скука, то же предчувствие чего-то страшного. Та же робость в отношении к Леве. Я плакала как сумасшедшая и после не подумала, как всегда это бывает, о чем, а и так знала, что есть о чем плакать и даже умереть можно, если Лева меня не будет так любить, как любил. Я нынче и писать не хотела, а теперь осталась одна внизу и поддалась прежней привычке – всё чертить. Помешали. 29 апреля. Вечер. Я злюсь за мелочи, за присланные вещи. Ужасно работаю над собой, чтоб не злиться, и нынче же добьюсь этого. К Леве чувствую ужасную нежность и немного робость – вследствие своего мелочного расположения духа. К себе чувствую какое-то отвращение. Давно этого не было. Ужасно хочется и за пчелами ходить, и за яблонями, и хозяйничать, деятельности хочется – и беспрестанно тяжесть, усталость, нечто вроде немощности напоминает мне, что сиди, мол, смирно – береги свой живот. Досадно. И скучно, что Лева смотрит на эту немощность как-то неприязненно – как будто я виновата, что беременна. Ни в чем я помогать ему не могу. Еще за одну вещь я почувствовала к себе отвращение. (Прежде всего правду в дневнике.) Мне весело было вспомнить, что в меня влюблен был В.В. Неужели и теперь мне весело бы стало, если б кто в меня влюбился? Что за мелочность, гадко. А уж я только могла смеяться над ним. Никогда никакого другого чувства, разве только отвращение и в высшей степени неуважение. Лева всё больше и больше от меня отвлекается. У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно – у меня никакой, напротив. Но нравственно он прочен, это главное. 8 мая. Всему виной беременность – но мне невыносимо и физически, и нравственно. Физически я постоянно чем-нибудь больна, нравственно страшная скука, пустота, просто тоска какая-то. Я для Левы не существую. Я чувствую, что я ему несносна, и теперь у меня одна цель – оставить его в покое и, сколько можно, вычеркнуться из его жизни. Ничего веселого я не могу ему приносить, потому что беременна. Какая горькая истина, что тогда узнаешь, как любит муж, когда жена беременна. Он на пчельнике, я бы бог знает что дала, чтоб идти туда, но не иду, потому что у меня сильнейшее сердцебиение, а там сидеть неловко, и гроза скоро, у меня голова болит, и мне скучно – плакать хочется, и я не хочу ему быть неприятна и скучна, тем более, что и он болеет. Мне с ним большею частию неловко. Если он со мной минутами еще бывает хорош, то это больше по привычке, и он чувствует себя как будто обязанным поддержать, не любя, прежние отношения. Да и страшно, верно, ему было бы сознаться, искренно, что когда-то он любил, и недавно еще, но что всё это уж прошло. А если б он только знал, как он переменился, если б он побывал в моей коже, то понял бы, каково жить так на свете. А помочь тут нельзя никак. Он проснется еще раз, когда я рожу. Ведь это всегда так бывает. Это та ужасная общая колея, по которой все проходят и которой мы прежде так боялись. А я еще, к несчастию, очень люблю его, больше чем когда-либо. Когда-то я попаду в эту несчастную колею? 9 мая. Обещал быть в 12 – теперь 2 часа. Не случилось ли чего? И как это ему весело меня так ужасно мучить? Собаку и ту жаль отогнать, когда ласкается. Участь мама была немного похожа на мою в первый год замужества. Ей было хуже: папа ездил по практике и играть в карты, Лева ездит и ходит по хозяйству. Но так же одна, так же скучаю, так же беременная и больная. Никогда не поймешь ничего так хорошо умом, как поймешь опытом. Молодость скорее несчастие, чем счастие, замужем конечно. Нельзя довольствоваться только тем, чтоб сидеть с иголкой или за фортепьяно, и одной, совершенно одной, и придумывать или просто убеждаться, что муж не любит и что теперь закабалена и сиди. Мама говорит, что ей стало гораздо веселее и лучше, когда прошла молодость, пошли дети и в них сосредоточилась вся жизнь. Так оно и есть. Я гадкая, я блажная, но это оттого, что мне скучно, что я одна и жду его с двенадцати часов с тревогой и страхом. А он тем дурной человек, что у него даже нет жалости, которую имеет всякий мало-мальски незлой человек ко всякому страдающему существу. 12 мая. Я работала над собой, чтоб не скучать, и мне стало опять – не радостно, но спокойно и не скучно. 22 мая. Когда входишь сюда в кабинет и ни о чем не думаешь – обдаст каким-то неприятным холодом и скукой. А идешь и представляешь себе его живым, с жизнью, которая в нем происходила, – напротив. Теперь холод и скука. Или страх, скорее. Страх смерти, что всё, что было, умерло. Нет жизни. Любви нет, жизни нет. Вчера бежала в саду, думала, неужели же я не выкину. Натура железная. А любви в нем нет ничего. Он болен; поздоровеет – ему тоже станет страшно. Как вообще у всех богато воображение – бедна жизнь. Воображать можно всё, тысячи разных миров, жить надо в самом тесном кружке. Я свой полюбила, мне ничего не надо, он от своего устал и опять стал желать. Нынче убедилась, что мне, кроме него, ничего не нужно. Да сколько раз убеждалась. Мама часто говаривала, что нет ничего хуже, как держать мужа пришитым к юбке. Ее были слова, и верные. Молиться на нее надо – она много вынесла. А трудно жить, железной надо быть. И рассчитывать надо, как жить. Прежде, не замужем, я рассуждала умно, что самое лучшее – прожить не любя. Знала себя, что любить мало не могу, а любить много – трудно. Таня понимала это; и ей счастие нелегко дастся. Теперь весело ей, молода и живет всей душой; душа богатая. Сомнет ее кто-нибудь. А она не легко помирится с жизнью, если жизнь ей мало даст. Ломать себя трудно. Но она способна внушить больше любви, чем я. Я сама надрезываю. Невольно, и как дорого мне это достается. Каждый надрез отнимает у меня жизни, то есть немного силы, немного молодости, энергии, много веселости и прибавляет много отвращения к себе. И не починишь никогда этого. Беречь надо его любовь. Слабо держится она, а может быть, и не держится больше. Это страшно, я об этомпостоянно думаю. Я всё больна теперь со вчерашнего дня. Выкинуть боюсь, а боль эта в животе мне даже доставляет наслаждение. Это, бывало, так ребенком сделаешь что-нибудь дурное, мама простит, а сама себе не простишь и начинаешь сильно щипать или колоть себе руку. Боль делается невыносимая, а терпишь ее с каким-то огромным наслаждением. Любовь поверяешь именно в такое время, как теперь. Воротится хорошая погода, воротится здоровье, порядок будет и радость в хозяйстве, будет ребенок, воротится и физическое наслаждение – гадко. А он подумает – любовь вернулась, а она не вернулась, а вспомнилась только. А потом опять нездоровье, опять неудачи, а ко всему еще ненавистная жена, и как смеет она тут постоянно торчать на глазах, и опять скука. Вот она жизнь-то ему какая предстоит. А моей уж нет, только и было, что любила я его да утешалась, что он меня любить будет. Дура я, поверила – только мученье себе готовила. И всё мне кажется таким скучным. И часы даже жалобно бьют, и собака скучная, и Душка, несчастная такая, и старушки жалки, и всё умерло. А если Лева… 6 июня. Наехала вся молодежь, нашу жизнь нарушила, и мне жалко. Что-то все они не веселы. Или оттого, что «холодно». А на меня они действуют все не так, как я думала. Они меня не развеселили, а встревожили, и даже скучнее стало. Леву ужасно люблю, но злит меня, что я себя поставила с ним в такие отношения, что мы не равны. Я вся от него завишу, и я бог знает как дорожу его любовью. А он в моей или уверился, или не нуждается, но только как будто совершенно сам по себе. Мне всё кажется, что уж осень, что скоро всё кончено будет. А что всё, сама не знаю. А какая за осенью будет зима, и будет ли она, не знаю решительно и не могу вообразить. Ужасно скучно, что мне ничего не нужно и меня ничего не радует, как будто я состарилась, а это несносно – быть старой. Совсем не хотелось ехать кататься с ними, оттого что он сказал: «Мы с тобой старички, дома останемся». И так показалось мне весело остаться с ним опять вдвоем. Как будто я в него влюблена и мне запрещают это. А теперь они уехали, Лева ушел, я осталась одна, и на меня напала тоска. Я даже чувствую в себе злость и готова упрекать его, что у меня нет экипажа кататься, что он обо мне мало заботится и так далее. Что ему всего покойнее оставить меня одну на диване с книгой и не хлопотать ни о чем, что до меня касается. А если я забуду злость, то чувствую, что у него пропасть дела, что ему и в самом деле не до меня и хозяйство – это сущая каторга; а тут еще народ наехал, пристает. Да отвратительный Анатолий торчит перед глазами. А что его обманули с пролеткой – он не виноват, и все-таки он отличный, и я его люблю изо всех сил. 7 июня. Люблю его ужасно – и это чувство только мной и владеет, всю меня обхватило. Он всё по хозяйству, я не скучаю, мне ужасно хорошо. И он меня любит, я это, кажется, чувствую. Боюсь, не к смерти ли это моей. Жалко и страшно его оставить. Всё больше его узнаю, и всё он мне милее. С каждым днем думаю, что так я еще его никогда не любила. И всё больше. Ничего, кроме него и его интересов, для меня не существует. 8 июня. Лева весел страшно. Его совсем губит одиночество и общество совсем оживило. Нет, брат, я прочнее. И болен был – от скуки. Таня плоха, Саши оба в высшей степени деликатны, особенно мой. 14 июля. Всё свершилось, я родила, перестрадала, встала и снова вхожу в жизнь медленно, со страхом, с тревогой постоянной о ребенке, о муже в особенности. Что-то во мне надломилось, что-то есть, что, я чувствую, будет у меня постоянно болеть; кажется, это боязнь неисполнения долга в отношении к своей семье. Я ужасно стала робеть перед мужем, точно я в чем-то очень виновата перед ним. Мне кажется, что я ему в тягость, что я для него глупа (старая моя песнь), что я даже пошла. Я стала неестественна, потому что боюсь пошлой любви матки к детищу и боюсь своей какой-то неестественно сильной любви к мужу. Всё это я стараюсь скрывать из глупого, ложного чувства стыда. Утешаюсь иногда, что, говорят, это достоинство – любить детей и мужа. Боюсь, что на этом остановлюсь – хочется немного хоть образоваться, я так плоха, опять-таки для мужа и ребенка. Что за сильное чувство матери, а мне кажется не странно, а естественно, что я мать. Левочкин ребенок – оттого и люблю его. Нравственное состояние Левы меня мучает. Богатство мысли, чувство, и всё пропадает. А как я чувствую его всё совершенство, и бог знает что бы дала, чтобы он с этой стороны был счастлив. 23 июля. 9 месяцев замужем. Я падаю духом – ужасно. Я машинально ищу поддержки, как ребенок мой ищет груди. Боль меня гнет в три погибели. Лева убийственный. Хозяйство вести не может, не на то, брат, создан. Немного он мечется. Ему мало всего, что есть. Я знаю, что ему нужно, того ему не дам. Ничто не мило. Как собака, я привыкла к его ласкам – он охладел. Всё утешает, что такие дни находят. Но уж это очень часто. Терпение. 24 июля. Вышла на балкон – охватило какое-то болезненно приятное чувство. Природа хороша, Бога напомнило, и всё кажется широко, просторно… Мои уехали, лучший друг – мать. Я мало плакала, всё то же притупление. Муж ожил, слава богу. Я о нем много молилась. Меня любит, дай Бог нам счастия прочного. Боль усиливается, я, как улитка, сжалась, вошла в себя и решилась терпеть до крайности. Ребенка люблю очень; бросить кормить – огромное несчастие, отравит жизнь. Ужасное желание отдохнуть, наслаждаться природой, и чувство как заключенного в тюрьму. Жду мужа из Тулы с ужасным нетерпением. Люблю его изо всех сил, прочно, хорошо, немного снизу вверх. Иду на жертву к сыну… 31 июля. Он говорит казенно. Правда, что убийственно. Но он сердится – за что? Кто виноват? Отношения наши ужасны – и это в несчастий. Он до того стал неприятен, что я целый день избегаю его. Он говорит: «Иду спать, иду купаться»; я думаю: «Слава Богу». И сижу над мальчиком, так душа разрывается. И ребенка, и мужа отнял Бог, которому мы вместе, бывало, так хорошо молились. Теперь как будто всё кончено. Терпение; не надо этого забывать. Я хоть прошедшее наше благословляю. Любила я его очень и благодарна ему за всё. Его дневник я сейчас читала. В хорошую, поэтическую минуту всё показалось дурно. Эти 9 месяцев едва ли не самые худшие в жизни. А про десятый и говорить нечего. Сколько раз в душе он подумал: «Зачем я женился?», сколько раз вслух сказал: «Где я такой, какой я был?»… 2 августа. Не про меня писано. И что даром небо копчу. Хорошо бы сделала, кабы убралась, Софья Андреевна. Есть горе – страшно пилит. Дала себе твердое слово никогда о нем ни слова. Может, обойдется. 3 августа. Говорила с ним – стало как будто легче, именно от того, что то, о чем я догадывалась, стало уже верно. Уродство не ходить за своим ребенком; кто же говорит против? Но что делать против физического бессилия? Я чувствую как-то инстинктивно, что он несправедлив ко мне. За что еще и еще мучить? Я озлобилась, мне даже не в таком хорошем свете кажется сегодня ходить за мальчиком; а так как ему хотелось бы стереть теперь меня с лица земли за то, что я страдаю, а не исполняю долга, так и мне хотелось бы его не видеть за то, что он не страдает и пишет. Вот еще с какой стороны мужья бывают ужасны. О ней я не подумала. Мне даже в эту минуту кажется, что я его не люблю. Разве можно любить муху, которая каждую минуту кусает? Поправить дела я не могу, ходить за мальчиком буду, сделаю всё, что могу, конечно, не для Левы; ему следует зло за зло, которое он мне делает. И что за слабость, что он не может на это короткое время моего выздоровления потерпеть? Я же терплю, и терплю в 10 раз больше еще. Мне хотелось писать, оттого что я злюсь. Дождь пошел, я боюсь, что он простудится, я больше не зла – я люблю его. Спаси его Бог. Соня, прости меня, я теперь только знаю, что я виноват и как я виноват. Бывают дни, когда живешь как будто не нашей волей, а подчиняешься какому-то внешнему непреодолимому закону. Такой я был эти дни насчет тебя, и кто же – я. А я думал всегда, что у меня много недостатков и есть одна десятая часть чувства и великодушия. Я был груб и жесток, и к кому же? К одному существу, которое дало мне лучшее счастье жизни и которое одно любит меня. Соня, я знаю, что это не забывается и не прощается; но я больше тебя знаю и понимаю всю подлость свою. Соня, голубчик, я виноват, я гадок, только во мне есть отличный человек, который иногда спит. Ты его люби и не укоряй, Соня. Это написал Левочка, прощения просил у меня. Но потом за что-то рассердился и всё вычеркнул. Это была эпоха моей страшной грудницы, болезни грудей, я не могла кормить Сережу, и это его сердило. Неужели я не хотела, это было тогда мое главное, сильнейшее желание! Я стоила этих нескольких строк нежности и раскаяния с его стороны, но в новую минуту сердца на меня он лишил их меня прежде, чем я их прочла. 17 августа. Я мечтала: мне напомнили сумасшедшие ночи прошлый год, и те сумасшедшие ночи, когда я была так широко свободна и в таком чудном расположении духа. Если когда бывает полное наслаждение жизнью, то это было тогда. Я и любила, и чувствовала, и всё понимала, и ум и вся я, всё это было или казалось мне, что было, так свежо. Ко всему этому поэтический, милый comte[10] со светлым, глубоким и ужасно приятным взглядом (такое производил тогда впечатление). Чудное было время. И я, смутно балованная его любовью. Я, верно, чувствовала ее, мне не было бы так хорошо иначе. Помню я, раз вечером он сказал мне что-то обидное, был у нас Попов; меня ужасно кольнуло, и тут-то я хотела показать, что мне нипочем, села на крылечко с Поповым и всё прислушивалась, что comte говорит, и старалась показать, что меня занимает Попов. С тех пор я стала всё больше привязываться к comte и поставила себе за правило никогда с ним ни в чем не притворяться. Это всё я нынче вспомнила и почувствовала какое-то непонятное чувство счастия, что этот самый comte — муж мой. Знала Лизка, где бывает счастие, и не умела понимать этого Сонечка Берс. Я зато теперь поняла, и как поняла – всею душою. А он, глупый, ревнует[11]. Боже мой, может ли быть что-нибудь, что подало бы повод к ревности! Мне стало жаль, что время поэтического прошлого августа он пережил один, а не со мной. А могло бы быть еще лучше тогда, нежели было. Его нет дома теперь, и мне всегда скучно, когда его нет. Когда я привыкну… Жду своего выздоровления, как возвращения к жизни, к жизни с Левой – теперь мы врозь. Сомнения с его стороны насчет любви моей меня всегда ошеломят так, что я теряюсь. Чем я могла доказать; я его так честно, так хорошо и прочно люблю. 10 сентября. Немножко молодости жаль, немножко завидно и много скучно. Всё страдания, всё боль, жизнь в четырех стенах дома, когда вне дома так чудно хорошо, а в душе легко, весело от семейной жизни. Опять луна, опять тихие, теплые вечера, и всё не про меня писано. У [кормилицы] Натальи ребенок умирает. Страдания страшные. За что ребенку, за что матери? И отец плачет. Жалко – я плакала. Взгляд Левы преследует. Вчера за фортепьяно, а меня так и покоробило. О чем он тогда думал? Никогда не было такого взгляда. Не воспоминания ли чего-нибудь? Ревность? Он любит… 22 сентября. Завтра год. Тогда надежды на счастие, теперь – на несчастия. До сих пор я думала, что шутка; вижу, что почти правда. На войну. Что за странность? Взбалмошный – нет, неверно, а просто непостоянный. Не знаю, вольно или невольно он старается всеми силами устроить жизнь так, чтобы я была совсем несчастна. Поставил в такое положение, что надо жить и постоянно думать, что вот не нынче, так завтра останешься с ребенком, да, пожалуй, еще не с одним, без мужа. Всё у них шутка, минутная фантазия. Нынче женился, понравилось, родил детей, завтра захотелось на войну, бросил. Надо теперь желать смерти ребенку, потому что его я не переживу. Не верю я в эту любовь к отечеству, в этот enthousiasme в 35 лет. Разве дети не то же отечество, но те же русские? Их бросить, потому что весело скакать на лошади, любоваться, как красива война, и слушать, как летают пули. Я его начинаю меньше уважать за непостоянство и малодушие. А талант почти важнее семьи. Пусть растолкует он мне всю важность его желанья. Зачем я за него замуж шла? Лучше Валериан Петрович[12], чем он, оттого что с тем расставаться не жаль. Зачем нужна ему была любовь моя? Всё порывы только. И я знаю, что теперь я виновата; он дуется. Виновата в том, что люблю его и не желаю его смерти или разлуки с ним. Пусть дуется, я бы желала заранее приготовиться, то есть перестать любить его, чтоб потом легче было расстаться. Пусть совсем меня оттолкнет от себя, и я буду его удаляться. Довольно году счастия, теперь у него новая фантазия. Такого рода жизнь надоела. А детей у него больше не будет. Я не хочу давать ему их для того, чтоб он их бросил. Вот деспотизм-то: «Я хочу, а ты не смей слова сказать». Войны еще нет, он еще тут. Тем хуже. Теперь жди, томись. Один бы конец. И любишь его, вот главное зло. Посмотрю на него – он скучен, всю душу перевернет[13]. 7 октября. Скука. Как еще радостно, что есть сын. Зачем няня; беспрестанные заботы о пеленках меня отвлекали от мыслей. Он, конечно, замечает скуку, скрыть нельзя, но ему будет несносно. На бал хочется – но скука не оттого. Я не поеду, досадно то, что еще есть желание. И эта досада отравила бы всё удовольствие, в котором, впрочем, сомневаюсь. Он говорит: «Возрождаюсь». Зачем; пусть будет в нем всё, что было до женитьбы, исключая тревогу и беспокойное стремление то туда то сюда. Как возрождаюсь! Он говорит: «Сама поймешь». А я теряюсь и как-то перестаю понимать его. А что-то в нем переделывается. Мы с ним стали как-то более врозь. Болезнь и ребенок отдалили меня, и вот отчего я не понимаю его. Чего мне еще надо? Не счастие разве иметь постоянно возле себя неистощимый ум, талант, добродетель, мысль в лице мужа? А все-таки скука. Молодость. 17 октября. Я чувствую себя неспособной достаточно понимать его и потому так ревниво за ним слежу. За его мыслями, за его действиями, за прошедшим и настоящим. Мне хотелось бы всего его охватить, понять, чтоб он был со мною так, как был с Alexandrine, а я знаю, что этого нельзя, и не оскорбляюсь, а мирюсь с тем, что я для этого и молода, и глупа, и недовольно поэтична. А чтоб быть такой, как Alexandrine, исключая врожденные данные, надо быть и старше, и бездетной, и даже незамужней. Я бы не оскорбилась тем, что у них была бы переписка в прежнем духе, а мне только грустно бы было, что она подумает, будто жена Левы, кроме детской и легких будничных отношений, ни на что не способна. А я знаю, что, как бы я ревнива ни была, ревнива к душе его, a Alexandrine из жизни не вычеркнешь, и не надо – она играла хорошую роль, на которую я не способна. Напрасно не послал он ей письма. Я плакала, потому что я прежде не слышала от него всего, что он написал. «То, что я сам только про себя знаю». И вам еще сообщаю, а жена тут ни при чем. Я бы хотела с ней поближе познакомиться. Сочла бы она меня достойной его? Она и понимала, и ценила его хорошо. Я нашла в столе письма от нее, и они навели меня на мысль о ней и ее отношениях к Леве. Одно письмо отличное. Несколько раз приходило мне в голову написать к ней и не сказать о письме Леве, но не решалась. Она сильно меня интересует и очень нравится мне. Всё это время, с тех пор как я прочла письмо Левы к ней, я о ней думала. Я бы ее любила. Я не беременна, сужу по нравственному своему состоянию и желаю, чтоб так продлилось. Я люблю его ужасно и чувствую заботу, как усиливается эта любовь. Мне сегодня так хорошо, ясно и покойно; верно оттого, что он меня так любит нынче. Я не верю в то, что он опустился. С терпением жду, когда кончится это временное, неспокойное состояние его духа и недовольство собой. Мне радостно бывает, когда я вижу, что ему нравственно лучше, и я боюсь его состояния. Эта нравственная работа в нем сокращает его жизнь, а она мне так необходима. 28 октября. Что-то не то во мне, и всё мне тяжело. Как будто любовь наша прошла – ничего не осталось. Он холоден, почти покоен, сильно занят, но не весело занят, а я убита и зла. Зла на себя, на свой характер, на свои отношения с мужем. То ли я хотела, то ли я обещала ему в душе своей. Милый, милый Левочка. Его тяготят все эти дрязги; на то ли он создан? А я еще сердита, прости мне, Господи. Я ужасно его люблю, мне грустно, я не умею быть счастлива, не умею и других делать счастливыми. Бессилие нравственное гадко; я себе противна. Стало быть, любовь не велика, если бессилие. Нет, я его ужасно, очень люблю. И сомнения нет, не может его быть. Подняться еще бы, муж милый, ужасно милый. Где он! История 12-го года. Бывало, всё рассказывал – теперь недостойна. А прежде – все его мысли были мои. Счастливые минуты были, чудные, теперь их нет. «Мы всегда будем счастливы, Соня». Мне ужасно грустно, нет у него этого счастия, которого он так достоин и которого ждал. 13 ноября. Жаль тетеньку – она недолго проживет. Всё больна, ночью кашель, не спит. Худые, сухие руки. Весь день о ней думаю. Он говорит: «Пожить в Москве». Я этого ждала. Ревность к идеалу, приложенному к первой хорошенькой женщине. Такая любовь ужасна, потому что слепа и почти неизлечима. А я ни капли не осуществила – и не могу осуществить – идеала. Я брошена. Ни день, ни вечер, ни ночь. Я – удовлетворение, я – нянька, я – привычная мебель, я – женщина. Всякое человеческое чувство я стараюсь заглушить в себе. Пока машина действует, греет молоко, вяжет одеяло, просится на охоту, ходит взад и вперед, чтоб не задумываться, – жизнь возможна и даже сносна. А на минуту одна, задуматься, так жить нельзя. Разлюбил. А зачем не умела. Нет, чем же – судьба. Была минута – это я каюсь, – минута горя, когда мне всё показалось так ничтожно перед тем, что он разлюбил меня; ничтожно его писательство, что он пишет про графиню такую-то, которая разговаривала с княгиней такой-то; а потом я почувствовала к себе же презрение. У меня будничная жизнь, смерть. А у него целая жизнь, работа внутри, талант и бессмертие. Я стала его бояться и минутами чувствовать совершенное отчуждение. Он сам меня так поставил. Я, может быть, сама виновата, у меня характер испортился, но с некоторых пор я чувствую, что я не та для него, чем была, что я брошена. И я не мечусь, слава богу, как бывало, а стерпелась; но мне ничто уж и не весело, ничто меня не волнует. Что со мной – я не знаю, а знаю, что у меня верное чутье. 19 декабря. Зажгла две свечи, села за стол, и мне стало весело. Я малодушна, пуста. Мне нынче беспечно лениво и весело. Мне всё смешно и всё нипочем. Мне хочется кокетничать, хоть с Алешей Горшком, и хочется злиться, хоть на стул или что-нибудь. Я четыре часа играла в карты с тетенькой, он сердился, а мне было всё равно. Когда вспомню Таню, сделается больно, что-то уколет[14]. И я даже это отстраняю, так у меня нынче глупо на душе. Ребенку лучше, может быть, это мне весело. В эту минуту я бы хотела бала или чего-нибудь веселого. Мне будет досадно потом на себя, но я не могу переменить этот дух. Меня злит, что Лева мало занимается и даже совсем не чувствует и не понимает, что я его так люблю; и за это мне хотелось бы ему что-нибудь сделать. Он стар и слишком сосредоточен. А я нынче так чувствую свою молодость и так мне нужно чего-нибудь сумасшедшего! Вместо того чтоб ложиться спать, мне хотелось бы кувыркаться. А с кем? 24 декабря. Что-то старое надо мной, вся окружающая обстановка стара. И стараешься подавить всякое молодое чувство: так оно здесь, при этой рассудительной обстановке, неуместно и странно. Один Сережа молод или моложе других душой[15]. Я потому люблю, когда он приезжает. О Леве у меня составляется мало-помалу впечатление существа, которое меня только останавливает. Сдержанность, которая происходит от этого останавливания, сдерживает также всякий порыв любви. И как любить, когда всё так спокойно, рассудительно, мирно! Однообразно – да еще без любви. Ничего делать не хочется. Я жалуюсь – как будто я несчастна. Да я и несчастна – он меня стал мало любить. Он это сказал, да я и прежде знала. А про себя не знаю. Я так мало его вижу и так боюсь его, что не знаю, насколько я его люблю. Хотелось Таню отдать за Сережу, да нынче и это показалось страшно. За что такое Маше?[16]1864
2 января. Таня и Таня. Вот моя главная мысль. Устала желать, грустить и стараться. Я, как Лева и как тетенька, – всё Бог. А тяжело, грустно, ужасно бы хотелось им обоим счастия. Я не в духе – и чувствую. В Туле скука, устала. Купила бы весь город, такое малодушие, но была благоразумна. Лева мил, что-то было детское в выражении, когда играл. Я вспомнила и поняла Alexandrine. Я поняла, как она его любила. Бабушка[17]. Сейчас рассердил, говорит: «Когда не в духе – дневник». Что ему за дело? Я не не в духе в эту минуту. Ужасно оскорбительно и больно всякое мало-мальски колкое слово; он должен бы больше беречь мою любовь к нему. Я сама боюсь быть дурна и нравственно, и физически. 27 марта. Весь журнал запылился: так давно не писала, а нынче захотелось тихонько, как когда дети прячутся, написать всё, что в голове. Ужасно хочется всех любить и всему радоваться, но если кто дотронется до этого чувства – всё рассыплется. Вдруг такая нежность к мужу, доверие, любовь. Может быть, оттого, что вчера пришло в голову, что могу ведь и его лишиться. Нынче тем более уверилась, что не могу и не буду, ни за что не буду думать об этом. И слушать не стану, если кто заговорит, и его не стану слушать. Я так люблю Таню, за что мне ее портят? И не испортят, всё это напрасно. Мне с ней будет весело, я буду заниматься. Я для нее многое могу сделать по чувству, а по обстоятельствам почти ничего. Я буду ее рассеивать, сколько могу. У меня будут дети Таня и Сергушка, я буду о них заботиться, и это будет славно. И мне кажется, что теперь я меньше эгоистка, чем в прошлом году. Тогда я скучала брюхом и скучала, что не могу принимать участие в общих удовольствиях. А теперь я радуюсь своей радости, и мне веселее всех. 22 апреля. Осталась одна, и так я целый день крепилась не задумываться и не оставаться сама с собой наедине, что вечером, теперь, всё прорвалось в потребности сосредоточиться и выплакаться, выписаться в журнале, хотя мне и веселей, и лучше было бы написать ему, если б было возможно. Выписывать нечего, скучно, пусто, просто жизни нет. Пока Сережа на руках, всё как будто за что-то держишься, а вечером, когда он спать лег, всё хлопотала, бегала, как будто у меня дел пропасть, а в сущности просто не хотела и боялась задуматься. Всё кажется, что он на охоте, на пчельнике или по хозяйству и вот-вот воротится. Ждать-то я привыкла, всегда только он воротится в то самое время, когда если б еще немножко – и терпение лопнуло бы. Для того чтоб мне его не так жаль было, я всё хочу выдумать что-нибудь неприятное в жизни с ним и не могу, потому что как я его себе представляю, так знаю, что ужасно люблю его, и всё плакать хочется. Поймаю я вдруг себя в какую-нибудь минуту и думаю: вот же мне не скучно, и, как нарочно, в ту же самую минуту сделается скучно. Ложусь сейчас в первый раз в жизни одна совершенно. Мне все говорили положить рядом Таню, а я не хотела – пускай или Лева, или уж никто в мире, никогда. Вот бы ему легко было умирать, я так была бы верна ему всегда. А как я стала в нем теперь уверена, даже страшно. Смешно на себя, сижу и глотаю слезы, как будто стыдно плакать о том, что без мужа скучно. И так еще плакать 4 дня. Я вдруг сделаю глупость и поеду в Никольское. Я чувствую, что способна, если немножко запустить себя и свои слезы. Журнал и это писание меня расстроили еще больше. На что я годна, если у меня так мало силы воли и способности что-нибудь переносить. А что делает он, не хочу и думать. Ему, верно, и легко и не скучно, и он не плачет, как я. Мне оттого не стыдно, что я одна, что журнал мой я не пишу почти и он перестал смотреть, не написала ли я, и что именно написала. Не решаюсь лечь одна, я слабею, чувствую, что скоро Таня из гостиной услышит, что я плачу, и мне станет стыдно, а я так была благоразумна целый день. 3 ноября. Странное чувство: посреди моей счастливой обстановки постоянная тоска, страх и постоянная мысль о смерти Левы. И всё усиливается это чувство, с каждым днем. Нынче ночью и все ночи такой страх, такое горе; нынче я плакала, сидя с девочкой[18], и ясно мне делалось, как он умрет, и вся картина его смерти представлялась. Это чувство началось с того дня, как он вывихнул себе руку. Я вдруг поняла возможность потерять его и с тех пор только о том и думаю. Живу теперь в детской, кормлю, вожусь с детьми, и это иногда меня рассеивает. И часто думаю я еще, что ему скучно в нашем бабьем миру, а я чувствую себя до того неспособной сделать его счастливым, чувствую, что я хорошая нянька – и больше ничего. Ни ума, ни хорошего образования, ни таланта – ничего. Я бы уж желала, чтоб случилось скорее что-нибудь, потому что, наверное случится, я это чувствую. Заботы о детях меня иногда развлекают, а в душе нет радостного чувства ни к чему, как будто пропало всё мое веселье. Часто предчувствовала я прежде дурное, недружелюбное чувство Левы ко мне, может быть, и теперь он чувствует ко мне тихую ненависть.1865
25 февраля. Я так часто бываю одна со своими мыслями, что невольно является потребность писать журнал. Мне иногда тяжело, а нынче так кажется хорошо жить со своими мыслями одной и никому ничего о них не говорить. И чего-чего не перебродит в голове. Вчера Левочка говорил, что чувствует себя молодым, и я так хорошо поняла его. Теперь здоровая, не беременная, я до того часто бываю в этом состоянии, что страшно делается. Но он сказал, что чувство этой молодости значит – я всё могу. А я всё хону и могу. Но когда пройдет это чувство и явятся мысли, рассудок, я вижу, что хотеть нечего и что я ничего не могу, как только нянчить, есть, пить, спать, любить мужа и детей; что есть, в сущности, счастие, но от чего мне всегда делается грустно, как вчера, и я начинаю плакать. Я пишу с радостным волнением, что никто не прочтет этого, и потому нынче я искренна и не пишу для Левочки. Он уехал, он бывает теперь со мной мало. Но когда я молода, я рада не быть с ним, я боюсь быть глупа и раздражительна. Дуняша говорит: «Граф постарел». Правда ли это? Он никогда теперь не бывает весел, часто я раздражаю его, писание его занимает, но не радует. Неужели навсегда пропала в нем всякая способность радоваться и веселиться? Он говорит жить в Москве на будущую зиму. Ему, верно, будет веселей, и я буду стараться, чтоб мы жили. Я ему никогда не признавалась, правда, что даже с мужем, с Левочкой, и то можно хитрить невольно, чтоб не показать себя в дурном свете. Я не признавалась, что я мелочно тщеславна, даже завистлива. Когда я буду в Москве, мне будет стыдно, если у меня не будет кареты, лошадей, лакея в ливрее, платья хорошего, квартиры хорошей, вообще всего. Левочка удивительный, ему всё всё равно; это ужасная мудрость и даже добродетель. Дети – это мое самое большое счастие. Когда я одна, я делаюсь гадка сама себе, а дети возбуждают во мне всевозможные лучшие чувства. Вчера я молилась над Таней, а теперь совсем забыла, как и зачем молиться. С детьми я уже не молода, мне спокойно и хорошо. 6 марта. Сережа болен. Вся я как во сне. Только впечатления. Лучше, хуже – это всё, что я понимаю. Левочка молодой, бодрый, с силой воли, занимается и независимый. Чувствую, что он – жизнь, сила, а я – только червяк, который ползает и точит его. Боюсь быть слабой. Нервы плохи после болезни, и стыдно. С Левочкой последний надрез чувствуется сильно. Жду, сама виновата, и боюсь ждать; ну как никогда не воротится его нежность ко мне. Во мне благоговение к нему, но сама так низко упала, что сама чувствую, как иногда хочется придраться к его слабости. Мне так всё странно весь вечер. Он пошел гулять, я одна, и тихо всё было. Дети спали, лежанка топится, тут наверху так чисто, пусто и так некстати цветы нарядные, яркие, и сильный запах померанцевого дерева, и страшно звука собственных шагов и дыхания даже. Левочка пришел, и всё на минуту стало весело и легко. От него запахло свежим воздухом, и сам он мне делает впечатление свежего воздуха. 8 марта. Всё стало веселее, лучше. Сережа поправляется, болезнь прошла. Лева очень хорош, весел, но ко мне холоден и равнодушен. Боюсь сказать не любит. Это меня постоянно мучает, и оттого нерешительность и робость в отношениях с ним. Эти дни горя и болезни Сережи я была в ужасном духе. Несчастие не смиряет меня, и это дурно. Приходили ужасные мысли, в которых признаться страшно и стыдно. Видя, что Левочка так ко мне холоден и так часто стал уходить из дому, я стала думать, не ходит ли он к А. Это до того меня мучило целый день, но Сережа отвлекал меня, а теперь как подумаю, сделается ужасно стыдно. Пора бы его знать. Разве могло бы быть это спокойствие, и непринужденность, и искренность? Как ни рассуждай, а пока мы и она тут, всякое дурное расположение духа, всякая холодность со стороны Левы – всё наводит на эту мучительную мысль. Ну а как вдруг воротится и скажет… Я ужасно вру, мне и совестно, и сочла своею обязанностью признаться в дурной мысли, которая хотя и очень смутно и далеко, но пришла мне в голову. 9 марта. Всё та же холодность со стороны Левочки. У меня насморк, я гадка, жалка. Целый день молчу, как будто хочу разучиться говорить, всё копаюсь в своих мыслях, любуюсь и чувствую природу, приближающуюся весну – только через окошко. У детей всё еще насморк и кашель. Сережа страшно худ, жалок. К детям у меня такая нежность, что я удерживаюсь даже от нее и боюсь пошлого выражения ее. Левочка совсем уничтожает меня своим полным равнодушием и отсутствием всякого участия в том, что касается меня. Он только требует участия в своих интересах, которые, впрочем, и без того всегда мне дороги и милы. Я чувствую себя спокойной и даже кроткой. Это бывает во мне редко. Мысли о моих московских постоянно меня занимают. Левочка не знает этого чувства к родителям. Мне ужасно хочется их видеть. Мне всегда кажется, когда я заговорю о поездке в Москву, что Лева смотрит на это неприязненно. Он старается отыскать в этом выгоду себе, а желания сделать что-нибудь для моего удовольствия в нем уже нет ни капли. Я думаю сейчас, эгоистка ли я, и, кажется, нет. Я бы для Левочки сделала всё на свете. Он говорит, что я слабохарактерная. Это, может быть, к лучшему. Я способна, если придется, склоняться перед всякими обстоятельствами и ничего не хотеть. Но я теперь много работаю, чтобы не быть слабохарактерной. Левочка на охоте, я всё утро переписывала. Приезда тетеньки я желаю, потому что люблю ее, а жалко, что испортится мое одиночество, в котором я привыкла жить, которое полюбила и в котором только и бываю совершенно искренна и свободна. Левочку я боюсь. Он так стал часто замечать всё, что во мне дурно. Я начинаю думать, что во мне очень мало хорошего. 10 марта. У Левочки голова болит, поехал верхом в Ясенки. Я тоже всё нездорова. Дети ужасно жалки в насморке и кашле. Не знаю, какая сила может исправить Сережу. Он так худ, ничего не ест, скучает, и вечный, вечный понос. От тетеньки сейчас получила письмо, она очень тронута моим письмом, сама кашляет, больна. К Машеньке у меня тихая ненависть, как говорит Левочка, а к детям ее отличное чувство немного покровительственной, но очень искренней любви. Левочка нынче стал ласковее. Он целовал меня, а этого давно не было. Я переписываю ему и рада, что полезна чем-нибудь. 14 марта. Все эти дни ужасная головная боль, только вечером бодра, всё хочется сделать, всем пользоваться. Левочка играет прелюды Chopin. Он очень хорош духом, но ко мне всё холодность, не то. Дети меня поглощают всю. Они оба в поносе. Это меня просто может доводить до отчаяния. Дьяков был, всё тот же неумолкаемый соловей, как говорит Таня. Я его люблю, мне с ним просто, и он симпатичный. Весны нет, всё холод, зима, и для меня это важно и в отношении моральном, и в отношении здоровья детей. Жду весны, как какой-нибудь благодати, а нынешний год весна опоздает. Левочка стал часто порываться в Тулу, стала являться потребность видеть больше людей. У меня иногда тоже, но не людей вообще, а Таню, Зефиротов[19], мама, папа. 15 марта. Левочка уехал в Тулу; я рада. У Сережи ребенок умирает, и мне ужасно жаль. Голова нынче болит меньше, и я очень бодра, сильна. Дети всё еще не совсем хороши, но немного лучше. Солнце на минуту проглянуло и подействовало на меня как звуки вальса на 16-летнюю девочку. Хочется гулять, хочется весны, природы, лета. Давно нет писем от моих. Что-то моя хорошенькая, поэтическая Таня? С Левочкой опять хорошо и просто. Он как-то сказал: «Я такой был дурной эти дни…» Я люблю его ужасно. С ним невозможно сделаться гадкой. Своим знанием себя и признанием во всем он унижает меня и заставляет тоже доискиваться до самого малейшего дурного в самой себе. 16 марта. Голова болит ужасно, дети в неопределенном состоянии, Сережа нынче горел, и я ничего не понимаю, что с ним. Левочка как встал, всё вне дома. Где он? Что он? От Тани вчера получила письмо и ее пожитки. Мне стало весело, что я скоро увижу ее, и с такой радостью, с какой видишь родственника, я увидала ее вещи, в которых есть и мои девичьи вещицы. У Сережи умер сын. Я плакала нынче утром, мне ужасно жаль. Головная боль мешает что-нибудь делать. Это несносный тик. 20 марта. У меня второй день по утрам лихорадка и ужасная боль в голове. Перед Левочкой чувствую себя как чумная собака. Но я не мешаю ему, потому что он сам не обращает на меня внимания. Мне больно, я пропала для него. А во мне всё то же старое, ревнивое, сильное чувство к нему. Я избаловалась. Нынче опять спохватилась, читая критику на «Казаков» и вспоминая роман, что я – граница всему, а жизнь, любовь, молодость – всё это было для казачек и других женщин. Дети ужасно меня привязали к себе. Я вся отдалась детям. Чувствую, что им я необходима, и это большое счастие. Когда Таня лежит у груди или Сережа обоймет меня крепко ручками, нет во мне ни ревности, ни горя, ни сожаления о чем-нибудь, ни желаний, ничего. Теперь они больны оба, и ничто меня не радует. Погода чудная, весенняя, но никогда не суждено мне вполне пользоваться природой. Левочкой любуюсь – он весел, силен умом и здоровьем. Ужасное чувство видеть себя униженной. Мои все ресурсы орудия, чтоб стать с ним наравне, – это дети, энергия, молодость и здоровая, хорошая жена. Теперь я для него – чумная собака. 23 марта. Лихорадка прошла, а с ней и мое нравственно дурное расположение. Тик мучает ужасно. Дети всё нездоровы. Левочка поехал к доктору в Тулу. С ним мы очень хороши. Опять мне легко, хорошо с ним, и нет ни сомнений в его любви, ни ревности – ничего. Погода прелестная, ручейки, весна – а я взаперти. Левочка очень занят скотным двором, а роман[20] покуда пишется без особенного увлечения. Всё у него мысли, мысли, а когда напишутся они? Он иногда рассказывает мне свои авторские мысли и планы, и я всегда этому ужасно рада. И я понимаю его всегда. Но к чему это ведет? Я не напишу их. 26 марта. Как будто в припадке порядка убирала всё – такое чувство испытываю, когда вечером уложу спать Сережу и Таню. Они оба почти здоровы. Таня делается мне страшна, я очень к ней привязалась, а вечное несчастие почти всех людей – страх смерти – стал меня часто тревожить. Левочка в желчном расположении духа, и я невольно иногда раздражаюсь им. Нынче вдруг пришла ужасная мысль, что он так мало мной дорожит, так привык к моей привязанности и любви к нему, а вдруг я бы почувствовала охлаждение к нему, что бы он? Это невозможно, оттого я легко говорю об этом и оттого он всегда будет мало дорожить мной. Сережа был у нас эти дни. Он жалок очень, и я его очень начинаю любить. Мне с ним просто и хорошо. Весна пасмурная, скучная; опять начинает во мне пробуждаться детское чувство праздников. Завтра Вербная суббота, я ее так любила дома. А потом Святая, которая ничем решительно не отличится от простого великопостного будничного дня. Но теперь я спокойнее, а прежде плакала. Сережа говорит вчера: «Только и хороши соловьи, луна, любовь, музыка». Мы с ним говорили об этом, и мне было с ним не стыдно говорить, а Левочка всегда на меня смотрит, будто хочет сказать: «Какое право имеешь ты рассуждать об этом, ты ничего не можешь чувствовать». И действительно, иногда не смеешь что-нибудь чувствовать. Левочка поэтически любит жить и наслаждаться один; может быть, оттого, что в нем поэзия слишком хороша и слишком ее много и он дорожит ею. Это и меня приучило жить своей отдельной, маленькой жизнью души. Он что-то пишет, я слышу, верно, тоже дневник. Я его уже почти не читаю. Как только читаешь друг у друга, так делаешься неискренен. А я последнее время во всем так стала искренна, что мне стало хорошо и легко жить на свете. Потом он пишет все мысли о романе и вообще умно, и мне страшна перед ним моя пустота и ничтожество. 1 апреля. Левочка в Туле, а мне скучно и какое-то тяжелое чувство отчаяния, потому что Левочка всё жалуется на странное состояние здоровья, приливы крови, дурное пищеварение, шум в ухе. Всё это меня ужасно пугает, и теперь в одиночестве, при чудной, ясной, теплой погоде, при весне, одной, мне всё еще чувствительнее и страшнее. Дети почти здоровы, я их обоих поодиночке сама выносила гулять. Таня в первый раз в своей шестимесячной жизни увидала свет Божий. Я весь день ничего не делала, потому что убегала сама от своих черных мыслей. Он говорит, что половины жизни нет от дурного физического состояния. А жизнь его так необходима. Я люблю его ужасно, мне досадно, что я для него мало могу сделать, чтоб ему было вполне хорошо. Нет во мне ни малейшего чувства дурного в отношении к нему, только любовь самая сильная и самая страшная для меня. 3 мая. Дурная весна, приезд Тани, тяга, охота, верховая езда. Со всеми хорошие отношения, все здоровы. Нынче всё опрокинулось. С Левой ссорилась, я зла, не кротка, я исправлюсь. Дети больны. На Таню сердита, она втирается слишком в жизнь Левочки. В Никольское, на охоту, верхом, пешком. Вчера прорвалась в первый раз ревность. Нынче от нее больно. Я ей уступаю лошадь и считаю, это хорошо с моей стороны; к себе всегда снисходителен слишком. Они на тяге в лесу, одни. Мне приходит в голову бог знает что. 9 июня. Третьего дня всё решилось у Тани с Сережей. Они женятся. Весело на них смотреть, а на ее счастие я радуюсь больше, чем когда-то радовалась своему. Они в аллеях в саду, я играла роль какой-то покровительницы, что самой было и весело и досадно. Сережа стал мил мне за Таню, да и всё это чудесно. Свадьба через 20 дней или больше. Что еще будет? Давно любит она, ужасно мила, и чудный у ней характер, и я рада, что мы будем еще ближе. Погода скверная, Лева и Таня в простуде, Сережа с [сыном] Гришей и [воспитателем его] Келлером уехали в Пирогово. Что-то пасмурно и тоскливо с нынешнего утра. Вообще, ждать чего-нибудь скучно и тяжело. Я бы уж скорей хотела видеть их вместе и счастливыми. Мы поедем скоро в Никольское, там и свадьба будет; нынче читала ее старый журнал. Все ее прошедшие страдания, всё горе так трудно было читать, что я всё останавливалась и мне плакать хотелось, а она думала, что я не хочу читать и мне скучно. Лева что-то не очень весел, дети милы, развиваются. 12 июля. Никольское. Ничего не сделалось. Сережа обманул Таню. Он поступил как самый подлый человек. Вот уже скоро месяц постоянного горя, тяжелого чувства, глядя на Таню. Это милое, поэтическое, талантливое существо – и пропадает. Признаки ее чахотки меня мучают ужасно. Никогда не в состоянии буду описать в своем журнале всю эту грустную историю. Озлоблению моему к Сереже нет границ. Всё, что я буду в состоянии мстить ему, я буду стараться. Таня поступала всё время удивительно хорошо. Она его очень любила, а он обманывал, что любил. Цыганка была дороже. Маша – хорошая женщина, ее жалко, и я ничего не имею против нее. Но он отвратителен. Погодите, погодите, говорил он, и всё это только с намерением водить за нос Таню и забавляться ее чувством к нему. Довел ее до того, что она с сожалением к Маше и детям ее, с чувством своего достоинства, а главное, с сожалением и любовью к нему сама отказала ему. А были уже 12 дней жених и невеста, целовались, и он и уверял ее, и говорил ей пошлости, и строил планы. Кругом подлец. И всем скажу это, и пусть дети мои это знают и не поступают, как он, когда узнают эту историю. А дома у меня моя собственно семейная жизнь такая славная, тихая, счастливая. За что мне такое счастие? Дети были здоровы; Лева тоже, и мы были так дружны, а кругом чудесная, летняя, жаркая погода и природа, и все и всё так хорошо. Если б только не было замешано в нашу мирную, честную жизнь это подлое и несчастное дело Сережи. Мы тут, в Никольском, уже с 28 июля, дня рождения Сережи. У нас уже были и Дьяковы, и Машенька с девочками, и вчера опять милый Дьяков, который много рассеял Таню. Утром в первый раз приезжал сосед наш Волков. Робкий, приятный, спокойный, белокурый, курносый. Мне понравился – ничего. А тут все впечатления: река, купанье, горы, жара, спокойствие души, красные ягоды и горе Тани. А утешение – дети и любимый, милый Левочка в хорошем, поэтическом духе. Мне хорошо, надолго ли? 16 июля. Поссорилась с няней, непростительно, совестно, и мучает, она хорошая. Старалась загладить, почти извинялась, а с ними нельзя расчувствоваться, не поймут. У нас Феты, они хорошие, он немного напыщенный, а она слишком проста, но очень добра. Таня, бедная, меня страшно беспокоит. То же отупление и всё страх чахотки. Таня маленькая больна была, я боялась и очень тревожилась о ней, теперь лучше. А милая, живая, глазки и улыбка – прелесть. Сережа стал капризничать часто, верно, от болезни, но характер добрый и милый. Гроза меня нынче пугала. Лева читает военные сцены в романе; я не люблю этого места. Зачем я с няней ссорилась? Я похожа на мама, и мне нынче страшно стало найти в себе черты, похожие на нее и которые мне в ней были не совсем приятны. А именно: что я хорошая женщина и за это все должны прощать мои слабости. А я хочу быть хорошей и видеть все свои недостатки, и пусть никто, а главное, пусть я сама себе ничего не прощаю. Так и будет. 26 октября. Весело браться за свой журнал, оттого верно, что себя любишь – свою внутреннюю жизнь. А отчего общее правило, что мужья, прежде влюбленные, делаются с годами холодны? Я нынче открыла, что оттого, что всякая женщина только тогда настоящая, когда несколько лет замужем, и если из миллиона найдется одна, которая не изменится вследствие замужества и останется хорошая, милая, какая была, тогда муж ее, опять-таки если он хороший, и будет в нее влюблен всю жизнь. Я страшно изменилась, неужели я когда-нибудь притворялась? А я стала много, много хуже, и уже не трогает меня холодность Левы, которую я знаю, что заслужила. Не трогает дослез и отчаяния, как бывало, потому что и в эти бывалые времена я еще была лучше, больше было мягкости и кротости. Теперь отчет жизни для будущего. Мы в Ясной с 12 октября. Таня осталась у Дьяковых. Здоровье ее плохо, впереди это ужасное горе потерять ее, и всё стараюсь не думать. Лева был болен, теперь лучше; пишет. Дети хороши, девочку хочу отнимать, ужасно жаль, делается тоска. Лева приучил всё приписывать физическому, это грустно, но я теперь почти всё так и сужу. Тетенька слаба, жалка. И с ней я слишком холодна. Неужели во мне нет ни капли нежности? Я, кажется, беременна, и не радуюсь. Всё страшно, на всё смотрю неприязненно. Желание какой-то власти, быть выше всех. Это трудно мне самой понять, но это так.1866
12 марта. Прожили шесть недель в Москве, 7-го воротились, и опять в Ясной то же спокойное, немного грустное, но невозмутимое и счастливое чувство. В Москве было хорошо, своих я так любила, и детей моих любили. Таня быстра, умна, мила и здорова. Сережа окреп, рассудителен, менее кроток, чем был, но добр. Я боюсь быть пристрастна к своим детям, но я ими очень довольна и счастлива. С Левой всё было холодно, неловко, в Москве грубое обращение П.[21], вследствие моего неумения вести себя с ним, испортило наши отношения. Мне и совестно, и гадко, но на душе ни одного пятнышка не было ни минуты в моей замужней жизни, и Лева меня судил слишком строго и резко. Но я и этому рада, он дорожит мной, и я теперь буду во сто раз осторожнее, это только будет приятно. А еще новый, небывалый еще надрез, и это страшно. Всё больше хочется гнуться от своего ничтожества, и меньше остается прав на эту счастливую гордость и сознание собственного достоинства, без которого я бы жить не могла. В Москве больше жили кремлевской жизнью. Утром присылали карету за детьми, уезжали к родителям на весь день. Лева ходил в скульптурный класс и на гимнастику. Больше всех из знакомых видала Перфильевых, Башиловых, Горчакову, познакомились с Оболенской. Была в концертах, очень полюбила классическую музыку. Вся жизнь шла хорошо, я всё любила в Москве, даже нашу Дмитровку и нашу душную гостино-спальню и кабинет, где Лева лепил свою красную лошадь и где сидели, бывало, вдвоем вечера. [Брат] Петя – милое существо, я его очень полюбила. И теперь иногда вспомню о них, и так сердце сожмется, жалко, что не вижу. 22 марта. Молодые впечатления тем дороги, что их не ищешь и не сознаешь, а их слишком много; а теперь не то, всё обдумаешь и всё ищешь посерьезнее, подостойнее себя. Так хуже. 28 апреля. Люди женятся – думают, что вот беру такую-то девушку, с таким-то характером и проч., а не знают того, что всё в ней изменится, что тут ломается целый большой механизм и нельзя сказать: «Я с ней счастлив», пока этот механизм не переломается и не перестроится совсем новый. А при этом не столько важен характер женщины, сколько всё то, что будет иметь на нее влияние первое время замужества. Нашему счастью все завидуют, это наводит всё меня на мысли, отчего мы счастливы и что это, собственно, значит. 9 июня. 22 мая неожиданно родился еще сын Илья. Я ждала в середине июня. 19 июля. У нас новый управляющий с женой. Она молода, хороша, нигилистка. У ней с Левой длинные, оживленные разговоры о литературе, об убеждениях, длинные, неуместные; мучительные для меня и лестные для нее. Он сам проповедовал, что в семью, в intimite, не надо вводить постороннее, особенно красивое и молодое существо, и первый на это попадается. Я, конечно, не показываю и вида, что мне это неприятно, но уже в жизни моей теперь нет минуты спокойной. С рождения Илюши мы с ним живем по разным комнатам, и это не следует, потому что будь мы вместе, я бы не выдержала и всё ему бы высказала нынче же вечером, что во мне накипело, а теперь я не пойду к нему, и так же и с его стороны. В детях я так счастлива, столько они мне дают радости, что грешно требовать еще большего счастия, испытавши это. Столько наслаждения в любви к ним! А жаль, что Левочка не помнит своих собственных правил. И зачем он нынче говорил о том, как муж побоится наделать неприятностей жене, если она безупречна. Как будто несчастие только тогда, когда муж уже сделает что-нибудь дурное. Уже несчастие равно велико, если муж хоть на минуту в глубине своей души усумнится в своей любви к жене. Напрасно Левочка так горячо ораторствует с Марией Ивановной. Теперь скоро час ночи, а я спать не могу. Точно предчувствие дурное, что будет эта управительская жена-нигилистка моей bete noire[22]. 22 июля. Нынче Лева ходил в тот дом[23] под каким-то предлогом. Мария Ивановна мне это сказала, и еще разговаривал с ней под ее балконом. Зачем в дождь было ходить в тот дом! Она ему нравится, это очевидно, и это сводит меня с ума. Я желаю ей всевозможного зла, а с ней почему-то особенно ласкова. Скоро ли окажется негоден ее муж и они уедут отсюда? А покуда ревность измучает меня. Со мной Лева холоден до крайности. У меня болят груди, я кормлю со страшной болью и страданиями. Нынче позвала Маврушу прикормить, чтобы дать груди поджить. Боли мои всегда действуют на него дурно в отношении ко мне. Он делается холоден, и к моим физическим страданиям прибавляются еще нравственные, гораздо больнее физических. Я сижу у себя запершись, а она в гостиной с детьми. Я ее просто не могу переносить. Мне досадно глядеть на ее красоту, оживленность, особенно в присутствии Левочки. 24 июля. Нынче Левочка опять был в том доме и вследствие этого пожалел ее, что ей скучно. Потом спросил меня, зачем я не позвала их обедать. Если б я могла, я никогда бы не пустила ее в дом. Эх, Левочка, сам не видит, как попадается. Боли грудей отнимают у меня много времени и счастия. Что ужаснее всего, я совсем отступилась от Левочки и он тем более от меня. Потом я взяла Маврушу прикармливать Илюшу, и он беспокоен, и мне горько, что он вместе с моим сосет чужое молоко. И бог знает когда заживут груди, так всё идет плохо. У меня сердце радуется, когда Лева недоволен хозяйством. Авось откажут управляющему, и я избавлюсь от этой мучительной ревности к Марии Ивановне. Его жаль, а ее я не люблю. 10 августа. Бывают дни, когда на душе так светло и хорошо, что хочется сделать что-нибудь такое, отчего бы все тебя полюбили и удивлялись бы тебе. В противоположность тем несчастиям, о которых я слышала, я чувствую себя счастливой. Вчера рассказывал Бибиков ужасную историю. У нас в Ясенках расстреливали писаря-солдата за то, что он прибил в лицо ротного командира. Левочка был защитником, когда его судили гласным полевым судом, но, конечно, защита была, к несчастью, только формой[24]. Нынче узнала о смерти маленького сына Constance[25], и так ее жалко было. У нас всё гости были. Княжны Горчаковы, в тот же день князь Львов, симпатичный такой, и толстый Соллогуб с двумя подросточками – сыновьями. Он мне говорил, что я идеал жены писателя, что жена должна быть нянькой таланта. Я ему благодарна и постараюсь быть еще более нянькой таланта Левочки. Ревность к Марии Ивановне ослабла совсем, она была почти неосновательна. У нас всё хорошо, просто, но немного холодно в наших отношениях с Левой. Дети мои так милы! Сережа стал мне говорить ты. Нынче огорчил меня, что с летом забыл азбуку, которую так хорошо знал зимой. 27 августа. Я люблю детей своих до страсти, до боли; всякое малейшее страдание приводит меня в отчаяние, всякая улыбочка, всякий взгляд радует до слез. Илюша нездоров, жду Дьяковых, Таню, Машеньку с девочками. Нынче переносились в новый дом, где они будут. Кормить – это большой труд, и я часто слабею. Если б я меньше любила детей, было бы легче. 12 ноября. Лева в Москве, Таню повез. Ее здоровье плохо, и это приводит меня в отчаяние. Я ее люблю ужасно, и чем безнадежнее ее здоровье, тем сильнее моя привязанность к ней. Она, вероятно, поедет с Дьяковыми в Италию. Всю осень я как будто не видала ее дурного состояния. У нас было так весело эти три недели от начала сентября, что не хотелось инстинктивно думать о несчастий. Когда я долго не пишу журнал, мне жалко, что я не записываю свою счастливую жизнь. Эти три недели у нас гостили Дьяковы, Машенька с девочками, Таня, и была такая между нами дружба, такие простые, дружеские, легкие и приятные отношения, что, думаю, редко можно встретить что-нибудь подобное. Я так радостно вспоминаю и 17 сентября, с музыкой, которая меня так удивила и обрадовала за обедом[26], и при этом милое, любящее выражение Левы, и этот вечер на террасе при свете фонарей и огарочков, и оживленные, молодые фигуры барышень в кисейных белых платьях, маленького добродушного Колокольцева, а главное, везде и над всем оживленное, любимое лицо Левочки, который так старался и достиг того, что нам всем было весело. Я сама удивлялась, что я, солидная, серьезная, танцевала с таким увлечением. Погода была чудная, и всем нам было хорошо. Когда уехали все гости и Таня осталась у нас еще на месяц, ее дурное здоровье стало очевидно. Теперь, особенно без Левочки, я особенно горюю о ней, да и вообще так грустно и пусто без Левы. Мне кажется, нельзя теснее жить нравственно, как я живу с ним. Мы ужасно счастливы во всем. И в наших отношениях, и в детях, и в жизни. Теперь без него я живу особенно тесно с детьми, но они так малы. Спят, потом едят, потом вечером опять спят, и всё, что в них проявляется нравственно, я ловлю и пользуюсь. Теперь я всё время и нынче переписываю (не читая прежде) роман Левы. Это мне большое наслаждение. Я нравственно переживаю целый мир впечатлений, мыслей, переписывая роман. Ничто на меня так не действует, как его мысли, его талант. И это сделалось недавно. Сама ли я переменилась, или роман действительно очень хорош – уж этого я не знаю. Я пишу очень скоро и потому слежу за романом достаточно скоро, чтобы уловить весь интерес, и достаточно тихо, чтобы обдумать, прочувствовать и обсудить каждую его мысль. Мы часто с ним говорим о романе, и он почему-то (что составляет мою гордость) очень верит и слушает мои суждения.1867
12 января. У меня страшное состояние растерянности, грустной поспешности, как будто скоро должно что-то кончиться. Кончится скоро многое, и так страшно. Дети все были больны, с англичанкой [Ханной Терсей] всё невесело и неловко. Всё еще я смотрю на нее неприязненно. Говорят, что когда скоро умрешь, то бываешь очень озабочен перед смертью. Я так озабочена и так всё что-то спешу, и столько дела. Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет. По-моему, его роман должен быть превосходен. Всё, что он читает мне, почти до слез меня тоже волнует, не знаю, оттого ли, что я жена его, или оттого, что действительно хорошо. Я думаю скорее – последнее. Нам, в семью, он приносит больше только усталость от работы, со мной у него нетерпеливое раздражение, и я себя стала чувствовать последнее время очень одинокой. 15 марта. Вчера ночью, часов в десять, загорелись наши оранжереи и сгорели дотла. Я уже спала, Лева разбудил меня, в окно я увидала яркое пламя. Левочка вытащил детей садовника и их имущество, я бегала на деревню за мужиками. Ничего не помогло, все эти растения, заведенные еще дедом, которые росли и радовали три поколенья, – всё сгорело, осталось очень мало и то, вероятно, промерзшее и обгорелое. Ночью не было так жалко, а сегодня целый день у меня одна забота, чтоб не выдать себя и не допустить слезам капать из глаз. Тоска такая, а главное, ужасно Левочку жалко, он так на вид огорчен и так всякое малейшее его огорчение мне близко и тяжело. Он так любил и занимался последнее время растениями и цветами и радовался, что всё растет, заведенное им вновь. Ничем не воротишь и утешишься только с годами. 29 августа. Мы ссорились, ничего не прошло. «Виновата, что до сих пор не знала, что любит и может выносить муж». И всё время ссоры одно желание – как бы скорее и лучше всё кончилось. И всё хуже, хуже. Я ужасно колеблюсь, ищу правды, это мука – у меня не было ни одного дурного побуждения. Ревность, страх, что всё кончено, пропало, – вот что осталось теперь. 12 сентября. Правда, что всё пропало. Такая осталась холодность и такая явная пустота, потеря чего-то, искренности и любви. Я это постоянно чувствую, боюсь оставаться одна, боюсь быть наедине с ним; иногда он начнет со мной говорить, а я вздрагиваю, мне кажется, что сейчас он скажет мне, как я ему противна. И ничего, не сердится, не говорит со мной о наших отношениях, но и не любит. Я не думала, чтобы могло дойти до того, и не думала, чтобы мне это было так невыносимо и тяжело. Иногда на меня находит гордое озлобление, что и не надо, и не люби, если меня не умел любить, а главное, озлобление за то, что за что же я-то так сильно, унизительно и больно люблю! Мама часто хвалится, как ее любит так долго папа. Это не она умела привязать, это он так умел любить. Это особенная способность. Что нужно, чтоб привязать? На это средств нет. Мне внушали, что надо быть честной, надо любить, надо быть хорошей женой и матерью. Это в азбучках написано – и всё это пустяки. Надо не любить, надо быть хитрой, надо быть умной и надо уметь скрывать всё, что есть дурного в характере, потому что без дурного еще не было и не будет людей. А любить, главное, не надо. Что я сделала тем, что так сильно любила, и что я могу сделать теперь своею любовью? Только самой больно и унизительно ужасно. И ему-то это кажется так глупо. «Ты говоришь всё так, да не так делаешь». Я храбрюсь и рассуждаю, а во мне ничего и нет больше, кроме глупой, унизительной любви и дурного характера, что вместе сделало мое несчастие, потому что последнее мешало первому. 14 сентября. Всё то же, и возможно ли, что всё переносится, и даже я нынче решила себе, что и так можно жить; какая-то поэтическая, покорная жизнь без тревог, безо всего, что называется физической, материальной жизнью, с самыми святыми мыслями, с молитвами, тихой затоптанной любовью и постоянной мыслью о совершенствовании. И пусть никто, даже Левочка, не прикасается к этому моему внутреннему миру, пусть никто меня не любит, а я буду всех любить и буду сильнее и счастливее всех. 16 сентября. Невольно весь день думала о прошлогоднем 17 сентября. Мне не веселья того нужно, не музыки, не танцев, сохрани бог, мне ничего этого не хочется – мне только нужно его желание, его радость сделать мне удовольствие, видеть меня веселой, как это было тогда; и если б он знал, как за это его побуждение я на всю жизнь осталась благодарна! Тогда мне так сильно казалось, что я счастлива, сильна, красива. Теперь так же сильно чувствую, что нелюбима, ничтожна, дурна и слаба. Нынче утром говорили о хозяйстве, как будто мы одно, так дружно и согласно, а мы теперь редко говорим о чем бы то ни было. Я вся живу в детях и в ничтожной самой себе. Сейчас Сережа подошел и спрашивает: «Что это вы книжку пишете?» А я ему ответила, что он, когда будет большой, прочтет ее. Что-то он подумает и как осудит меня? Неужели меня и дети любить не будут? А я так требую и так не умею приобретать чью бы то ни было любовь.1868
31 июля. Смешно читать свой журнал. Какие противоречия, какая я будто несчастная женщина. А есть ли счастливее меня? Найдутся ли еще более счастливые, согласные супружества? Иногда останешься одна в комнате и засмеешься своей радости и перекрестишься: дай Бог, долго, долго так. Я пишу журнал всегда, когда мы ссоримся. И теперь бывают дни ссоры; но ссоры происходят от таких тонких, душевных причин, что если б не любили, то так бы и не ссорились. Скоро 6 лет я замужем. И только больше и больше любишь. Он часто говорит, что уж это не любовь, а мы так сжились, что друг без друга не можем быть. А я всё так же беспокойно, и страстно, и ревниво, и поэтично люблю его, и его спокойствие иногда сердит меня. Он уехал с Петей на охоту. Летом ему не пишется. Оттуда поедут в Никольское. Я больна, сижу почти весь день дома. Дети гуляют и только приходят кормиться на террасу. Илья чудо как мил. Таня вся поглощена Дашей и редко ходит ко мне и то на минутку. Кузминский что-то ни рыба ни мясо.1870
5 июня. Сегодня четвертый день, как я отняла Левушку. Мне его было жаль почти больше всех других. Я его благословляла и прощалась с ним, и плакала, и молилась. Это очень тяжело, этот первый полный разрыв со своим ребенком. Должно быть, я опять беременна. С каждым ребенком всё больше отказываешься от жизни для себя и смиряешься под гнетом забот, тревог, болезней и годов.1871
18 августа. Вчера ночью проводила Таню с детьми на Кавказ[27]. В душе пусто, грустно и страх перед жизнью врозь от такого друга. Мы никогда с ней не расставались. Я чувствую, что у меня оторвана часть моей души, и нет возможности утешиться. Нет человека в мире, который бы мог меня оживить более, утешить во всяком горе, подпить, когда опустишься духом. Смотрю на всё: на природу, на жизнь свою впереди, и всё без Тани грустно, пусто, всё мне представляется мертво и безнадежно. Я не найду слов выразить, что чувствую. Что-то во мне умерло, и я знаю это горе, которое не выплачешь сразу, а которое годами продолжается и отзывается при всяком воспоминании нестерпимой болью души. Так отзывается во мне постоянное беспокойство о здоровье Левочки. Кумыс, который он пил два месяца, не поправил его; болезнь в нем сидит; я это не умом вижу, а вижу чувством по тому безучастию к жизни и всем ее интересам, которое у него появилось с прошлой зимы. И что-то пробежало между нами, какая-то тень, которая разъединила нас. Я чувствую, что если не найду в себе сил подняться нравственно, то есть утешиться отъездом Тани, приняться энергично заниматься детьми и наполнять свою жизнь, не унывая и не скучая, – он не поднимет меня. Чувствую я постоянно, как он меня тянет в то унылое, грустное и безнадежное состояние, в котором сам находится. Он не сознается в нем, но меня чувство никогда не обманывало. Я от этого более всех страдаю – и я не ошибаюсь. С прошлой зимы, когда Левочка и я, мы были оба так больны, что-то переломилось в нашей жизни. Я знаю, что во мне переломилась та твердая вера в счастье и жизнь, которая была. Я потеряла твердость, а теперь какой-то постоянный страх, что что-то случится. И случается действительно. Таня уехала, Левочка нездоров: это два существа, которых я люблю больше всего на свете. Они оба для меня пропали. Левочка потому, что совсем не тот, какой был. Он говорит: «Старость», я говорю: «Болезнь». Но это что-то нас стало разъединять.1872
Зима была счастливая, мы опять жили душа в душу, и здоровье Левочки было не дурно. 1 апреля. 30 марта Левочка вернулся из Москвы. Дети приносят желтые и лиловые цветы. Говела, приехала из Тулы в машине, потом на катках; снег только в овражках, грязь ужасная, тепло, ясно. Левочка вечером был на тяге, убил вальдшнепа, другого прислал Митрофан [Банников, объездчик]. 3 апреля. Всё тепло; убил двух вальдшнепов. Отсылали корректуры «Азбуки», сидели до четвертого часа ночи. 5 апреля. Опять убил вальдшнепа; перед обедом ходил с детьми к пчельнику гулять; брод не могли перейти; я вернулась и гуляла с Лелей около дома. Очень тепло, и ветер теплый. 6 апреля. Утро ясное и ветреное; потом гром и град крупный. У Левочки три предыдущих дня по вечерам озноб, всё нездоровится. 8 апреля. Ночью была сильнейшая гроза и дождь. У Левочки всё зябнет спина, и всё ему нездоровится. Духом он бодр, говорит, что работы ему на бесконечное число лет хватило бы. Всё зелено, листья стали распускаться, медуница цветет, трава уже высокая. 9 апреля. Точно лето. 12 апреля. Ходили на тягу с Илюшей в срубленный Заказ. Чудный, теплый, ясный вечер. Мы очень наслаждались. Луна полная всходила из-за деревьев. 16 апреля. Светлое воскресенье. Ночью – дождь, гроза. Утром завернул холод, пасмурно. 18 апреля. Ездил Л. с Бибиковым на тягу, убил трех в Засеке. Всё холодно. 19 апреля. Всю ночь Левочка до рассвета смотрел на звезды. 20 апреля. Ездили с детьми и Варей за фиалками; всё свежо, у меня что-то вроде лихорадки. Левочка здоров. Вечером приехал Варин жених[28]. 21 апреля. Ездили за сморчками с детьми, Варей и Нагорновым. Набрали корзинку сморчков. Всё не тепло. Левочка, Варя с женихом уехали на тягу. Солнце закатывалось как ярко-красный огненный шар. Вечер теплый, тихий, 11° тепла. Липа почти развернулась, дуб еще не трогался, остальные деревья все распустились. Левочка утром принес букет из разных древесных веток и цветов. 23 апреля. Ночь холодная, утро тихое, ясное, свежее. Небо чисто. Вчера Левочка говорил, что некоторые дубы начинают распускаться, липа кое-где совсем развернулась. С 27 на 28 апреля. Левочка ночью поехал в Москву. Маша[29] очень больна. 30 апреля. Жара невыносимая, и гроза ночью. 13 мая. Принес Левочка шиповник во всем цвету. 14 мая. Левочка, Степа и Сережа поехали в Никольское. 15 мая. Мы купались и варили кофе, собирали грибы в березняке нашем. Жара. С 16 на 17 мая. Вернулись из Никольского; холод и пасмурно. 18 мая. Ханна ездила в Тулу за игрушками детям. Мы ездили за грибами; нас застал маленький дождь, и мы озябли. Левочка вчера очень расстроился, что не шлют корректуры, и написал в Москву, чтоб отобрать оригинал у Риса. Сегодня писал Ливену о Саше. На акациях большие стручья. Сухо, ветер, и холодно. 26 мая. Жара ужасная. Левочка с Илюшей ездил в Тулу по машине. Я с детьми купалась. Шиповник весь осыпался, из саду продали вчера сено.1873
13 февраля. Левочка уехал в Москву, и без него сегодня весь день сижу в тоске, с остановившимися глазами, с мыслями, которые меня мутят, мучают и не дают мне покоя. И всегда в этом состоянии умственной тревоги берешься за журнал. В него выльешь всё свое настроение и отрезвишься. А настроение мое грешное, глупое, нечестное и тяжелое. Что бы я была без этой постоянной опоры честной, любимой всеми силами, с самыми лучшими и ясными взглядами на всё? И вдруг иногда заглянешь в свою душу во время тревоги и спросишь себя: чего же надо? И ответишь с ужасом: надо веселья, надо пустой болтовни, надо нарядов, надо нравиться, надо, чтоб говорили, что я красива, надо, чтоб всё это видел и слышал Левочка, надо, чтоб он тоже иногда выходил из своей сосредоточенной жизни, которая и его иногда тяготит, и вместе со мною жил той жизнью, которой живут так много обыкновенных людей. И с криком в душе отрекаюсь я от всего, чем меня, как Еву, соблазняет дьявол, и только еще хуже кажусь сама себе, чем когда-либо. Я ненавижу тех людей, которые мне говорят, что я красива; я этого никогда не думала, а теперь уж поздно. И к чему бы и повела красота, к чему бы она мне была нужна? Мой милый, маленький Петя[30] любит свою старую няню так же, как любил бы красавицу. Левочка привык бы к самому безобразному лицу, лишь бы жена его была тиха, покорна и жила бы той жизнью, какую он для нее избрал. Мне хочется всю себя вывернуть самой себе и уличить во всем, что гадко, и подло, и фальшиво во мне. Я сегодня хочу завиваться и с радостью думаю, хорошо ли это будет, хотя никто меня не увидит, и мне этого и не нужно. Меня радуют бантики, мне хочется кожаный новый пояс, и теперь, когда я это написала, мне хочется плакать… Наверху дети сидят и ждут, чтобы я их учила музыке, а я пишу весь этот вздор в кабинете внизу. Сегодня мы катались на коньках; были у мальчиков столкновения с Федором Федоровичем [Кауфманом, воспитателем]. Мне было их жалко, и я с трудом устроила так, чтоб Федор Федорович не обиделся и дети утешились. Новая англичанка [Эмили Табор], приехавшая третьего дня утром, мне не вполне симпатична; она слишком commune[31] и вяла. Но еще нельзя ее узнать; что будет? 17 апреля. Снег шел всё утро, 5° тепла, ни травы, ни тепла, ни солнца, ни той весенней, светлой и грустной радости, которую так долго ждешь. Так же, как в природе, в моей душе холодно, мрачно и грустно. Левочка пишет свой роман, и идет дело хорошо. 11 ноября. 9 ноября, в 9 часов утра, умер мой маленький Петрушка болезнью горла. Болел он двое суток, умер тихо. Кормила его год и два с половиной месяца, жил он с 13 июня 1872 года. Был здоровый, светлый, веселый мальчик. Милый мой, я его слишком любила, и теперь пустота, вчера его хоронили. И не могу я соединить его живого с ним же мертвым; и то и другое мне близко, но как различно это живое, светлое, любящее существо и это мертвое, спокойное, серьезное и холодное. Он был очень ко мне привязан, жалко ли ему было, что я останусь, а он должен меня оставить?1874
17 февраля. Сколько ни думаю о будущем – нет его. И только зазеленеет трава над Петиной ямкой, как ее взроют для меня; это мое постоянное мрачное предчувствие.1875
12 октября. Слишком уединенная деревенская жизнь мне делается наконец несносна. Унылая апатия, равнодушие ко всему, и нынче, завтра, месяцы, годы – всё то же и то же. Проснешься утром и не встаешь. Что меня поднимет, что ждет меня? Я знаю, придет повар, потом няня будет жаловаться, что люди недовольны едой и сахару нет, надо послать, потом я с болью правого плеча сяду молча вышивать дырочки, потом ученье грамматики и гамм, что я делаю хотя бы с удовольствием, но с грустным сознанием, что делаю не хорошо, не так, как бы хотела. Потом вечером то же вышиванье дырочек и вечное ненавистное раскладыванье пасьянсов тетеньки[32] с Левочкой. Чтенье доставляет короткое удовольствие – но много ли хороших книг? Во сне иногда, как нынче, живешь. Именно живешь, а не дремлешь. То я иду в какую-то церковь к всенощной и молюсь, как я никогда не молюсь наяву, то вижу чудесные картинные галереи, то где-то чудесные цветы, то толпу людей, которых не ненавижу и не чуждаюсь, а всем сочувствую и люблю. Видит Бог, как я нынешний год боролась с этой постыдной скукой, как я одна, в душе, поднимала в себе всё хорошее и вооружалась, главное, мыслью, что для детей, для их нравственного и физического здоровья самое лучшее – деревенская жизнь, и мне удавалось утишать свои личные, эгоистические чувства. И я к ужасу своему вижу, что это переходит в такую страшную апатию и такое животное, тупое равнодушие ко всему, что это пугает меня больше всего и против этого бороться еще труднее. И потом я не одна: я тесно и всё теснее с годами связана с Левочкой, и я чувствую, что он меня втягивает в это тоскливое, апатичное состояние. Мне больно, я не могу видеть его таким, какой он теперь. Унылый, опущенный, сидит без дела, без труда, без энергии, без радости целыми днями и неделями и как будто помирился с этим состоянием. Это какая-то нравственная смерть, а я не хочу ее в нем, и он сам так долго жить не может. Может быть, взгляд мой пошл и неверен. Но мне кажется, что обстановка жизни нашей, обстановка, которую создал он, потому что мне она тяжела, – то есть это страшное уединение и однообразие жизни – способствует нашей взаимной апатии. А когда я думаю о будущем, о выросших детях, об их жизни, о том, что у них будут разные потребности и их всех надо еще воспитать, а потом подумаю о Левочке, то вижу, что он со своей апатией и равнодушием мне не помощник, он к сердцу ничего не может принимать и вся внутренняя, душевная ответственность, все страдания в неудачах детей – всё ляжет на меня. А как я одна сумею вынести всё и помочь детям, особенно с этой тоскою? Если бы люди не надеялись – жить было бы нельзя, и я надеюсь, что Бог еще раз вложит в Левочку тот огонь, которым он жил и будет жить.1876
15 сентября. Настало уединение, и вот я опять с моим безмолвным собеседником – журналом. Хочу добросовестно и ежедневно писать журнал. Левочка уехал в Самару и проехал в Оренбург, куда ему очень хотелось. Из Оренбурга получила от него телеграмму. Я очень тоскую и еще больше беспокоюсь. Хочу убедить себя, будто рада, что он себе доставил удовольствие, но неправда, я не рада и даже оскорбляюсь, что он среди прелестного времени нашей обоюдной любви и дружбы – как было всё последнее время – мог оторваться добровольно от меня и нашего счастия и наказать меня мучительной, двухнедельной тревогой и грустью. Взялась, с энергией и очень сильным желанием делать хорошо, за учение детей. Но, боже мой, как я нетерпелива, как я сержусь, кричу, и сегодня, огорченная до последней степени плохим сочинением Сережи о Волге, его орфографическими ошибками и ленью Ильи, я под конец класса разразилась слезами. Дети удивились, но Сереже стало меня жалко. Меня это тронуло; он всё потом ходил около меня, был тих и внимателен. Отношения с Таней недружелюбны. Как грустно, что с детьми вечная борьба. Мыслей дурных у меня нет, хотелось бы только больше движения и свободы. Я страшно устаю; здоровье плохо, дыханье трудно, желудок расстроен и болит. От холода точно страдаю и вся сжимаюсь. 17 сентября. Мои именины. Еще один день прошел, но нет ни Левочки, ни известий о нем. Утром встала ленивая, полубольная, озабоченная будничными интересами. Дети со Степой пошли змей пускать, прибегали меня звать оживленные, красные. Я не пошла. Велела принести из ружейного шкапа все Девочкины бумаги и вся ушла в мир литературных его произведений и дневников. Я с волнением пережила целый ряд впечатлений, но не могу писать задуманной мной его биографии, потому что не могу быть беспристрастна. Я жадно отыскиваю все страницы дневника, где какая-нибудь любовь, и мучаю себя ревностью, и это мне всё затемняет и путает. Но попытаюсь. Боюсь за свое дурное, недоброжелательное чувство к Левочке за то, что он уехал; я так его любила перед его отъездом, а теперь всё упрекаю его в душе, что доставил мне столько тревоги и горя. Странно это сообразить, что он боится моей болезни и сам своим отъездом в худшую пору моего нездоровья мучает меня. Теперь я от тревоги не сплю ни одной ночи, не ем почти ничего, глотаю слезы или украдкой плачу несколько раз в день от беспокойства. У меня всякий день лихорадочное состояние, а теперь по вечерам дрожь, нервное возбуждение и точно голова треснуть хочет. Чего я не передумала в эти две недели. С детьми нынче было хорошо; боюсь, я злоупотребляю тем, что возбуждаю часто их жалость ко мне. Так радостно видеть их заботливость. Таня делается красива; очень меня смущает своей детской влюбленностью в скрипача Ипполита Нагорнова. После завтрака не учила их; вдруг точно упала во мне энергия, и я не могла ничего делать. Боже мой, помоги мне держаться, может быть, еще несколько дней; всё думаю: «За что, за что я наказана, за то, что так любила?» И теперь надорвалось это счастье, я озлоблена за то, что опять подавлены и мой хороший порыв любви, и наслажденье счастьем. 18 сентября. Получила сегодня телеграмму из Сызрани. Послезавтра утром приедет. И вдруг сегодня всё стало весело, и детей учить легко, и в доме всё так светло, хорошо, и дети милы. Но грудь болит, неужели я буду больна, сегодня до слез было обидно и страшно за наше общее спокойствие. Но говорить много было мучительно больно, когда учила детей и толковала. Нет дыханья свободного. Вечером дети пришли снизу от уроков. М. Rey всё не в духе; оказалось, что все шалили в классе и всем двойки за поведение. Я стала говорить, что Сережа себя дурно ведет и я его на охоту не пущу; что, может быть, он исправится, если его накажут. Сережа вдруг вспыхнул и говорит: «Au contraire»[33]. Мне это было очень больно. Но он, прощаясь, спросил, сержусь ли я на него, и я была этому рада и простила его. Степа очень мил и мне помогает усердно; учит детей, заставляет их повторять уроки. Когда вспомню, что послезавтра Левочка приедет, так и прыгнет сердце, точно свет в дом внесет.1877
27 февраля. Сегодня, перечитывая дневники старые Левочки, я убедилась, что не могу писать «материалов к биографии», как хотела. Жизнь его внутренняя так сложна, чтение дневников его так волнует меня, что я путаюсь в мыслях и чувствах и не могу на всё смотреть разумно. Жаль оставить мечту свою. Могу записывать нашу теперешнюю жизнь и все слова и рассказы его об умственной деятельности и в этом постараюсь быть добросовестна и неленива. Он в Москве, поехал держать корректуры к февральской книге[34] и встретиться с Захарьиным, чтоб посоветоваться о головных болях и приливах к мозгу. Когда я просила на днях Левочку что-то рассказать мне о его прошлой жизни, он сказал мне: «Ах, не спрашивай меня, пожалуйста, меня слишком волнуют воспоминания, и я стар уж, чтоб переживать в воспоминаниях всю свою жизнь».1878
21 сентября. Был у нас Николенька Толстой. Делали планы ехать в Москву с ним и его молодой будущей женой[35]. Это звездочка. 22 сентября. Левочка с Илюшей ездили с борзыми на охоту, привезли шесть зайцев. Андрюше привили оспу. 23 сентября. Свадебный день, 16 лет. Учила детей по-немецки, очень хорошо, погода тихая, теплая и ясная. Андрюша очень радует. 24 сентября. Воскресенье. Встала поздно. Левочка ездил к обедне; пили кофе втроем: Левочка, Машенька (сестра) и я. После завтрака дети пошли в Ясенки пешком. Машенька уехала в Тулу с Ульянинским – гимназистом, греческим и латинским учителем Сережи; Левочка с Сережей пошли с ружьями и гончими на охоту. Я осталась кроить мальчикам куртки. Потом я поехала с Машей и Анни[36] в катках к детям в Ясенки. Перед отъездом моим приехал князь Урусов, который тоже с ружьем пошел отыскивать наших охотников. В Ясенках нашла детей в лавочке, они покупали и ели сладости. К обеду все собрались. После обеда сыграли в сумерках игру в крокет. Левочка, Илюша и я – т. Nief, Леля и Урусов; они выиграли. Левочка и Урусов играли вечер в шахматы, дети ели сладкое и были в распущенном духе; я читала [роман] «Journal d’une femme» Октава Фёйе. Очень хорошо и идеально. Конец не натурален. Но это всё написано как будто с намерением в контраст новейшей, слишком реальной литературе. 12 часов ночи, Левочка ужинает, сейчас идем спать. 25 сентября. Утром учила детей, к обеду приехала Машенька, привезла с собой Антона, Россу[37] и Надю Дельвиг. Дети пришли в восторг. После обеда танцевали кадриль, и я с Лелей, чтоб порядок держать; играли нам Левочка с Александром Григорьевичем [Мичуриным, учителем музыки]; потом Машенька играла на фортепьяно, Александр Григорьевич на скрипке, шло довольно хорошо. Играли прелестную сонату Моцарта, Andante которой во мне всегда душу переворачивает. Левочка потом играл Вебера сонаты. Но тут скрипка Александра Григорьевича мне показалась уж очень плоха сравнительно с Нагорновым. Последнюю играли Бетховена «Крейцеровскую сонату»; шло плохо, но соната – что должно это быть хорошо сыгранное! Потом дети и я с ними играли в карты, в судьбу. Росса проста и мила, но слишком некрасива. Ночевали все у нас. На другой день, 26 сентября. Встала с головной болью. Левочка уехал с Антоном к обедне. Остальная компания играла очень весело в крокет. Дни стоят ясные; всё пожелтело, но листья держатся, и красиво всё очень. Ночи морозные и лунные. После завтрака играли опять в крокет: Росса, я, Антон и Сережа. Левочка уговорил детей идти с борзыми по полям. Всякий из них взял на свору свою собаку, охотник с верховой лошадью и тоже со сворой, и все пошли с Анни, [гувернанткой] m-lle Gachet и т. Nief. Картина была очень красивая. Когда кончили крокет и остальные пошли в поле, я ушла к Василию Ивановичу [преподавателю старших детей]. Мне было очень у них неловко и грустно в этот раз. Туда же пришел и возвратившийся Сережа и удивился, увидав меня. Сережа любит Василия Ивановича и никогда его не забывает, и мне это приятно. Левочка ходит тоже на охоту и убил в молодой посадке березовой тетерьку. Дети играли до обеда в крокет, а я следила. Сейчас после обеда Дельвиги уехали, дети все столпились в Левочкиной гостиной, болтали, смеялись с нами и играли в колотушки. Легли спать рано. 27 сентября. Всё ясно и сухо. Много кроила, шила, учила Лизу[38] по-французски, Машу, Таню – по-немецки. В духе хозяйственном и аккуратном. Андрюше в пятницу привили оспу, и он нездоров и беспокоен, а у меня болят соски. Левочка был за Засекой с борзыми и ничего даже не видал; занятия его еще не идут, и у него болит спина. Машенька что-то не в духе, зябнет и недовольна. 1 октября. Воскресенье. Покров. Утром Левочка уехал к обедне. Сережа брал греко-латинский урок у Ульянинского, я долго спала, потому что оспа очень тревожит Андрюшу и он не спит ночи; дети все с утра нарядились и ждали моего вставания с волненьем, потому что погода нахмурилась, а они собирались к Дельвигам. Но было тепло, и я их отпустила. Все четверо с m-lle Gachet поехали. Приехал Урусов, пошли с т. Nief и Левочкой за вальдшнепами. Машенька больна, сидела внизу и лечилась гомеопатией, я осталась совсем одна, потаскалась по воздуху, по крокету, по дому и села шить. Обедали в 7 часов, потом сидели, приятно беседовали о серьезных вещах, Левочка и Урусов играли в шахматы, я вышивала шелками по канве Андрюше платье. Дети веселые, очень довольные, вернулись в десятом часу и рассказывали. 2 октября. Учила детей, вдруг кто-то подъехал. Оказался Громов с дочерью Надей, невестой Николеньки. Она очень мила, проста, серьезна. Я буду ее любить. Сейчас после обеда они уехали, вечер проработала, вместе с Таней ходила в ванну. Всё в доме у нас спокойно, весело и совсем не скучно. Погода всё ясная, и ночи прелестные, лунные. Андрюше лучше. 3 октября. Просидела дома, несмотря на чудную погоду. Учила детей, бранила и наказала Таню за то, что она не пошла гулять, а убежала от m-lle Gachet. Машенька со мной сидела, была в очень хорошем духе. Левочка ездил на охоту, затравил пять зайцев; упал вместе с лошадью и, слава богу, убил только руку, хотя на всем скаку через голову перелетел и у лошади подогнулась шея, так что она встать долго не могла. Сережа ставил мушку к боку правому, я всё еще о нем не совсем успокоилась. Андрюша необыкновенно мил, ел сам из ручки хлеб и припивал молоком. Завтра приедет Николенька. Дети в свободные часы играли в крокет. Пока Левочка, приехавши с охоты, обедал, я получила письмо от сестры Тани, ужасно обрадовалась, читала всем это письмо вслух и не могла удержать улыбки радости. Когда дошли до места, где она посылает поклон доброму, тихому, набожному, белотелому (всё это ему выгадали в лубочной книге «Оракул») вашему папаше, как мы его шутя называли, играя в крокет, все расхохотались. 4 октября. Танино рожденье, ей 14 лет. Когда встала, пошла к детям в лес, там у них был устроен пикник. М. Nief с засученными рукавами делал une omelette и варил шоколад. Тлели четыре прогоревших костра, Сережа жарил шашлык. Все были очень веселы, ели очень много, а главное, погода была чудесная. Когда вернулись домой, играли в крокет, смотрим – идут по прешпекту ослы и лошади из Самары. Радость была большая, дети сейчас же влезли и поехали на ослах. К обеду приехали Николенька и баронесса Дельвиг с Россой. Пили шампанское за здоровье Тани, она краснела, но была довольна. Вечером провожали на Козловку в катках гостей Таня и я, легли поздно. Левочка пешком выходил нам навстречу. 6 октября. Больна, у меня флюс и ломота по всему телу. Утром взошла к Левочке, он сидит внизу за столом и пишет что-то. Это он начал, говорит, в десятый раз начало своего произведенья. Начало – это прямо разбирательство дела, в котором судятся мужики с помещиком. Дело это он вычитал из подлинных документов и даже числа оставил. Из этого дела, как из фонтана, разбрызгается действие и в быт крестьян и помещика, и в Петербург, и в разные места, где будут играть роль разные лица[39]. Мне понравилась эта entrée e matière[40]. Дети учатся, вялы и придумывают разное себе веселье. 8 октября. Была Николенькина свадьба. Левочка уехал с утра в Тулу, он был посаженым отцом, мы с Таней вдвоем поехали вечером прямо в церковь, где уже началось венчание. Таню поразило пенье певчих и свадьба. После церемонии мы сейчас же уехали. Сережа был на охоте, затравил двух зайцев. Утром дети ездили в Ясенки на ослах. 9 октября. Приехал [управляющий] Бибиков из Самары, привез дурные вести: доходу опять почти ничего. Я страшно рассердилась, там сняли участок, я ничего об этом не знала, купили скотину, и урожай оказался тоже нехорош. Была страшная ссора с Левочкой. Я себя чувствую несчастной и еще не чувствую себя виноватой, но как я всё ненавижу: и себя, и свою жизнь, и мое так называемое счастие! Мне всё скучно, всё противно… 11 октября. Приехал утром Дмитрий Алексеевич Дьяков. Он ездил искать дочери именье. Левочка ходил на охоту, ничего не убил. Вчера он убил двух вальдшнепов и зайца, которого разорвали собаки. По вечерам всякий день у нас чтения, т. Nief читает «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Чтение это очень приятно, дети интересуются и ждут вечера с нетерпением. Левочка много читает материалов к новому произведению, но всё жалуется на тяжесть и усталость головы и писать еще не может. Мы опять дружны, и я себе сказала, что буду беречь его. 13 октября. Мы сидели учились с Лелей и Лизой, вдруг дети завизжали от радости. Приехал Сергей Николаевич из Тулы, куда он ездил по делам. Прошел день в разговорах. 14 октября. Сегодня уехала от нас Машенька. Сергей Николаевич ездил в Ясенки к Хомякову, собирать сведенья о каком-то управляющем. Левочка ходил на охоту и видел шесть тетеревов. Сергей Николаевич много раз спрашивал о сестре Тане; он ее не забыл и не забудет; говорит, что ему очень хотелось поговорить с ней, когда он ее встретил на железной дороге. Сережа ударил Лелю, который бросил в него палку. Сережа же хотел и пытался эту палку вырвать. Я очень сердилась и бранила Сережу. Приехал вечером горбатый учитель рисования. Учились рисовать Таня, Илья и Леля. Таня серьезно училась, а мальчики хохотали и шалили; Сережа учился по-гречески и латыни с Ульянинским. Потом читали опять вслух «Трех мушкетеров». Чтение это продолжает интересовать детей. Я в странном духе. Занята очень своей наружностью, начинаю мечтать об иной жизни, чем теперь. То есть мне опять хочется много читать, образовываться, умствовать, хочется быть красивой, думаю о платьях и глупостях. Мечтаю о поездке с детьми в Москву. Андрюшу очень люблю. 15 октября. Прихожу утром чай пить, сидят в гостиной Левочка, Сережа-брат, дети и два учителя – горбатенький рисовальный и гимназист Ульянинский. Немного стесняет присутствие учителей. Левочка ездил к обедне. Начались сборы на охоту, оседлали семь лошадей, поехали с борзыми Левочка с Сережей-братом, Сережа-сын, Илюша, т. Nief и двое людей. Таня, Маша, Леля, m-lle Gachet и Лиза отправились на ослах на Козловку. Я осталась одна, возилась с Андрюшей,но соскучилась, когда он заснул, велела заложить себе тележку и поехала встречать детей. Встретила их у границы, посадила к себе m-lle Gachet, поехали домой, велели подать редьки тертой и квасу и ели. Решили дожидаться охотников к обеду. Вернулись наши охотники в седьмом часу, веселые и довольные, привезли шесть зайцев, которых нанизали на палку и торжественно нам принесли. Вечером читали Дюма, все устали. Сережа очень любезен, говорит всё приятные вещи мне и о детях. Иду спать. 16 октября. Утром поздно встала, в спальню ко мне, как всегда, вошли дети один за другим, потом Левочка. Андрюшу, спавшего утром у меня, я его кормила, унесли, а я стала мерить новое платье, которое очень хорошо. Потом посидела с Сережей-братом, он не в духе и не весел, потом мы его проводили в Пирогово. Читала по-немецки с Лелей и Илюшей. После обеда Левочка уехал в Тулу на заседание реальной гимназии, где он попечителем. Я взялась составить краткую биографию Левочки для нового издания «Русской библиотеки», составленного из произведений его по выбору Страхова. Издаст это Стасюлевич. Оказалось, писать биографию – дело нелегкое. Я написала немного, но плохо. Мешали дети, кормление, шум и незнание жизни Левочки до моего замужества достаточно подробно для биографии. Взяла в образцы биографии Лермонтова, Пушкина и Гоголя. Увлеклась чтением стихов и с таким наслаждением окунулась в мир поэзии, которую я так люблю. Но жаль, что поэты – тоже люди с большими недостатками; биография Лермонтова очень его портит. Читали опять немного Дюма; детей всё больше и больше это завлекает. Шила фланелевую фуфаечку Андрюше. Читаю «LTdee de Jean Teterol» Андре Шербюлье, и мне очень не нравится. В отсутствие Левочки со мной сидит вечер m-lle Gachet. Левочка не занимался сегодня, только утром мне сказал: «Как у меня это хорошо будет». 18 октября. Андрюша был нездоров, горел и вздрагивал, и желудок расстроен. Встала поздно. Дети ушли – мальчики с собаками в поле мышей травить, девочки и Леля поехали на ослах. Левочка уехал на охоту с борзыми. Я играла в крокет с m-lle Gachet и Василием Ивановичем. Одну партию выиграли мы, другую – m-lle Gachet. Ясно и тепло, южный ветер, сухо и красиво. Взялась опять учить Лелю музыке. Обед был очень дурен, картофельная похлебка пахла салом, пирог был сухой, левашники[41] – как подошвы, а зайцев я не ем. Ела один винегрет и после обеда бранила повара. В это время приехал Левочка, затравил четырех зайцев и одну лисицу; он вял, молчалив и сосредоточен. Всё читает. Сегодня получила с почты шелковую материю с Кавказа от Тани и от Скайлера перевод на английский «Казаков», довольно хорошо. Вечер читали вслух Дюма, кроила и слаживала Андрюше белое кашемировое платьице, хочу вышить красным шелком по канве. Илью и Лелю мыли в ванне внизу; они шалили и смеялись, я вошла посмотреть, когда они легли – такие веселые, чистенькие, славные. Входила я с предлогом посмотреть ночную рубашку, про которую Илюша сказал, что она коротка. Чувствую себя нравственно тяжелой с желанием движенья и каких-нибудь emotions. 21 октября. Андрюша был очень болен вчера: похолодели у него ручки и ножки, сделался сильнейший жар, и он во сне тряс головой, рыдал, дергались у него губки и открывались и закатывались глазки. Сегодня жар прошел, сделался понос. Сон такой же беспокойный, я очень беспокоюсь. Приезжал из Петербурга редактор нового журнала «Русская речь» Навроцкий. Читал свои стихи и отрывки из драмы – недурно. Много рассказывал новостей из Петербурга, и было нескучно. Учителя опять приехали, сегодня суббота. Были блины. С Сережей было объяснение; вчера я его упрекала, что он дразнить любит, меня это мучило, я ему сказала, что если упрекаю, то любя, хочу, чтоб мои дети были счастливы, а счастье зависит больше всего от того, чтоб все любили. Думала о том, что жаль, что царей бальзамируют. Надо хоронить всех прямо в землю. «Земля еси и в землю пойдеши». А бальзамирование, склепы – всё это божье наказанье. Левочка был на охоте, затравил зайца. Вчера он немного писал что-то, мне еще не показывал. Погода испортилась, идет мелкий дождь. У Сережи третий день покалывает опять бок. 22 октября. Воскресенье. Дети ходили или ездили на ослах в Ясенки, брали еще для Маши тележку с Колпиком в упряжи. Покупали и ели там сладкое. Анни и я оставались с Андрюшей. Он всё не совсем здоров. Я ему кроила фартучки и проскучала день в одиночестве. Утром горбатый рисовальный учитель интересно рассказывал свою карьеру рисовальную на шелковой фабрике. Левочка был у обедни, потом с гончими ходил с Сережей на охоту. Было неудачно. Няня в Туле, и я с 7 часов утра с Андрюшей и устала. Левочка хотел писать письма, но не пошло, и написал только Тургеневу и Страхову. Дети вечером играли в прятки и разные игры, я читала Шербюлье. Недурно. Левочка читал и спал. 23 октября. С утра Левочка, после того как пил со мной кофе, уехал с борзыми за Засеку на охоту. Я учила Машу по-русски, потом Лизу по-французски, потом Лелю по-немецки. К обеду Левочка приехал, привез трех зайцев. Сережа играл сонату Гайдна довольно хорошо со скрипкой. Александр Григорьевич ему аккомпанировал. Вечером Левочка играл Вебера и Шуберта сонаты, тоже со скрипкой, я вышивала Андрюше белое кашемировое платьице красным шелком и слушала музыку с удовольствием. Погода ветреная и неприятная. Левочка нынче говорит, что столько читал материалов исторических, что пресыщен ими и отдыхает на чтении «Мартина Чезлвита» Диккенса. А я знаю, что когда чтение переходит у Левочки в область английских романов – тогда близко к писанию. Дети здоровы, Леля очень хорошо учится, Илья вышивает что-то с увлечением по канве, Маша всё улыбается и очень тиха, покорна, но, как всегда, мне непонятна. Таня сосредоточена и ленива, без энергии, но и без каприза. (Мужик вывел в доме всех крыс и мышей, и ему дали 5 рублей.) 24 октября. Когда встали, шел дождь, потом перестал. Мы смотрели, как Мишку спускали в колодезь на шесте и веревке, доставать бадьи и ведра. Достали благополучно два старых, новое ведро не нашли. Ходили в кладовую, вещи пересматривать, которые были уложены в сундуки на зиму. Учила детей, вышивала платьице. Андрюшу носила по комнатам и заметила, что он очень любит картины и портреты, взвизгивает и радуется на них. После обеда был оживленный разговор с детьми, делали планы играть на святках домашний спектакль. Читаем всё с пропусками «Три мушкетера». Левочка ходил в Заказ с гончими, ничего не убил. Он желчен и вял, но мы дружны и счастливы. Писать еще он не может. Нынче говорит: «Соня, если я что буду писать, то так, что детям можно будет читать всё, до последнего слова». 25 октября. Учила Лелю музыке, искала menuetto легкий для него в симфониях Гайдна. С Машей читала, с Лизой училась. Шила Андрюше платьице пике белое. Левочка ездил на охоту с борзыми. Привез одного зайца и белого маленького зверька, вроде ласочки. Вечером вдвоем делали обзор всей Левочкиной жизни для биографического очерка. Он говорил, а я записывала. Дело это шло весело, дружно, и я так рада, что мы это сделали. Дети много учатся. Погода ветреная, дождь проливной идет. Вечером читали Дюма. 27 октября. Утром отправила Левочкиных десять писем на почту, встала и вышла к своему вечно одинокому утреннему чаю; было ясно, и я грустная, глотая слезы, выпила свой чай и пошла гулять. Левочка с утра уехал на охоту с борзыми. Поиграв с Андрюшей, я пошла гулять, отыскивать детей. Нашла трех мальчиков на гумне, они бегали кругом стогов, и т. Nief читал лежа на соломе, а с девочками я разошлась. В саду было чудесно. Перед обедом рассердилась на Илюшу и Лелю, что утащили икры, и побила Илью и очень бранила обоих. Вечером при лунном свете катались в катках и тележке со всеми детьми и гувернерами. Погода чудесная. Потом писала Левочкин биографический очерк. Вчера Андрюша был нездоров, лихорадочное состояние, и приезжал Алексей Алексеевич Бибиков. Иду ужинать, есть щучку вареную, потом кормить и спать. 28 октября. Пила чай одна, потом Таня пришла, у нее горло болело. Я очень встревожилась, велела ей полоскать горло бертолетовой солью, на стакан кипятку чайную ложку соли; общее ее здоровье хорошо, и я успокоилась. Ходила я смотреть в лесу, как делают бочки, мы взялись сделать 6000 бочек Гилю; шли мы лесной дорожкой, прелесть как было хорошо, ясно, морозно и тихо. Гуляла я с Машей, m-lle Gachet и Анни. Мальчики опять играли в стогах сена на гумне. Опять во время обеда приехали учителя. Таня нарисовала черным карандашом головку довольно хорошо. Шила рубашечку крестильную Парашиному мальчику, мыла, в первый раз после прививанья оспы, Андрюшу. Левочка ходил с гончими, убил зайца. 29 октября. Шел снег, стало грязно и тепло. Дети бегали, играли в прятки и шумели, но им было весело. Весь день по случаю непогоды все сидели дома. Левочка пытался заниматься, а я кончила сегодня биографический очерк жизни его; писала весь день. Вечером было чтение, и я дошила крестильную рубашечку. 1 ноября. Вчера утром Левочка мне читал свое начало нового произведения. Он очень обширно, интересно и серьезно задумал. Начинается с дела крестьян с помещиком о спорной земле, с приезда князя Чернышева с семейством в Москву; закладка храма Спасителя, богомолка, баба, старушка и т. д.[42] К обеду приехал Дьяков. Левочка убил зайца; вечером сидели, разговаривали об именьях, которые Дьяков всё осматривает для Маши. В понедельник крестили Парашиного мальчика Сережа с Таней; очень серьезно себя вели, но Илюша очень смеялся и Лелю смешил. Сегодня я ездила в Тулу с Дмитрием Алексеевичем, Сережей и Таней. Было морозное, ясное утро. В Туле мы покупали на шубу Тане, Сереже полушубок (12 рублей серебром), заказали Сереже пальто теплое (65 рублей), Тане ботинки, мне кофточку на лисьем меху из своих лисиц и многое другое. Левочка занимался дома; когда мы возвращались, он вышел нам навстречу; всегда такая радость – когда едешь домой, увидать его серое пальто издалека. Андрюша не скучал и здоров. Привезла мальчикам волчки по 10 копеек каждый, Маше – наперсточек и куклам бусы, серьги и брошку, всем – теплые перчатки и разные мелочи. Устала я ужасно, мы ничего не ели весь день, кроме сладких пирожков да хлеба ситного. Вечером мыла Андрюшу, у него очень велико незаросшее темечко, и меня очень беспокоит. Дочли нынче с большим интересом «Трех мушкетеров»; Левочка сидел вечером долго за фортепьяно и что-то импровизировал, у него и на это есть способность. Получила письмо от Тани, у ней отказалась miss Maccarthy, и она желает взять Анни, а я не могу еще ее отпустить, не знаю, что делать. 4 ноября. Вчера не писала журнал, расстроена была, потому что Левочка с Сережей ездили на охоту, был туман, они заблудились верхами, потеряли дорогу и не возвращались до девятого часа вечера, что меня очень встревожило. Протравили трех лисиц и привезли одного зайца. Сегодня я ходила гулять, провожала Левочку на охоту с гончими. Девочки ездили на ослах. Приехали учителя; читали вслух немного скучную вещь. Левочка не пишет почти и упал духом. Шила фланелевые панталоны Тане, метила шелком красным платки Андрюше. Учила детей, спорила с Левочкой о французском для Сережи: я считаю нужным учить литературу французскую, а он – нет. Маше продела Андрюшина няня дырочки в ушах для серег. 5 ноября. Длинное, скучное, туманное и одинокое воскресенье! Левочка с Сережей были на охоте с борзыми, Сережа затравил зайца. Остальные дети с Анни, m-lle Gachet и т. Nief отправились с ослами и тележкой в Ясенки, где накупили разных сластей. Я много работала и возилась с Андрюшей. Меня всё тревожит его большое, незаросшее темя и большая голова. Вечером играли в четыре руки трио Моцарта; Левочка ужинал и, по обыкновению своему, во время ужина или утреннего кофе, читал. Я пила чай, ела кислую капусту. Дочла «Maison des deux Barbeaux»[43] в «Revue des deux Mondes» и нашла, что довольно интересно. Утром Таня, Илья и Леля рисовали с учителем, а Сережа учился по-гречески и латыни с Ульянинским. Таня стала довольно хорошо тушевать, то есть класть тени. Начало мое, я вижу, было хорошо; с учителем только четвертый урок, а со мной было три года. 6 ноября. Туман, тяжелый воздух. Читала по-немецки с Лелей и вечером с Илюшей. Учила Машу по-русски; она мне сказала стихи Пушкина «Буря мглою небо кроет…» довольно хорошо, но дурно переписала, я ей вырвала лист из тетради. Был Александр Григорьевич, он учит дурно Илью и Лелю. Левочка ездил на охоту, привез двух зайцев. Скучает, что не может писать; вечером читал Диккенса «Домби и сын» и вдруг мне говорит: «Ах, какая мысль мне блеснула!» Я спросила что, а он не хотел сказать, а потом говорит: «Я занят старухой, какой у ней вид, какая фигура, о чем она думает, а надо, главное, ей вложить чувство. Чувство, что старик ее Герасимович сидит безвинно в остроге, с половиной головы обритой, и это чувство ее не оставляет ни на минуту». Потом он сел за фортепьяно и играл, импровизируя. Я читала в «Revue des deux Mondes» о живописцах и живописи. Стегала сегодня одеяльце Андрюше. У детей был вечером разговор об аффектации, нападали на Таню, как она себя вела у Дельвигов, когда туда ездила. Все здоровы у нас. 7 ноября. Кроила Левочке рубашки, учила Лизу; была неприятная история: мне казалось, что у меня отрезали от куска полотна, я была несправедлива; смеривши полотно и посмотрев счет, оказалось число аршин верно. Левочка ходил вечером с Илюшей и Лелей в баню; он повеселел, и мысли его для писанья уясняются. Я всё тревожусь о голове Андрюши. У Тани немного болит горло; спрашивала ее урок истории об Александре Невском, она знала не совсем хорошо. С Лелей была священная история о казнях египетских и Моисее. 10 ноября. Не писала журнал, потому что у самой голова болела, Андрюша вчера захворал, был насморк и сделался сухой, хриплый кашель, сегодня ему получше. Левочка тоже не в пример прочих дней сидит сегодня дома, у него насморк и простудное состояние. Учила Лелю, он делал перевод с английского, рассказывал об исходе евреев из Египта и играл со мной на фортепьяно; мы разучиваем с ним менуэт Гайдна в четыре руки. Маша писала сочинение – описание их комнаты, учила стихи «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…» и читала вслух. Сегодня у ней был первый урок арифметики с отцом, она только едва понимала, что такое 20, 40, 50 и т. д. На Таню мы сегодня ворчали, учится лениво. С Левочкой играла в четыре руки вечером, шила небеленого полотна фартучки Маше, читаю «Le roman d’un peintre» [Фердинанда Фабра] – довольно скучно. Сейчас пили чай, ужинали соленую рыбу, сегодня пятница – Левочка ест постное. Акульку, нянину внучку, приняли по моей просьбе в приют, и завтра ее везет ее дядя Сергей[44] в Тулу. Налаживаем коньки, небо серо, тучи ходят, морозно и похоже на снег, пора бы! Чувствую себя работающей машиной, хотелось бы жизни немного для себя, да нет ее… И об этом ничего… ничего… молчание. 11 ноября. Жаль, что журнал пишешь всегда вечером, усталая. Ночью сегодня Андрюша вдруг захрипел, стал со свистом кашлять, и это продолжалось от 4 до 8 часов утра. Я очень испугалась. Потом стало легче, но и теперь всё кашляет очень резко с хрипотой, и у него понос. Я ему только дала три антимониальные капли и привязала к горлу мыло с салом, маслом и камфарой, всё это натертое на новую фланельку. Левочка сегодня говорил, что у него в голове стало ясно, типы все оживают, он нынче работал и весел, верит в свою работу. Но у него голова болит, и он покашливает. Приехали опять учитель рисования и гимназист Ульянинский. Таня рисует головку пастушка довольно хорошо, а Илья и Леля только для удовольствия рисуют. Я много очень работала, сшила фланелевую фуфайку Андрюше, подушку и две наволоки ему же. Получила письмо от мама. 14 ноября. В воскресенье, третьего дня, мы ездили в Тулу – Сережа, Таня, Илюша, Леля и я. Было темно, тепло и грязно. Дети очень радовались; приехали к Дельвигам в шестом часу, Сережа был уже там, он уехал раньше с учителями. Дети играли в разные игры и танцевали, а я на них радовалась. Утром в воскресенье был у нас Оболенский; Левочка пробыл вечер дома, потом вечером пошел к нам навстречу; у него болела голова. От Дельвигов я привезла водевили Соллогуба, чтоб выбрать пьесу детям играть на святках. Вчера мы пьесу одну читали: «Мастерская русского живописца», кажется, будет подходящей, но приготовления и планы – это всегда весело. Вчера же вечером Левочка играл с Александром Григорьевичем на фортепьяно со скрипкой. Сегодня утром, после дурной ночи с кошмарами и снами, пила чай с Левочкой, это так редко бывает, и мы затеяли длинный философский разговор о значении жизни, о смерти, о религии и т. д. На меня подобные разговоры с Левочкой действуют всегда нравственно успокоительно. Я по-своему пойму его мудрость в этих вопросах и найду такие точки, на которых остановлюсь и утешусь во всех сомнениях. Я бы изложила его взгляды, но не могу, особенно теперь, устала и голова болит. Всякий день Левочка на охоте. Вчера он затравил с борзыми шесть зайцев, сегодня с гончими ходил и застрелил лисицу. Опять приезжал Оболенский Дмитрий, его дела плохи, и он точно душу отводит у нас[45]. Левочке всё нездоровится, Андрюша нездоров – у него понос, но он весел. 16 ноября. Левочка говорит: «Все мысли, типы, события – всё готово в голове». Но ему всё нездоровится, и он писать не может. Начал есть вчера постное, против чего я очень восстаю для его здоровья. Сегодня сидел дома, вчера был на охоте с борзыми, затравил трех зайцев и лисицу. Учила сегодня Лелю, было чтение русское и грамматический разбор, потом Таня очень плохо отвечала свой урок из русской истории Иоанна III. Маша читала и переписывала. Достала вышивать свой ковер. Сережа и Таня всё мечтают о веселье, и мне жаль, что я им его так мало могу доставить, но буду стараться всей душой. Собрались мы сегодня вечером в балконной комнате – Левочка, я и все шестеро детей, и мне вдруг грустно стало, что когда-нибудь все мы будем разбросаны и вспомним об этом времени. Получила сегодня письмо от Тани, а вчера – от Страхова и Лизы Оболенской. Всё пристаю к Левочке поправить написанный мной его биографический очерк и не допрошусь. 19 ноября. Вчера Левочка опять затравил четырех зайцев и лисицу, а сегодня был у обедни и занимался утром. Слава богу, я его уговорила бросить постное, а то он совсем было разболелся желудком. Он перечел свою биографию и сказал, что не совсем плохо, но еще не поправил. Сережа, Илюша и т. Nief ездили верхом в Ясенки смотреть, как будет проезжать государь, но видели только поезд «и поваренка», как шутил т. Nief. Таня и Леля тоже ездили верхом к их большой радости, а Маша в тележке с m-lle Gachet. Таня с большим наслаждением смотрела на шлейф моей черной юбки, которую она надела. В пятницу у нас была большая история с Илюшей. Он не учился, не слушался, был груб с т. Nief бросался в него мокрой губкой, и отец решил оставить его без обеда. Когда я вошла в их детскую внизу, он лежал на постели вниз головой и животом и рыдал. Мне очень его было жаль, мы его утешали и утешили, но обедать не дали; зато с каким аппетитом он, бедный, ел ростбиф за вечерним чаем! Сегодня вечером я играла детям кадриль, и они очень весело плясали, сначала большие, потом маленькие. Я наконец дожила до своей осенней болезненной тоски. Молча, упорно вышиваю ковер или читаю; ко всему равнодушна и холодна, скучно, уныло, и впереди темнота. Я знаю, с зимой это пройдет, а пока несносно. У нас в зале окно открыто, на дворе постоянный туман и тепло. 21 ноября. Разные неприятности: няня оказалась беременна и через два месяца уйдет. Бедному Андрюше придется взять новую няню, [буфетчик] Григорий отказался от места. Левочка нынче был на охоте и затравил шесть зайцев, брал Илюшу; Сережа кашляет, и они с Таней весь день играли вальсы, а Сережа еще сонату Бетховена Fantasia. Вечером дети плясали кадриль и разные танцы. У Андрюши понос, и он очень ослабел в один день. На дворе тепло, и дети принесли распустившуюся вербу. 24 ноября. Три дня я нездорова, лихорадка, насморк, кашель, зубы болят. Всё тепло, и снегу нет как нет. Ушел Григорий. У Андрюши всё понос, он учится ползать. Леля учил со мной вечером странствование евреев по пустыне, вдруг замялся рассказывать, видит, что надо перечитывать еще раз, а час прошел, принялся рыдать, кричит: «Не могу, не могу, пусть единица будет!» Так и оставила ученье, но я с ним, слава богу, обошлась терпеливо и мягко и оставила урок до завтра. Мне всё мрачно на душе. Стали бродить страшные и ревнивые мысли и подозренья насчет Левочки. Я иногда чувствую, что это вроде сумасшествия, и всё шепчу себе: помоги, Господи! Да я и сошла бы с ума, если б случилось что-либо подобное. Ночью кормлю сижу Андрюшу, тихо, темно, чуть лампада светит; няня пошла пеленки вешать, вдруг слышу рядом в детской Анни кричит: «Сережа! Не смей, Сережа!» Я испугалась ужасно, положила Андрюшу в люльку и пошла к ним в комнату. Это Анни во сне кричала. Я прикрыла одеялами раскрывшихся во сне девочек и пошла спать. Меня трепала лихорадка, и я не спала всю ночь. Привезли нынче шубку Тане и кофточку и шапку. Моя лисья кофта узка в спине и рукава коротки. Левочка сидит два дня дома, он был в среду в Туле, обедал у Самариных. Я написала в этот день новый биографический очерк, но длинно, и опять потому не годится.1879
18 декабря. Прошло еще больше года. Сижу и жду каждую минуту родов, которые запоздали. Новый ребенок наводит уныние, весь горизонт сдвинулся, стало темно, тесно жить на свете. Дети и весь дом в напряженном состоянии: и праздники близко, и роды неопределенны. Страшные морозы, было более 20°. Маша болела неделю горлом с жаром. Сегодня встала. Левочка уехал в Тулу послать Бибикова в Москву по делам нового издания[46] и обещался купить кое-что к елке. Он много пишет о религиозном. Андрюша освещает мне всю жизнь, чудо как мил. Через два дня после этого родился Миша – в 6 часов утра 20 декабря 1879 года[47].1882
28 февраля. Мы в Москве с 15 сентября 1881 года. Живем близ Пречистенки, Денежный переулок, дом князя Волконского. Сережа ходит в университет, Таня ездит на Мясницкую в рисовальную школу, Илья и Леля ходят в гимназию Поливанова, почти рядом с нами. Жизнь наша в Москве была бы очень хороша, если б Левочка не был так несчастлив в Москве. Он слишком впечатлителен, чтоб вынести городскую жизнь, и, кроме того, его христианское настроение слишком не уживается с условиями роскоши, тунеядства, борьбы городской жизни. Он уехал в Ясную вчера с Ильей заняться и отдохнуть. 26 августа. 20 лет тому назад, счастливая, молодая, я начала писать эту книгу, всю историю любви моей к Левочке. В ней почти ничего больше нет, как любовь. И вот теперь, через 20 лет, сижу всю ночь одна и читаю и оплакиваю свою любовь. В первый раз в жизни Левочка убежал от меня и остался ночевать в кабинете. Мы поссорились о пустяках, я напала на него за то, что он не заботится о детях, что не помогает ходить за больным Илюшей и шить им курточки. Но дело не в курточках, дело в охлаждении его ко мне и детям. Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная мысль его о том, чтоб уйти от семьи. Умирать буду я – а не забуду этот искренний его возглас, он как бы отрезал от меня сердце. Молю Бога о смерти, мне без любви его жить ужасно, я это тогда ясно почувствовала, когда эта любовь ушла от меня. Я не могу ему показывать, до какой степени я его сильно, по-старому, 20 лет люблю. Это унижает меня и надоедает ему. Он проникся христианством и мыслями о самосовершенствованье. Я ревную его… Илюша болен, лежит в гостиной в жару, у него тиф; я слежу за тем, чтобы дать ему хинин в промежутке, который очень короток, и боюсь пропустить. Я не лягу сегодня спать на брошенную моим мужем постель. Помоги, Господи! Я хочу лишить себя жизни, у меня мысли путаются. Бьет 4 часа. Я загадала – если он не придет, он любит другую. Он не пришел. Долг. Я прежде так знала, что мой долг, а теперь? Он пришел, но мы помирились только через сутки. Мы оба плакали, и я с радостью увидала, что не умерла та любовь, которую я оплакивала в эту страшную ночь. Никогда не забуду прелестного утра, ясного, холодного, с блестящей, серебристой росой, когда я вышла после бессонной ночи по лесной дороге в купальню. Давно я не видала такой торжествующей красы природы. Я долго сидела в ледяной воде с мыслью простудиться и умереть. Но не простудилась, вернулась домой и взяла кормить обрадовавшегося мне и улыбающегося Алешу[48]. 10 сентября. Уехала тетя Таня с семьей в Петербург[49], а Левочка с Лелей в Москву. Последний теплый день, я купалась.1883
5 марта. Москва. Как всегда сильно действует на меня весеннее солнце. Оно так ярко светит в мой кабинетик наверху! В голове моей, теперь в тишине первой недели поста, проходит вся моя только что прошедшая зимняя жизнь. Я немного ездила в свет, забавляясь успехами Тани, успехами моей моложавости, весельем; всем, что дает свет. Но никто не поверит, как иногда, и даже чаще в веселье, на меня находили минуты отчаяния, и я говорила себе: «Не то, не то я делаю». Но я не могла и не умела остановиться. Мне так ясно, что я не по своей воле живу и действую, а по воле Бога или судьбы – как кто хочет назвать эту высшую волю, даже в мелких делах. Третьего дня, то есть 2-го, я отняла Алешу и опять переживаю эту душевную боль первого разрыва с любимым ребенком. И опять она повторяется, и никуда от нее не уйдешь. Наша жизнь в своем доме, довольно отдаленном от городского шума, гораздо легче и лучше прошлогодней. Левочка спокоен и добр, иногда прорываются прежние упреки и горечь, но реже и короче. Он делается всё добрее и добрее. Но, видит Бог и больше никто не узнает, что делалось в душе моей, когда я летом и осенью не хотела ехать в Москву, я не чувствовала в себе сил одна нести всю тяжесть и ответственность городской жизни. А в Ясной я оставляла всё, что любила и к чему привыкла. И как я оценила всё, когда уехала, а возврат был возможен еще в прошлом году… Но этот переезд вторичный – это дело детей с отцом, но не мое. И он был нужен, и это было божье дело для счастья семьи… А почему? Пишет Левочка всё еще в духе христианства, и эта работа нескончаемая, потому что не может быть напечатана[50]. И это нужно, и это воля Божья, и, может быть, для великих целей.1885
24 марта. Светлое Христово воскресение. Вчера Левочка вернулся из Крыма, куда ездил провожать больного Урусова. В Крыму вспоминал Севастопольскую войну и много ходил по горам и любовался морем. Когда они ехали с Урусовым по дороге в Симеиз, то проезжали место, где Левочка стоял во время войны со своим орудием, и в том самом месте он сам, и только один раз, выстрелил. Тому почти 30 лет. Едут они с Урусовым, а Левочка вышел вдруг из ландо и пошел что-то искать. Оказалось, что он увидал вблизи дороги ядро горного орудия. Не то ли это ядро, которым он выстрелил во время Севастопольской войны? Никто, никогда другой там не мог стрелять. Орудие горное было одно. Теперь вечер: дети старшие собрались с Олсуфьевыми, и Лопатин поет.1886
25 октября. Ясная Поляна. Все в доме – особенно Лев Николаевич, а за ним, как стадо баранов, все дети – навязывают мне роль бича. Свалив всю тяжесть и ответственность детей, хозяйства, всех денежных дел, воспитания, всего хозяйства и всего материального, пользуясь всем этим больше, чем я сама, одетые в добродетель, приходят ко мне с казенным, холодным, уже вперед взятым на себя видом просить лошадь для мужика, денег, муки и т. п. Я не занимаюсь хозяйством сельским – у меня не хватает ни времени, ни уменья, – я не могу распоряжаться, не зная, нужны ли лошади в хозяйстве в данный момент, и эти казенные спросы с незнанием положения дел меня смущают и сердят. Как я хотела и хочу часто бросить всё, уйти из жизни так или иначе! Боже мой, как я устала жить, бороться и страдать! Как велика бессознательная злоба самых близких людей и как велик эгоизм! Зачем я все-таки делаю всё? Я не знаю; думаю, что так надо. То, чего хочет (на словах) муж, того я исполнить не могу, не выйдя прежде сама из тех семейных деловых и сердечных оков, в которых нахожусь. И вот уйти, уйти, так или иначе, из дому или из жизни, уйти от этой жестокости, непосильных требований – это одно, что день и ночь у меня на уме. Я стала любить темноту. Как темно, я вдруг веселею; я вызываю воображением всё то, что в жизни любила, и окружаю себя этими призраками. Вчера вечером я застала себя говорящей вслух. Испугалась: не схожу ли я с ума? И вот эта темнота теперь мне мила; а ведь это смерть, стало быть, мне мила? Последние два месяца – болезнь Льва Николаевича – было последнее мое (странно сказать), с одной стороны, мучительное, а с другой – счастливое время. Я день и ночь ходила за ним; у меня было такое счастливое, несомненное дело – единственное, которое я могу делать хорошо – это личное самоотвержение для человека, которого любишь. Чем мне было труднее, тем я была счастливее. Теперь он ходит, он почти здоров. Он дал мне почувствовать, что я не нужна ему больше, и вот я опять отброшена, как ненужная вещь, от которой одной ждут и требуют, как и всегда это было в жизни и в семье, того неопределенного, непосильного отречения от собственности, от убеждений, от образования и благосостояния детей, которого не в состоянии исполнить не только я, хотя и не лишенная энергии женщина, но и тысячи людей, даже убежденных в истинности этих убеждений. Мы живем в Ясной дольше обыкновенного. Сил нет предпринимать что-нибудь, но совесть не спит и упрекает за то, что энергия падает. Надо твердо идти по пути, который считаешь правильным; и вот я по инерции иду. Я еду (кажется) опять в Москву, я соединяю семью, я веду книжные дела и добываю те деньги, которые, с напущенным на себя равнодушием и недоброжелательством ко мне, у меня же требует Лев Николаевич для фаворитов и бедных, которые не действительно бедны, но более наглы и лучше поняли, как выпросить: Константин и Ганя, Александр Петрович[51] и другие. Дети, которые, нападая на меня за разногласия с их отцом, требуют всё, что могут… Уйти, уйти – и я уйду так или иначе. Нет ни сил довольно, ни любви достаточной к труду, борьбе и терпенью. Буду писать свой журнал пока. Добрее буду и молчаливее, а волненье всё – сюда. Сырая, скучная осень. Андрюша и Миша катались на коньках на Нижнем пруду. У Тани и Маши зубы болят. Лев Николаевич затевает писать драму из крестьянского быта. Дай-то бог, чтоб он взялся опять за такого рода работу. У него болит рука – ревматизм. М-те Seuron очень приятна, весела и с детьми хороша. Мальчики – Сережа, Илья и Лева – таинственно живут в Москве, и о них я очень тревожусь. Какое-то у них странное отношение к человеческим и своим слабостям и страстям: что всё это естественно и должно быть, а если мы боремся и побороли, то мы молодцы. Зачем же должны быть слабости? Они бывают, это правда, и их поборешь, но не всякий же день, а раз в жизни, и борьба эта стоит того, чтоб бороться, и часто она сломит и жизнь, и сердце. Но не борьба же из-за Стрельны, вина, карт и тому подобных пошлых, противных страстишек! Я часто думаю, отчего Левочка поставил меня в положение вечной виноватости без вины. Оттого, что он хочет, чтоб я не жила, а постоянно страдала, глядя на бедность, болезни и несчастия людей, и чтоб я их искала, если они не попадаются в жизни. Того же он требует и от детей. Нужно ли это? Нужно ли, чтобы здоровый человек ходил постоянно в больницы и смотрел на корчи и страдания людей и слушал их стоны? Если случится на пути жизни такой больной, то пожалей и помоги ему, но зачем искать его? Читаю жизнь философов. Ужасно интересно. Но трудно читать спокойно и разумно. Ищешь в учении и словах всякого философа то, что подходит к твоему убеждению и взглядам, и обходишь всё несочувственное. И вследствие этого учиться трудно. Стараюсь быть менее пристрастна. Приехал Бутурлин. Этот – настоящий, и путаницы в нем мало. 26 октября. Левочка написал 1-е действие драмы [ «Власть тьмы»]. Я буду переписывать. Отчего я перестала слепо верить в его даже авторскую силу? Он пошел гулять с Бутурлиным. Темно, сыро. Слишком много болтала с Бутурлиным. Забыла правило (слова Эпиктета: «Как можно чаще соблюдай молчание, говори только то, что необходимо, и в немногих словах»). Но он умен и всё понимает, этот Бутурлин. Дети, Андрюша и Миша, играют с крестьянскими мальчиками Митрошей и Илюхой, и мне это неприятно, не знаю отчего. Думаю, оттого, что это их приучает властвовать и подчинять себе этих детей, а это дурно и безнравственно. Перечитывала вчера письма Урусова, и больно ужасно, что его нет. Доискивалась в них того, что и при жизни его хотелось всегда знать: как он относился ко мне? Знаю одно, что с ним всегда было хорошо и счастливо, а чем это давалось – не знаю. Думаю о старших мальчиках, как будто они отдалены ужасно, и мне это больно. Отчего отцам не больно бывает всё, что касается детей? И за что женщинам и эта тяжесть в жизни? Только путает жизнь. 27 октября. Переписала 1-е действие новой драмы Левочки. Очень хорошо. Характеры очерчены удивительно, и завязка полная и интересная. Что-то дальше будет. Левочка читал вслух вечером Бутурлину свою «Критику богословия»[52]. Я прислушивалась и тотчас же думала о другом. Не забирает меня – или сердце мое зачерствело, или не то. От Ильи письмо о женитьбе. Не увлеченье ли это только что проснувшегося физического чувства, направленного на первую женщину, с которой пришел в более близкие отношения? Не знаю, желать этого брака или нет, и прямо, не прилагая к этому моей руки – во всем полагаюсь на Бога[53]. Учила не усердно и не плодотворно Андрюшу и Мишу. Они мне оба очень дороги. Поправляла корректуру для дешевого издания и очень устала. Жалею уезжать из Ясной особенно потому, что боюсь прервать работу, начатую Левочкой. Маша бегает без ученья, мальчики мучают, дела не идут. Если Левочка в Москве будет работать, я успокоюсь. Буду с ним осторожна, внимательна, чтоб беречь его для любимой мной работы его. 30 октября. Написано еще 2-е действие драмы. Встала рано и переписала. Потом вечером переписала вторично. Хорошо, но слишком ровно; нужно бы было больше театрального эффекта, что я и сказала Левочке. Учила Андрюшу и Мишу. Поправляла корректуру. День прошел весь в занятиях. Читала малышам «Родник» и «Родные отголоски»[54]. Стихи и картинки им нравились, и они оживились. Девочки обе внизу сидят, пишут, читают. Были днем минуты тоски, старой, знакомой, тесно как-то. Приходила [крестьянка] Аниска, говорила о болезни матери; поленилась пойти проведать, завтра пойду непременно. Когда села обедать, у меня спросили денег для какой-то старухи и для Гани-воровки. Спрашивал Левочка через девочек. Мне хотелось есть, досадно было, что все опоздали, и не хотелось давать денег Гане-воровке. Я солгала, что денег нет, а было еще несколько рублей. Но устыдилась и достала деньги, съев прежде весь суп (это я после вспомнила). Потом я молчала и думала, возможно ли вызвать в сердце ту требуемую Левочкой любовь всех ко всем и вот, например, к этой женщине, воровке Гане, которая не оставила ни одной души в деревне, у которой бы чего не украла, у которой дурная болезнь и которая лично страшно антипатична. Что-то шевельнулось, похожее на чувство жалости, но скоро прошло. Приходил Фейнерман. Его присутствие меня стало меньше тревожить[55]. От старика Ге были письма. И опять недоверие к нему, что-то напускное, фальшивое. Бутурлин уехал, и не жаль. А пока был тут, интересовал. Таня неприятно упрекнула, что я не дала денег отцу. И мне странно вдруг показалось, что действительно я ему не дала так, как он просил. Но в минуту мысль о Левочке была так далека! Ведь не для него нужны были деньги, и эту мысль отказа в чем-нибудь ему я так и не могла связать с отказом Гане. Это часто со мной бывает.1887
3 марта. Встревожило известие о бомбах, найденных в Петербурге у четырех студентов, которые хотели их бросить государю проездом с панихиды по отцу[56]. Так встревожило, что весь день не опомнюсь. Это зло породит целый ряд зол. А как мне теперь тревожно всякое зло! Левочка уныло и молчаливо принял это известие. У него это уже прежде переболело. Успех драмы [ «Власть тьмы»] огромный, и мы оба с Левочкой спокойно относимся к нему. Писала дневник, когда она была начата, и потом так много пришлось переписывать, что дневник прекратила. 11 ноября умерла моя мать в Ялте (там и похоронена). 21-го я переехала с семьей в Москву. Левочка написал повесть из времен первых христиан[57], теперь работает над статьей «О жизни и смерти»[58]. Он жалуется часто на боль под ложечкой. Мы мирно и счастливо прожили зиму. Вышло новое дешевое издание. Интерес мой к этому делу совсем пропал. Деньги радости не дали никакой – да я это и знала. Поступила новая англичанка, miss Fewson, Маша больна. Я читала ей «Короля Лира» вслух. Люблю Шекспира, хотя он часто необуздан и границ не знает, например, в бесчисленных убийствах и смертях. 6 марта. Переписала «О жизни и смерти» и сейчас перечла внимательно. С напряжением искала новое, находила меткие выражения, красивые сравнения, но основная мысль для меня вечно несомненная – всё та же. То есть отречение от материальной, личной жизни для жизни духа. Одно для меня невозможно и несправедливо – это то, что отречение от личной жизни должно быть во имя любви всего мира, а я думаю, что есть обязанности несомненные, вложенные Богом, и от них отречься не вправе никто, и для жизни духа они не помеха, а даже помощь. На душе уныло. Илья очень огорчает своей таинственной и нехорошей жизнью. Праздность, водка, часто ложь, дурное общество и главное – отсутствие всякой духовной жизни. Сережа уехал опять в Тулу, завтра заседание в их Крестьянском банке. Таня и Лева огорчительно играют в винт. С меньшими детьми я потеряла всякую способность воспитывать. Мне их всегда ужасно жаль, и я боюсь их избаловать. У меня старческий страх за них и старческая нежность к ним. Желание же и важность образования их остались всё так же сильны. Точки опоры в жизни у меня теперь нет никакой; но есть прекрасные минуты одинокого созерцания смерти и иногда ясное понимание раздвоения материального и духовного сознания, себя и несомненность вечной жизни того и другого. Левочка иногда собирается в деревню, но опять остается. Я всегда молчу и не считаю себя вправе вмешивать свою волю в его действия. Он очень переменился; спокойно и добродушно смотрит на всё, принимает участие в игре в винт, садится опять за фортепьяно и не приходит в отчаяние от городской жизни. Было письмо от Черткова. Не люблю я его: не умен, хитер, односторонен и недобр. Л. Н. пристрастен к нему за его поклонение. Дело же Черткова в народном чтении, начатое по внушению Л. Н., я очень уважаю и не могу не отдать ему в этом справедливости[59]. Фейнерман опять в Ясной. Он бросил где-то жену беременную с ребенком без средств и пришел жить к нам. Я за семейный принцип, и потому для меня он не человек и хуже животного. Как бы фанатичен он ни был, какие бы мысли и прекрасные слова он ни говорил – факт оставления им семьи и питанья на счет дающих ему остается несомненен и чудовищен. 9 марта. Левочка пишет новую статью «О жизни и смерти» для чтения в университете в Психологическом обществе. Вот уже неделя, как он опять вегетарианец, и это уже сказывается на его расположении духа. Он сегодня нарочно начинает с кем-нибудь при мне заговаривать о зле денег и состояния, намекая на мое желание сохранить его для детей. Я молчала, но потом вышла из терпения и сказала: «Я продаю 12 частей за 8 рублей, а ты одну “Войну и мир” продавал за 10». Он рассердился и замолчал. Так называемые друзья, новые христиане, страшно восстанавливают Л. Н. против меня и не всегда безуспешно. Перечла я письмо Черткова о его счастье в духовном общении с женою и соболезнование, что Л. Н. не имеет этого счастья и как ему жаль, что он, столь достойный этого, лишен такого общения, – намекая на меня. Я прочла, и мне больно стало. Этот тупой, хитрый и неправдивый человек, лестью опутавший Л. Н., хочет (вероятно, это по-христиански) разрушить ту связь, которая скоро 25 лет нас так тесно связывала всячески! Когда Лев Николаевич был болен, эти два месяца мы жили по-старому. Я видела, как он отдохнул душой и как в нем проснулось это старое творчество. И он написал драму. Путы его притворно-слащавых новых христиан снова опутывают его, и он уже порывался в деревню, и я видела, как потухал этот огонь и как это действовало на его душу. Отношения с Чертковым надо прекратить. Там всё ложь и зло, а от этого подальше. Сегодня гости – молодежь. Обедали, а потом винт. Какое грустное явление этот всемирный винт! Холодно, до 14° мороза по ночам. 14 марта. Москва. Сижу совсем одна, кругом тихо, и мне очень хорошо. Трое маленьких спят. Таня, Маша и Лева в гостях у Татищевых. Илья сидит три дня наказан в казармах за то, что опоздал на учение[60]. А Лев Николаевич уехал с Ге (сыном) в университет, в Психологическое общество, будет читать свою новую статью «О жизни и смерти». Мы с Ге спешили ее переписывать, и я весь день сегодня писала. Л.Н. нездоров, боли и нытье в желудке, расстройство пищеварения – и при этом самое бестолковое питание, то жирное, то вегетарианское, то ром с водой и проч. В духе он унылом, но добром. Был посланный из Петербурга господин за костюмами в Ясную Поляну для драмы нашей[61]. Вчера получила письмо от Потехина, что не наверное еще пропустят ее на сцене. Но репетируют и всё готовят. Колеблюсь, ехать ли на генеральную репетицию. И хочется, и страшно дом оставить. Еще не решила. Как будет здоровье Левочки. Была с детьми на коньках – не каталась. Все молодые радости отпадают понемногу. Левочка много работал над этой статьей, и она очень мне нравится. Он второй раз уже в университете – стал делать отступления от разных предвзятых правил: комнату часто убирает Григорий, пищу, когда нездоров, ест и мясную; когда мы играем в винт, присаживается и он. Пропало упорство, и пропало дурное расположение духа, стал веселее и добрее. За продажу книг тоже не сердится, рад, что 8 рублей издание. 30 марта. Здоровье Левочки всё нехорошо. Боль под ложечкой продолжается третий месяц. Я решилась пригласить Захарьина и написала ему. Но Л. Н. предупредил приезд Захарьина и вчера вечером пошел к нему.Захарьин нашел катар желчного пузыря и вот что предписал; записываю для памяти: 1) Ходить в теплом. 2) Фланель немытую на весь живот. 3) Масла совершенно избегать. 4) Кушать часто и понемногу. 5) Эмс Кренхен или Кесельбрунн свежего привоза по пол стакана три или четыре раза в день подогретый: 1) натощак, 2) часа спустя и час до завтрака и 3-й – за час до обеда. Три недели подряд. Потом перестать, позднее повторить, если нужно. Пить так тепло, как можно сразу, чтоб не обжечься, теплей парного молока. 6) Бороться со слабостью куренья. 18 июня. Меня упрекают многие, что я не пишу своего журнала и записок, так как судьба поставила меня в столкновение с таким знаменитым человеком, как Лев Николаевич. Но как трудно отрешиться от личного отношения к нему, как трудно быть беспристрастной и, наконец, как страшно занято всё мое время – и всю жизнь так. Думала, буду свободна это лето и займусь перепиской и разборкой рукописей Льва Николаевича. А вот больше месяца, что я тут, и Лев Николаевич всецело занял меня переписываньем для него статьи «О жизни и смерти», над которой он усиленно трудится уж так давно. Только что перепишешь всё – опять перемарает, и опять снова. Какое терпение и последовательность. А нужно бы писать записки, хотя бы для того, чтоб многое непонятное в его жизни объяснять. Например, было написано письмо к Энгельгардту, оно ходит в рукописи. Лев Николаевич никогда не видал молодого Энгельгардта, который, как и многие другие, написал письмо Льву Николаевичу как известному писателю. Но Л. Н. был мрачно настроен. Проводя мысли свои в писании, он хотел и не мог провести их в жизни, он чувствовал себя одиноким и несчастным, и он излил, как бы в дневник, мысли свои в письме к незнакомому человеку. Еще странны его отношения и переписка с людьми, которых репутация ужасна, которых просто считают бесчестными – как Озмидов, например. Я на днях, увидав на конверте адрес Озмидову, спросила Льва Николаевича, почему он продолжает свои отношения и переписку, зная, что это дурной человек. Он мне ответил: «Если он дурной, то я ему еще более, чем другим, могу быть нужен и полезен». Этим объясняются его сношения с многими нехорошими, неясными и часто совсем незнакомыми (темными) людьми, которые бывают у нас в огромном количестве. Вчера еще приходил студент-медик 4-го курса, отчаянный революционер, которому Л. Н. внушал заблуждение революции. Убедил ли он его – не знаю. Этого я не видала. Сегодня получено много писем из Америки, статья Кеннана в «Century» о посещении его Ясной Поляны и о разговорах Льва Николаевича и еще печатный отзыв о переведенных произведениях Л. Н. Всё очень лестное и симпатизирующее. Ужасно странно и приятно в такой дали находить такое верное понимание и сочувствие[62]. Левочка ушел в Ясенки пешком с двумя дочерьми и двумя кузминскими девочками. Идет дождь, я послала за ними катки и платья. Левочка без окружавших его апостолов, Черткова, Фейнермана и др., стал тем же милым, веселым семейным человеком, каким был прежде. На днях он с увлечением проиграл на фортепьяно весь вечер: Моцарта, Вебера, Гайдна, со скрипкой. Он видимо наслаждался. На скрипке играл юноша 18 лет, которого я взяла для Левы учителем игры на скрипке, по его желанию. Юноша этот, Ляссота, из Московской консерватории. Приехавши из Москвы 11 мая, я настояла, чтоб Левочка пил воды по предписанию Захарьина, и он повиновался. Я подносила ему молча стакан подогретого Эмса, и он молча выпивал. Когда бывал не в духе, говорил: «Тебе скажут, что нужно вливать что-то, ты и веришь. Я это делаю, потому что вред будет небольшой». Но он пропил все три недели и к вегетарианству не возвратился. На мой взгляд, здоровье его очень поправилось; он много ходит, стал сильнее и только спит недостаточно, часов семь; я думаю, это от слишком усидчивой умственной работы. Его радует его успех или, скорее, сочувствие к нему в Америке, но успех и слава вообще влияют на него мало. Вид у него теперь счастливый и бодрый, и он часто говорит: «Как хороша жизнь!» Скучаю об Илюше и мучаюсь, что до сих пор его не навестила. Но он последний год этот показывал так мало потребности сношений с семьей, так далек был от всех нас, что не думается, что мы нужны ему. Бедный он, сбился как-то, нравственно опустился и оттого такой подавленный и жалкий. Поеду на этих днях к нему. Ко мне приходит ежедневно пропасть больных. С помощью книги Флоринского [ «Домашняя медицина. Лечебник для народного употребления»] я лечу всех; но что за нравственное мучение – это бессилие иногда понять, узнать, в чем болезнь и как помочь! Иногда мне поэтому хочется бросить это дело, но выйдешь, видишь это трогательное доверие, эти больные умоляющие глаза, и станет жалко, и с упреком совести, что делаешь, может быть, совсем не то, даешь лекарства и стараешься не вспоминать об этих несчастных. А на днях у меня не было того средства, которое было нужно, и я дала записку в аптеку и деньги на лекарство. Больная вдруг заплакала, отдала деньги и говорит: «Я, видно, помру, а деньги возьмите, дайте кому победнее меня, спасибо, а мне не надо». 21 июня. Наконец жара, и купалась в первый раз. Вчера вечером приезжал познакомиться с Львом Николаевичем актер Андреев-Бурлак. Он рассказывал вроде рассказов Горбунова, из крестьянского быта. Все разошлись, остались мы с Львом Николаевичем и Левой и сидели до второго часа ночи. Рассказы были удивительно хороши, и Левочка так смеялся, что нам с Левой стало жутко. Сегодня он всё переправлял свою статью «О жизни и смерти» и после обеда косил в клинах, в саду. Я читала Страхова книгу против спиритизма[63], тяжело читается и, увы, неубедительно – или я плохо понимаю. Днем, до купанья, собрала молодых своих и читала им «Герой нашего времени». Какие там есть замечательные и уже созревшие мысли! Очень люблю Лермонтова. Если, по преданию, он и был желчный и неприятный человек, то ведь он был так умен и так выше уровня людей! Его не понимали, а он видел всех и всё насквозь. Чувствую себя слабой и физически, и нравственно. Подавлена наплывшими на меня воспоминаниями и сожалениями. Это хуже всего. 2 июля. Была в Москве, поехала к Илье и так рада была увидать его добродушное лицо! Он, видно было, обрадовался мне тоже. Живет он в избе, хозяева его любят, но живет как-то бестолково. Мне как матери, которая когда-то кормила его грудью, стало жаль, что он, платя долги деньгами, которые я ему даю, ест в долг закуски и сладости и никогда не обедает. Но он этим не тяготится. Весь интерес его жизни – это Соня Философова; он живет воспоминаниями, перепиской и будущим. Теперь он тут, был на охоте, убил трех бекасов и завтра уезжает. Мне очень грустно, но надо привыкать, что птенцы из гнезда улетели. Страхов у нас; как умен, тих и приятен! Левочка занимается покосом и три часа в день пишет статью[64]. Дело к концу. На днях Сережа играл вальс, пришел Левочка вечером, говорит: «Пройдемся вальс». И мы протанцевали к общему восторгу молодежи. Он очень весел и оживлен, но стал слабее и устает более прежнего от покоса и прогулок. У него длинные разговоры со Страховым о науке, искусстве, музыке; сегодня о фотографии говорили, потому что я привезла и буду заниматься фотографией, снимать виды и всю семью нашу. Таня, дочь, в Пирогове. 3 июля. Сережа играет «Крейцеровскую сонату» Бетховена со скрипкой (Ляссоты); что за сила и выражение всех на свете чувств! На столе у меня розы и резеда, сейчас мы будем обедать чудесный обед, погода мягкая, теплая, после грозы, кругом дети милые – сейчас Андрюша старательно обивал свои стулья в детскую, потом придет ласковый и любимый Левочка – и вот моя жизнь, в которой я наслаждаюсь сознательно и за которую благодарю Бога. Во всем этом я нашла благо и счастие. И вот я переписываю статью Левочки «О жизни и смерти», и он указывает совсем на иное благо. Когда я была молода, очень молода, еще до замужества, я помню, что стремилась всей душой к тому благу – самоотречения полнейшего и жизни для других, стремилась даже к аскетизму. Но судьба мне послала семью – я жила для нее, и вдруг теперь я должна признаться, что это было что-то не то, что это не была жизнь. Додумаюсь ли я когда до этого? Вчера уехал Страхов, сегодня Илья. Вчера делали с Сережей опыты с фотографией, которую я купила. 19 июля. Прошло несколько бестолковых дней. Сережа ездил в Самару и вернулся, не устроив там ничего. Был Голохвастов., крайне православный и славянофил; происходили у них с Львом Николаевичем разговоры о религии и церкви. Очень было неприятно. Голохвастов рассказывал с пафосом о прекрасном соборе в Новом Иерусалиме (Воскресенске), что там бывает до 10 тысяч человек богомольцев и о красоте постройки. Л. Н. слушал, слушал и сказал: «И все они приходят смеяться над Богом». Сказано это было с иронией и даже злобой. Я вступилась, говорила, что это гордость говорит, что 10 тысяч человек смеются, а он один прав, исповедуя свою веру, а что надо же допустить, что какой-нибудь более высокий мотив заставил этих людей собраться в храме. После обеда Голохвастов заговорил о патриархе Никоне, как интересна его жизнь и личность. Лев Николаевич читал газету, а потом вдруг высказал опять тем же тоном: «Он был мужик, мордвин, и если ему было что сказать, то что же он не говорил». Тогда Голохвастов вспыхнул и сказал: «Или вы смеетесь надо мной, или – я привык уважать слова других – и тогда я, может быть, и задумался бы об этом вопросе». Вообще было тяжело. Был Буткевич, бывший революционер, сидевший в первый раз в тюрьме по политическим делам и второй раз по подозрению. Молодой человек, сын тульского помещика, он писал Льву Николаевичу, что когда вышел из острога, одна его знакомая дама сделала вид на улице, что его не узнала, и ему это было больно. Прежде, когда он приходил ко Льву Николаевичу, я его не звала, и он сидел внизу; теперь же мне его стало жаль, я позвала его чай пить. Потом он жил тут два дня и очень мне не понравился. Упорно молчит, неподвижное лицо, очень черный брюнет, синие очки и кривой глаз. Из немногих слов ничего нельзя извлечь, никакого взгляда его на что бы то ни было. Теперь он один из толстоистов. Как мало симпатичны все типы, приверженные учению Льва Николаевича! Ни одного нормального человека. Женщины тоже большей частью истерические. Вот сейчас уехала Мария Александровна Шмидт. В старину это была бы монахиня, теперь это восторженная поклонница идей Льва Николаевича. Она была классная дама Николаевского института, вышла, потому что отпала от церкви, и теперь живет в деревне, и только перепиской сочинений, запрещенных, Льва Николаевича. Когда она встречает или расстается с Л. Н., то истерически рыдает. Павел Иванович Бирюков тоже тут: он из лучших, смирный, умный и тоже исповедующий толстоизм. Еще приехала Голохвастова с воспитанницей и племянник Андрюша с учителем. Очень шумно, тяжело и скучно. Хотелось бы семейного одиночества и больше серьезности жизни и досуга. Гости отняли и отнимают всё время. Был еще Абамелек[65], привозивший Хельбигов – мать с дочерью; она урожденная княжна Шаховская, замужем за профессором немецким; тоже приезжали смотреть русскую знаменитость – Толстого. Хотя они оказались очень приятные и очень хорошие музыкантши, но это тяжелая повинность – никогда не выбирать людей и друзей и принимать всех и вся. Жара утром, свежесть ночью. Купаемся, изобилие плодов. 4 августа. Сегодня уехала графиня Александра Андреевна Толстая, гостила с 25 июля. У Левочки был сильный желчный пароксизм. Начался 16 июля, до сих пор не совсем здоров. Вчера вечером повез Бирюков статью «О жизни» в печать. Слова «и смерти» выкинул. Когда он кончил статью, то решил, что смерти нет. Были дожди, теперь прояснилось немного. 19 августа. Был художник Репин, приехал 9-го, уехал 16-го в ночь. Он написал два портрета Льва Николаевича; первый начал в кабинете, внизу, остался им недоволен и начал другой наверху, в зале, на светлом фоне. Портрет удивительно хорош. Он пока у нас сохнет. Первый он кончил на скорую руку и подарил мне. Начали печатать статью, но шрифт нехорош, будут перебирать набор. Здоровье Левочки удовлетворительно, но иногда жалуется на боль печени. Погода ясная, чудесная. Илья приезжал на 15-е и 16-е, здоров и весел бесконечно – и то хорошо. А то бывает, что плох человек да еще мрачен и болен. Меня мучает беременность и физически, и нравственно. Левочка здоровьем пошел под гору, а жизнь семейная усложняется; и своих сил нравственных всё меньше и меньше. Приехал Степа, брат, с женой, вчера поехал в Петербург хлопотать о переводе его в Россию, а она тут. Не поймешь, какая она – очень сдержанна и старательна. У Левочки темные люди: Буткевич, Рахманов и студент киевский. Народ всё несимпатичный и чуждый, тяжелый в семейной жизни. И сколько их бывает! Повинность ради Левочкиной известности и новых его идей. По вечерам читает нам всем вслух сам Левочка «Мертвые души» Гоголя. У меня невралгия. 25 августа. Весь день отбирала и разбирала рукописи Левочки, хочу свезти их в Румянцевский музей на хранение. Мучительно разбирать путаницу, которую наверное ни разобрать, ни наполнить нельзя. Хочу еще отвезти туда же письма, дневники, портреты и всё, что касается Льва Николаевича. Я поступаю благоразумно, но мне почему-то грустно это делать. Или я умру, что привожу всё в порядок? У нас гостят Степа с женой и милый Страхов. Жара ужасная, у меня болит горло. Левочка слаб и начал 20-го опять пить Эмс. Приехала Верочка Толстая и Маша за деньгами для брата Сережи. Левочка всё сидит над статьей, но энергия его как будто упала для этой работы. Принес этот цветок мне Левочка в октябре 1890 года, в Ясной Поляне[66].1890
20 ноября, Ясная Поляна. Переписываю дневники Левочки за всю его жизнь и решила, что буду опять писать свой дневник: тем более что никогда я не была более одинока в семье своей, как теперь. Сыновья все врозь: Сережа – в Никольском, Илья с семьей – в Гриневке, Лева – в Москве, и Таня туда уехала на время. Живу с маленькими и воспитываю их. С Машей никогда у нас связи настоящей не было, кто виноват – не знаю. Вероятно, я сама. А Левочка порвал со мной всякое общение. За что? Почему? Совсем не понимаю. Когда он нездоров, он принимает мой уход за ним как должное, но грубо, чуждо, ровно настолько, насколько нужны припарки и проч. Всеми силами старалась и так сильно желала я взойти, хотя немного, с ним в общение внутреннее, духовное. Я читала тихонько дневники его, и мне хотелось понять, узнать – как могу я внести в его жизнь и сама получить от него что-нибудь, что могло бы нас соединить опять. Но дневники его вносили в мою душу еще больше отчаяния; он узнал, верно, что я их читала, и стал теперь куда-то прятать, но мне ничего не сказал. Бывало, я переписывала, что он писал, и мне это было радостно. Теперь он дает всё дочерям и от меня тщательно скрывает. Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно. Бывает так, что в этой безучастной жизни на меня находит бешеное отчаяние. Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь – всё, только не жить с человеком, которого, несмотря ни на что, всю жизнь за что-то я любила, хотя теперь вижу, как я его идеализировала, как я долго не хотела понять, что в нем была одна чувственность. А мне теперь открылись глаза, и я вижу, что моя жизнь убита. С какой я завистью смотрю даже на Нагорновых каких-нибудь, что они вместе, что есть что-то, связывающее супругов, помимо связи физической. И многие так живут. А мы? Боже мой, что за тон – чуждый, брюзгливый, даже притворный! И это я-то, веселая, откровенная и так жаждущая ласкового общения! Завтра еду в Москву по делам. Мне это всегда трудно и беспокойно, но на этот раз я рада. Как волны, подступают и опять отхлынивают эти тяжелые времена, когда я уясняю себе свое одиночество, и всё плакать хочется; надо отрезать как-нибудь, чтоб было легче. Взяла привычку всякий вечер долго молиться, и это очень хорошо – кончать так день. Учила сегодня музыке Андрюшу и Мишу и сердилась. Андрюша брюзгливо относится к моей горячности, а Миша всегда жалок. Я очень их люблю и воспитывать считаю отрадным долгом, который, верно, как всегда, исполняю неумело и дурно. У нас Вера Кузминская, и она мне стала родная по чувству, верно, оттого, что на Таню-сестру похожа. Живу в деревне охотно, всегда радуюсь на тишину, природу и досуг. Только бы был кто-нибудь, кто относился бы ко мне поучастливее! Проходят дни, недели, месяцы – мы слова друг другу не скажем. По старой памяти я разбегусь со своими интересами, мыслями – о детях, о книге, о чем-нибудь – и вижу удивленный, суровый отпор, как будто он хочет сказать: «А ты еще надеешься и лезешь ко мне со своими глупостями?» Возможна ли еще эта жизнь вместе душой между нами? Или всё убито? А кажется, так бы и взошла по-прежнему к нему, перебрала бы его бумаги, дневники, всё перечитала бы, обо всем пересудила бы, он бы мне помог жить; хотя бы только говорил не притворно, а вовсю, как прежде, и то бы хорошо. А теперь я, невинная, ничем его не оскорбившая в жизни, любящая его, боюсь его страшно, как преступница. Боюсь того отпора, который больнее всяких побоев и слов, молчаливого, безучастного, сурового и нелюбящего. Он не умел любить – не привык смолоду. 5 декабря. Продолжаю дневник. Была в Москве, видела много людей и много приветливости. И за то спасибо судьбе. Таня была там же, с ней всегда мне хорошо, и я дорожу ее близостью. Лева весь дергается нравственно, и как подойдешь к нему – подпадаешь под его толчки и больно бывает. Но он всегда чует, когда толкнул, и это хорошо. Как-то он выберется из своего тревожного и пессимистического состояния… Вернулась 25-го утром. Левочка собирался в Крапивну с Машей, Верой Толстой и Верой Кузминской. Была метель и холод, но удержать их я была не в силах. Там был суд, и, благодаря влиянию Левочки, преступников-убийц приговорили к очень легким наказаниям: поселению вместо каторги. Вернулись поэтому все очень довольные[67]. Болел Миша, пять дней горел, что-то желудочное. Пришлось за ним очень ухаживать, утомилась я, не отдохнувши от Москвы. Теперь гости: больной Русанов, Буланже, Буткевич, Петя Раевский. Кроме последнего, все люди чуждые, и скучно с ними. С Левочкой менее чуждо, но у него всё зависит от настроения. Играла сегодня одна Бетховена сонату (Fantasia) и «Аделаиду» и Шуберта разбирала. Вечером читала стихи Фета, вслух, чтоб гостей занять. Но и музыка, и стихи мне доставили удовольствие. Таня и Маша провожали Веру Кузминскую и вернулись из Тулы к обеду. Вчера была и я в Туле: продажа дров, раздел со священником Овсянникова[68], деньги в банк, покупки. Истратив энергию на практические дела, мне делается тоскливо всегда и досадно. На лучшее могла бы тратиться эта энергия. 6 декабря. Праздник, рождение Андрюши – ему 13 лет. Ходили все на гору и на коньках кататься. Ребята, девки – все нарядные и веселые. Дети очень веселились. Я каталась на коньках вяло, и не веселит больше. Таня уехала в Тулу к Зиновьевым и Давыдовым – на именины. Гости те же: Русанов, Буланже, Буткевич и Петя Раевский, уехавший с Таней. Чувствую свое физическое потухание, грудь болит, дыханье тяжко, женское состояние тоже тревожное и болезненное. Порадовало письмо Софьи Алексеевны Философовой о старших сыновьях. У матерей одно желанье – чтоб счастливы были дети. А у них там пока, по-видимому, всё счастливо. Левочка всё так же держит себя отчужденно и холодно ко всем, но мне это чувствительней других. Мало делала дела: писала немного дневники Льва Николаевича, гостей занимала, с детьми возилась. Ванечка много времени берет. 7 декабря. Писала весь день, нездоровится. Был Давыдов со следователем, проездом в Крапивну. Читала сказку Лескова «Один час божий»[69]. Талантливо, но ненатурально. Не люблю ни в чем фальши. Левочка весел и как будто здоров. 8 декабря. Всё переписываю дневник Левочки. Отчего я его никогда прежде не переписывала и не читала? Он давно у меня в комоде. Я думаю, что тот ужас, который я испытала, читая дневники Левочки, когда была невестой, та резкая боль ревности, растерянности какой-то перед ужасом мужского разврата – никогда не зажила. Спаси Бог все молодые души от таких ран – они никогда не закроются. Учила музыке Андрюшу и Мишу. Андрюша был так зло упрям, что терпенья не хватало. Но я решила быть сдержанной и не рассердилась, но вдруг разрыдалась. Он тоже заплакал, начал слабо обещать хорошо учиться и сейчас же справился. Мне было стыдно, но, может быть, к лучшему. Читала глупую повесть в «Revue», и вечером Таня читала по указанию Левочки скучную повесть шведскую, в переводе. Хочется читать что-нибудь серьезное, мыслителя какого-нибудь, да не приберу что. Настроена я хорошо теперь, кротко, и думать всё хочется о хорошем. Но сны у меня грешные и спокойствия мало, особенно временами. 9 декабря. Опять с тяжелым чувством кончаю день. Всё – тревожно. Переписывала молодой дневник Левочки. Сегодня гуляла и думала – день удивительно красивый. Морозно, 14°, ясно; на деревьях, кустах, на всякой травке тяжело повис снег. Шла я мимо гумна, по дороге в посадку, налево солнце было уже низко, направо всходил месяц. Белые макушки дерев были освещены, и всё покрылось светло-розовым оттенком, а небо было сине, и дальше на полянке пушистый, белый, белый снег. Вот где чистота. Как она красива везде, во всем. Эта белизна и чистота в природе, в душе, в нравах, в совести, в жизни материальной – везде она прекрасна. И как я ее старалась блюсти и зачем? Не лучше ли бы были воспоминанья любви – хотя и преступной – теперешней пустоты и белизны совести? Играла на фортепьяно сначала с Таней симфонию Моцарта, потом с Левочкой. Сначала с ним не пошло, и он брюзгливо и недовольный на меня напал; хотя это было коротко и почти незаметно, но у меня так наболел в душе этот его тон со мной, что всё удовольствие игры в четыре руки пропало и стало грустно, грустно – ужасно. Прервал нашу игру приход Бирюкова. Девочки взволновались – Таня за Машу, Маша за себя. Все стали ненатуральны, говорили много и тоже натянуто, вообще неприятно. Надеюсь, что он скоро уедет и Маша успокоится. Раз затеянная глупая история не скоро уляжется[70]. Читала роман в «Revue»; девушка в гостях у человека, которого она любит, и как ей радостно быть окруженной той обстановкой, теми вещами, среди которых он живет. Как это верно! Но если эти вещи – сапожные инструменты, сапоги, судно, грязь… Тогда как быть? Нет, никогда к этому не привыкну. 10 декабря. Тяжелое время пришлось переживать на старости лет. Левочка завел себе круг самых странных знакомых, которые называют себя его последователями. И вот утром сегодня приехал один из таких, Буткевич, бывший в Сибири за революционные идеи, в черных очках, сам черный и таинственный; привез с собой еврейку-любовницу, которую назвал своей женой только потому, что с ней живет. Так как тут Бирюков, то и Маша пошла вертеться там же, внизу, и любезничала с этой еврейкой. Меня взорвало, что порядочная девушка, моя дочь, водится со всякой дрянью и что отец этому как будто сочувствует, я рассердилась, раскричалась, ему зло сказала: «Ты привык всю жизнь водиться с подобной дрянью, но я не привыкла и не хочу, чтоб дочери мои водились с ними». Он, конечно, ахал, рассердился молча и ушел. Присутствие Бирюкова тоже тяжело, жду не дождусь, чтоб он уехал. Вечером Маша осталась с ним в зале последняя, и мне показалось, что он целует ей руку. Я ей это сказала; она рассердилась и отрицала. Верно, она права, но кто разберет их в этой фальшивой, лживой и скрытной среде. Измучили они меня, и иногда мне хочется избавиться от Маши, и я думаю: «Что я ее держу, пусть идет за Бирюкова, тогда я займу свое место при Левочке, буду ему переписывать, приводить в порядок его дела и переписку и тихонько, понемногу отведу от него весь этот ненавистный мир темных». Лева что-то не едет, здоров ли он. С Андрюшей и Мишей мечтали играть на святках пьесу, переделанную из японской сказки. Вязала Мише одеяло, переписывала, учила детей два часа Закону Божьему и теперь буду читать. 11 декабря. С утра всё писала дневник Левочки, и это вызывает всегда целый ряд мыслей. Думала, между прочим, что не любишь того человека, который лучше других тебя знает, со всеми слабостями, и которому уж нельзя показаться одной стороной. Вот отчего так часто супруги к старости именно расходятся, то есть тогда, когда всё разоблачится и разъяснится и ясность эта не в пользу того или другого. Учила музыке хорошо и терпеливо. Бирюков еще остался на день. Маша приходила объясняться о вчерашнем, и я ей сказала, что жалею, если напрасно ее оскорбила. Между прочим, она сегодня говорит легкомысленно и смеясь: «Отдайте меня за него замуж, и делу конец. Вы ведь считаете его хорошим человеком». Будто этого довольно. Я замечала, что матери испытывают почти влюбленное чувство к женихам дочерей, и тогда симпатия будущих супругов обеспечена. А я к Бирюкову испытываю отвращение, и это чувство очень скоро испытала бы и Маша. Но она этого не видит – или она не моя дочь. Приехал Лева, мне стало как-то празднично весело, но он невеселый и, как отец, эгоистично занят собой больше всего. Ванечка так трогательно ему обрадовался и так любовно смотрел на него, а он сурово отнесся к нему. Вот так забивают в детях и людях любовность и ласковость. Так и сам Лева плакал, когда его маленького и нежного отдали от англичанки вниз к гувернеру, и он говорил, что он испортится внизу, и я хотела его взять обратно. Но отец сурово отнесся к Леве, оставил его у учителя – и бог знает, не имело ли это дурное влияние на Леву в смысле меньшей нежности, радостности и крепости нервов. Вечером сидели все вместе, у Тани болит спина, и она странна и невесела. Вот кому нужна новая жизнь, нужно замужество. Всякий день молюсь об этом. Думала нынче, что грех мне роптать на судьбу; если отнята одна сторона счастья, то так много других, и говорю совсем искренно: «Благодарю тебя, Боже». Во время обеда Левочка сказал, что меня ждут те мужики, которые срубили на посадке тридцать берез и которых вызывают на суд. Всякий раз как мне говорят, что меня ждут, что я должна что-то решать, на меня находит ужас, мне хочется плакать и точно я в тиски попадаю, некуда выскочить; это навязанное мне по христианству хозяйство, дела – это самый большой крест, который мне послан Богом. И если спасение человека, спасение его духовной жизни состоит в том, чтобы убить жизнь ближнего, то Левочка спасся. Но не погибель ли это двум? 13 декабря. Вчера не писала дневника, весь день была расстроена мыслью о мужиках, которых судили, и так до вечера не узнала. Уехал Бирюков, приехал Диллон, англичанин, переводчик «Ходите в свете» и т. д. Переписывала вчера весь день дневники Левочки, и были моменты, в которые мне жаль его было: какой он был одинокий и беспомощный! А путь его всегда был тот же, как и вся жизнь – путь мысли. Сегодня узнала, что мужиков присудили к шести неделям острога и 27 рублям штрафа. И опять спазмы в горле, и весь день плакать хочется; главное, себя жалко; зачем это моим именем надо делать зло людям, когда я не чувствую, не желаю и не могу любить никакого зла. Даже с практической точки зрения – ничто не мое, а я какой-то бич! Три часа учила детей подряд и была терпелива. Вчера с Левой говорили о Тане и Маше, и оба желаем их замужества, но, конечно, не за Бирюкова. Левочку почти не вижу, он точно рад и успокоился в этой отчужденности, а мне так грустно и тяжело это, что подчас и вовсе жить не хочется. Ходили вечером поздно гулять и на ледяную гору: Таня, Маша, Лева, Лидди, Андрюша и Миша. Дети все катались, а я так прохаживалась. Лунная ночь удивительная, мороз 15°; так красива эта чистая, яркая белизна снега, деревьев, лунного освещения, что уйти невозможно, всё бы любовался. Я говорю Леве: «И ничего больше не надо, только смотреть на это». А он говорит: «А мне этого мало». 14 декабря. Дописала сегодня в дневниках Левочки до места, где он говорит: «Любви нет, есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни». Да, если б я это его убеждение прочла 29 лет тому назад, я ни за что не вышла бы за него замуж! День провела обычно: учила Мишу, возилась с Ванечкой, разговорилась с Диллоном; приехал Цингер, студент. Учила Сашу[71] «Отче наш», переписывала мало. С Машей говорила о Бирюкове. Она уверяет, что выйдет или за него, или, если я не хочу, ни за кого. Но прибавила: «Да что вы беспокоитесь, мало ли что может случиться!» И мне показалось, что она сама ждет избавления от этих случайно спутавших ее уз. Таня о чем-то таинственно переговаривается с Машей, и как будто весело. Написала письма: Тане-сестре и письмо во французскую газету по поводу статьи в «Figaro» от 21 ноября 1890 года о выгоде, которую я извлекаю из заграничного издания сочинений Льва Николаевича, письмо Дунаеву и Александру Берсу. 15 декабря. День прошел бестолково. Уроку музыки помешал земский начальник Сытин, приехавший по желанию Тани поговорить о школе в Ясной. К обеду приехал Булыгин. Два раза ходила гулять с детьми. Второй раз – с Сашей, которая плакала вечером, что скучно. У нас и в доме-то какой-то на всех и на всем тяжелый нравственный гнет. Левочка еще более мрачен и не в духе от приговора ясенских мужиков в арестантские роты за срубленные в посадке деревья. Но когда это случилось и приехал урядник, я спросила Левочку, что делать, составлять ли акт. Он задумался и сказал: «Пугнуть надо, а потом простить». Теперь оказалось, что дело уголовное и простить нельзя, и, конечно, опять я виновата. Он сердит и молчалив, не знаю, что он предпримет. А мне тоскливо, больно и вот как дошло – думала нынче поехать к Илье, проститься со всеми и спокойно лечь где-нибудь на рельсы – как Агафья Михайловна часто грозила. А страшно – потому что легко исполнимо. Уехал утром Диллон, вечером Булыгин и Цингер. Гостей нет. 16 декабря. Да, я совершенно потеряла всякую способность сосредоточиться на чем-нибудь, на какой-нибудь мысли, чувстве или деле. Этот хаос бесчисленных забот, перебивающих одна другую, меня часто приводит в ошалелое состояние, и я теряю равновесие. Ведь легко сказать, но во всякую данную минуту меня озабочивают: учащиеся и болящие дети, гигиеническое и, главное, духовное состояние мужа, большие дети с их делами, долгами, детьми и службой, продажа и планы самарского именья, издание новое и XIII часть с запрещенной «Крейцеровой сонатой», прошение о разделе с овсянниковским попом, корректуры XIII тома, ночные рубашки Мише, простыни и сапоги Андрюше, не просрочить платежи по дому, страхование, повинности по именью, паспорты людей, вести счеты, переписывать и проч. и проч. И всё это непременно должно непосредственно коснуться меня. И вот, когда случится такая история, как в прошлую ночь – я вижу, что ошиблась, потеряла какую-то центральность и сделала больно Левочке совсем нечаянно. История эта, как и надо было ожидать, вышла из-за осужденных на 6-недельный арест мужиков за срубленные в посадке деревья. Когда мы подавали жалобу земскому начальнику, мы думали простить после приговора. Оказалось уголовное дело – отменить наказание нельзя, и Левочка пришел в отчаяние, что из-за его собственности посадят мужиков ясенских. Ночью он не мог спать, вскочил, ходил по зале, задыхался; упрекал, конечно, меня, упрекал страшно жестоко. Я не рассердилась, слава богу, я помнила всё время, что он больной; меня ужасно удивляло, что он всё время старался разжалобить меня по отношению к себе, но как ни пытался, ни разу не было настоящего сердечного движенья, хотя бы краткого – перенестись в меня и понять, что я совсем не хотела сделать больно ему и даже мужикам-ворам. Это самообожание проглядывает во всех его дневниках. Поразительно, как для него люди существовали только настолько, насколько касались его. А женщины! Сегодня я себя поймала на очень дурном чувстве. Я, как пьяница, запоем переписываю его дневники, и пьянство мое состоит в волнении ревнивом там, где дело идет о женщинах. Я еще не спокойна и не могу отделаться от воспоминаний. На всё время. Сегодня еще поразило меня в дневнике его, что рядом с развратом Левочка всякий день идет искать случая сделать доброе дело. И теперь как часто он идет гулять на шоссе и то лошадь направит пьяному, то поможет запрячь, то воз поднять – прямо ищет делать доброе дело. Сегодня воскресенье. После тяжелой ночи, упреков и разговоров весь день камень на душе и тоска. День прошел вяло. Метель, и никто не гулял, кроме мальчиков. Лева хотел ехать к Илье, но воротился, проехав деревню. Читали вечером французский перевод «Китайских сказок». Очень странно. Играла немного на фортепьяно. Вечером Ваня и Саша плясали и вообще прояснилось немного общее настроение. 17 декабря. Левочка начинает тревожиться, что я переписываю его дневники. Ему хотелось бы старые дневники уничтожить и выступить перед детьми и публикой только в своем патриархальном виде. И теперь всё тщеславие! Приехали темные: глупый Попов, восточный, ленивый, слабый человек, и глупый толстый Хохлов из купцов. И это последователи великого человека! Жалкое отродье человеческого общества, говоруны без дела, лентяи без образования. Таня и Лева уехали к Илюше и Сереже. Сидела дома, нездоровится, ночь не спала. Детей учить помешал Керн, бывший лесничий в казенной Засеке, теперь помещик; очень полезен мне был разными советами и сведениями по лесной и садовой части. 19 декабря. Вчера с утра была в Туле с Андрюшей и т. Borei Было холодно, и я всё боялась за Андрюшу. Бегали за покупками и заказами. Заехали на минуту к Раевским – там одни мальчики. Вернулись почти к обеду. Вечером читал Алексей Митрофанович о немецких колониях, вслух – скучно, и смотрели «Review of Reviews». Устала, была неспокойна, Попов и Хохлов раздражают своей молчаливостью и бесцветностью. Сегодня встала поздно, ночь не спала, вышла в залу, там офицер Жиркевич, молодой, аккуратный, приехал познакомиться с Левочкой, сам пишет стихи и прозу. Видно, очень довольный и собой, и судьбой, но не глупый и понятный, не то, что темные. Водила гулять Ванечку в первый раз зимой. Саша ходила с нами. Учила Мишу Новому завету и молитвам, и вот пишу дневник свой, а Девочкиного переписала только две страницы, а урок мой ежедневный – десять. С Андрюшей было неприятно, он часто нарочно не понимает и не хочет сделать ни малейшего усилия мысли или памяти. Вечером буду помогать с гостем, читать – и ванна. 20 декабря. Ночь не спала, встала поздно. Мучает отвратительное физическое состояние возбуждения и боли в спине. Ходила с детьми кататься на коньках, боялась упасть, лед плохой; разметала снег с садовником, крестьянскими девочками и своими тремя детьми, учила Сашу в первый раз кататься на коньках. Вернувшись, учила три часа детей: Андрюшу – богослужению и обоих – музыке. Рождение Миши – ему 11 лет. Вернулся Лева от Ильи, привез Сашу Философову. Уехала Маша с кучером Филиппом в Пирогово. Туда же уехали Таня, Наташа и Илья, завтра вернутся. Лева брюзжал и на всё ворчал, рассказал грустную историю ссоры Сережи с Илюшей о пустяках – о лошади. Вечером переписывала немного для Левочки о церкви статью[72]. Церковь отрицать нельзя как идею, как то, что должно блюсти собранием верующих – истинную религию. Но церковь с ее обрядами, как она есть – невозможна. Зачем протыкать палочкой кусочек хлеба, а не просто прочесть, что воин проткнул ребро Христа? И таких диких обрядов множество, и они убили церковь. 10 часов, будем пить чай и читать. Дневника Левочки не переписывала, чувствую себя потому спокойнее и чище. 23 декабря. Эти дни полны событий. Третьего дня утром, в 6 часов, нас разбудили две телеграммы. Одна – что Соня нездорова, другая – что Соня родила сына. Меня взволновало это известие и обрадовало, но ненадолго, ввиду неосновательного, хотя доброго и хорошего отца – Илюши. К Соне всегда чувствую нежность за то главное, что она совершенно противоположна нашим всем нервным, беспокойным и горячим натурам, дергающим друг друга – она спокойная и кроткая. С курским поездом приехали Илья, Таня, Наташа Философова. С Ильей – как всегда неприятный – денежный и имущественный разговор. Вечером он уехал. Вчера весь день была в Туле, обедала у Давыдовых, тоскливо покупала всё для елки. Прежде это было весело, теперь же устала. Сегодня девочки Философовы уехали, приехала Маша Кузминская с Эрдели, мне неприятно было, что с ним, – и я не скрыла. День делали цветы на елку, золотили орехи, и как-то невесело и бестолково прошел день. Получила очень льстивое и почти влюбленное письмо от Фета, и мне это было приятно, хотя никогда ни крошечки не любила его и он был мне скорее неприятен[73]. 24 декабря. Встала поздно, вошел Ванечка, играла с ним час целый. Потом вышла – Сережа приехал, играл на фортепьяно. Он очень приятен и добродушен, как человек, который делал дело положительное и теперь может отдохнуть. Маша Кузминская с Эрдели не особенно приятны: ни то ни се, объявить женихами не велят, а ведут себя так. Моя Маша жалка своей худобой и грустью. Делали пудинг, все дети, Таня, Лидди и я. Обедали весело, потом Левочка читал Библию, и смеялись многому. Вырезала куклы картонные, готовлю детям представление. Глупо. Приехал сейчас Дунаев. Поздно. 25 декабря. Рождество: с утра у всех праздничное настроение. Весь день провозилась с елкой. Утром за кофе у Левочки с Левой был горячий разговор о счастье, о цели жизни, а началось с того, что Лева говорил о перемене часов еды и вообще о недовольстве формами нашей жизни. Левочка ему очень умно и хорошо говорил, что всё зависит от себя, от жизни изнутри, а не извне. Это было хорошо, но когда он начинает ставить в пример своих последователей, то делается досадно. Елка прошла весело; было 80 человек с лишком ребят из деревни: мы усердно их оделяли, и наши были довольны и веселы. С Эрдели в первый раз говорила откровенно о его отношениях с Машей Кузминской и о его свадьбе будущей. Они жалки с Машей; им так хочется соединиться, и всё что-то мешает. Левочка весел и здоров, хотя жалуется, что пищеварение не всегда хорошо. 27 декабря. Вчера журнала не писала. Не люблю праздников с их бездельем, суетой и стремлением всех веселиться. Весь день рисовала и клеила кукол, хочу устроить театр кукольный – для маленьких. К вечеру сделалась тоска от глупо и бездельно проведенного дня. Болели зубы, и ночь не спала. Сегодня с утра взяла «Смысл жизни» Рода и весь день не могла оторваться от чтения этой книги. Какое тонкое, умное, искреннее отношение ко всем вопросам жизни! Как правдиво, просто, без ломания говорится обо всех серьезных и сложных положениях нашего ежедневного существования! И язык прекрасный. Во мне эта книга подняла давно заснувший интерес ко всему живому и духовному. Я вдруг почувствовала возможность, помимо подавляющей проповеди Левочки, воспрянуть духом и создать свой собственный духовный мир. Вечером пришли дворовые и прислуга наша ряженые и плясали под гармонию и фортепьяно. Это Таня всё хлопотала, и самой ей хотелось глупого веселья. Она и Маша тоже нарядились. Но как только Маша вошла, мы с Левой ахнули. Она обтянула себе панталонами совсем зад – оделась мальчиком – и стыда ни капли. Чуждое, глупое и бестолковое она создание. Эти шумные явления действуют на меня всегда тоскливо. Я ушла в свою комнату, отворила форточку и взглянула на ясное, морозное, звездное небо и неожиданно вдруг вспомнила покойного У. Так мне стало грустно, невыносимо грустно, что он умер, что я навсегда, наверное, лишилась тех утонченных, чистых, умалчивающих, но, несомненно, более чем дружеских отношений, не оставивших ни тени укора совести и наполнявших столько лет жизни тем, что делало ее счастливой. А теперь – кому нужна моя жизнь, откуда ласковость, заботливость – разве только от Ванечки. И то хорошо, благодарю Бога. 28 декабря. Книга Рода в конце испортилась. Глава «Религия» неясна и выхода, то есть того смысла жизни, которого он искал, не веришь, чтоб он его нашел. И все мы не нашли и никогда не найдем его. В искании – и жизнь. А там – поглотит нас опять то начало – Бог, – от которого мы и изошли. Да, без этого постоянного сознания в себе божества нельзя жить. Я так привыкла ни одного шага в дне не сделать, чтоб не сказать в душе: помоги, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи… Но жизнь моя – она совсем не божья, я это знаю, и всё мне кажется: вот-вот начну я, буду добра, ласкова ко всем, будет свет добра вокруг меня, в котором всем будет хорошо. И не могу. Присматриваюсь всё к Леве: в нем много содержания, ума и талантливости, но мало чувства внутреннего самосохранения, его всё суетит, беспокоит, интересует, волнует и даже мучает. Это молодость. Левочка-муж умел блюсти свой внутренний мир, но у него семьи не было, и привычка отсутствия этой заботы осталась навсегда. Вчера справки надо было сделать для А.А.Толстой, и я перечитывала его письма ко мне. Было же время, когда он так сильно любил меня, когда для меня в нем был весь мир, в каждом ребенке я искала его же, сходства с ним. Неужели с его стороны это было только отношение физическое, которое, исчезнув с годами, оголило пустоту, которая осталась? Вчера он говорил в зале с Левой о форме рассказа, которую искал и хотел создать, когда задумал писать «Крейцерову сонату». Мысль создать настоящий рассказ была ему внушена Андреевым-Бурлаком, актером и удивительным рассказчиком. Он же рассказал Левочке, что раз, на железной дороге, один господин сообщил ему свое несчастие от измены жены, и этим-то сюжетом и воспользовался Левочка. Сегодня он не совсем здоров, болит под ложечкой, и пищеварение дурно. Весь день переписывала дневники Левочки; вечером так хорошо, семейно разговаривали все вместе. Гостей ждали из Тулы: Давыдова, Лопухиных и Писаревых – никто не приехал. Холодно и ветер, 12°. 29 декабря. Чудный, ясный, красивый, морозный день. Синее небо, иней на деревьях и неподвижная тишина. Мы все были на воздухе почти весь день. Дети и девочки катались на скамейках[74], а Эрдели, Маша К., Лева и я – на коньках. Катаюсь я робко и плохо; но такое успокоительное и вместе упоительное чувство в этом движении! К обеду приехали Зиновьевы и мадам Жулиани с мальчиком. Зиновьевы понятные, приятные люди. Люба играла, и хорошо, но по-ученически, ничего не дает ее игра. Мадам Жулиани пела с Надей и одна. У нее в пении много страстности и в натуре, верно, тоже. Левочке не совсем здоровится, онтих и необщителен. Сережа уезжает к Олсуфьевым. Таня нервно весела. 30 декабря. С утра до обеда возилась с Ванечкой, няня уезжала к матери. Дочитала Рода, и молитва его опять понятна и искренна. После обеда с Андрюшей и Мишей готовили театр. Умственно сплю. Вечер все провели вместе, говорили о музыке спокойно, дружно. Лева ходил на деревню, вечеринка там. 31 декабря. Я так привыкла жить не своей жизнью, а жизнью Левочки и детей, что в тот день, когда не сделала ничего, что для них или касается их – мне неловко и пусто. Опять принялась переписывать Левочкины дневники. А жаль, что этой вечной сердечной зависимостью от любимого человека я убила в себе разные способности и энергию, а последней много было. Привела в порядок денежные счеты, хотя за 20 месяцев итоги прихода и расхода не сошлись. Но меня это не огорчает, я так плохо записываю расходы. Телеграмма от Ильи, зовет крестить, Софья Алексеевна[75] отказалась, Таня тоже, и теперь я faute de mieux[76]. Но я не обижаюсь; мое дело с крошкой-внуком, а не с окружающими, и я рада его окрестить. Еду сегодня в ночь – под Новый год, в 5 часов утра. День переписывала и с детьми сидела. Все спокойны и дружны. Будем встречать Новый год тихо, одни.1891
2 января. Вернулась от Илюши, окрестила маленького. Обряд с отречением от сатаны и проч. был привычно равнодушный. Но младенец с закрытыми глазками и трогательно спокойным выражением красного личика, с тайной его души и его жизни всегда трогателен и вызывает молитву о нем. В Гриневке много Философовых, все такие большие, толстые, но удивительно добродушные и в обращении, и в жизни. У них много простоты настоящей, не деланной и отсутствие всякой злобности. И это очень хорошо. Илья какой-то растерянный и, точно нарочно, ни о чем не задумывается, а весь разбрасывается по мелочам. Домой приехать было грустно; видно, никому дела не было ни до меня, ни до моего приезда. Я часто думаю, почему меня не любят, когда я их всех так сильно люблю. Верно, за те вспышки мои горячие, когда я бываю резка и говорю крайности. Потом все собрались, но даже поесть ничего не приготовили, что, впрочем, меня не огорчило. Один Ванечка и немножко Саша показали: первый – восторг шумный, вторая – тихую радость. Застала приехавшего Колечку Ге и Пастухова. Первому я обрадовалась; люблю его доброе радостное лицо и такую же душу. Миша не совсем здоров. Приехали Давыдовы, старались их развлекать, но боюсь, что им было скучно. Он сам очень симпатичен, и я ему всегда рада. Сейчас, вечером, была опять вспышка между мной и Машей за Бирюкова. Она всячески старается вступить опять с ним в общение, а я взгляда своего переменить не могу. Если она выйдет за него замуж – она погибла. Я была резка и несправедлива, но не могу спокойно рассуждать об этом, и Маша, вообще, – это крест, посланный Богом. Кроме муки со дня ее рождения, ничего она мне не дала. В семье чуждая, в вере чуждая, в любви к Бирюкову, любви воображаемой – совсем непонятная. 3 января. Весь день провозилась с кукольным театром. Нашла ребят полна зала, и вышло плохо. Огорчительно, что Петрушка понравился особенно в те минуты, когда он дрался. Грубые, противные нравы! Устала и скучно. Посетители: Пастухов, Ге молодой. Левочка весел; много писал утром, о церкви. Не могу полюбить его религиозно-философские статьи и всегда буду любить его как художника. Метель. 7-градусный мороз. 4 января. Метель страшная с утра и 10° мороза. Ветер воет во все печи, замело всё вокруг дома. С утра неприятное известие: лесной приказчик Роман, пьяный, заехал на болото (озеро) ночью, намок, его привез яснополянский мужик Курносенков Яков, а лошадь утопла и издохла. Лошадь молодая, жаль и досадно. Сам Роман убежал домой в большом волнении. Бергер тоже пропал, он всегда лжет и ленив ужасно, я им очень недовольна. Маша купила корыто и сама стирает белье. Я сердито ей говорила, что она всё здоровье погубит, что она меня измучила. Она отнеслась к этому равнодушно-спокойно. Все четверо меньших в насморке и кашле, но все веселы и на ногах. Где-то Сережа в эту метель? Он уехал к Олсуфьевым, как бы ни выехал. Левочка жаловался, что ему не пишется. Сегодня весь день убирала всё: вещи, тряпки, бумаги; сортировала письма, и теперь хоть умирать можно, так всё в порядке. Очень нездоровится; сердцебиение, дурнота, дыханья нет, и спина болит. Лева ездил с приказчиком искать лошадь, и они заблудились, лошадь не нашли и вернулись. Лева очень мне дорог, и только огорчает его невеселость и худоба. Теперь, впрочем, он имеет спокойный вид, и я рада этому. 5 января. Плохо себя чувствую, спина болит, кровь носом идет, зуб передний болит и смущает тем, что упадет и придется вставлять, а мне это противно. С утра переписываю дневник Левочки, потом чисто убрала его кабинет – и вещи, и белье; взяла чинить носки, о которых он упомянул, что плохи, и так провозилась до обеда. Потом с Ванечкой поиграла. Левочка ездил с Ге (сыном) к Булыгину, а к нам приехали Ваня и Петя Раевские. Сидела всё чинила носки, скучно, но нужно, пока другие не куплю. Вечером рассердилась на Мишу, что он бил Сашу. Рассердилась слишком, толкнула его в спину и при всех на колени ставила. Он плакал и убежал к себе. Мне жаль было и его, и наших с ним хороших отношений. Всё скоро обошлось. Маша Кузминская читала мне письмо Эрдели. У них там всё сплетни и неприятности; бедные, молодые, всё это терзанье напрасное. Второй час, а спать не хочется. Левочка со мной очень добр, и мне это так радостно. Я замечаю, что я эти дни раздражительна и легко сержусь на всех. Это от болезни, но не надо, буду осторожнее. 6 января. Всё нездорова; голова и спина болят, и ночь не спала. День тупо чинила Левочке носки, не сходя с места. Прислали мне Спинозу, читать не могу, жду просветления головы и глаз, а то всё черные круги в глазах. Гости: Булыгин и Колечка Ге. Приехал с курьерским Сережа, веселый, добрый; поговорили о фривольном и о его пребывании у Олсуфьевых, о делах. Ночью он едет в Никольское. Андрюша и Миша ходили на деревню смотреть вечеринку, но у них, кажется, ничего не вышло веселого: ребята стеснялись, не играли, и мне жаль было, что мальчики не повеселились. С Машей всё тяжело: она ездит одна с девчонкой к тифозным; я боюсь и за нее, и за заразу, и ей это высказала. Хорошо, что она помогает больным, я сама всегда это делала, но она меры не знает ни в чем. Впрочем, сегодня говорила я с ней кротко, и мне так ее жаль было, и жаль, что мы непоправимо чужды друг другу. Левочка читал нынче свою статью о церкви – Ге, Булыгину и Леве. Я переписывала часть этой статьи и часть читала. Но не могу полюбить эти не художественные, а тенденциозные и религиозные статьи: они меня оскорбляют и разрушают во мне что-то, производя бесплодную тревогу. 7 января. С утра меня мучила вчерашняя фраза Маши, что она на будущий год выйдет за Бирюкова весной: «К картошкам уйду» были ее слова, то есть к посадке картофеля. Я теперь взяла повадку смолчать и высказываться только на другой день. И вот сегодня я послала Бирюкову деньги за книгу, которую он купил и прислал Маше, и написала ему свое нежелание отдать за него Машу, прося не приезжать и не переписываться с ней. Маша услыхала, что я говорила об этом письме Левочке, сердилась, говорила, что берет все свои обещания мне назад, я тоже взволновалась до слез. Вообще мучительна Маша ужасно, и вся ее жизнь, и вся ее скрытность, и мнимая любовь к Б. Лева с утра уехал в Пирогово с Митрохой. Таня ездила в Тулу, и у ней украли деньги. А у нас ночью увезли два воза дров с отвода. С утра переписывала дневники Л. Потом учила детей, чинила носки и больше не могу – что за адская работа! Вечером читали вслух два отвратительных и скучных рассказа, присланных глупым и без всякого чутья Чертковым. Колечка Ге, уехавший с Булыгиным вчера вечером, не возвращался. Какой он светлый, умный и добрый человек. Какая-то радостность в нем и спокойствие. Он, видно, много перемучился, пока начал жить так, как теперь, он не лгал, что эта жизнь хороша, но теперь успокоился и говорит: «Поворота назад из этой жизни быть не может». И правда. Маша Кузминская совсем безлична: она вся в своей любви к Эрдели, и весь мир для нее перестал существовать. Сегодня думала, что в мире совершается 9/10 событий выдающихся по поводу какого-нибудь рода любви или проявления ее; но все люди это тщательно скрывают потому, что пришлось бы выворачивать все самые тайники своих дум, страстей и сердец. И теперь я много могла бы назвать таких явлений, но страшно, как страшна нагота на людях. В дневниках Левочки любви, как я ее понимаю, совсем не было: он, видно, не знал этого чувства. О любви как двигателе я выразилась неясно. Я хотела сказать, что если любовь овладела человеком, то он ее вкладывает во всё: в дела, в жизнь, в отношение к другим людям, в книгу, во всё влагая такую энергию и радость, что она делается двигателем не одного человека, а всей окружающей его среды. Потому я не понимаю любовь Маши Кузминской. Она точно подавлена. Или это слишком долго продолжается. 8 января. С утра подавлена делами. Перечитывала и разбирала конторские книги по Ясной Поляне и по сведенному лесу[77]. Потом читала с Ге (сыном) корректуру 13-го тома Полного собрания сочинений нового издания. Потом учила Андрюшу и Мишу музыке два часа. После обеда писала для детей аккорды, потом учитывала расход масла и яиц. Еще писала черновые прошения по поводу раздела с овсянниковским священником и ввода во владение Гриневки. Вообще, у меня теперь во всем большой порядок – уж не перед смертью ли? Надо бы ехать в Москву для 13-го тома, да не хочется. На душе уныло, хотя грех; все здоровы и благополучны, благодарю Бога. С Сашей и Ванечкой молились вместе. Таня и Маша с Колечкой Те уехали на Козловку. Левочку мало видела: он всё внизу сидит, читает и пишет. Вижу я его только, когда он ест или спит. Он здоров и весел. 9 января. Сегодня была менее деятельна, хотя встала опять в десятом часу. Переписывала лениво, урок был один с Мишей. Потом показывала Андрюше, как играть в четыре руки; потом обедали; после обеда писала немного, читала повесть Засодимского «У пылающего камелька», довольно хорошо, искренно написано, и трогало меня даже до слез. Играла с Таней в четыре руки «Крейцерову сонату» – плохо; очень уж трудно без предварительного учения ее играть. Вечер у Андрюши зубы болели; Ванечку на руках поносила, он охрип; такой он нежный, ласковый, тоненький, умненький мальчик! Я слишком его люблю и боюсь, что он жив не будет. Во сне всё вижу, что у меня еще мальчик родился. Мое письмо в «Figaro» переведено и перепечатано в «Русских Ведомостях», но неверно с оригиналом, так что вышло как-то неловко слово репутация. Писала письма Тане-сестре и Ге-старику. Иду спать. Сейчас приготовляла документы, планы, деньги и завтра еду в Тулу по делам. 10 января. Встала в десятом часу, в Тулу не поехала: страшный ветер. Кроила утром белье Саше. Немного переписывала. С успехом и очень старательно учила детей музыке и Андрюшу богослужению. Он упрям, рассеян и точно нарочно не слушает и не понимает. Чем больше души своей полагаешь на дело, тем грубее и невнимательнее он. и как он меня мучает! Бедный мальчик, ему плохо будет с таким характером! После обеда все три девочки ездили в Ясенки и привезли с курьерского поезда Эрдели: он едет к матери. Как птицы, парочкой сидят и что-то щебечут они с Машей весь вечер. Читали вслух критику Соловьева на Фета и на «Лирическую поэзию»; довольно умно, но неполно. Еще пустой рассказ читали. Потом Левочка и Николай Николаевич (Ге) играли в шахматы с Алексеем Митрофанычем, который играл не глядя и всех нас этим удивлял. Написала письмо брату Вячеславу. Левочка здоров и очень весел и оживлен. Говорили о том, что цензура всегда мешает писателям высказать именно то, что важнее всего, а я доказывала, что, помимо нее, есть чисто художественные, свободные произведения, которые цензура не может уязвить – хотя бы «Война и мир». И Левочка начал с досадой говорить, что он отрекся от этих сочинений[78], и видно, что задор в нем сидит именно за то, что запретили «Крейцерову сонату». Он упомянул о ней. 12 января. Вчера ездила в Тулу, продала купоны, подала прошение о входе во владение Гриневкой, уплатила по книгам деньги, а главное, измучилась с женой священника с делом по разделу земли в Овсянникове, находящейся у нас с ней в общем владении. Четыре раза я переходила из окружного суда в губернское правление, и меня одно учреждение отсылало в другое, говоря, что оно не подлежит их обсуждению. Так и уехала, не сделав ничего. Давно я не испытывала такой тоски, как вчера, сидя в камере прокурора и дожидаясь присяжного поверенного, который долго не шел. Трудно и тоскливо делать дела, легче сказать: я христианин и ничего делать не могу, это не в моих правилах! Теперь возьму настоящего дельца, а сама ездить беспрестанно в Тулу не могу. Устала, ветер был страшный, просто буря. Была у Давыдовых на минутку, там [княгиня] Челокаева, приятна своей жизненностью и умом. Дома, вечером, именинник Миша – Ванечка так обрадовался, обедать меня ждали. Ночью Ванечка в 3 часа горел и сильно кашлял, не хотелось вставать, но пошла, походила с ним, успокоила его. Сегодня встала поздно, именины Тани, но мы учили детей, Андрюша играл порядочно, Миша насупил брови и был упрям. Приехал Лева с Верой Толстой из Пирогова. Приехали Ваня и Петя Раевские во время обеда. Немножко похоже на именины; играли в игры с детьми, и Ванечка был в восторге. Он с рук не сходит весь день; горит и кашляет, но не унывает. Потом все поехали на Козловку провожать Колечку Те. Привезли письмо от Вари Нагорновой и корректуру «Крейцеровой сонаты». Дело идет к развязке, что-то будет? Запретят или нет, и что я буду делать? Времени ни на что не хватает: ни читать, ни работать; завтра корректуру и белье кроить. На душе пусто и одиноко. 13 января. Ванечка болен; в полдень уже не встал, и к 2 часам было 39 и 4. Вечером, в 9 часов, опять то же. Ночью кашель, мокрота клейкая залепила горлышко, и он задыхался и горел. Насморк всё время, и сегодня ушко стреляло. Так его жаль и утомительно. В свободное от Ванечки время очень много поправила корректур 13-й части, в том числе «Крейцеровой сонаты». Маша Кузминская помогла. Уехала Вера Толстая, и девочки ее проводили. Левочка с Левой ездили вечером на Козловку. 24° мороза. Прошлую ночь, когда Ванечку душило, я побежала спросить Машу, нет ли рвотного. Она спала и мгновенно проснулась. С добротой и готовностью она вскочила, чтоб найти ипекакуану[79], и когда, вставая, повернула ко мне свое лицо, оно показалось мне такое тоненькое, доброе, трогательное, что первое мое движение было ее обнять и поцеловать. Как она удивилась бы! Сегодня я весь день вижу в ней это доброе выражение и люблю ее. Если б я могла навсегда поддержать в себе это чувство к ней, как я была бы счастлива! Я постараюсь. 14 января. Ванечке лучше; температура поднялась днем до 38 и 5, но потом спала, и кашель мягкий, и он повеселел. Уехал Лева в Москву. Приехал Клопский. Он противен ужасно, какой-то темный. Написала письмо Мише Стаховичу, в ответ на его, и Варе Нагорновой, тоже ответ. Немного переписывала, учила Андрюшу (литургия) и Мишу (тайная вечеря). После обеда с Ванечкой переписывала дневник Левочки, уже перешла на 1854 год, сидела внизу с девочками. Ум мой совсем спит. Вечером снаряжали Митроху в Москву, и Андрюша с Мишей очень хлопотали, дали ему своих денег по 50 копеек и пальто. Морозы страшные. Левочка что-то недобр и раздражителен. Как я боюсь всегда его беспощадной язвительности. Она наболела у меня до самой крайней чувствительности. 15 января. Какая подчас идет тяжелая борьба. Сегодня утром дети учатся внизу, а там этот Клопский. И говорит он Андрюше: «Зачем вы учитесь, губите свою душу? Ведь отец ваш этого не желает?» Девочки сейчас же подхватили, что готовы пожать его благородную руку за эти речи. Мальчики прибежали и мне всё рассказали. Пришлось горячо им внушать, что умственный труд всегда оправдывает нашу барскую жизнь, что если не труд настоящий мужика, то останется без умственного труда одна голая праздность; что воспитываю их я одна и вот если они будут плохи, то стыд падет весь на меня и мне будет больно, что труды мои пропадут. 16 января. Была в Туле опять по делам; бегала, хлопотала ужасно, видела много народа и очень много говорила. Дела: вход во владение Гриневкой, раздел с женой священника в Овсянникове, продажа дров; выправила, кстати, паспорт [повара] Петра Васильевича. Была у Раевской, у Зиновьевой – обедала. Маленькая Маня похожа на Ванечку, сидела у меня на коленах и целовала меня в щеку. Домой ехала, всё молилась и вспоминала своих врагов. Решила написать Бирюкову доброе письмо – и написала. Решила миролюбиво делиться с женой священника – и тоже написала. Еще ответила баронессе Икскуль на ее просьбу печатать «Холстомера» и «Поликушку» для народа. Первое отказала, на второе согласилась. Писала Сереже и послала исполнительный лист на ввод во владение Гриневкой. Дома все были веселы, всё по обычному порядку. Еще решила помогать через Машу семейству тех мужиков, которых посадят за порубку. 17 января. Встала поздно и лениво. Вчерашняя поездка утомила. Писала Леве письмо, переписывала дневник Левочки и кончила тетрадь кавказских дневников. Учила Андрюшу богослужению и два часа музыке обоих. Учились хорошо и дружно. После обеда опять переписывала, занималась с Ванечкой, у него ухо стреляло, он плакал. Читали вслух французский роман, довольно скучный. За обедом был шуточный разговор о том, чтоб господам всем поменяться на неделю положением с прислугой. Левочка нахмурился, ушел вниз; я пошла к нему и спросила, что с ним. Он ответил: «Глупый разговор о священном деле; мне и так мучительно, что мы окружены прислугой, а из этого делают шутки, и мне это больно, особенно при детях». Я старалась его успокоить. А сейчас он раздражительно спорил с Алексеем Митрофановичем, защищая Страхова. 18 января. Нездорова; все мускулы живота внутри и снаружи сильно болят, и маленький жар. Была страшная неприятность с няней; она грубит со вчерашнего дня, ребенком не занимается совсем и сегодня довела меня до крайности, так как я сама больна, и я ей сказала, что не позволю всякой развратной женщине мне грубить. Тут она разразилась такой ужасной грубостью, что, не имей я глупой, слабой привязанности к Ванечке, я ее отпустила бы немедленно. А он, бедненький, почувствовал, что что-то неладно, взялся за ее юбку и не отходил от нее, а про меня говорил: «Мама пай». Если бы все были как дети! Учила Мишу, переписывала, охала, ничего не ела, но не слегла. Дневники Левочки очень интересны, время войны и Севастополя. Один вырванный листок меня поразил грубым цинизмом разврата. Да, никак не могут ужиться эти два понятия: брак женщины и разврат мужчины. И брак не может быть счастлив после разврата мужа. Еще удивительно, как это мы прожили такую брачную жизнь. Помогло нашему счастью мое детское неведение и чувство самосохранения. Я инстинктивно закрыла глаза на его прошедшее и умышленно, бережа себя, не читала всех его дневников и не расспрашивала о прошедшем. А то погибли бы мы оба. И он не знает того, что погибли бы и что моя чистота спасла нас. А это наверное так. Этот спокойный разврат и точка зрения на него, картины этой сладострастной жизни заражают, как яд, и могли бы вредно повлиять на женщину, немного увлеченную кем-нибудь. «Ты такой был, и ты осквернил меня своим прошедшим, так вот же тебе за это!» Вот что могло возбудиться в женщине чтением этих дневников. 19 января. Всё больна: живот и лихорадочное состояние. Едва, как во сне, учила детей два часа музыке и поправляла длинную корректуру «Крейцеровой сонаты». Как я могу много и хорошо работать! Как жаль, что этой способности не пришлось приложить к чему-нибудь более возвышенному и достойному, чем механический труд. Если б я могла писать – повести или картины – как я была бы счастлива! От Левы было прекрасное письмо; но, боже мой, какой он впечатлительный и мрачный! Нет жизнерадостности – не будет цельности, гармонии ни в жизни его, ни в трудах, а жаль! Какая видимая нить связывает старые дневники Левочки с его «Крейцеровой сонатой»! А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь. 20 января. Здоровье лучше, но насморк. Миша заболел гриппом, а Саше и Ване получше. Приехал Эрдели; его мать не соглашается на его брак с Машей еще почти на три года. Маша ужасно расстроена, он, по-видимому, тоже. Все мы плакали, очень их жаль, но не договорились ни до чего. Он жалкий, слабый мальчик. Дети играли, девочки писали, и я тоже – все после обеда. До обеда читала Спинозу, но я еще не вникла и не полюбила его, хотя объяснение бога у него вполне удовлетворяет меня и согласно с моим пониманием. Читали немного французский роман. Привезли корректуру конца «Крейцеровой сонаты», и я прочла, слава богу, без прежнего волнения – одни раз и поправила. Левочка плохо спит, писать не может. Утром было теплее, 1½ мороза, теперь опять 7. 23 января. Три дня не писала журнал. Были третьего дня гости: Раевская, Эрдели, Александр Александрович Берс. День прошел пусто, и я была глупо оживлена. Вчера Левочка ушел в Тулу пешком; было тепло, Раевский утром дошел до нас пешком, встречая жену, и это соблазнило Левочку. Он обедал у Зиновьевых (его нет), а вечер провел у Раевских. Вернулся с поездом вместе с Алексеем Митрофановичем. В Туле был и Сережа, приехал сегодня к нам; друг другу всё рассказывали, сидели втроем: он, Таня и я, и о многом рассуждали: дела, супружеская жизнь, дело Маши Кузминской с Эрдели. После обеда он уехал, я шила на машине белье. Глаза, голова – всё болит от страшного насморка. Грипп у всех поголовно. Я тупа на всё от нездоровья. 25 января. Утром рано встала, насморк, нездоровилось. Поехала в Тулу, было ясно, тепло. У мостика встретила Левочку, уже возвращающегося с прогулки, веселого и такого ясного; и мне всегда везде приятно его увидать, особенно неожиданно. В Туле дела разные: деньги получила за дрова, со священником Овсянникова пришла, уступая всё, почти к соглашению насчет раздела. Была у Раевской, Свербеевых и Зиновьевой, где встретила Арсеньева – губернского предводителя дворянства. Второй год я стала замечать, что ко мне стали относиться как к старой женщине. Это непривычно, но мало меня огорчает. Как сильна эта привычка, что ты чувствуешь, как в твоей власти то, что отнесутся все к тебе с некоторой симпатией, если не сказать – любованием! Теперь же больше хочется уважения и ласковости от людей. Поправляя «Крейцерову сонату» (корректуру), вечером мне пришло в голову, что женщина в молодости любит прямо сердцем и отдается охотно любимому человеку, потому что видит, какое это для него наслажденье. Женщина в зрелых летах вдруг поймет, оглянувшись назад, что мужчина любил ее всегда только тогда, когда она ему была нужна, и вдруг из ласкового тона переходил в строго-суровый или брюзгливый, немедленно после удовлетворения. И тут уже, когда женщина, закрывавшая долго на всё это глаза, сама начинает испытывать эту потребность, та сердечная, сентиментальная любовь проходит, и она делается такою же, то есть в известные периоды относится страстно к мужу и требует от него удовлетворения. Горе ей, если он разлюбил ее к тому времени; и горе ему, если он не в состоянии уже удовлетворить ее требованиям. Вот отчего все семейные драмы и разводы столь неожиданные в старости и столь некрасивые. Там только останется счастье, где дух и воля поборют тело и страсти. И неверна «Крейцерова соната» во всем, что касается женщины в ее молодых годах. У молодой женщины нет этой половой страсти, особенно у женщины рожающей и кормящей. Ведь она женщина-то только в два года раз! Страсть просыпается к 30 годам. Вернулась я из Тулы часов в шесть и обедала одна. Левочка выходил меня встречать, но не встретил, что мне было очень жаль. Он стал ласковее последнее время, но хотя опять и опять хочется поддаваться прежнему обману, но я не могу уже не думать, что это всё оттого же – оттого, что он стал здоровее и проснулась прежняя, привычная страстность. Весь вечер усиленно работала над корректурой «Крейцеровой сонаты», «Послесловия» и занималась счетами. Записывала всё в Москву: семена, покупки, дела. 26 января. Встала в 10 часов. Ванечка взошел, его одели, повели гулять. Просмотрела вчерашнюю корректуру еще раз, кончила ее; еще просмотрела каталог семян и кое-что записала. Учила Андрюшу и Мишу музыке. Андрюша страшно упрям и неприятен во время урока; и теперь тон такой взял, трудно отвыкнуть. Приехали дети Свербеевы с англичанкой, два Раевских и Бергер Сережа. Играли в разные игры, ходили кататься с горы. Я проведала Ивана Александровича, он жалок своей слабостью при страдании, как дети. Пошла к Левочке прочесть вместе письмо старика Ге и стала ему говорить, что из его последователей люблю сына Ге, Николая Николаевича, и князя Хилкова. Но прибавила, что это люди, еще воспитанные университетом и старыми традициями, и в этом их и сила, и прелесть, и вся подкладка, а вот увидим, как их дети вырастут и что с ними будет. Левочка немедленно принял брюзгливый и раздражительный тон, разговор перешел в неприятный, я ему тихо это заметила, но ушла с дурным чувством на него. Если б кто знал, как мало в нем нежной, истинной доброты и как много деланной по принципу, а не по сердцу. Все разошлись спать, иду и я. Спаси Бог эту ночь от тех грешных снов, которые сегодня утром разбудили меня. 4 февраля. Много пережила я всё это время. 27-го в ночь поехала я в Москву по делам. Похождения мои там мало интересны. Обедала первый день у Мамоновых, вечер была с Урусовым, Таней и Левой в концерте. Играли Крейцерову сонату (Гржимали и Познанская), и весь концерт был на фортепьяно Познанской. Крайне было утомительно, жарко, за игрой я следить не могла, хотя и чувствовала, что играли хорошо. На другой день утром выкупила Гриневку за 7600 рублей в Московском банке, подала заявление заложить в Дворянский банк. Обедала у Фета и много лишнего болтала, главное, глупо и дурно жаловалась на недостаточную любовь Левочки ко мне. Вечером дома застала Дунаева, и вместе сводили счеты с артельщиком. Дядя Костя сказал раз про Дунаева: «Этот, который по тебе вздыхает», и мне это испортило раз навсегда Дунаева, хотя он такой простодушный и добрый человек. Утром во вторник приезжали Кузминский с Машей; они из Ясной, и я рада была узнать о доме. Мы часа три сидели, весело болтали, завтракали, смеялись. Были тут еще Таня, Лева, Вера Петровна с Лили Оболенской и я. Потом пришел и Урусов, и мы отправились к Шидловским. В среду была у Северцевых, там дядя Костя, Мещериновы, и разговор о браке и любви. Потом в четверг была у Дьякова, где Лиза, Варя, Маша Колокольцева – и мне было очень там хорошо и просто, дружественно, как дома. Дела я окончила успешно, но не люди, не дела меня волновали, а Лева, весь, какой он есть, со своей сложной умственной жизнью, со своими попытками писательства и всё нерадостным отношением к жизни. Он прочел мне свой рассказ «Монтекристо», очень трогательный и сильно действующий на чувство – рассказ полудетский. Другой он послал в «Неделю», где Гайдебуров обещает его напечатать в мартовской книге. Это секрет, о котором он просил никому не говорить. Мне стала вдруг так радостна мысль, что то, чем я привыкла жить всю свою жизнь, – эта художественная и умственная атмосфера, окружавшая меня, – не уничтожится, если я переживу Левочку, а я буду в сыне продолжать интересоваться и следить за тем, что наполняло так интересно и хорошо мое существование. Я в нем буду продолжать любить и его, и из-за него и свою жизнь, и его отца. Но что-то еще Бог даст! Другое взволновавшее меня обстоятельство то, что когда я вернулась домой и застала Мишу Стаховича, я впервые выслушала от него довольно неожиданную исповедь о том, как он всегда восхищался Таней: «Я долго старался заслужить Татьяну Львовну, но она никогда не подавала мне надежды». Мы всегда думали, что он целится в Машу, и когда я рассказала Тане это обстоятельство, то видела, что ее это сильно взволновало. Я счастлива бы была, если б она вышла за Мишу Стаховича. Я его очень люблю, он мне нравится так, как ни один из молодых людей, которых я знаю, и кому же могу я желать моего любимца, как не любимой дочери? Мы все были очень веселы эти дни: приезжали еще Керн с женой, мальчики Раевские, Дунаев с Алмазовым; но всё веселье вносил один Стахович. Дети катались эти два праздника, 2-е и воскресенье, на скамейках по всей деревне, я ходила проведать слепую Евланью, мать Митрохи, и всё ей про него рассказывала; мне радостно было ей сделать этим удовольствие. Сегодня учила детей; Андрюша в мое отсутствие не делал ничего и уроков не знал. Я вышла из себя и прогнала его. Боже! Как он меня мучает и огорчает! Левочка не очень свеж, но ездил сегодня верхом в Ясенки, а после обеда разыгрывал Шопена, и ничья игра меня не трогает больше игры Левочки; удивительно много чувства у него и именно всегда то выражение, которое должно быть. Он говорил Тане, что задумывает художественное и большое сочинение. То же он подтвердил и Стаховичу. Маша вдруг решительно собралась в Пирогово, но холодно, и я не пускаю, потому что она охрипла, а 15° мороза. Не огорчило ли ее известие о том, что Стахович любит Таню больше нее? Ей так давно внушают обратное. Таня была в Туле с miss Lidia и переснималась; для Стаховича она поспешила, так как он просил ее карточку. Она взволнована, это верно. Но опять и тут… что Бог даст! 6 февраля. Встала в десятом часу, видела во сне Петю своего покойного маленького, что Маша его откуда-то привезла разбитого и растерзанного, он уже большой, как Миша, и похож на него. Мы друг другу обрадовались, и весь день я его вижу в той полутьме, в которой он лежал больной. Весь день кроила, шила и ладила панталоны Андрюше и Мише и кончила к вечеру обе пары. Вечером читал Левочка «Дон Карлоса» Шиллера, я вязала. Теперь одиннадцатый час, он уехал на Козловку верхом за письмами. Девочки ушли спать, они обе взволнованы и даже несчастливы со времени известия о чувствах Стаховича. Читаю «Physiologie de Pamour moderne» [Поля Бурже] и еще не пойму в чем дело, только начала, но мне не нравится. Левочка любуется на Ванечку и возится с ним. Нынче вечером он его и Сашу поочередно клал в пустую корзинку, закрывал крышу и таскал по комнатам, с Андрюшей и Мишей. Он забавляется детьми, но совсем не занимается ими. 7 февраля. Таня больна, у нее жар 39 и 3, ломит ноги, болят спина и живот. Много было уроков с Андрюшей и Мишей. У Миши всё голова болит, и это меня тревожит. От Левы что-то нет известий, это очень грустно: не болен ли он. Письмо от Манечки Стахович, а ждала от Миши. Второй вечер хотелось проехаться на Козловку с Левочкой, а он всё ездит верхом, точно нарочно. Он опять суров, ненатурален и неприятен. Вчера вечером я так сердилась молча на него! До двух часов ночи он всё не давал мне спать. Сначала был внизу и мылся долго, я уж думала, что заболел. Мытье для него – событие. Я стараюсь всеми силами видеть только его духовную сторону и достигаю, когда он бывает добр. 9 февраля. Вчера вечером наконец исполнилась моя мечта – прокатиться в санках, при лунном свете, на Козловку. Мы ездили с Левочкой вдвоем на Козловку. Но писем не было, и от Левы известий нет. Тане как будто лучше, хотя всё еще был жар 38 и 6. Заболел и мой миленький Ванечка: тоже жар. Погода – ветер и 1° мороза. Сегодня я ленива и грустна. Сшила Ване матросский костюм, два часа учила музыке, читала брошюру Бекетова «О настоящем и будущем питании человека». Он предсказывает всемирное вегетарианство, и он, пожалуй, прав. Ванечка кашляет, и мне больно его слушать. 10 февраля. Таня с утра стонала до обеда от страшной головной боли, потом опять был жар 38 и 5. Ванечка с утра горит, утром было 39 и 3. Странная, неопределенная болезнь! Не могу сказать, чтоб я очень тревожилась, но жалко своих больных. Самой тоже не совсем здоровится, всю ночь не спала. Переписывала дневники севастопольские Левочки, очень интересно; вязала и с больными сидела. Андрюшу спросила урок, который он не знал на неделе. У Маши в том доме школа из разного сброда[80], и все дети туда бегают. Саша, по случаю болезни Тани, тоже ходит туда учиться. У Миши новые часы, и он страшно доволен, как только дети умеют быть. Левочку видела мало. Он пишет опять о науке и искусстве. Показал мне сегодня статью в «Open Court», где поминают, что он говорит одно, а живет по-другому, ссылаясь на то, что состояние взяла жена: «Знаем мы, как относятся люди вообще, а русские в особенности, к женам, – пишут там. – Жены воли не имеют». Левочке было неприятно, а мне всё равно: я обстреляна. 11 февраля. Заболел еще Андрюша; Ванечке днем было лучше, теперь, ночью, опять жар. Приехала Анненкова. Тане гораздо лучше. Письмо короткое от Левы. Много переписала сегодня интересного из Севастопольской войны в дневнике Левочки. Работала, учила детей. 12 февраля. Весь день все дети нездоровы; у кого что: у Маши боли в животе, у Тани желудочные боли, у Миши зубы, у Ванечки сыпь, у Андрюши жар, рвота; одна Саша весела и здорова. Переписывала дневник Левочки; он взял вечером свой дневник и начал читать. Несколько раз он говорил мне, что ему неприятно, что я их переписываю, а я себе думала: «Ну и терпи, что неприятно, если жил так безобразно». Сегодня же он поднял целую историю, начал говорить, что я ему делаю больно и не чувствую этого, что он хотел даже уничтожить эти дневники, упрекал меня, спрашивал, приятно ли бы мне было, если б мне напоминали то, что меня мучает как дурной поступок, и многое другое. Я ему на это сказала, что если ему больно, мне не жаль его; что если он хочет жечь дневники, пусть жжет, я не дорожу своими трудами; а если считаться, кто кому больно делает, то он своей последней повестью перед лицом всего мира так больно мне сделал, что счесться нам трудно. Его орудия сильнее и вернее. Ему бы хотелось перед лицом всего мира остаться на том пьедестале, который он себе воздвиг страшными усилиями, а дневники его прежние ввергают его в ту грязь, в которой он жил, и ему досадно. Не знаю, как и почему связали «Крейцерову сонату» с нашей замужней жизнью, но это факт, и всякий, начиная с государя и кончая братом Льва Николаевича и его приятелем лучшим – Дьяковым, все пожалели меня. Да что искать в других – я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между нами. И всё это не быв виноватой перед мужем ни в одном движении, ни в одном взгляде на кого бы то ни было во всю мою замужнюю жизнь! Была ли в сердце моем возможность любить другого, была ли борьба – это вопрос другой – это дело только мое, это моя святая святых, и до нее коснуться не имеет права никто в мире, если я осталась чиста. Не знаю, почему именно сегодня в первый раз я высказала Льву Николаевичу свои чувства относительно «Крейцеровой сонаты». Она так давно написана. Но рано или поздно он должен был их знать, а сказала я по поводу упреков, будто я ему больно делаю. Вот я ему и показала свою боль. Рожденье Маши. Как было тяжелое, так и нынче, через 20 лет, тяжелое. 13 февраля. Вчерашний разговор, перевернувший мне душу, заключился спокойным договором доживать вместе жизнь как можно дружнее и спокойнее. Дети всё еще нездоровы: у Андрюши весь день жар, Таня и Маша слабы и головы болят, у Миши невралгия. Сидела весь день с детьми и Анненковой и работала. Скроила Андрюше халат, чинила чулки, сшила наволоку. Вечером Левочка читал нам «Дон Карлоса» и кончил. Получили письма: я – от Левы, Левочка – от графини Александры Андреевны Толстой, оба хорошие. Таня что-то странна и истерична. Моя обыденная жизнь, заботы, дети, болезни опять как бы парализовали всю мою духовную сторону, и я мучительно сплю душой. 15 февраля. Левочка почти запретил мне переписывать свои дневники – и мне досадно: я так много уже переписала и так мало осталось той тетради, из которой я переписывала теперь. Тихонько от него продолжаю писать – и кончу непременно; слишком я давно и твердо решила, что это нужно. Дети все здоровы. От Левы телеграмма, что завтра он не едет в Гриневку, есть дело в Москве. От Миши Стаховича письмо о дуэли [гвардейских офицеров] Ломоносова и Вадбольского, и его рассуждения по поводу этому совершенно верны, что это убийство, как и всякое другое. Еще он меня вызывает в Петербург для переговоров с государем о цензурном отношении к Левочке и возлагает на мой приезд и мой разговор с государем огромные надежды. Если б я могла быть спокойна о доме и детях, если б я любила «Крейцерову сонату», если б я верила в будущую художественную работу Левочки – я бы поехала. А теперь – где взять энергию, где взять тот подъем духа, которым можно умно, с властью и убеждением повлиять на довольно устойчивого в своих убеждениях государя? Не чувствую я больше этой личной власти над людьми, которую еще недавно так сильно чувствовала. Ездили на Козловку за письмами: Левочка верхом, Таня, Маша, Иван Александрович и я в санях. Чудная лунная ночь, снег блестит гладкий, ровный, дорога чудесная, мороз и тишина. У нас 12° мороза, в поле всегда больше. Ехала домой и с ужасом думала о городской жизни. Как опять жить без этой красоты природы, без простора и досуга, которыми так балуешься в деревне? 16 февраля. Однако письмо Стаховича меня смутило, так как всё видела во сне царя и императрицу и всё думаю о поездке в Петербург. Тщеславие играет самую главную роль, и я не попадусь на это и не поеду. Левочка хотел ехать с Машей в Пирогово и остался. Я знаю, почему он остался, я чувствую это по всему его тону со мной. Весь день усиленно кроила и шила на машине белье. Читаю всё «Physiologie de l’amour moderne», и меня заинтересовал этот анализ чувственной любви. Учила детей музыке; двигаемся тихими шагами, но двигаемся; Андрюша играет сонату Бетховена, Миша – Гайдна. У Миши несравненно больше способности. Маша, Андрюша и Алексей Митрофанович учили девок и наших горничных вечером, в том доме; Маша бледна, жалка, худа, но есть в ней что-то трогательное. Таня расстроена, неспокойна и чего-то ждет. 17 февраля. От Левы письмо: он заболел, у него в Москве сделалось, видно, то же, что было у детей здесь, в Ясной. А может быть, и другое что. Во всяком случае, не могу уже быть спокойна, хоть пишет он сам, и по тону правдиво и не опасно. Илья тоже в Москве, продавал клевер. Написала письма Леве, Тане-сестре и Стаховичу. Все плохие письма. Приехал Николай Николаевич Ге, с женой, привез свою новую картину: Иуда Предатель смотрит на удаляющуюся группу. Лунный свет хорош, мысль и сюжет хороши, но исполнение бедно и не удовлетворяет совсем, точно одно полотно, а не картина. При сильном освещении лучше. Весь день провела с Анной Петровной Ге и утомилась без своих обычных занятий. Левочка ездил верхом в Тулу, вернулся очень скоро, не застав дома Давыдовых и пригласив через человека посмотреть картину. Он бодр, но на него нашла тревога. То в Пирогово, то в Тулу; то суп мясной перестал опять есть, то кофе надо пить овсяный – видно, наскучило быть здоровым. А мне эта суетливость страшна и неприятна. Всё говорит, что не пишется. У Маши был опять вечерний класс, и она учила одна и утомилась. 18 февраля. От Левы известия плохие. Телеграмма – доктор сказал, что у него обычное его лихорадочное нездоровье, как было два года назад; письмо – что лучше, а по словам приехавшего из Москвы Ильи – у Левы то же нездоровье, которое было у всех в Ясной. Дай бог, чтоб не затянулось. Таня едет к нему завтра, а я еду в Тулу по делу раздела с овсянниковским попом. Страшно неприятно и надоело. Читали вслух с Ге и Буткевичем рассказ «Часы» какого-то малоизвестного писателя. С Ильей неприятные хозяйственные и имущественные разговоры. Маша вянет и беспокоит меня, и очень ее жаль. Дни проходят бесцветно и беспокойно. Учила сегодня Закон Божий, идет плохо, вышивала полосы одеяла и сидела с Анной Петровной. Ветер страшный, жутко слушать. 19 февраля. Была в Туле; кроме лавок, нотариуса, попа, улицы и губернского правления – никого и ничего не видала. Шли с попом разговоры о разделе, но ничем не кончили. Иван Александрович ездил со мной. Таня уехала в Москву ходить за больным Левой, я рада за него и что-то мало беспокоюсь, мне кажется, что ему сегодня будет лучше. Я так его люблю, что о плохом не могу думать. Вышивала, ела, тупо разговаривала, вообще глупа. Был Раевский, смотрел картину Те. На улице, на минутку, видела Давыдова, и было очень приятно его видеть; он один из тех, которые мне особенно симпатичны; да он и действительно особенный, из немногих. 20 февраля. Сейчас проводили стариков Те на Козловку. Получила два письма: от Тани и от Левы карандашом, ему лучше, утром 37, вечером 38 и 6°. Была и телеграмма. Меня встревожило то, что с Мишей во время ученья делается иногда вроде истерики: и смех, и слезы, но скоро проходит. И правда, но слишком ли их много учим? Андрюша тоже вял. Ездили на Козловку: Левочка, Маша и я; тепло и ветер. Вечером между нами четырьмя – Левочкой, двумя Те и мной – были больные разговоры о наших супружеских отношениях и о болях, которые испытывают мужья, когда их не понимают жены. Левочка говорил: «Тут, как ребенок, со страданиями рождается в тебе новая мысль, целая душевная перемена, а тебе же в упрек ставят твою боль и знать не хотят ее». А я говорила, что пока рождаются все эти вымышленные ими самими духовные дети, у нас рождаются с реальной болью живые дети, которых надо и кормить, и воспитывать, и имущества охранять, когда же еще и как ломать свою сложную жизнь для тех душевных перемен мужей, за которыми поспеть невозможно и о которых можно только жалеть? Впрочем, мы многое говорили, чтоб упрекать друг друга, а в душе всякий желал одного, по крайней мере я этого теперь всегда желаю – чтоб не бить по старым больным местам и жить как можно дружнее. А что люди, не только любимые мужья, говорят и делают хорошо и с добром, то всегда встретит сочувствие, и не может быть иначе, хотя медленно, со временем – если это действительно добро. 23 февраля. У нас Горбунов, и приехала Анненкова. Больна Саша, жар и кашель; я особенно старательно ухаживаю за ней, и мне за нее страшно. Анненкова говорила, что видела в Москве Леву и Таню; Лева выздоровел, но боится еще выехать. Получили письмо от Полонского и стихотворение «Вечерний звон». Левочка шил вечером сапоги и жаловался, что его знобит. На дворе просто буря, такой страшный ветер. Весь день ухаживала за Сашей, возилась с Ванечкой, дала два часа урока музыки Андрюше и Мише и вышивала одеяло. Грешные мысли меня мучают. И странно, точно они некасаются меня, моей жизни и даже души, а что-то постороннее, рядом со мной, не могущее – как и во всю мою жизнь – ни коснуться меня, ни испортить меня. Очень порадовал меня сегодня Миша, играл хорошо; стали разбирать «Серенаду» из «Дон-Жуана» в четыре руки, и он вдруг просиял от звуков этой мелодии. Но у них с Андрюшей завелись секреты, и меня это страшно беспокоит. Не развратил бы их Borei, кто его знает! Чистота, святая чистота, всегда была мне дороже всего в мире. 25 февраля. Все уехали на Козловку провожать Анненкову, то есть Левочка, Маша, Петя Раевский и Горбунов. Маша повеселела с Петей: ее радует, что он к ней неравнодушен, и молодая жизнь заиграла, чему я очень рада. Вчера было письмо от Левы, довольно мрачное, о его нездоровье, и от Тани – более утешительное. Они боятся еще ехать. Вчера ночью, часа в четыре, меня разбудил лающий кашель Ванечки. Мы с Машей вскочили, дали ему горячей сельтерской воды выпить и вскипятили воду со скипидаром, налили в полоскательницу, накрылись с ним простынкой и дали ему дышать этими парами. Удушье скоро прекратилось, но сделался жар, 40°, и кашель. Я думала, пойдет надолго, но ровно через сутки, то есть уже к сегодняшнему дню, всё прошло и он уже пел в зале «Гусельки». Саше тоже гораздо лучше, и она встала. Учила детей Закону Божию и долго толковала Мише понятие о Боге. Его уже спутали отрицаниями разными, особенно церкви, но я старалась объяснить ему истинное значение церкви, как я понимаю, как собрания верующих, как хранилища святыни, веры и созерцания Бога, а не как обрядность. Левочка спокоен, здоров и весел. У нас простые, дружеские отношения, но не глубокие, а поверхностные. Все-таки лучше, чем были в начале зимы. Всё ветер гудит. На деревне умерла девочка у Ольги Ершовой, лет семи, очень миленькая и слишком любимая матерью. Мне ее страшно жаль. Левочка и Анненкова ходили туда, а я не могла. 28 февраля. Эти дни прошли незаметно. Ванечка хворал, работала, учила, читала и болела. Сегодня лучше; Ванечка всё сильно кашляет. Вчера вечером приехали Таня, Лева и Соня Мамонова. Лева похудел, но не имеет больного вида. Он мнителен, и действительно у него слабый организм. Таня очень оживлена и как будто похорошела. Приехали все три брата Раевские, с Козловки. Все дети ездили встречать. Дорога портится, стоят ясные дни с южным ветром и около 2° тепла. Левочка ездил в Тулу, отвозил Ивана Ивановича Горбунова на железную дорогу, был у Раевских. Он в оживленном расположении духа, но что-то есть весеннее, эгоистическое и материальное в его жизнерадостности. Давно не было у него такого здорового и бодрого вида. Не знаю, над чем он работает; он не любит говорить. Из Москвы известие, что арестован весь XIII том. Не знаю, чем это кончится, и ничего не решила. Вечером Левочка читал рассказ Нефедова «Евлампеева дочь», вслух. Плохо и невесело. Иду спать. Что-то грустно и вяло. 2 марта. Вчера провели день праздно и празднично. Все дети ходили с Раевскими в Ровские казармы[81] пить чай. Брали всё с собой. После обеда играли в игры, и Ванечка был удивительно мил и серьезно вникал и исполнил все игры. Между этими большими, крупными людьми – особенно Раевскими – эта маленькая, беленькая и умная крошка очень трогательна. Сегодня приехали Сережа, Илья и Цуриков, сослуживец Сережи и их сосед. Илья всякий раз просит на что-нибудь денег, и это очень неприятно. У него легкомысленное отношение к деньгам, а жизнь устроил слишком широко. Левочка грустен; я спросила почему, он говорит: «Не идет писание». О чем? – О непротивлении… Еще бы шло! Этот вопрос всем, и ему самому, оскомину набил, и перевернут, и обсужден уже со всех сторон. Ему хочется художественной работы, и приступить трудно. Там резонерство уже не годится. Как попрет из него поток правдивого, художественного творчества – он его уже не остановит, а там вдруг непротивление окажется неудобным, а остановить поток невозможно; вот и страшно его пустить, а душа тоскует. Лева огорчился сегодня, что и Сережа, и я ему сказали, что он плох. Я хотела его приласкать, потому что мне его жаль, а вышло, что обидела. Кончила сегодня читать Бурже «Физиологию современной любви», по-французски, конечно. Очень умно, но надоело, всё вокруг одного вертится, и быт мне чуждый. 3 марта. Последний день Масленицы. Андрюша ездил на Козловку верхом, Миша с Машей еще в санках, к больным в Ясенки и в Телятинки, где лежит уже несколько месяцев мужик со страшной раной. Это хорошо, что Маша им занялась и утешает его; это доброе, настоящее дело. Лева немножко веселей, но его больной вид мучает меня. Соня Мамонова пела, Сережа и Лева играли; потом болтовня с Цуриковым, и я всегда раскаиваюсь, что много говорю. Шила весь день, благо другого при этой суете ничего делать нельзя. Радовалась на собравшихся всех девятерых детей вокруг стола за обедом. 6 марта. Сережа уехал в Никольское, Маша ездила в Тулу с больной бабой и с девочкой Сашкой для компании. Наладилась будничная жизнь, но мне очень приятно было в субботу и воскресенье за столом видеть всех вместе моих детей при нас, двух стариках. Я всё сижу дома и работаю разную работу. После обеда, для движенья, присоединилась к Левочке играть с самыми маленькими: Сашей, Ваней и Кузькой [сыном кухарки]. Левочка каждое после обеда ходит с ними по всему дому, сажает в корзину пустую и носит по дому закрытую, потом останавливается где-нибудь и велит тому, кто в корзине, угадывать, в какой они комнате. Лева очень худ, кожа к костям пристала, и у меня за него сердце болит; но он повеселел, надо ему летом строго кумыс пить. Читали вслух повесть русскую [А.А.Смирнова] «На закате»; одна я читала Спинозу. Его интерес к истории еврейского народа меня не захватывает, увидим, что будет в части, где Ethique. Я люблю всё отвлеченное и просто общие мысли, а не разборы какой-нибудь отрасли. Говорили за чаем о еде, о роскоши, о вегетарианстве, которое всё проповедует Левочка. Он рассказывал, что в расписании кушаний вегетарианских в немецкой газете назначены на обед хлеб и миндаль. Наверное, проповедующий это исполняет этот regime так же, как Левочка, проповедующий в «Крейцеровой сонате» целомудрие. 8 марта. Получили мартовскую книгу «Недели» с Левиной повестью [ «Любовь»]. В первый раз напечатали что-нибудь его под именем Л.Львова. Я еще не перечла рассказа вторично, потому что книга получена сегодня, а я была в Туле. Меня очень волнует писательство Левы, особенно в его будущем. Есть ли это явление случайное, от впечатлительности и новых явлений жизни, которой он не знал, или это начало его литературной деятельности? Хорошо бы если б это стало делом его жизни, тогда он полюбил бы и самую жизнь. Здоровье его и вид стали лучше, но он всё очень худ. В Туле опять дела: по залогу Гриневки, деньги с завода за дрова, нянины деньги в Государственном банке, покупки и, наконец, Зиновьевы и Давыдовы. Вся поездка всегда тяжела. Езда в гости должна быть очень коротка, то есть надо ездить на часок; а то, очевидно, всякое посещение посторонних нарушает семейную и внутреннюю жизнь и бывает в тягость, и все это чувствуют. 10 марта. Нынче Левочка сидит, завтракает, принесли с Козловки газеты и письма, я говорю: «А мне всё нет известий о XIII томе». Левочка мне на это говорит: «Да ты что хлопочешь, ведь я принужден буду напечатать, что отказываюсь от всех прав на эти сочинения XIII тома». Я ему на это сказала: «Только погоди, когда он выйдет». Он сказал: «Разумеется». Потом он ушел, а я стала злиться, что опять он хочет отнять у меня возможность получить немного лишних денег, которые так нужны всем моим детям. И придумала злобное сказать Левочке; когда он шел гулять, я ему и сказала: «Ты напечатаешь, что отказываешься от прав, а я тут же напечатаю, что надеюсь, публика деликатна и не воспользуется правами, принадлежащими детям твоим». Он стал доказывать мою неделикатность, но мягко; я молчала. Потом он сказал, что если я люблю его, то сама напечатаю это отречение от прав на его новые произведения. Он ушел, а мне стало его жаль, и так ничтожны показались мне имущественные интересы сравнительно с той болью, которую я испытываю от нашей обоюдной отчужденности друг от друга. После обеда я ему сказала, что жалею о том, что сказала ему неприятное, и ничего не напечатаю, а мне дороже всего его не огорчить. Мы оба прослезились, тут стоял Ванечка и испуганно спрашивал: «Что?! Что?» Я ему сказала: «Мама обидела папу, и мы помирились». Он удовлетворился и изрек: «А!» Холодно, ветер. Был рисовальный учитель, просил взаймы денег, я не дала, очень уж плохой учитель. Болит спина и грудь, и слабость ужасная. После обеда Таня, Соня Мамонова, Маша, Ваня и немножко Миша плясали под гармонию и фортепьяно. Соня нарядилась бабой. Алексей Митрофанович пошел с четырьмя ребятами, которых он учит, в Тулу. Читала статью «По поводу ’’Крейцеровой сонаты“» Вогюэ; удивительно тонко и умно. Он говорит, между прочим, что Толстой дошел до крайности анализа, убившего всякую жизнь личную и литературную. Вечером Левочка читал вслух повесть Потапенко «Генеральская дочь», недурно. Вязала, кроила и шила с Соней кофту Агафье Михайловне. Левочка переправляет и опять переписывает «О непротивлении», Маша ему переписывает. Эти тяжеловесные статьи даются художнику трудно, а за свое, художественное дело не берется. 11 марта. Приехал Вячеслав [Берс], уехала Соня Мамонова. Я рада Вячеславу и в нем вижу и живо вспоминаю мать и ее к нему любовь. Таня провожала Соню в Тулу и там обедала у губернатора. Левочка тоже ездил в Тулу верхом, к Давыдову и Зиновьеву, по делам разных крестьян. Я весь день провела с братом. Вечером читали вслух. 12 марта. Приехал американец [Джеймс Крилмен], редактор газеты «Herald», из Нью-Йорка. Еще темный, Никифоров. Разговоры, разговоры без конца. Получила известие из московской цензуры, что XIII том арестован бесповоротно. Еду в Петербург хлопотать. Это меня страшно расстраивает. Чувствую, что ничего не сделаю, что счастье и веру в свои силы утратила. А может быть, Бог поможет. Снег, ветер, мороз, хоть на санях ездить опять. 13 марта. Была в Туле, никого не видела, кроме деловых людей. Всё раздел со священником. Вечером разговоры с американцем; ему нуясны для газеты сведения о Левочке, которые я ему дала, но очень осторожно, так как учена уже многими. Вячеслав уехал рано утром; он оторвался от нас, жаль. Получила письмо от графини Александры Андреевны Толстой; пишет, что государь не принимает дам, но чтобы я подождала неделю или дней десять ответа. Еду в Москву, выпущу двенадцать частей с объявлением о задержке тринадцатой. Как не хочется двигаться, как тяжело хлопотать! А кому же? Холодно, ветер, выпал снег, и опять все на санях. 20 марта. Провела в Москве 15-е и 16-е число. Оба дня была с Левой. Он в восторге, что напечатают его рассказ «Монтекристо» в «Роднике» апрельской книжки. Я тоже в восторге. Меня радует и интересует его попытка писательства и его удача с издателями, так сочувственно отнесшимися к его первым трудам. В Москве узнала, что XIII часть запретили в Петербурге, а в Москве была арестована только «Крейцерова соната». Еду в Петербург, употреблю все старания, чтобы увидать государя и отвоевать XIII том. Видела в Москве двух Олсуфьевых и Всеволожского и рада была им, очень хорошие ребята все трое. Дунаев совсем странен и болен. Привезла в Ясную Вареньку Нагорнову, это милое, светлое создание. Ей все были рады, и она сегодня только уехала. Таня и Маша в новых катках сейчас уехали ее провожать до Тулы, ночевать у Зиновьевых и смотреть передвижную выставку картин[82]. Поеду и я с мальчиками в воскресенье. Ничего не интересует и ни о чем не могу думать, пока не решится судьба XIII тома. Сочиняю речи и письма государю, думаю, соображаю и жду только письма Толстой, которая должна известить меня, примет ли государь и когда. Левочка говорит, что он умственно заснул и плохо пишется. У него побаливает под ложкой, но на вид он бодр. Ветер, тает, 5° тепла, грязь и езда на колесах. 21 марта. Читала Спинозу; поразили меня два рассуждения: первое – о власти и законах; власть должна подчинять людей, не страхом карать их за проступки, а, поставив идеалы, заставлять понять свою собственную пользу и стремиться к этим идеалам, в которые они бы поверили, как в свое же общее благо. Другое рассуждение о чудесах. Что люди le vulgaire, неразвитые, видят руку Божию только в том, что вне законов природы и вероятности, а совсем не видят Бога во всей природе, во всем мироздании. И вот они ждут от Бога чудес, то есть чего-то такого, что вне природы. Девочки вернулись из Тулы, ночевали у Давыдовых, видели прошлогоднюю передвижную выставку картин и очень озябли. Ветер страшный, совсем буря; на точке замерзания, и все-таки тает. С Андрюшей нынче опять было неприятно во время урока музыки. Он не может помнить самого дела, а помнит всё, что вокруг него; неприятно отдергивает руку, когда я дотронусь до его руки, отвертывается, когда я останавливаю его, и т. п. Я терплю, терплю, наконец накипит, и я или крикну на него, или ударю по руке и страшно расстроюсь. Было письмо от Левы к Тане. Левочка необыкновенно мил, весел и ласков. И всё это, увы, от одной и той же причины. Если бы те, кто с благоговением читали «Крейцерову сонату», заглянули на минуту в любовную жизнь, которой живет Левочка и при одной которой бывает весел и добр, то свергли бы они свое божество с пьедестала, на который его поставили! А я люблю его такого, нормального, слабого в привычках и доброго. Не надо быть животным, но не надо быть насильно тем проповедником истин, которых не вмещаешь в себе. 22 марта. Весь день примеряла и возилась с детскими летними платьями. После обеда мы с Левочкой поиграли в четыре руки. Вечером он, вместо пасьянса, мотал мне суровые нитки, очень спутанные, и очень этим увлекся. Написала письмо Соне. Нездоровится и устала. 23 марта. В первый раз сегодня почувствовала я весну; хотя подмораживало, но солнце садилось так ясно, птицы пели, и особенно красиво, по-весеннему обрисовывались стволы молодых березок в Чепыже. После обеда взяла Андрюшу и Сашу, и мы чистили снег с каменной террасы. Левочка съездил в Тулу верхом, был только у Давыдова и вернулся в восьмом часу вечера. Он здоров и весел. Учила детей музыке, играли в четыре руки «Гавот» Баха, аранжированный для детей. Приехал Петя Раевский. Из Петербурга всё нет известий, и я томлюсь неизвестностью и ожиданием. 24 марта. Утром написала три письма: два – в ответ на полученные от Левы и Дунаева и одно – графине Толстой. Ожидания меня замучили, и я решилась еще раз сделать запрос. Письмо Левы длинно, подробно и хорошо тем, что он не прекращает сношений с семьей и откровенно всё о себе пишет. Потом сидела одна и читала. Прекрасная статья в «Русских Ведомостях» «Мысли Шопенгауэра о писательстве». Он делит писателей на три разряда: «одни пишут мысли прямо взятые из других книг; другие садятся писать и тогда придумывают, что написать. Третьи прежде много думают и, когда мыслей много, тогда пишут. Эти самые редкие». Очень это умно. Дети все ходили в Ровские казармы чай пить. Часа в 3 приехал Давыдов с дочерью и маленьким Бухманом. После обеда гуляли, смотрели коров, свиней, ходили на гумно, лазили на солому. Вернувшись, я играла с Давыдовым в четыре руки, а потом все играли в игры и были очень оживлены. С Левочкой дружно и просто. Он здоров, гулял, немного писал свою статью; когда-то он ее кончит и сам себе развяжет руки. 2° тепла, к вечеру подморозило. Снегу еще везде много, особенно в лесу. 27 марта. Ездила 25-го с Андрюшей и Мишей в Тулу. Ходили на передвижную выставку картин; мне всегда доставляют картины большое наслажденье, но мало было хороших: прекрасные пейзажи Волкова и Шишкина. После выставки зашли в кондитерскую, в магазин учебных пособий и поехали к Раевским. Иван Иванович и Елена Павловна ехали обедать к Свербеевой Софье Дмитриевне, и я поехала с ними; мальчики, шесть человек, обедали одни. Потом у Свербеевых оказался лишний билет в концерт, я и поехала с одной из милых девочек, Любой, и Раевский, забрав всех мальчиков, поехал тоже. Концерт и чтение были, как всегда в провинции, очень посредственные, но я не скучала, только устала, а дети были очень довольны. Из концерта вернулась к Давыдовым ночевать, дети же ночевали у Раевских. На другое утро они уехали домой, я же, встав рано, отправилась по делам. Иду по Киевской, вдруг Илюша стоит. Я очень удивилась, попросила его поехать посмотреть со мной коляски продажные. Это было долго и скучно. Потом я пошла к старшему нотариусу за залоговым свидетельством и потом уехала с Ильей домой. Он приезжал собрать сведения о продающемся конкурсом именье, просил у меня 35 тысяч денег, я отказала, вышло неприятно, но обошлось. После обеда я сошла в комнату Тани, хотела с детьми посидеть; Илья вдруг говорит: «А я вам кобыл для кумыса не дам». Я вспыхнула и говорю: «Я тебя и не спрошу, а прикажу управляющему». Он тоже вспыхнул и говорит: «Управляющий – я». – «А хозяйка – я». Была ли я уставшей или уж очень он меня намучил разговором о деньгах и именье, только я страшно рассердилась, говорю: «До чего дошел, отцу на кумыс кобыл пожалел, зачем ты ездишь, убирайся к черту, ты меня измучил!» Хлопнула дверью и ушла. И больно, и стыдно, и досадно на сына – вообще отвратительно. Потом пошли, в первый раз серьезно, разговоры о том, что так оставаться не может и надо всем делиться. Я очень этому рада, но согласна делить детей только по жребию; на это, по-видимому, Илья тоже не согласится, ему хочется остаться в Гриневке и Никольском, а мне не хочется обижать беззащитных маленьких детей. Собственно, трудно с одним Ильей – он страшный эгоист и очень жаден, может быть оттого, что у него уже семья. Остальные дети все деликатны и на всё будут согласны. Левочка всегда имел слабость к Илье и не видал его недостатков; на этот раз тоже ему хочется сделать всё по желанию Ильи, и я боюсь, что будут еще неприятности без конца. К счастью, Гриневка на мое имя, и если не согласятся делить всех детей жеребьевкой, я не соглашусь отдать Гриневку и Овсянниково. Маленьких в обиду не дам ни за что. Левочке все эти разговоры тяжелы, а мне еще вдесятеро тяжелее, так как приходится защищать меньших детей от старших. Таня всё время за Илью, и мне это неприятно. Завтра еду в Петербург, страшно не хочется, жутко и предчувствие неудачи. Теплее стало, но ветер. 7° тепла было днем. 22 апреля. Почти месяц не писала журнала. Месяц особенно интересный и полный событий. Но это всегда так: времени было мало, нервы были натянуты до последней степени и писать приходилось много писем домой, так что журнал и не писала. Сегодня второй день Пасхи и второй день жаркой, совсем летней погоды. В два дня из бурых сделались нежно-зелеными все кусты и деревья, и первый день соловей поет вовсю с утра. Вчера еще вечером он только налаживался. Вернулась я из Петербурга в Вербное воскресенье, утром. Страстную неделю вначале отдыхала, болела, дала несколько уроков детям, наслаждалась тишиной и семейным кружком, а потом у нас начались разговоры о разделе, за который дети очень горячо ухватились, особенно Илья. Разделили так: Илье – Гриневку и часть Никольского, Сереже – другую часть Никольского, Тане или Маше – третью, большую часть Никольского с обязательством выплатить деньги. Леве – дом в Москве и Бобровский участок в Самаре, Тане или Маше – Овсянниково и 40 тысяч денег. Андрюше, Мише и Саше – по 2000 десятин земли в Самарской губернии, Ванечке и мне – Ясную Поляну. Сначала я требовала жребия на всё, но Лев Николаевич и дети протестовали, пришлось согласиться. Самарские земли для маленьких потому хороши, что поднимутся в цене; кроме того, украсть, срубить или испортить там ничего нельзя, а управление в одних руках; Ясную дали мне и Ванечке потому, что нельзя же удалить отца; а там где я, там и Лев Николаевич, там и Ванечка. Илья пробыл три дня, привозили они и Цурикова с Нарышкиным. Сережа и теперь у нас, и Лева тоже. Сережа очень оторвался от семьи и опять уж хочет уходить в земские начальники в Москву, ему надоело в Никольском, да и понятно, одному. Лева уезжает сегодня, чтоб в Москве готовиться к экзамену. Он всё худ, но очень хорош нравственно. Напечатали его рассказ «Монтекристо» в «Роднике» апрельской книжки и прислали за него 26 рублей денег. В «Неделе» мартовской книги напечатали рассказ «Любовь» и заплатили 65 рублей. Первые его заработанные деньги! «Монтекристо» Левочка и все очень хвалят. На Страстной я посылала Андрюшу и Мишу говеть, но сама не могла. Проделали они говенье равнодушно и стихийно, вместе с народом. В субботу служили у нас заутреню по просьбе всей прислуги. Левочка не был дома, и когда я его утром спросила, не будет ли ему неприятно, если будут служить в зале заутреню, он отвечал: «Нисколько». Вчера, после утреннего чая и завтрака, я велела заложить новые катки, и мы ездили со всеми детьми, Лидой и няней, Таней, Машей и двумя девочками (Сашками) в Засеку на шоссе, за сморчками. Я всё ходила с Ванечкой и Сашей, и, хотя близорукие глаза мои не видели почти сморчков, но я люблю и лес, и распускающуюся, просыпающуюся весеннюю природу, и тишину в глуши деревьев; а потому очень наслаждалась. Лева с Андрюшей ходили рыбу ловить, но даже не клевала, а Лева убил утку. Сегодня все ребята, как и вчера, на лугу, перед домом, бегают на pas-de-geant[83], играют и толкутся. Вчера вечером наши ребята играли с деревенскими в разные игры, и странно, но уже теперь эти 11– и 13-летние мальчики относятся к девочкам крестьянским как мальчики, а не как товарищи. Как это противно и жалко! Гостит Дунаев. Левочка что-то грустен, и когда я его спросила, отчего, он ответил, что, так, «плохо пишется». Но, конечно, моя поездка в Петербург, говенье детей, заутреня – всё это не по его вере, и ему грустно. Странно мое отношение ко всему этому. Я не могу не относиться с самым искренним сочувствием ко всем тем нравственным правилам, которые поставил сам себе и другим Левочка. Но я не вижу и не нахожу возможности провести их в жизнь. На полдороге останавливаться я не могу, это не в моем характере; а идти до конца – сил нет. Вместе с тем дети растут совсем без религии; для детей и для народа необходимы формы, необходимо что-нибудь, в чем бы хранилось и выражалось отношение к Богу. Для этого церковь; и от церкви людям вне самых высших нравственных и отвлеченных верований отлучаться невозможно, ибо очутишься в самой безнадежной пустоте. Сейчас проводила Леву в Москву; Таня с Ванечкой поехали его провожать до Ясенок. Постараюсь теперь восстановить в памяти и добросовестно описать все мои хлопоты в Петербурге по арестованной XIII части собрания сочинений и мой разговор с государем 13 апреля 1891 года.МОЯ ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ Выехала я из Ясной Поляны в ночь на 29 марта. Утром, приехавши в Москву, я посидела с Левой и поехала в Государственный банк совершить конверсию 5 %: банковских билетов на 4 %. В 4 часа я была уже на Николаевском вокзале и, найдя очень удобное купе 2-го класса, доехала с одной дамой, Могилевской помещицей, женой предводителя какого-то уезда, спокойно и хорошо. У Кузминских только вставали. Саша был на ревизии балтийских губерний, Таня одевалась, Маша и дети причащались. Мы друг другу с Таней очень обрадовались, и она поместила меня в своей спальне. Выписали мы немедленно Мишу Стаховича; он говорил, что писал мне, вызывая для свиданья с государем, так как Елена Григорьевна Шереметева, двоюродная сестра государя, урожденная Строганова, дочь Марии Николаевны (Лихтенбергской), выхлопотала согласие государя принять меня. Предлогом просьбы моей об аудиенции служило то, что я прошу, чтобы цензура для произведений Льва Николаевича была бы лично самого царя. Письмо это, посланное мне Стаховичем, или пропало, или он и не писал его. Человек он не очень правдивый, и потому я позволяю себе сомневаться. Стахович показал мне набросанную форму письма к государю, которая мне очень не понравилась, но я взяла ее. Надо еще оговориться для ясности, что Шереметева хлопотала о моей аудиенции у государя по просьбе Зоей Стахович, которую Шереметева очень любит. На другое утро после моего приезда я поехала к Николаю Николаевичу Страхову, на его квартиру, всю занятую прекрасной библиотекой, им составленной. Он удивился и обрадовался мне. И вот мы начали с ним обсуждать письмо и мой предполагаемый разговор с государем. Ему не понравилось, так же как и мне, письмо, набросанное Стаховичем, и к 5 часам он прислал мне свой вариант. Но и этот мне не понравился, я написала с двух еще свой, третий. Пришел брат мой, Вячеслав, и окончательно выправил и мое письмо. Его вариант и был послан 31 марта. Вот письмо: «Ваше Императорское Величество, принимаю на себя смелость всеподданнейше просить Ваше Величество о назначении мне всемилостивейшего приема для принесения личного перед Вашим Величеством ходатайства ради моего мужа, графа Л. Н.Толстого. Милостивое внимание Вашего Величества даст мне возможность изложить условия, могущие содействовать возвращению моего мужа к прежним художественным, литературным трудам и разъяснить, что некоторые обвинения, возводимые на его деятельность, бывают ошибочны и столь тяжелы, что отнимают последние духовные силы у потерявшего уже свое здоровье русского писателя, могущего, может быть, еще служить своими произведениями на славу своего отечества. Вашего Императорского Величества верноподданная графиня София Толстая. 31 марта 1891 года».
Не зная, каким способом послать это письмо, Таня-сестра сделала запрос своему хорошему знакомому, Скаль-ковскому, служащему на высоком посту при почте, через телефон, и на другое утро Скальковский прислал своего курьера с запиской и обещанием, что мое письмо будет доставлено государю в Гатчину в тот же вечер. Письмо дошло 1 апреля, и в тот же день умерла великая княгиня Ольга Федоровна на пути в Крым, в Харькове, от острого плеврита и болезни сердца. Смерть эта, в связи с женитьбой ее сына, Михаила Михайловича на графине Меренберг, без согласия государя и его родителей, заняла весь Петербург. Везде только об этом и говорили. Девять дней, по обычаю и по этикету, при дворе не было никаких действий, и вся царская фамилия погрузилась в траур и уединение. Мы смотрели из окна кузминской квартиры, как по Невскому провезли тело великой княгини с железной дороги в Петропавловскую крепость. Государь и Михаил Николаевич шли прямо за гробом. Войска и духовенство (особенно много было последнего) поразили своей солидарностью. Например, остановились для литии перед церковью Знаменья, для молитвы ударили в барабаны, и началась странная музыка с присвистом. Я этого никогда прежде не видала. Это язычество напоминает. Чтоб знать приблизительно, как говорить с государем и как просить о разрешении XIII части, я решилась заехать в Цензурный комитет, к Феоктистову, узнать о мотивах запрещения. Со мной была сестра Таня. Мы вошли. Поздоровавшись с Феоктистовым, которого я знала еще в Москве молодым, только что увезшим тогда свою красавицу жену тайком от матери, – я спросила его, почему запретили весь XIII том. Он сухо и машинально открыл какую-то книгу и прочел монотонным голосом: «“Книга о жизни” запрещена духовной цензурой по приказанию Святого Синода. Статья “Так что ж нам делать?” запрещена полицейским управлением. А “Крейцерова соната” запрещена по высочайшему повелению», – прибавил он. На всё это я горячо начала доказывать, что главы из книги «О жизни», которые напечатала я, были уже напечатаны в «Неделе» и не вызвали даже неудовольствия со стороны цензуры; что главы из «Что ж нам делать?» им же были пропущены в XII части и что остается только «Крейцерова соната», которую надеюсь выпросить у царя. Феоктистов очень был сконфужен, когда узнал, что «О жизни» и «Что ж нам делать?» напечатаны не целиком. Он позвал секретаря, велел пересмотреть дело и обещал через два дня ответ. Я очень его упрекала за то, что так небрежно и невнимательно относится цензура к такому автору, как Лев Толстой; упрекала, что в цензуре даже оглавления не прочли и так смутили и огорчили и меня, и самого автора. Он, видимо, понял, что сделал глупость, и 3 апреля привез мне сам XIII часть и сказал, что ее можно пропустить. Еще в газете «Новое время» в то же время был напечатан репертуар пьес, которые будут играться в будущий сезон на императорских театрах, и в числе других значатся «Плоды просвещения» графа Л. Н.Толстого. Зная, что пьеса эта запрещена на императорских театрах, я заехала в театральный комитет узнать, в чем дело. Оказалось, правда. Я спрашиваю там, было ли с их стороны какое-нибудь отношение к автору и спрос, желает ли он. Говорят, что нет. Я рассердилась, говорю там чиновнику, что очень уж бесцеремонно и неделикатно относятся к автору, и заявила, между прочим, что прошу теперь обращаться со всеми переговорами не к нему, а ко мне. На другой день явился режиссер с бумагой, в которой напечатаны условия: я принимаю на себя все возможные обязательства, например, ручаюсь, что пьесы не будут играть на частных сценах, обязуюсь 2000 штрафом за неисполнение и т. д. Меня взбесили эти обязательства, и на другое утро я заехала опять в театральный комитет и заявила чиновнику, что не согласна принимать на себя никакие обязательства и пусть лучше пьеса не идет, но я не подпишусь ни за что. Он говорит, что это надо директору сказать. Я велела доложить о себе директору Всеволожскому. Он было отказался. Я говорю: «Странные у вас порядки, государя можно видеть, а директора, обязанного принимать, видеть нельзя». Мое высокомерие его смутило, и он пошел докладывать. В душе я всё повторяла: «Хамы, на вас только кричать можно». Всеволожский принял меня развязно, представил мне какого-то Погожева, своего помощника, и говорит: «Вы не хотите дать нам пьесы, графиня!» Я говорю: «Я не хочу только брать на себя обязательств, которых не смогу исполнить». – «Но это только форма». – «Для кого форма, а для меня – дело совести, и я не подпишу ничего». Погожев вмешался и начал говорить: «Если вы не подпишите условий, вы получите вместо 10 % только 5 с валового сбора». Я вспыхнула и, обращаясь к нему, сказала: «Я не в Гостином ряду и торговаться, как с купцами, не привыкла. Прошу оставить всякие денежные вопросы в стороне, они не интересуют ни меня, ни тем более графа, и пьесу я не дам». Потом обратилась к Всеволожскому и сказала: «Как? Вы, человек нашего круга, вы не понимаете, что Льва Николаевича нельзя ставить на одну степень с водевильными авторами, что все мы, а прежде всех я, как жена и порядочная женщина, должны считаться с его идеями, и потому я не могу подписать обязательства, что нигде на частных сценах пьесу эту играть не будут; что главную радость Льва Николаевича составляло то, что комедия эта не дала ему до сих пор ни копейки, а обязательство это лишает права играть эту пьесу на всех благотворительных спектаклях…» Я очень горячилась, Всеволожский предложил вычеркнуть некоторые обязательства, я и на это не согласилась, и, наконец, он предложил написать письмо частное, что я предоставляю право играть на императорских театрах пьесу с 10 % с валового сбора, что я и сделала. Сережа, мой сын, предлагает эти деньги отдавать на благотворительные заведения императрицы Марии. Я бы охотно это сделала, да им же, моим девятерым детям, так много нужно денег, а где я их буду брать? Пользуясь свободным временем, я была на двух выставках: на передвижной и на академической[84]. Дурно ли я была настроена, или устала очень, но выставки на меня произвели мало впечатления. Потом ездила с Таней по покупкам, шила себе платья и сидела много со своими и их гостями. Видела радостно три раза графиню Александру Андреевну Толстую, много с ней беседовала о религии, о Левочке, о детях и моем положении в семье. Она очень ласково и сочувственно относилась всё время ко мне. Обедала раз у Стаховичей, раз у Менгден, раз у Трохимовских, раз у Ауэрбах и раз у графини Александры Андреевны. А то всё дома. Соблазняли меня ехать смотреть знаменитую итальянскую актрису Дузе, но я была слишком разбита нервами и денег пожалела. Спала я всё время не больше 5 часов. Наконец в пятницу 12 апреля я потеряла терпение ждать приема государя. Тоска по дому и предстоящая Страстная неделя, мое нервное состояние – всё это привело меня к решению ехать в воскресенье домой. Я оделась и поехала благодарить Шереметеву за ее хлопоты и сказать, что ждать больше не могу. Шереметева, у которой была в то время принцесса Мекленбургская и которая думала, что это графиня Софья Андреевна Толстая, девушка, сестра Александры Андреевны, меня не приняла. Тогда я заехала к Зосе Стахович и сказала ей, что уезжаю в воскресенье и прошу это передать Шереметевой, чтоб она сказала государю. Оттуда проехала я к Александре Андреевне проститься с ней. В 11 часов вечера, только я легла, приносят записку Зоей, что государь, через Шереметеву же, просит меня на другой день в 11½ часов утра в Аничков дворец. Главная моя радость была в первую минуту, что я могу завтра же уехать. Сейчас же я начала всё укладывать, написала записки разные, послала попросить у Ауэрбах карету и лакея и легла в третьем часу ночи, взволнованная. Но спать я не могла и всё придумывала и твердила то, что имею сказать государю. Утром я наскоро распорядилась, кому что заплатить, попросила Таню уложить остальное, оделась и села дожидаться срока, когда ехать. Платье сшила траурное, черное, надела вуаль и черную кружевную шляпу. В 11 с четвертью я поехала. Сердце немного билось, когда мы въехали на двор Аничкова дворца. Все отдавали мне честь у ворот и крыльца, а я кланялась. Когда я вошла в переднюю, то спросила швейцара, приказано ли государем принять графиню Толстую. Говорит: «Нет». Спросили еще кого-то – тот же ответ. У меня так сердце и упало. Тогда позвали скорохода государя. Явился молодой благообразный человек в ярком, красное с золотом, одеянии, в огромной треугольной шляпе. Спрашиваю его: «Есть ли распоряжение от государя принять графиню Толстую?» Он говорит: «Как же, пожалуйте, ваше сиятельство, государь, вернувшись из церкви, уже спрашивал о вас». А в этот день государь был на крестинах великой княгини Елизаветы Федоровны, перешедшей в православие. Скороход побежал по крутой лестнице, обитой ярко-зеленым, очень некрасивым ковром, наверх. Я за ним. Не соразмерив своих сил, я бежала слишком скоро и, когда скороход, поклонившись, ушел, оставив меня в гостиной, почувствовала такой прилив крови к сердцу, что думала, сейчас умру. Состояние было ужасное. Первое, что мне пришло в голову, это что дело мое все-таки не стоило моей жизни, что сейчас скороход придет звать меня к государю и найдет мой труп и что я все-таки ни слова не могу выговорить. Сердце билось так, что дышать, говорить или крикнуть было буквально невозможно. Посидев немного, я хотела спросить воды у кого-нибудь и не могла. Тогда я вспомнила, что лошадей, когда их загоняют, начинают тихо водить. Я встала с дивана и начала тихо ходить, но лучше долго не становилось. Я развязала осторожно и незаметно под лифом корсет и опять села, растирая грудь рукою и думая о своих детях, о том, как они примут известие о моей смерти. К счастью, государь, узнав, что меня еще нет, принял кого-то еще, и у меня было достаточно времени, чтоб опомниться и отдохнуть. Я оправилась, вздохнула, и в это время пришел опять скороход и провозгласил: «Его величество просит ее сиятельство графиню Толстую к себе». Я пошла за ним. У кабинета государя он поклонился и ушел. Государь встретил меня у самой двери, подал руку, я ему поклонилась, слегка присев, и он начал словами: – Извините меня, графиня, что я так долго заставил вас ждать, но обстоятельства так сложились, что я раньше не мог. На это я ему отвечала: – Я и так глубоко благодарна, что ваше величество оказали мне милость, приняв меня. Тут государь начал говорить, не помню какими словами, о моем муже, о том, чего я, собственно, желаю от него. Я начала говорить уже совершенно твердо и спокойно: – Ваше величество, последнее время я стала замечать в муже моем расположение писать в прежнем, художественном роде, он недавно говорил: «Я настолько отодвинулся от своих религиозно-философских работ, что могу писать художественно, и в моей голове складывается нечто в форме и объеме “Войны и мира”». А между тем предубеждение против него всё возрастает. Вот, например, XIII часть арестовали, теперь нашли возможным пропустить. «Плоды просвещения» запретили, теперь велели играть на императорском театре. «Крейцерова соната» арестована… На это государь мне сказал: – Да ведь она написана так, что вы, вероятно, детям вашим не дали бы ее читать. Я говорю: – К сожалению, форма этого рассказа слишком крайняя, но мысль основная такова: идеал всегда недостижим; если идеалом поставлено крайнее целомудрие, то люди будут только чисты в брачной жизни. Еще помню, что когда сказала государю, что Лев Николаевич как будто расположен к художественной деятельности, государь сказал: «Ах, как это было бы хорошо! Как он пишет, как он пишет!» После моего определения идеала в «Крейцеровой сонате» я прибавила: – Как я была бы счастлива, если б возможно было снять арест с «Крейцеровой сонаты» в Полном собрании сочинений! Это было бы явное милостивое отношение к Льву Николаевичу и, кто знает, могло бы очень поощрить его к работе. Государь на это сказал: – Да, в Полном собрании можно ее пропустить, не всякий в состоянии его купить, и большого распространения быть не может. Не помню, в какие промежутки разговора, но государь раза два повторил сожаление о том, что Лев Николаевич отстал от церкви. Он еще прибавил: – И так много ересей возникает в простом народе и вредно на него действует. На это я сказала: – Могу уверить, ваше величество, что муж мой никогда ни в народе, ни где-либо не проповедует ничего; он ни слова не говорил никогда мужикам и не только не распространяет ничего из своих рукописей, но часто в отчаянии, что их распространяют. Так, например, раз один молодой человек украл рукопись из портфеля моего мужа, переписал из дневника его и через два года начал литографировать и распространять. (Я говорила, не называя его, о Новоселове и его поступке с «Николаем Палкиным»[85].) Государь удивился и выразил свое негодование: – Неужели! Как это дурно, это просто ужасно! Всякий может в дневнике писать, что он хочет, но украсть рукопись – это очень дурной поступок! Государь говорит робко, очень приятным, певучим голосом. Глаза у него ласковые и очень добрые, улыбка конфузливая и тоже добрая. Рост очень большой; государь скорее толст, но крепок и, видно, силен. Волос совсем почти нет; от одного виска до другого скорее слишком узко, точно немного сдавлено. Он мне напомнил немного Владимира Григорьевича Черткова, особенно голосом и манерой говорить. Потом государь спросил меня, как дети относятся к учению отца. Я отвечала, что к тем высоконравственным правилам, которые проповедует отец, они не могут относиться иначе, как с уважением, но что я считаю нужным воспитывать их в церковной вере, говела с детьми в августе, только в Туле, а не в деревне, так как из наших священников, которые должны быть нашими духовными отцами, сделали шпионов, которые написали на нас ложный донос. Государь на это сказал: – Я это слышал. Затем я рассказала, что старший сын – земский начальник, второй – женат и хозяйничает, третий – студент, а остальные дома. Еще я забыла написать, что когда был разговор о «Крейцеровой сонате», то государь сказал: – Не может ли ваш муж переделать ее немного? Я говорю: – Нет, ваше величество, он никогда не может поправлять свои произведения и про эту повесть говорил, что она ему противна стала, что он не может ее слышать. Потом государь спросил меня: – А часто ли вы видаете Черткова, сына Григория Ивановича и Елизаветы Ивановны? Вот его ваш муж совсем обратил. К этому вопросу я не приготовилась и замялась на минуту, но потом нашлась и ответила: – Черткова мы более двух лет не видали. У него больная жена, которую он не может оставлять. Почва же, на которой Чертков сошелся с моим мужем, была сначала не религиозная, а другая. Заметив, что в народной литературе встречается множество глупых и безнравственных книг, мой муж дал мысль Черткову преобразовать народную литературу, дав ей нравственное и образовательное направление. Муж мой написал несколько рассказов для народа, которые, после того как разошлись в нескольких миллионах экземпляров, найдены теперь вредными, не довольно церковными и тоже запрещены. Кроме того, издано много научных, философских, исторических и других книг. Дело это очень хорошее и очень подвинулось; но и это встретило гонение. На это государь ничего не ответил. Под конец я решилась сказать: – Ваше величество, если мой муж будет опять писать в художественной форме и я буду печатать его произведения, то для меня было бы высшим счастьем, если б приговор над его сочинением был выражением личной воли вашего величества. На это государь мне ответил: – Я буду очень рад; присылайте его сочинения прямо на мое рассмотрение. Не помню хорошенько, было ли еще что сказано, кажется, я всё записала. Помню, что он прибавил: – Будьте покойны, всё устроится. Я очень рад. – И затем встал и подал мне руку. Я опять поклонилась и сказала: – Мне очень жаль, что я не успела просить о представлении императрице, мне сказали, что она нездорова. – Нет, императрица сегодня здорова и примет вас; вы скажите, чтоб о вас доложили. После этого я вышла, и в дверях, выходя в маленькую комнатку возле своего кабинета, государь остановил меня и спросил: – Вы долго еще пробудете в Петербурге? – Нет, ваше величество, я уезжаю сегодня. – Так скоро? Отчего же? – У меня ребенок не совсем здоров. – Что с ним? – Ветряная оспа. – Это совсем не опасно, только бы не простудить. – Вот я и боюсь, ваше величество, что без меня простудят, такие холода стоят. И я ушла, поклонившись еще раз, после пожатия, очень ласкового, моей руки государем. И вот я пришла опять в ту же гостиную, с красной атласной мебелью – статуя женщины в середине, две статуи мальчиков по бокам, два зеркала в простенках тех арок, которые отделяли гостиную от залы. Везде пропасть растений и цветов. Никогда я не забуду этих ярко-красных азалий в роскошнейшем цвету, глядя на которые я думала, что умираю. Вид из окон скучный – на мощеный двор, где стояли две кареты и ходили солдаты. Немолодой лакей с иностранным лицом и выговором стоял у двери приемной государыни. С другой стороны стоял негр в национальном мундире. Около кабинета государя тоже стояли негры, три, кажется. Япопросила лакея доложить государыне обо мне, прибавив, что с разрешения государя. Он сказал, что там дама сидит и он доложит, когда та уйдет. Я подождала минут 15–20. Вышла дама, лакей сказал, что государь был у императрицы и сказал ей, что я желаю ей представиться. Я вошла. Тоненькая, быстрая и легкая, пошла мне навстречу императрица. Цвет лица очень красивый, волосы удивительно аккуратно прибраны, точно наклеены, красивого каштанового цвета, платье черное, шерстяное, талия очень тонкая, такие же руки и шея. Ростом не большая, но и не очень маленькая. Голос поражает гортанными и громкими звуками. Она подала мне руку и, так же как государь, сейчас же пригласила сесть. – Я уже однажды встречалась с вами, не правда ли? – спросила она. – Я имела счастье быть представленной вашему величеству несколько лет тому назад в Николаевском институте у госпожи Шостак. – Да, конечно, также и ваша дочь. Скажите мне: правда ли, рукописи графа крадут и печатают, не спросив его позволения? Но это ужасно, отвратительно, невозможно! – Правда, ваше величество, и это очень печально. Но что делать! Потом императрица спросила, сколько у меня детей, чем заняты. Я выразила ей свою радость, что сыну ее, Георгию Александровичу, лучше, что я очень за нее страдала, зная, как ей тяжело было в разлуке с двумя сыновьями знать, что один так нездоров. Она сказала, что он теперь совсем поправился; но у него было воспаление в легких, болезнь запустили, сам он не берегся, и она очень тревожилась. Я выразила сожаление, что не видала никогда ее детей, на что государыня сказала, что они все в Гатчине. – Они все так счастливы, так здоровы, – прибавила государыня. – Я хочу, чтобы у них были счастливые воспоминания детства. Я сказала: – Все должны считать себя счастливыми в такой семье, какова семья вашего величества. Императрица продолжала: – Маленький краснощекий Миша играл роль взрослой девушки в 16 лет. – Потом она встала, подала мне руку и ласково сказала: – Я очень довольна тем, что еще раз вас увидела. Я поклонилась и ушла[86]. Карета Ауэрбах довезла меня до дому Кузминских, и я, не чувствуя четырех этажей, довольная взбежала наверх. Встретили меня сестра Таня, Зося, Маня и Миша Стахович, Эрдели, Александр Михайлович и все дети Кузминские. Я принуждена была всё рассказать. Все сочувствовали, все поздравляли. Я написала две телеграммы: одну – Леве в Москву, другую – домой, позавтракала и села на поезд в 3 часа того же дня. Провожали меня все те же, и мне ужасно жаль было расставаться с сестрой Таней, когда я взглянула на ее измученное лицо и вспомнила, сколько я ей доставила хлопот и сколько вызывала сочувствия к моим делам. Одно еще я забыла написать из разговора с государем. Он упомянул после вопроса о влиянии Льва Николаевича на народ, об обращенной им молодежи. Я сказала ему, что всё это почти те же люди, которые находились на ложном пути политического зла, и Лев Николаевич обратил их к земле, к непротивлению злу, к любви. И если они не в истине, то, во всяком случае, на стороне порядка. В Москве на Курском вокзале встретили меня в воскресенье, 14 апреля, Лева, Дмитрий Алексеевич Дьяков и Дунаев. Мы завтракали, и я им опять всё рассказывала. Лева и Дмитрий Алексеевич очень интересовались. На платформе, при отходе поезда, я встретила Надю Зиновьеву, шедшую тоже в вагон. Она пригласила нас в свое отделение на семейный билет, и мы ехали очень весело: Лева, Надя, я и две дамы, мать и дочь, харьковские помещицы. Дочь сначала плакала, потому что только что рассталась с женихом. Дома встретили нас Таня и меньшие дети. Левочка ушел в Чепыж, потом вышел в сад меня поджидать и долго не приходил. Маша была в своей комнате. Я очень счастлива была оказаться дома, но Левочка был недоволен моими похождениями и свиданием с государем. Он говорил, что теперь мы как будто приняли на себя какие-то обязательства, которые не можем исполнить, а прежде он и государь игнорировали друг друга; и теперь всё это может повредить нам и вызвать неприятное. 23 апреля. С утра я отправилась сажать выкопанные вчера в Чепыже и в елочках деревья и желуди, собранные мне Ванечкой и няней. Со мной всё время были Ванечка и Лидия, и Дунаев помогал всё сажать в саду, около нижнего пруда. Мне жаль, что падает и погибает старый сад, и хочется, чтоб рос молодой. К Дунаеву у меня странное, какое-то брезгливое отношение, хотя он хороший человек. К обеду приехали все Зиновьевы; гуляли, разговаривали. Вечером пели обе Зиновьевы, играли, и Сережа сыграл очень хорошо балладу Шопена. Вспомнила я нынче вечером (всегда вспоминаю, когда лето близко) покойного Урусова. И так невыносимо жаль стало, что его нет и не может никогда больше быть! Как он умел наполнять собой жизнь других, как избаловал меня этим вечным участием и убеждением, что я всего лучшего достойна, что я всё могу, чего захочу, что всё, что я делаю, – прекрасно. А рядом с этим – меня свои презирали и относились ко мне безучастно, эгоистично и ревниво. Отчего это всегда свои строже всех? Как это жаль и как портят этим обоюдно свои отношения и жизнь. Холодно и ясно. Сейчас пришла Таня и сказала, что Левочка велел мне сказать, что он лег и потушил свечу. 24 апреля. Проводила сегодня Зиновьевых девочек и Сережу в Ясенки, они ехали все в Тулу; а наши девочки, Таня и Маша, уехали оттуда же в Пирогово. Я брала в Ясенки Сашу и Ванечку. Пошел дождь, подул северный ветер, и на меня напал ужас, что я простужу детей. Потом писала письма: Леве, Гайдебурову (ответ на запрос о новом издании), Зосе Стахович и Фету. Обед был тихий, Левочка, Дунаев, Лида, я и четверо маленьких. После обеда Левочка вдруг собрался пешком в Тулу, с Дунаевым. Северный ветер так был силен, что я умоляла не ходить. Но он упрям, и не было еще случая в моей жизни, чтоб он исполнил мою просьбу, особенно касательно его здоровья. Так он и ушел с Дунаевым в одном легком пальто. Я пошла с детьми немного погулять и вдруг увидала на том самом месте, где вчера сажала дубки и елочки, целое стадо деревенских коров. Девки и бабы спокойно их стерегли, пока я не подняла страшного крика. Мне жаль стало моих трудов и деревцев. Потом пошла к Василию и ему приказала загонять коров, если будут ходить по усадьбе. Трудно здесь с народом, очень избаловал их Левочка. Вернувшись, сделала ванну Ванечке, сама присутствовала и уложила его; потом переписывала дневники Левочки. Теперь одиннадцатый час, ветер гудит, и мне жутко за всех отсутствующих. Послала за Левочкой на Козловку, но вряд ли он успеет дойти до Тулы и попасть на поезд. Левочка и Дунаев вернулись с поездом, и было так холодно, что Левочка обрадовался полушубку. 25 апреля. Несколько дней не писала дневника. Третьего дня вечером опять сделался со мной припадок удушья, точно что-то закупорило меня. При этом страшное сердцебиение, прилив крови к голове. Я бросилась к няне, говорю – умираю. Поцеловала Ванечку и побежала вниз, к Левочке, проститься с ним перед смертью. Физически было жутко, нравственно – нисколько. Левочки внизу не было. Я перекрестилась и, без дыханья, ждала смерти. Потом опять пошла к себе и проходом успела попросить скорей горчицы на грудь и пульверизатор. Когда я легла и вдохнула пары, мне стало легче, но до сих пор в груди что-то неладно, и я думаю, что долго не проживу. Есть что-то во мне надорванное. Такая трата энергии и жизненных сил, которая досталась мне на долю, теперь мне уже не по годам. Второй день у нас старики Те, возвращающиеся из Петербурга. Написала я письмо министру внутренних дел, чтоб он напомнил государю о его личном позволении мне печатать «Крейцерову сонату» в Полном собрании сочинений. От Левы было грустное письмо, что он не хочет держать экзамен и выходит из университета. И Левочка, и я написали ему, что не советуем бросать университета, не определив себе ясно, что он будет делать, когда выйдет. Не думаю, чтоб он послушался. Пусть делает, что ему лучше, а поддержать всегда надо. Послезавтра Таня едет в Москву. У нас все бодры и веселы; дети принялись сегодня за учение. Дождь шел весь день, и холодно. Три дня больная, сижу дома, а на дворе всё зазеленело, травы и листья на деревьях, и соловьи поют. 30 апреля. Те уехали, мы одни, в семье, и это очень приятно. Холод и мороз по ночам. Сидела дома весь день и всё больше одна. И давно я не чувствовала себя в таком обширном пространстве, как сегодня. Просторно в уме, духом свободна, всё понимаю и мысленно облетела необозримое пространство. Бывают дни, когда совершенно обратно: чувствуешь себя тесно, подавленной и точно в заключении. Читала «La vie eternelle» [Анфантена], чудесная книга, не новая. Левочка ездил верхом в Ясенки и получил эту книгу с почты; посылает ее ему Никифоров. Как дурно, что я молодость жила в таком уединении. Вспоминаю, как всякое ничтожество, вроде переваренного или недоваренного кушанья, принимало большие размеры; как всякое горе было преувеличено; как всё хорошее, не имея сравнений, проходило незаметно; как всякий гость имел особенный интерес; как однообразно, без просыпа, шли дни за днями, не пробуждая ни энергии, ни интереса к чему бы то ни было. Нет, я не создана была для уединения, и это подавило все мои душевные силы. 1 мая. Таня уехала утром в Москву. Илья приезжал, поехал в Тулу по делам раздела. К обеду приехали Давыдов с дочерью и князь Львов. Оба – люди мне очень приятные, и был бы хорошо проведенный день, если б не нездоровье. Катар всех дыхательных путей, ночью лихорадка, и очень как-то тяжко. Переписывала дневник Левочки, читала «La vie eternelle». Очень хорошо и интересно. После обеда все гуляли, а я часа два играла «Lieder ohne Worte» Мендельсона и сонату Бетховена. Как всегда досадно, что плохо играю, иногда просто учиться хочется, чтоб овладеть музыкой. Левочка ходил встречать Давыдова. Он всё ходит и пишет статью [ «Царство Божие внутри вас»]. За чаем был разговор о воспитании. Мне не хочется отдавать детей в гимназию, но я не вижу другого исхода и вообще не знаю, что делать. Одна я их не сумею образовать, а Левочка всю жизнь очень хорошо обо всем рассуждает, но ровно ничего (в этой области) не делает. Приехал какой-то господин с письмом Орлова и сейчас уезжает. Стало теплее, все приносят свежие, светлые фиалки. Ели сморчки, соловей поет, и туго распускается лист. Весна вообще не веселая, медленная, ленивая и холодная. Как симпатичен Давыдов своей тонкостью чувств! 15 мая. Опять давно не писала журнала, и опять было много событий. Приезжала 2 или 3 мая Урусова (урожденная Мальцева) с двумя старшими дочерями Мэри и Ирой. Их присутствие так страшно болезненно напомнило мне самого князя Урусова, что я не могла отделаться от этого чувства. Сидя за обедом, я всё видела его, сидящим против меня, около Левочки, или возле меня, и просившего, когда мы ждали приезда его семьи: «Вы будете их любить, графиня, не правда ли? Вы будете любить мою бэдную жену?» Он выговаривал бедную с иностранным акцентом. И я люблю действительно его бедную жену и его детей, особенно Мэри, которая поразительно напоминает его и которая так сыграла сонату Бетховена, что в таланте ее, исключительном и прекрасном, сомнения быть не может. И такие они обе наивные и вместе цивилизованные! Княгиня очень переменилась к лучшему, смирилась и во многом раскаялась. Не знаю, зачем она мне всякий раз говорит, и этот раз так серьезно и спокойно, что муж ее меня любил исключительно и больше Левочки, что я дала ему и семейную радость в своей семье, и то, что должна бы была дать ему она, его жена, – участие, дружбу, ласку, заботу. Я ей сказала, что она ошибается, говоря, что ее муж любил меня так; что он мне этого никогда не говорил и мы были только очень дружны. Она мне на это сказала: «Он никогда не посмел бы признаться в своей любви, и он слишком любил графа, чтобы признаться в ней самому себе». Мы провели хороших три дня вместе и дружно расстались. Они уехали в Крым, а я была вызвана Таней в Москву для экзаменов Андрюши и Миши, и мы поехали в Москву с Алексеем Митрофановичем 6-го, курьерским. Было жарко, я вязала, дети лазили и дружились с пассажирами, которые их угощали. Вечером приехали в Хамовники, я поехала к Поливанову и узнала всё об экзаменах. Андрюша не спал всю ночь и волновался, Миша был спокоен и заснул скоро. Первый экзамен из Закона Божия прошел благополучно в том смысле, что страх стал меньше. Мы жили во флигеле 5 дней, в свободные минуты пользуясь нашим чудесным садом. Дети держали экзамены плохо, не знаю, чему это приписать, дурным ли их способностям или плохим преподавателям. Андрюшу приняли в 3-й класс, Мишу – во 2-й, и я до сих пор не решила, отдам ли их в гимназию – и жалко, и страшно; но страшно и не отдать. Всё предоставляю судьбе. Как разны Андрюша и Миша! Первый робок, нервен, во всё вглядывается; второй возбужден, разговорчив, любит пользоваться всеми благами жизни. Были мы на французской выставке; видели светящийся фонтан, но выставка еще не совсем готова и была закрыта; только бронзу видели и фарфор. Проезжая Кремлем, я видела множество экипажей у Малого дворца. Это великий князь Сергей Александрович принимал всю Москву, вступив в должность московского генерал-губернатора. XIII часть не выпускают из цензуры; придрались к трем фразам, приблизительно таким: «От Эйфелевой башни до общей воинской повинности…», «Когда все европейские народы заняты тем, чтоб обучать молодых людей убийству…» и еще: «Всё совершается и управляется людьми не в трезвом состоянии». Но эти фразы были уже напечатаны в этой же статье под формой предисловия к книге Алексеева «О пьянстве». Я написала об этом последнем и в московскую цензуру, и в Петербург Феоктистову. Во время моего отсутствия из Ясной туда пришло письмо министра с разрешением в Полном собрании сочинений «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия». В Москве я это узнала в типографии, где ее печатали. Не могу не чувствовать внутреннего торжества, что, помимо всех в мире, было дело у меня с царем, и я, женщина, выпросила то, чего никто другой не мог бы добиться. И влияние мое, личное, несомненно, играло в этом деле главную роль. Я всем говорила, что если на меня найдет на минуту то вдохновение, которым я сумею завладеть нравственно царем как человеком, я добьюсь своего, и вот это вдохновение на меня нашло, и я склонила волю царя, хотя он очень добрый и способный подпасть хорошему влиянию. Кто прочтет это, сочтет за хвастовство, но ошибется и будет несправедлив. На днях выйдет XIII том, и мне очень хотелось бы послать его государю, приложив к нему группу всей моей семьи, которой он так интересовался. И он, и государыня меня подробно спрашивали о детях. Весна во всем разгаре. Яблони цветут необыкновенно, что-то волшебное, безумное в их цветении. Я никогда ничего подобного не видала. Взглянешь в окно в сад и всякий раз поразишься этим воздушным, белым облакам цветов в воздухе, с розовым оттенком местами и с свежим зеленым фоном вдали. Очень жарко и сухо. Во всех комнатах одуряющий запах от букетов ландышей. У бедного Левочки воспаление век, и он сидит один внизу, в темной комнате уже двое суток. Сегодня ему немного лучше. Вчера посылала к доктору Рудневу за советом, и он велел примачивать свинцовой примочкой, которую и прислал. Вчера Левочка написал через Машу письмо Алехину (темному) о религиозных вопросах, и так хорошо, так согласно с моими взглядами, что я поразилась. Вопрос о бессмертии и будущей жизни, о которой мы не должны тревожиться, раз мы предоставили себя в руки Бога и сказали: «Да будет воля Твоя!» А узнать ее нельзя, как ни тревожься об этом вопросе. Завтра приезжают Кузминские, и дети сегодня за обедом огорчались, что кончается наша тихая, чисто семейная и счастливая жизнь и что хотя родной, но посторонний, суетящий нас элемент взойдет в нашу жизнь. Я настолько люблю сестру, что мне никто никогда из ее семьи не в тягость, и ей я рада ужасно. Сережа тут и уехал в Тулу. Вчера вечером Таня, Сережа и Лева до двух часов ночи втроем говорили, и что-то хорошо, все довольны. Левочка диктовал вчера Тане какое-то романическое начало – она не говорит мне, что именно, и я не хочу ни ее, ни Левочку вызывать на рассказ того, что едва возрождается; это всегда неприятно рассказывать. 22 мая. Еще прошла неделя суеты. Кузминские приехали, приезжал и Машин жених Эрдели. Летняя жизнь установилась с купаньем, толпою шумящих и суетящихся без дела детей, с ленью, жарой и красотой природы. Был Фет с женой, читал стихи – всё любовь и любовь, и восхищался всем, что видел в Ясной Поляне, и остался, кажется, доволен своим посещением, и Левочкой, и мной. Ему 70 лет, но своей вечно живой и вечно ноющей лирикой он всегда пробуждает во мне поэтические и несвоевременно молодые, сомнительные мысли и чувства. Но пусть несвоевременно, всё же хорошо и совсем невинно, так как остается в области отвлеченности. Маша уехала с девочками Философовыми к ним в Паники. Пусть рассеется, а то она, бедная, такая невеселая и немолодая в 20 лет. Ходили гулять, но дождь помешал, и постепенно все вернулись домой. Вечером хотели читать, но хорошо разговорились о повестях, о любви, искусстве и живописи. Левочка говорил, что нет ничего противнее картины, выражающей сладострастие в обыденной жизни, как, например, монах, смотрящий на женщину, татарин с барыней верхом едут в Крыму, свекор, глядящий на невестку дурными глазами, и т. п.; что всё это противно в жизни, а ты смотри вечно на эту мерзость на картине. Я с ним вполне согласна и люблю только картины, где красота, природа или возвышенная мысль. Сегодня рожденье Ильи. Как-то он, бедный, живет в своей неясной, бестолковой среде хозяйства, семьи и вечного сомнения и недовольства судьбой. Мне жаль, что из-за имущественных вопросов у нас расстроились отношения, но я надеюсь, что это со временем пройдет. В нем есть неясность, которая заслоняет его поступки, и если уяснить их, то пришлось бы многое назвать нечестным, а этого-то он и боится, и я тоже. 27 мая. У нас Анненкова, привезла с собой девицу, которую сулит учительницей Саше и Ване вместо няни. Но мне не нравится: болезненная и ненатуральная. Приезжал Илюша за планом Никольского; он лучше и мягче. Увез с собой Леву. Лева вчера спрашивал меня, когда были эти чудные зимние дни, когда солнце и луна сходились и было такое красивое освещение. Я переписала ему страничку из своего дневника 9 декабря 1890 года и дала: как раз там описан такой день. Верно, он что-нибудь пишет и ему это нужно было. Вчера ходили гулять с Анненковой, Левочкой и этой барышней на Козловку, встретили Зиновьева с дочерьми, которые везли к нам домой Таню и двух девочек Кузминских. Зиновьевы девочки пели, и было очень приятно. Пела и Таня-сестра, и ничей голос не может сравниться с ее голосом… Сегодня пришли из Тулы к обеду Раевские, отец и сын. После обеда мы их провожали; на шоссе встретили издателя «Курского листка», который подошел ко Льву Николаевичу, держа в руке велосипед, и объявил, что мечтал познакомиться и просит позволенья прийти к нам. Приближаясь к дому, встретили кучера Михайлу в телеге с горничными, едущими на детской лошади вскачь. Я очень рассердилась, что без меня распорядились, и вернула их всех домой. А распорядилась Таня, и я ей сделала выговор. Вернувшись, поправляла корректуру «Крейцеровой сонаты», которую не люблю, и она мне всегда неприятна. Очень холодно и пасмурно. Дня три был такой сильный северный ветер, что все сидели дома. Вася Кузминский из детского пистолета подстрелил Саше глаз и сделал кровяное пятно. Прошлую всю ночь Ванечка не спал, у него живот болел, и я возилась с ним до трех часов, и потом до пятого не спала. Сирень, ландыши – отцвели. Ванечка с няней принесли ночные фиалки. Пошли белые грибы. Очень сухо, трава плоха. Раевский говорил, что у них голод в Епифанском уезде. От Маши письмо, ей, видно, весело у Философовых, и я этому очень рада. 1 июня. Всё были гости. Приезжал муж Анненковой, помещик, занятый юридическими науками, вульгарный, странный человек, но, говорят, доброты и деликатности бесконечной. Привозил с собой Нелюбова, судебного следователя из Льгова, их города уездного: худого, черного идеалиста, восторженного и мрачного. Потом провел вечер Суворин, «Новое время». Он производит впечатление человека робкого и очень интересующегося всем. Он просил позволения привезти или прислать скульптора – еврея из Парижа, лепить всю фигуру Льва Николаевича, и я просила присылать, а Левочка отмалчивался, как всегда. Ему, наверное, это приятно. Вчера вечером были Самарин Петр Федорович, Бестужев-генерал и Давыдов. Левочка ходил в Тулу пешком, хотел видеть бойню скотины, но вчера не били, и он только видел самое место. Из Тулы привез его на извозчике Давыдов. Ходили вечером гулять, с Давыдовым всё легче и лучше отношения, он очень приятный человек. Пришлось Самарину и Бестужеву рассказывать о моем посещении государя и весь разговор. Как страшно все этим интересуются! А настоящего мотива, самого глубокого всей моей поездки в Петербург никто не угадывает. Всему причиной «Крейцерова соната». Эта повесть бросила на меня тень; одни подозревают, что она взята из нашей жизни, другие меня жалеют. Государь и тот сказал: «Мне жаль его бедную жену». Дядя Костя мне сказал в Москве, что я сделалась жертвой и меня все жалеют. Вот мне и захотелось показать, как я мало похожа на жертву, и заставить о себе говорить; это сделалось инстинктивно. Успех свой у государя я знала вперед: еще не утратила я той силы, которую имела, чтоб привлечь людей симпатией, и я увлекла его и речью, и симпатией. Но мне еще нужно было для публики выхлопотать эту повесть. Все знают, что я ее выпросила у царя. Если б вся эта повесть была написана с меня и наших отношений, то, конечно, я не стала бы ее выпрашивать для распространения. Это поймет и подумает всякий. Отзывы государя обо мне со всех сторон крайне лестные. Он сказал Шереметевой, что жалеет, что у него в этот день было спешное дело и он не мог продлить со мной столь интересную и приятную для него беседу. Графиня Толстая, Александра Андреевна, писала мне, что я произвела отличное впечатление. Княгиня Урусова сказала, что ей Жуковский говорил, будто государь нашел меня очень искренней, простой, симпатичной и не думал, что я еще так молода и красива. Всё это пища моему женскому тщеславию и месть за то, что мой собственный муж не только никогда не старался поднять меня общественно, но, напротив, всегда старался унизить. Никогда не могла понять – почему? Дождь с утра, холод, ветер, сидим все дома. Сейчас иду давать первый летний урок музыки детям. Лева и Маша еще не возвращались. Но дома всё хорошо; с Левочкой просто и дружно; дети все тихи и приятны. Приехали дня три тому назад кумысники, но не прошлогодние, а мать с двумя сыновьями; тихие и бедные, по-видимому. Левочка всё говорит, что кумысу не хочется и он пить не будет, но желудок эти дни у него расстроен. 3 июня. Вчера провел у нас день немец из Берлина, приезжал смотреть на Толстого и выпрашивать для своих немецких жидов – Левенфельда и других – какую-нибудь статью Льва Николаевича для перевода. Сам купец, шерсть скупает по России, льстивый и неприятный, весь день испортил. Вечером говорили Левочка, сестра Таня и я об отвлеченных предметах. Левочка говорил, что есть поступки, которые невозможно ни за что сделать, и потому были мученики, христиане; они не могли возлить идольские жертвы и т. д. Я стала говорить, что просто так подобных поступков нельзя делать, но если для чего-нибудь, для спасенья или добра ближнему – то всё можно. Он говорит: «Ну а убить ребенка?» Я говорю: «Этого нельзя, потому что хуже этого поступка не может быть и для чего бы это ни нужно было – этого сделать нельзя, это хуже всего». Левочке это не понравилось, он начал возражать со страшным раздражением в голосе; начал хрипло кричать: «Ах, ах, ах!». Меня взорвал этот тон, и я наговорила ему пропасть неприятного: что с ним нельзя говорить, это все его друзья давно решили, что он любит только проповедовать, а я не могу говорить под звуки его злых аханий, как не могла бы говорить под лай собаки… Это было слишком дурно с моей стороны, но я очень вспыльчива. Была в Туле, говорила с нотариусом много о разделе, мне ненавистном. Заезжала к Раевской, обедала у Давыдовых. Вечером пришел Зиновьев (губернатор) с братом-инженером. У Левочки теперь две темы его крайних речей: опровергать наследственность и проповедовать вегетарианство. Третья тема его, но он о ней ничего не говорит, а, кажется, пишет – это опровержение церкви, более чем когда-либо. Дети мои весь день гуляют, ездят верхом и где-то пропадают. Я с ними мало общаюсь, и мне это жаль. Ванечка, Саша, Таня и две девочки кузминские выходили нас с сестрой Таней встречать. Приехал молодой Цингер. Всё холодно и не по-летнему. 5 июня. Теплый ясный день, лунная ночь. Духом очень неспокойна; я не удовлетворяюсь своей деятельностью, и всё, что я делаю, мне кажется не настоящим, а нужно что-то еще, чего я не умею и не могу. С утра читали с сестрой Таней вслух повесть Потапенко «Генеральская дочь», которая нравится Левочке. После завтрака Лева, Таня и Маша с Верой Кузминские начали говорить о путешествии по России; им очень хочется. Я сочувствовала, так как сама мало видела. Сестра Таня сердилась и говорила, что это «от пресыщения всякими благами», что «с жиру бесятся». Потом молодежь уехала к Зиновьевым, а я пошла с Левочкой по деревне, к сапожнику и проведать больного Тимофея Фоканова. Мне иногда так хочется общения с Левочкой, поговорить с ним. Но с ним это невозможно теперь. Он и всегда был суров, а теперь беспрестанно, как сегодня вечером, натыкаешься на что-нибудь, уже наболевшее давно. Стали говорить о путешествии детей, он стал доказывать, что эти желания их от излишества, от дурного воспитания, и начались пререкания о том, кто в этом воспитании виноват. Я говорила, что то, как повели его сначала и какой дали ход жизни всей семье. Он говорил, что 12 лет тому назад он переменился и я должна была перемениться и остальных детей воспитывать по его новым убеждениям. Я на это сказала, что никогда одна не могла бы и не сумела бы, а что он много говорил и целыми годами писал, но сам детей не только не воспитывал, а часто забывал об их существовании. Но кончилось всё благополучно, и расстались мы дружелюбно. Лева и Андрюша уехали верхом в Пирогово. Сейчас кончила корректуру еще одного листа «Крейцеровой сонаты». Второй час ночи. 6 июня. Была в Туле с Сашей, Ваней, Мишей, няней и Лидией. Последней нужен был паспорт, детей меньших я фотографировала, а сама хлопотала по делам раздела. Какое сложное, трудное и тяжелое дело и в принципе, и на практике! Огорчилась я очень, что два тысячных билета два года тому назад вышли в тираж и пролежали без процентов. Купалась вечером в первый раз с Таней, Машей и Машей Кузминской. Лева и Андрюша вернулись в 11 часов ночи из Пирогова. День жарко, ночь свежо. Думала очень о смерти и ясно ее представила. У нас Петя Раевский, кончил сегодня гимназический курс, очень счастлив, и Александр Васильевич Цингер. 7 июня. Миша Кузминский болен, похоже на дифтерит, и у меня камень на сердце: страшно и за него, и за всех других детей. Сестра Таня отгоняет от себя мысли об опасности, а я не могу этого сделать. И когда приходит горе, она, не приготовленная к нему, впадает в крайнее отчаяние. Послали за доктором Рудневым. Левочка был в Туле, хотел проведать, по просьбе одного темного, сожительницу этого господина, мне неизвестного, последователя Левочки по фамилии Дудченко; она едет по этапу с места, откуда ее выслали, в Тверь. Ей предлагали ехать на свой счет, на воле, а она не захотела и едет с арестантами. Что это? Фанфаронство, щегольство своими идеями или убеждение? Не берусь решать, не видав. Девушки этой не оказалось в Туле, и Левочка, по-видимому, был рад, что долг исполнил, а ее не видал. Он еще ходил на бойню быков и рассказывал нам с большим волнением, какое это ужасное зрелище, как быки боятся, когда их ведут, как с них дерут уже с головы кожу, когда они еще дергают ногами и не издохли. Поистине это ужасно, но и всякая смерть ужасна! Приехала, сестра Левочки, Мария Николаевна. Только и говорит, что о монастырях, отце Амвросии, Иоанне Кронштадтском, о действии того или иного образочка, о священниках и монашенках, а сама любит и хорошо поесть, и посердиться, и любви у ней нет ни к кому. Вечером купались, жара страшная днем. Обстригла Ванечку, нечаянно пырнула ему в головку ножницами. Брызнула кровь, он очень плакал. Я говорю: «Прости маму, мама нечаянно». Он всё плачет. Я говорю: «На, побей меня». Он схватил мою руку и начал страстно целовать, а сам плачет. Какой миленький ребенок, боюсь, что жив не будет. 9 июня. Троицын день. Ясный, жаркий, чудесный летний день, и такой же прелестный, теплый, лунный вечер. Сколько лет повторяется это обычное празднество! С утра в катках дети с цветами, нарядные и торжественные, ездили к обедне с сестрой Марией Николаевной и с гувернером и гувернантками. Приехали, пили кофе обе семьи вместе на крокете, потом вели длинные разговоры. Таня моя говорила горячо и раздражительно о том, какие должны быть отношения между супругами. Потом все разбрелись: кто писать, кто купаться; Маша Кузминская ушла с приехавшим женихом Эрдели. Славный он, добрый, симпатичный мальчик. Но мальчик! Вот что страшно, ему 20 лет. Я взяла Ванечку и Митечку, после того как полежала и почитала, к себе в комнату и рассказывала им, лежа на постели, сказки. Их надо развивать. Потом услыхали мы пенье подходивших баб и пошли за этом нарядной пестрой толпой в Чепыж, где завивали венки. Есть что-то грустное, но трогательное в повторении одного и того же впечатления, как это завиванье венков и бросанье их в воду, в течение почти 30-летней моей летней жизни в Ясной Поляне. Уже три поколения почти выросло на моих глазах, и вот раз в год я вижу их вместе и сегодня почувствовала нежность к этим людям, с которыми прожила столько лет и для которых так мало сделала. Обед был веселый, все чувствовали себя хорошо, потому что все вместе. Присутствие Машеньки и Леночки, как семейный элемент со стороны Толстых, был очень приятен, и присутствие Сережи мне всегда особенно радостно. Вчера был тут Илья, и вечером были опять разговоры о разделе. Всё еще не решили и не знаем, как всё разделить получше. То одна сторона, то другая чем-нибудь недовольна или чего-нибудь боится. Меня это расстраивает, а Левочка небрежно и неохотно ко всему этому относится. Он вообще удивительно безучастен ко всему. Вчера и сегодня он шил себе башмаки; по утрам он пишет свою статью, питается очень дурно, ни молока, ни яиц, ни кумыса не пьет. Набивает желудок хлебом, грибным супом и кофе, ржаным или же цикорным. Приготовил себе лопату и хочет копать землю под пшеницу, вместо пахоты. Еще новое безумие – надрываться над вскапыванием сухой и крепкой, как камень, земли. Сережа играет на фортепьяно, сестра Машенька его слушает и сочувствует ему, я тоже с большим наслаждением слушаю. Мы ездили купаться, а Левочка куда-то ушел. Сегодня я думала о нем: мне радостно было бы видеть его здоровым – он портит себе желудок самой вредной (по словам доктора) едой. Мне радостно было бы видеть его художником – он пишет проповеди под видом статей. Мне радостно было бы видеть его нежным, участливым, дружным – он грубо чувствен и, помимо этого, равнодушен. Теперь еще это копанье земли, что-то фатальное в этой новой фантазии. И жара какая! Много он дергал и продолжает дергать меня за сердце своей беспокойной и фантазерской натурой. 12 июня. Три дня не писала. В понедельник, в Духов день, у нас была неприятная история. Утром уезжал Эрдели, Маша ехала его провожать до Ясенок. Мне нужно было заслать за бумагами к священнику, метрические свидетельства детей для раздела. Кто-то говорит, что Маша едет провожать жениха до Тулы. Я говорю: «Не может быть». Но спрашиваю Машу ввиду того, что если она едет до Тулы, я пошлю кучера к священнику, если же вернется, то не стану ее беспокоить, ей и так грустно будет, проводив жениха. Приходит Маша. Я спрашиваю: «Ты до Тулы едешь»? Она говорит: «Нет, нет, не еду». А сама поехала. Подали катки, я спрашиваю Бергера, не едет ли кто мимо Козловки, мне надо послать телеграмму. Филипп на это говорит, что Марья Александровна приказала за ними приехать к дачному поезду. Меня рассердило и то, что она мне сказала не то, что сделала, и ее приказание. Но оказалось, что она совсем не то приказала, а просила прислать, если можно, свою же лошадь. Ответ же свой мне она не помнит, да и где ей было замечать, когда она расставалась с женихом. Я очень люблю ее и приняла всё к сердцу. На это еще заставили меня и Машеньку ждать на катках Саня и Вася, и когда пришла Таня-сестра, я ей очень раздражительно нажаловалась на ее детей. Она переспросила, я сказала, что не понимаю, зачем Маша мне налгала, тогда Таня вскочила с катков, схватила Митю и ушла. Мне стало еще больнее, слезы хлынули из глаз, я взяла Ваню и тоже встала, но пожалела его и поехала. Но встал и Лева, встала Машенька, и вышла целая история. Главное же, что ее разразило, было замечание Левы, что я не в духе. Я обиделась, тем более что всё утро усиленно работала над корректурой и делами, болела голова и шла носом кровь. Потом мы помирились, но боль осталась. Вечером приехала Мария Ивановна Зиновьева с дочерьми, и весь вечер все пели, было очень приятно. Вчера пришли темные Хохлов и Алехин, ученый-химик, был при университете оставлен, а теперь надел рубаху и пошел ходить по собратьям по вере. Те же странники под другим соусом. Странничество в характере русского человека. А жаль, 10 лет работал при университете, и теперь всё пропадет. Хохлов – техник, молодой и какой-то недоконченный. Оба молчаливы и мрачны, как все эти последователи. Мясо не едят, в плохой мужицкой одежде. Не пойму этого ученого. Не может же он не понимать, что жизнь в странствовании и приживании при других людях не есть настоящая жизнь. Левочка всегда говорит, что они работают. А я не видала и не слыхала никогда, чтоб они серьезно работали, всегда сидят, потупив нос, и молчат. Сегодня была в Туле, Машеньку-сестру отвезла, получила деньги, поместила их, была у нотариуса, у другого в окружном суде, делала покупки и страшно устала. Обедала одна и одна ходила пешком купаться. Одиночество помогло разобраться мыслями в делах и жизни. Вечер сидели все вместе и потом читали глупую русскую повесть в «Северном Вестнике». Все спят. Андрюша, Миша и т. Borei рано утром уедут к Илье. 13 июня. В 4 часа утра встала, проводила детей к Илье. Было ясно и холодно. Потом легла, долго не могла заснуть. Утром Левочка объявил, что идет со своими темными пешком к Буткевичу, верст за 40. Хотя мне и страшно за его усталость и неприятно это общение, но я вижу, что на него нашло беспокойство и что если не одно, то выдумает другое, наверное, что-нибудь дикое, но для разнообразия. Надели все трое мешки через плечи с вещами и пошли по палящему солнцу. Ночи очень холодные, а дни сухо-жаркие. Очень тяжело слышать со всех сторон жалобы на сушь и будущий голод. И не поймешь, как просуществует нынешний год почти весь русский народ. Местами ровно ничего и не взошло, пришлось перепахивать землю. В Ясной Поляне еще порядочно, а то вовсе есть страны без хлеба для себя и для скота. После обеда убирала я всё в доме, углы, набитые сором, выгребала с Фомичом и Никитой; а потом позвала Ивана Александровича и садовника, и мы пошли втроем считать яблоки, сколько приблизительно мер на яблоне и сколько яблонь. Так до вечера провозились. Завтра опять буду делать то же. Вечером собрались на террасе, пили чай, зябли, и Маша с ужасом рассказывала, какой на дворне разврат. Мне было больно, что Маша и девочки знают про такой разврат, но при Машиной жизни иначе быть не может. Она всё с народом, а там только это и услышишь. Пришел Лева, Иван Александрович, приехал Миша Кузминский, и переменили разговор. Теперь все спят, а я иду читать. Без Андрюши и Миши скучно за Левочку и за них страшно. 14 июня. Провела хороший, деятельный день, хотя не спала всю прошлую ночь. С утра читала русские повести в журнале. Потом многое в доме убирала и приводила в порядок и чистоту. Не знаю отчего, но всегда в отсутствие Левочки на меня находит страшная энергия деятельности. Потом ездили все купаться. До обеда читала немецкую корректуру биографии Левочки, присланную Левенфельдом. После обеда взяла Сашу, Ваню, Митю Кузминского, Веру и нянек, и пошли все гулять через рожь, рвали васильки, на Черту в лес, собирали ночные фиалки, сидели, любовались вечером. Как было удивительно красиво, тихо, ясно и свежо! Потом я еще обошла весь сад, смотрела на посаженные мной дубки и елочки в саду. Вернувшись, поправляла русскую корректуру второй «Книги для чтения», писала письма, пила чай с Таней вдвоем, молодежь ездила на Козловку. Филипп ездил в Крапивну в опеку для указа, чтобы меня назначили опекуншей над четырьмя малолетними для раздела. Он видел в 5 часов вечера идущего Левочку в трех верстах от Крапивны. Слава богу, он благополучен. От детей тоже известия. 2 часа ночи, иду спать. Очень холодные ночи. 15 июня. Была в Туле с Машей, дочерью. Я – по делам раздела, Маша – помещать мальчика Фильку в сапожники, что она и исполнила. Мои же дела все стали по случаю того, что Маша не хочет брать своей части из раздела. Я ясно вижу, что она, бедная, ни в чем себе не отдает отчета и не может даже ясно себе представить, что значит остаться без гроша после такой жизни. Действует же она по гипнотизму, а не по убеждению. Она ждет отца, чтобы спросить его совета, так как во всяком случае ей надо признать попечительство и подписать несколько бумаг. Вечером были разговоры о мертвых, об умирании; о предчувствиях, снах, действующих на воображение. Мешала приехавшая барыня, жена доктора Кудрявцева. Она хотела видеть Левочку, и ей не удалось. Потом приехал Миша Кузминский и рассказывал очень интересно про сумасшедшую. Дело в том, что сегодня в ночь из павильона пропали разные Танины вещи[87]. По разным данным узнали, что утащила всё сумасшедшая сестра Митиной кормилицы. Вот Миша поехал с кормилицей к этой сумасшедшей и осторожно выспрашивал, куда она всё девала. Оригинальны были их похождения. Мало-помалу она всё показала: альбом спрятала под кустик в Ясенках; рабочий ящичек с вещами и ключами зарыла на кладбище около церкви и обложила камушками; два полотенца и рубашечку спрятала под мост; свой сарафан и мужнины портки затоптала в грязь, в канавку; чернильницу серебряную, старинную, на цепи повесила на дерево в саду, в Телятинках. И всё она помнила, и всё понемногу собрали, кроме чернильницы, которую по случаю темноты уже не нашли и не успели взять. Сегодня вечером шел дождь и стало теплей. Но мало было дождя, дай бог больше. 16 июня. Весь день шел дождь и была гроза, всё повеселело в природе и в народе. Левочка вернулся от Буткевичей что-то невеселый и молчаливый. Маша, моя дочь, узнает ужасные вещи в деревне, в среде работников и крестьянских девок, всем этим пачкается морально, поражается, огорчается и приносит на себе, рассказывая нам эту моральную грязь, домой. Ведь это ужасающе! Я рассказала это Левочке; он на это сказал, что не отворачиваться надо, а помочь им выйти из этого грубого невежества. Помочь – да, ему, мне даже можно пытаться помогать, но ей, 20-летней, невинной девушке! Он ее втолкнул в эту грязную среду; пусть отвечает за нее Богу и своей совести, а я, по своей натуре, не могу, я умру, задохнусь в этой среде, если сунусь туда, и на Маше вижу, до какой степени навязано ей то, от чего всякая девушка должна с ужасом шарахнуться и никогда больше не возвращаться. Целый день обивала ширмы и мебель в комнате Саши и Лидии. У меня иногда потребность работы физической. Теперь надолго удовлетворилась. 18 июня. Рожденье Саши, ей 7 лет. Утром сделала ей подарки, потом мы поехали с ней, Ваней и Васей Кузминским в Ясенки, где встретили возвратившихся от Илюши Андрюшу, Мишу и т. Borei. Ехали весело, дети рассказывали, как всё прекрасно у Ильи, как было весело. Потом я переводила с английского предисловие к книге о вегетарианстве, очень трудилась и подвинула работу. К обеду вернулась из Тулы Маша, привезла мне разные бумаги от нотариуса, с которыми сидела я после обеда более часа. Вечером перетаскали посуду, самовар, угощения, ягоды в Чепыж, собрали всё общество, развели костер и делали пикник, как говорят дети. Девочки пытались играть в игры, но было не очень оживленно. Когда уже стало темнеть, прибежали две женщины из дома Кузминских и говорят, что бык остервенел и бежит на нас, в Чепыж. Мы собрали мгновенно все вещи и поспешили домой. Бык действительно бегал и гнался за скотником, которого чуть было не забодал. Меня только тревожило то, что Левочки не было дома, он ушел купаться. Но скоро вернулся, оделся в халат и объявил, что нездоров: знобит и боль под ложкой. Я этого ждала; он последнее время питался отвратительно: ел почти что один хлеб, набивал им желудок, несмотря на предостережение доктора, что это самое вредное. Яиц не ел совсем, пил много ржаного кофе, да еще сходил, согнутый, со сдавленным желудком, под тяжестью мешка – верст сто взад и вперед, к Буткевичу. Я не видала человека более упорного в своих диких фантазиях. Например, из духа противоречия мне, он не пьет совсем кумыс и не говорит причины. Как досадно видеть со стороны, как человек себя губит. Таня, дочь, утром неприятно и зло говорила о воспитании моем детей, а вечером зло стреляла во всех по поводу того, как губят лошадей. Благодаря бога я оба раза отмолчалась. Вчера вечером все ездили к Зиновьевым, Левочка ходил гулять, а я весь вечер сидела одна и читала «La vie eternelle», которую, было, оставила. Определение Бога мне не понравилось, что-то есть в нем материальное. Это Бог – как существующий элемент, а где же Бог – любовь, добро, дух, тот Бог, которому я молюсь? Лева что-то пишет, а Маша Кузминская ему переписывает. Интересно бы узнать, что и как, да боюсь расстроить ему ход работы, если попрошу прочесть или скажу что-либо об этом. 29 июня. Жили ровно, благополучно, без гостей, без событий, без радости и горя. Только похворали меньшие дети жаром на одни сутки каждый. Сегодня приехали Репин и Кузминский. После завтрака я взяла Сашу и Ваню гулять, няня у матери была в Судакове, а Лидия усталая дома оставалась. Репин тоже пошел с нами. В посадке мы сели отдыхать, а Репин начал рисовать нашу группу в альбоме, карандашом. Не похоже, но довольно картинно. Чудесный был день, ясный, цветов так много, ягоды еще дети собирали, а у нас были интересные разговоры; Репин, видно, разбитый жизнью человек. Таня уехала с Леночкой к Сереже ко дню его рождения и, верно, завтра вернется. Репин будет делать рисунки и хочет нарисовать Левочку в его писательской обстановке. Во вторник ждем Александру Андреевну. 16 июля. Александра Андреевнабыла и уехала в Царское, куда поспешила по случаю болезни слепой сестры своей, Софьи. Как всегда, она с собой внесла радостный, ласковый и всем интересующийся свой характер. Но это придворная дама до мозга костей. Она любит и двор, и царя, и всю царскую фамилию, во-первых, потому, что готова всех любить, а во-вторых, потому, что все они царские, а она признает православие и помазанников. После ее отъезда я на другой день уехала в Москву заказывать 20 тысяч XIII части к прежним изданиям; ее было только 3000, и все разошлись очень быстро. Пришлось долго мучиться, чтоб найти бумагу готовую и типографию, которая взялась бы сделать в две недели. Еще покупала приданое Маше Кузминской, заказывала серебро. Со мной была Вера Кузминская, останавливались мы у Дьякова, живущего в нашем доме. Была с Верой на французской [промышленной] выставке, хотела видеть картины, но видела мало, так как был вечер и закрыли; скучала ужасно, на баллоне не полетела, пожалела 5 рублей. Левочка написал мне в Москву, что желает отдать XII и XIII части публике – кто хочет, тот и печатай. Но, с одной стороны, мне жаль тех денег, которых лишится моя семья; с другой, зная, что все статьи разрешены цензурой только в Полном собрании сочинений, было бы подло разрешить их публике, вводя людей в убыток и заблуждение. Огорчать же Левочку больнее всего мне стало, и я вчера сказала ему, что пусть печатает и делает, что хочет, я протестовать и упрекать не буду. С тех пор он молчит и ничего не предпринимает. Гостей эти дни пропасть. Репин уехал сегодня, окончив бюст, картину небольшую, изображающую Левочку пишущим в своем кабинете, и начав большую, во весь рост, которую кончит дома. Он изображен в лесу, босой, руки за пояс. Гинцбург лепит большой бюст, очень неудачный, и сделал маленькую фигурку, тоже пишущим за столом – недурно. Были еще у нас Варя Нагорнова, Вера и Варя Толстые, Зиновьевы, теперь тут Хельбиги, брат с сестрой, и я сегодня с молодым Хельбигом делала фотографии бюста Репина и Ваню с Митей – не очень удачно. От Левы с пути в Самару было два письма, довольно вялые. Сережа тоже поехал в Самару по моим делам. Третьего дня был нотариус Белобородов с бумагами, дело раздела подвигается. Был еще Фигнер в воскресенье вечером и немного пел, но не очень хорошо. Левочка невесел, сегодня передавали его слова, будто он не поедет в Москву. Не знаю, что буду делать, не знаю, как и что решать, сердце разрывается часто от тревоги, сомнений, от страшной ответственности решать в ту или другую сторону. А как воспитывать мальчиков в деревне? Я совсем не знаю и не вижу возможности. А Лева, который бросит университет, если опять останется один! А Таня, которой замуж больше шансов в Москве; и потом – Левочка, которому так тяжело жить в городе. Всегда жду от Бога того толчка, который в данный момент заставит меня поступить так или иначе. Всё время жара, сухо ужасно, ночи свежие, а голод, голод самый ужасающий, слышно со всех сторон, и нет часа, когда бы я об этом не вспомнила. И безвыходность мне кажется в этом отношении крайняя. Левочкино здоровье не совсем хорошо: вчера он ел зеленый горох и арбуз в таком количестве, что я пришла в ужас. Ночью поплатился расстройством желудка. Кумыс так и не пьет и не пил. Второй вечер хожу гулять с Ваней и Сашей; вчера ходили в овраг Заказа, сегодня на колодезь около срубленной посадки. Ваня любит заставлять работать воображение и представлять себе, что страшно, что волки тут, что вода в колодце особенная. Гинцбург делает бюст очень дурно. 21 июля. Я должна написать всю ту нелепую, неправдоподобную и печальную историю своего сегодняшнего дня. Не знаю я, что именно нелепо: я сама или те положения, в которых приходится бывать. Но как я разбита, измучена душой и телом! Сегодня перед обедом мне Левочка говорит, что пишет письмо в несколько газет, в котором отказывается от прав на свои последние сочинения. Когда он в прошлый раз заговорил об этом, я решилась кротко это перенести, и так бы и сделала. Но прошло несколько дней – и он опять заговорил об этом. На этот раз я не подготовилась, а первое чувство было опять дурное, то есть я прямо почувствовала всю несправедливость этого поступка относительно семьи, и почувствовала в первый раз, что протест этот есть новое опубликование своего несогласия с женой и семьей. Это больше всего меня встревожило. Мы наговорили друг другу много неприятного. Я упрекала его в жажде славы, в тщеславии, он кричал, что мне нужны рубли и что более глупой и жадной женщины он не встречал. Говорила я ему, как он меня всю жизнь унижал, потому что не привык иметь дело с порядочными женщинами; он упрекал меня, что на те деньги, которые я получаю, я только порчу детей… Наконец, он начал мне кричать: «Уйди, уйди!» Я и ушла. И пошла садом, не зная, что буду делать. Сторож видел, что я плачу, и мне стало стыдно. Так я вышла в яблочный сад, села в ямку и подписала все объявления карандашом, который был в кармане. Потом написала в записной книжечке своей, что убиваюсь на Козловке, потому что меня измучил разлад в жизни со Львом Николаевичем, что я не в силах больше решать всё одна в семейных вопросах и потому ухожу из жизни. Я помню, как в молодости после ссоры я всегда хотела убить себя, но чувствовала, что не могу, а сегодня я бы это сделала – меня спас случай. Я бежала на Козловку в совершенном умопомешательстве. Почему-то я всё о Леве вспоминала и думала, что если сейчас встречу телеграмму или письмо, что Левы почему-нибудь нет, то это ускорит мое решение. Когда я добежала почти до мостика у большого оврага, то легла отдохнуть. Стало смеркаться, но мне жутко не было. Странно, что теперь мне, главное, казалось стыдно вернуться домой и не исполнить своего намерения. И так тупо спокойно я шла к своей цели, с такой страшной физической головной болью, всё было в тисках. Когда я хотела идти дальше, вижу, со стороны Козловки идет кто-то, вижу блузу. Я обрадовалась, думала, что Левочка и мы помиримся. Оказалось, что Алексей Михайлович Кузминский. Мне стало досадно, что он помешал моему намерению, я чувствовала, что он не отстанет от меня. Кузминский очень удивился, увидав меня одну, и понял, что я расстроена, по моему лицу. Я никак не ожидала его увидеть и всё уговаривала идти домой и оставить меня. Я уверяла его, что сейчас приду. Но он не уходил и уговаривал меня идти с собой, указывая на толпу на другой стороне, и говорил, что меня испугают, что бог знает кто тут бродит. Потом он прибавил, что хотел идти кругом, через Воронку и Горелую Поляну, но на него напали летучие муравьи, пришлось бежать в чащу, раздеваться, и вот он промешкал и решил возвращаться той же дорогой. Я видела, что Бог не хотел моего греха, покорилась поневоле и пошла за Кузминским. Но мне не хотелось идти домой, и я пошла одна Заказом, купаться, думала – это еще исход, можно и утопиться. Та же тупость, отчаяние и желание уйти из этой жизни с непосильными задачами – меня преследовали. В лесу было совсем темно, я стала уже подходить к оврагу, как вдруг какой-то зверь – не знаю, я близорука и ничего не вижу вдаль, – собака, лисица или волк, скоком налетел на меня с намерением перебежать дорогу. Я крикнула во всю мочь. Зверь быстро свернул в лес и так же вскачь помчался по лесу, шурша листьями. Тут храбрость меня оставила, я вернулась домой и пошла к Ванечке. Он лег уже спать, стал меня ласкать и всё приговаривал: «Мама моя, моя мама!» Помню, когда, бывало, приду к детям после такого настроения, мне дети давали снова смысл жизни, а сегодня, к ужасу своему, я заметила, что, напротив, отчаяние мое стало хуже и дети подействовали грустно, безнадежно как-то. Потом я легла, сначала в свою постель, потом меня взяло беспокойство об ушедшем Левочке, и я легла на воздухе, в гамаке, прислушиваясь, не возвратился ли он. Все понемногу собрались на террасе, вернулся и Левочка. Все болтали, кричали, смеялись. Левочка был оживлен как ни в чем не бывало; требования его разума, во имя идеи, не затронули его сердца, да и никак. Боль, которую он мне нанес, он столько уж раз наносил! О том, что я так близка была к самоубийству, он никогда не узнает; а узнает, не поверит. В гамаке я заснула от этого страшного утомления нравственного и физического. Маша искала что-то со свечой и разбудила меня. Я пошла пить чай. Когда все собрались, читали вслух «Странного человека» Лермонтова. Когда разошлись и уехал Гинцбург, Левочка подошел ко мне, поцеловал меня и сказал что-то примирительное. Я просила его напечатать свое заявление и не говорить больше об этом. Он сказал, что не напечатает, пока я не пойму, что так надо. Я сказала, что лгать не умею и не буду, а понять не могу. Сегодняшнее мое состояние меня подвинуло к смерти: что-то надломилось серьезно, по-старчески, сурово, мрачно. «Пусть бьют! Лишь бы добили скорей». Вот что думается. И опять, и опять та же «Крейцерова соната» преследует меня. Сегодня я опять объявила ему, что больше жить с ним как жена – не буду. Он уверял, что только этого и желает, и я не поверила ему. Теперь он спит, а я не могу идти к нему. Завтра именины Маши Кузминской, и дети под моим руководством готовят шараду. Дай бог не помешать им и не расстроить никого. 23 июля. То, что надломилось всей последней неприятностью, не пройдет никогда. Два раза я ходила сказать ему, что прошу напечатать свое заявление об отказе от права собственности на произведения последних годов. Пусть публично заявляет о том несогласии, которое существует в семье, я не боюсь никого, у меня дело только с моей совестью. Те деньги, которые я получаю с его книг, я всецело трачу на его же детей; только я регулирую расходы из моих рук, тогда как дети, если б всё было в их руках, тратили бы бестолково и несправедливо. Теперь у меня одно чувство: снять с себя еще одно взваленное на меня нарекание, еще одну навязанную мне вину. Столько уж на моих плечах: раздел, навязанный мне против воли, воспитание мальчиков, с которыми придется переехать в Москву, все дела книжные, хозяйственные и вся ответственность нравственная за свою семью. Эти два дня у меня чувство, что я вся согнулась под тяжестью жизни, и если б не летучие муравьи, напавшие на Кузминского и заставившие его вернуться именно этой дорогой, меня не было бы, быть может, уж на свете. Я никогда так спокойно и решительно не шла к этому решению. И несмотря на этот камень на сердце, вчера я руководила всей шарадой детей. Играли колода-колода. Участвовали Миша, Саня, Вася Кузминские, Борис Нагорнов, Андрюша и Миша. Саша появилась на минутку в виде ангела, и из нее же была картина живая. Играли все порядочно; я считаю, что подобные развлечения необходимы для развития мальчиков и для занятия их воображения. Оно не принесет вредного направления. Кроме родных и Эрдели, были барышни Зиновьевы и вся прислуга, башкиры, кучера, вся дворня. Успех был большой, и все остались довольны. Когда всё кончилось, я просто качалась от утомления, а камень на сердце всё лежал и теперь лежит. Вчера решили, что свадьба Маши Кузминской будет в Ясной Поляне 25 августа. Я очень рада; это упрощает и удешевляет мне всё это дело. Не нужно никому ехать в Петербург, и будет всем очень весело. На дворе всё очень сухо, ветрено, ночи холодные. Огороды, сады, листва на деревьях, цветы, луга – всё посохло. Лева пишет из Самары, что и там так же. Бюст Гинцбурга готов; он вышел довольно дурен. Но сам Гинцбург – плебей низкой души, и я рада, что он уехал. Мнение мое о Гинцбурге совершенно изменилось. Он хороший и честный человек[88]. 26 июля. Вчера умерла на деревне молодая бабенка, жена Петра, сына Филиппа-кучера. Маша всё ходила ее лечить и говорила, что она больна горлом. Наконец объявила, что, по ее мнению, это дифтерит. Тогда я запретила ей ходить. Но если зараза попала – то поздно было запрещать. Очень жаль эту милую бабенку, но очень досадно на Машу, что она рискует заразить две семьи с маленькими детьми. По ее рассказам, это наверное дифтерит, и она с обычной хитростью скрывала это всё время. Теперь у ней нервы расстроены, она жалуется на горло и, видно, струсила. Ничего, ничего кроме горя, беспокойства, досады и жалости не возбуждает во мне эта дочь, посланная мне как крест. Поправляла весь день корректуру «Азбуки». Ученый комитет не одобрил ее ввиду таких слов, как вши, блохи, черт, клоп, а также потому, что ошибки есть; еще предлагают выкинуть рассказы о лисе и блохах, о глупом мужике и другие, на что Левочка не согласился. У Вани, Мити, Васи и Левочки – насморк. Шел сильный дождь, и была гроза. Теперь свежо. Левочка ездил вчера верхом в Тулу за доктором каким-то добродетельным; но последний оказался в Москве, а баба, для которой хлопотали, за это время умерла. Таня и Маша Кузминская уехали 24-го в Петербург шить кое-что к свадьбе. 27 июля. Страшно собой недовольна. С утра меня разбудил Левочка страстными поцелуями… Потом я взяла французский роман «Un coeur de femme» Бурже и читала до 11½ часов в постели, чего никогда не делаю. Всё это непростительное пьянство, которому я поддаюсь, и это в мои года! Мне грустно и совестно! Я чувствую себя грешной, несчастной, я не могу ничего сделать, хотя очень стараюсь. И всё это вместо того, чтоб встать раньше, отправить башкиров, которые запоздают на железную дорогу, написать нотариусу и послать за бумагами, посмотреть, что делают дети. Саша и Ваня долго валялись у меня на постели, играли и смеялись. Я рассказала Ване сказку про Липунюшку, он был очень доволен. У Вани насморк, у Саши расстройство желудка. Потом я учила Мишу музыке, кротко и хорошо. Андрюша делает английский перевод и окончательно бросил музыку. У нас Соня Мамонова и Хохлов. Погода ясная и свежая. Ах, какой странный человек мой муж! После того как у нас была эта история, на другое утро он страстно объяснялся мне в любви и говорил, что я так завладела им, что он не мог никогда думать, что возможна такая привязанность. И всё это физическое, и вот тайна нашего разлада. Его страстность завладевает и мной, а я не хочу всем своим нравственным существом, и никогда не хотела этого, я сентиментально мечтала и стремилась всю жизнь к отношениям идеальным, к общению всякому, но не тому. И жизнь прожита, и всё хорошее почти убито; идеал, во всяком случае, убит. Роман Бурже меня завлек тем, что я прочла в нем ту мысль, то чувство, на которое сама была так способна. Женщина светская любит в одно и то же время двух: прежнего, благородного, любящего, прекрасного – почти мужа, хотя не признанного, и нового, красивого, тоже любящего ее. Я знаю, до какой степени возможна эта двойная любовь – и описано верно. Почему всегда одна любовь должна исключать другую? И почему нельзя любить, оставаясь честной? 29 июля. Тут Страхов; как всегда, необыкновенно приятен и умен. Приезжал Базилевич, и приехала какая-то курсистка из Казани, расспрашивать Левочку о разных жизненных и отвлеченных вопросах. Левочка не совсем здоров желудком, ночью его лихорадило. Таня в Пирогове. Идет дождь и скучно. Беспокоюсь о Леве и Сереже. Написала письма: Тане, Гинцбургу и самарскому приказчику. 12 августа. Левочка поехал верхом в Пирогово. Тяжелая нравственная атмосфера в доме. Всё натянуто от неопределенного положения дел. Левочка объявил сегодня Маше, что остается здесь всю зиму и в Москву не поедет совсем, потому отговаривал ее поступать на фельдшерские курсы, куда она уже хотела посылать прошение о поступлении. На Таню известие это подействовало, очевидно, так же угнетающе, как на меня, но она молчит. Мое же состояние души – ужасно! Что делать? Вся энергия, все попытки воспитывать детей дома – всё исчерпано. Я не могу больше! Я не знаю, как дальше быть, где учителей взять, будет ли Андрюша заниматься: он спал умственно всю зиму. Не знаю, что будет делать Лева и как я опять оставлю его. Не знаю, как проживу без Левочки и без девочек и они без нас, если я уеду в Москву с мальчиками. Господи, научи меня! С другой стороны, перевезти Левочку в Москву – он будет тосковать и сердиться. Всё равно жизнь наша врозь: я с детьми, он со своими идеями и своим эгоизмом; что разорвано, того не починишь. Надеюсь на Бога; когда придет момент решения, Бог научит меня. Всё стараюсь развлечься, а то вдруг наплыв опять желания самоубийства, прекратить всю эту двойственную жизнь и всю ответственность решений… И вот сегодня четыре часа бегала с маленькой Сашей за грибами, а третьего дня ездила с Верой Кузминской, Андрюшей и Мишей в концерт Фигнеров. Было много знакомых, пели хорошо, и мне было весело. От Левы было письмо из Астрахани, он поплывет по Каспийскому морю, но не попадет на Кавказ, в Пятигорск, как хотел, потому что на Военно-Грузинской дороге провал каменный и проезда до 10 сентября не будет. Я часто о нем беспокоюсь и грущу. Пропасть яблок, страшно много, и большое количество грибов: белых, осиновых, березовых. Сегодня принесли опенки. 14 августа. Была в Туле; Андрюша и Миша примеряли платья у портного, я получала деньги для уплаты долгов Никольского (2000 рублей), Маша Кузминская встречала жениха и привезла его. Больна моя Маша, вся горит; лежит бледная и жалкая. Получила телеграмму от Левы – запрос, когда свадьба Маши. Писала деловые письма и графине Александре Андреевне. Сбегала на полчаса за рыжиками с Сашей и Ванечкой; но очень мокро от шедшего дождя. Вечер сидела с Машей, а потом говорили о браке, любви, женщинах. Таня, сестра, говорит: «Непременно ступай в Москву и сиди там; поверь, и муж, и барышни скорехонько соскучатся и приедут». 15 августа. Чудесная погода; соблазнилась с детьми идти за грибами и проходила четыре часа. Как было хорошо! Какой чудесный запах земли, как красивы рыжички мокрые во мху, мохнатые волвянки, крепенькие подберезнички; как успокоительна лесная тишина, как свежа росистая трава, и ясное небо, и дети с веселыми лицами и полными корзинами грибов! Вот это я называю настоящим наслаждением. Получила письмо от Левы из Владикавказа и телеграмму из Кисловодска. Слава богу, хоть жив и цел. Маше лучше. Вечером сидела у Кузминских с Таней, Машей и Валечкой Эрдели. Говорили о супружеских отношениях, я им рассказывала, как замуж выходила, и передо мной восстала вся моя прошедшая безотрадная довольно жизнь. Безотрадность эта особенно обнажилась теперь. Если в молодости жили любовной жизнью, то в зрелые годы надо жить дружеской жизнью. А что у нас? Вспышки страсти и продолжительный холод; опять страстность – и опять холод. Иногда является потребность этой тихой, нежной, обоюдной ласковости и дружбы, думаешь, что это всегда не поздно, и всегда так хорошо, и делаешь попытки сближения, простых отношений, участия, обоюдных интересов. И ничего, ничего, кроме сурово, брюзгливо смотрящих глаз, и безучастие, и холод, холод ужасающий. А отговорка, почему вдруг стали мы так далеки, одна: «Я живу христианской жизнью, а ты ее не признаешь; ты портишь детей». Какая же христианская, когда нет любви ни крошечки ни к детям, ни ко мне, ни к кому решительно, кроме себя. А я – язычница, но я так люблю детей и, к несчастью, еще так люблю и его, холодного христианина, что теперь сердце разрывается от предстоящего вопроса: ехать, не ехать в Москву? Как сделать, чтоб всем было хорошо; потому что, видит Бог, мне тогда только хорошо, когда я могу видеть и устроить счастье вокруг себя. 20 августа. Приезжали два француза – ученый-психолог Рише с родственником; привез их профессор Грот. За Левочкой Маша ездила вчера в Пирогово, а сегодня она слегла, опять жар в 39 и 6. Вчера утром мы ездили на пикник в лес со всеми соседями; дождь несколько раз прерывал веселье детей и молодежи, и рано все разъехались. Левочка тих и дружелюбен и очень любовен. Очень интересно было слушать сегодня разговоры Левочки, Рише и Грота. Вечером я заговорила об отдаче детей в гимназию и переезде в Москву; Левочка сказал: «Ведь это дело решенное, что ж говорить?» Ничего не решенное, а всё мучительные пока вопросы… 19 сентября. Как всегда бывает, когда жизнь полна событий, нет времени писать дневник, а тут-то бы он и был интересен. Пересчитаю все события. До 25 августа готовились весело к свадьбе Маши Кузминской. Закупали, делали фонари, украшения на лошадей, флаги и т. д. 25-го утром я благословила Ванечку Эрдели с братом Сашей и повезла его в карете в церковь. Мы оба были растроганы. Мне жаль было этого юного, чистого, нежного мальчика, что он так рано берет на себя обязанности и что он так одинок. Машу благословили без меня. Говорят, что она очень плакала и отец ее тоже. Потом был обряд, у меня всё время были слезы в горле; и свое прошедшее переживала, и ее будущее, и возможность расстаться с Таней и даже с Машей, которая всегда мне жалка и перед которой всегда чувствую себя виновной в недостаточной любви. Потом мы обедали на месте крокета. Был ясный, чудесный теплый день; все были веселы, всем было легко и радостно: и своим, и родным, и соседям. Вечером играли в игры, танцевали, пели. Фигнер пел удивительно хорошо в этот вечер. Весь день я следила за Таней, за ее бывшими женихами, то есть людьми, делавшими ей предложение, и за Стаховичем, за которого охотно отдала бы ее замуж. Он оценил бы и любил бы ее наверное. Разошлись поздно, а я сидела до рассвета с гостями, которые боялись ехать темнотой. Сидели и невестка моя Соня, и Таня, и Стахович, который говорил с Соней жестокие вещи о детях маленьких и тяжести их иметь. Левочка был болен два дня до свадьбы, но в этот день ему уже было лучше. Все мои девять детей опять собрались, и я была очень счастлива и старательно отстраняла от себя всякие заботы и все вопросы. Ночь молодые провели каждый на старом месте: Маша – с сестрой, Ванечка Эрдели – с Левой. На другое утро всё было по-старому, а к 6 часам вечера мы проводили молодых в Ясенки и очень плакали. Было холодно, дул ветер, на душе мрачно, и жизнь опять пошла по-старому, но приготовила еще новые волнения. До 29-го числа я не поднимала вопроса о переезде в Москву, но время шло, терять его некогда, и вот я вечером 29-го попросила у Левочки позволения пройтись с ним и спросила его решение насчет переезда в Москву и отдачи детей в гимназию. Я ему говорила, что знаю, до какой степени это тяжело ему, и спрашиваю только, сколько времени из своей жизни он может пожертвовать мне и пожить со мной в Москве. Он говорит: «Я совсем не приеду в Москву». Тогда я сказала: «Ну, и прекрасно, тем и разрешается вопрос, и я в Москву тоже не поеду, и детей не повезу, и буду опять искать учителей». – «Нет, я этого не хочу; ты непременно поезжай и отдай детей, потому что ты считаешь, что так надо и так лучше». – «Да, но ведь это развод, ведь ты ни меня, ни пятерых детей не увидишь всю зиму». – «Детей я и тут мало вижу, а ты будешь ко мне приезжать». – «Я? Ни за что!» Мне пришло в голову сожаление, что я любила и принадлежала ему одному всю жизнь, что и теперь, когда меня отбрасывают как уже изношенную вещь, я всё еще привязана к нему и не могу его оставить. Мои слезы его смутили. Если в нем есть хоть тень психологического понимания, которое так сильно в книгах, то он должен был понять ту боль и ту силу отчаяния, которые были тогда во мне. «Мне жаль тебя, – сказал он, – я вижу, как ты страдаешь, и не знаю, как тебе помочь». – «А я знаю; я считаю безнравственным разорвать семью пополам, без всякой причины, я жертвую детьми, Левой и Андрюшей, их образованием и судьбой, и я остаюсь с тобой и дочерьми в деревне». – «Вот ты говоришь о жертве детей, ты будешь этим упрекать». – «Так что же делать, скажи, что делать?» Он помолчал. «Я не могу теперь, дай я подумаю до завтра». Мы расстались на Грумонтском поле; он пошел к больному в Грумонт, я – домой. Какой непоправимый, глубокий надрез был сделан в моем сердце этим новым циничным, бессердечным выбрасыванием меня из своей жизни! Стало смеркаться. Я шла дорогой и рыдала всё время. Это были новые похороны моего счастья. Ехали мужики и бабы и с удивлением посмотрели на меня. Лесом идти было жутко. Дома было светло, пили чай, дети бросились ко мне. На другой день Левочка спокойным голосом сказал мне: «Поезжай в Москву, вези детей, разумеется, я сделаю всё, что ты хочешь». Хочешь?! Мне было дико это слово. Давно я ничего для себя не хочу, только их же счастья, радости, здоровья. Вечером я уложила вещи детей, свои, собрала бумаги, и 1 сентября, в воскресенье вечером привезла мальчиков в Москву. Сомнение и страх, хорошо ли я сделала, останутся навсегда. Но я думала сделать должное. Перед самым отъездом я услыхала от Левы страшную историю о падении Миши Кузминского с кормилицей Митечки и о том, что всё это подробно известно моим мальчикам. Удар на удар. Отвращение, горе за сестру, боль за невинность моих мальчиков – всё это переполнило мое сердце. Так и уехала, так и жила в Москве с этой болью. Но материальные заботы, поддержка нравственная мальчикам на новом поприще – всё это меня немного успокоило. Потом приехал Лева и рассказал мне об отчаянии сестры Тани и о том, как тяжело она вынесла это известие. Мне уже так давно было горько, что я тупее отнеслась к этому; я прежде это чувствовала, и Таня огорчилась, что я холодно и не довольно сочувственно отнеслась к ней. Но это несправедливо. Уставшее отношение к делу не менее сочувственно, чем энергическое, горячее, которое может быть только непосредственно после того, как оно постигнет людей, и не может длиться две недели. В Москву приехал и Лева. Он будет держать свой запоздалый экзамен с 1-го на 2-й курс. Лева слишком уж хорош. Он и деликатен, и чист, и талантлив, и добр с детьми. Сейчас же он принял участие в их уроках, в их жизни; повторял с Андрюшей уроки, внушал им нравственные вопросы по поводу истории Миши Кузминского и ободрял их. В Москве я прожила с ними две недели, кое-что покрасила, оклеила, перестроила в доме, обила мебель, наладила жизнь детей и уехала. Остались там три сына, т. Borei, Алексей Митрофаныч и теперь Фомич. Домой я приехала 15-го утром. Левочка упрекнул меня, что я свезла детей в омут. Опять обострился разговор, но скоро обошелся. Ссор пока быть не могло. Тане я высказала свое негодование на Мишу и упомянула о возможности нашей разлуки на будущее лето. Лева меня так убеждал, что это необходимо для детей, но мне это было страшно тяжело; так же это подействовало на Таню. Она покраснела и сказала: «Довольно, Соня, ты мне всё сердце растерзала!» Вопрос этот оставлен до весны и до того, как Миша заявит себя до весны. Потом мы с Левочкой переговорили о письме, которое он послал 16-го в газеты, об отказе от своих прав на статьи. Всё один и тот же источник всего в этом роде: тщеславие и желание новой и новой славы, чтоб как можно больше говорить о нем. И в этом меня никто не разубедит. Письмо послано. К вечеру пришло письмо от Лескова с вырезкой из газеты «Новое время». Вырезка эта озаглавлена: «Л.Н.Толстой о голоде». Лесков дал напечатать из письма Льва Николаевича к нему то, что Левочка ему писал о голоде. Левочкино письмо нескладно, местами крайне, и во всяком случае не для печати. Его взволновало, что напечатали, он не спал ночь и на другое утро говорит, что голод не дает ему покоя; что надо устроить народные столовые, куда могли бы приходить голодные питаться; что нужно приложить, главное, личный труд; что он надеется, что я дам денег (а сам только что снес на почту письмо с отречением от прав на XII и XIII том, чтоб не получать денег; вот и пойми его!); что едет немедленно в Пирогово и начнет это дело и напечатает о нем. Но писать и печатать, чего не испытал на деле, – нельзя, и вот нужно с помощью брата и тамошних помещиков устроить две-три столовые, чтоб о них напечатать. Он сказал мне перед отъездом: «Но не думай, пожалуйста, что я это делаю для того, чтоб заговорили обо мне, а просто жить нельзя спокойно». Да, если б он это сделал потому, что сердце кровью обливается от боли при мысли о голодающих, я упала бы перед ним на колена и отдала бы многое. Но я не слыхала и не слышу его сердца. Пусть своим пером и умением расшевелит хоть сердца других! Мы живем тихо, Таня, я, Маша, Вера, Вася, Ваня, Саша, Митя. Погода удивительная, ясная, тихая. От мальчиков хорошие письма. Я рада уединению, отдыху; сосредоточилась на своей внутренней жизни, читаю, думаю, пишу и молюсь. Вчера еще я была обуреваема страстями, которые разбудил во мне муж; сегодня мне всё ясно, свято, тихо и хорошо. Чистота и ясность – вот идеал. 21 сентября. Получила письма от Левы и Миши. Вчера и сегодня ходила на дальнюю прогулку; вчера с Сашей, сегодня еще с Верой и Лидой. Красота этих дней поразительна. Тепло так, что в летних платьях жарко ходить. Сделала несколько букетов, написала в Москву детям письма и рада жить в этой освежающей тишине и отдохнуть душой и телом. Ничего не хочется делать. Прочла сразу всю книгу Рода «Три сердца». Нехорошо и мрачно, хотя увлекательно. Читать серьезное не могу, слишком расшаталась морально и материально за это время. Вчера написала длинный план повести, которую очень хотелось бы написать, да не сумею. О Левочке и Тане ничего не знаю и скучаю, особенно по Тане. Как странно, Левочка своим первым отказом ехать самому и уговариванием меня ехать в Москву и расстаться с ним на всю зиму – до такой степени надрубил мое чувство привязанности к нему, что мне теперь разлука с ним уже не так страшна, как казалась прежде. Да, надо привыкать. Когда он отживет совсем свою любовную жизнь со мной, он просто, цинично и безжалостно выбросит меня из своей жизни. И это скоро будет. Надо беречь свое сердце от этого удара и любить других, то есть детей своих, больше мужа. Слава Богу, их так много и такие многие из них хорошие. Очень сокрушаюсь эти дни, что мои три сына в Москве, а я так наслаждаюсь погодой, природой и тишиной. Но мы все выросли в городе, и пришло наше время отдыха. 8 октября. Я не выдержала и ездила в Москву за мальчиками. Случилось это так: с сестрой Таней после истории Миши Кузминского всё было не совсем дружелюбно. Она требовала большей жалости и участия к ней, я же была строга к Мише и сердилась, что Миша развращал своими рассказами моих мальчиков. И вот я решилась проводить Таню до Москвы. У нас были все здоровы, и гостили Лиза Оболенская с Машей. 26 сентября мы поехали в отдельном, прицепленном для нас в Туле вагоне; нас провожал Зиновьев, и нам открыли царские комнаты. В Москве я поехала с Васей к тетушке Вере Александровне, и туда приехали с выставки веселые и оживленные мои три сына. Они ждали Таню, и Миша долго вглядывался и не узнавал меня. Наконец закричал: «Мама!» Мы провели все вместе очень хороший вечер; на другой день я побыла с ними и в субботу, 28-го, взяла детей и поехала с ними в Ясную. С нами поехали Лиза и Миша Олсуфьевы. Это меня очень взволновало за Таню, и все дети, особенно девочки, были страшно взволнованы. Лева не поехал, он очень усердно занят своими лекциями и музыкой и не хотел развлекаться. На другой день (воскресенье) приехали еще гости: Зиновьев и Давыдов с дочерьми и Миша Стахович. Собрались те два Михаила, к которым обоим, как мне кажется, примеривалась Таня, думая о замужестве. Но, как я ни наблюдала, ни один не показал ей ничего особенного; только в их отношениях взаимных чувствовалось что-то враждебное, какой-то молчаливый поединок. В понедельник уже все уехали; у Андрюши сделался жар; а в среду я проводила Андрюшу и Мишу от Ясенок до Тулы, где Зиновьев их взял до Москвы на свое попечение. Из Тулы мы ехали опять до Ясенок с Машей и Сережей и обсуждали дела Таниного замужества. Когда уехали опять дети, меня опять взяла тоска. Три ночи они спали около моей спальни, я их слышала, не тревожилась о них, а их отъезд навел на меня уныние. От Левочки ни участия, ни ласкового слова, душевного, настоящего – никогда нет. Все мои сердечные нервы так были измучены последнее время, что у меня сделалась одышка и невралгия в виске. Ночи я вовсе не спала. Не могла ни говорить, ни радоваться, ни заниматься делами – ничего. Я уходила куда-нибудь и плакала часами; плакала при каждом случае, оплакивала вновь отжитый период своей жизни. И если меня спросили бы, где главный стержень моего горя, я сказала бы, что это отсутствие всякой любви со стороны Левочки, который не только теперь меня совершенно игнорирует и только мучает, но который никогда не любил меня. Это видно во всем: в его равнодушии к семье, к детям, к нашим интересам, к их жизни и воспитанию. Сейчас мы говорили о письмах, кто какие написал. Он начал пересчитывать свои – к темным. Я спросила, где Попов, где Золотарев и где Хохлов. Первый – отставной офицер восточного типа, вторые два – молодые из купцов. Все считаются последователями Льва Николаевича. «Попов у матери, она того желала. Хохлов в техническом училище, отец желал. Золотарев на юге, у старовера-отца в каком-то заштатном городе, ему так тяжело!» И о всяком было сказано, что им так тяжело жить при родителях, но так хотят родители. Я спросила: «А где же не тяжело?» Я знаю, что Попов, у которого крайне развратная мать, нашел, что с прекрасной, доброй женой жить тяжело, и разошелся с ней; он жил у Черткова, и Чертков его не выносил, там было тяжело, и он живет с матерью, и опять тяжело. Знаю, что и Левочке со мной тяжело – вообще, странные принципы, с которыми везде и со всеми тяжело. Было много общин этих толстовцев, и было так всем тяжело, что все распались. Так и кончился неприятно наш разговор, и Левочка уехал на Козловку, а я опять почувствовала эту спазму в груди, опять слезы начали меня душить, но я скорей начала себя успокаивать. Нельзя мне ни болеть, ни падать духом. У меня столько дела и обязанностей! Или действовать и жить для семьи бодро, или – если не выдержу – совсем не жить. Сейчас посмотрела дневник, предшествующий этому. Я писала, когда Левочка с Таней ездили в Пирогово и дальше, исследовать голодные местности. В Пирогове Сережа-брат встретил их очень недружелюбно, говорил, что они учить его приехали, что вы, мол, богаче меня, вы помогайте, а я сам нищий и т. п. Тогда Левочка и Таня поехали к Бибиковым, переписали там голодающих; Таня осталась у Бибикова, а Левочка поехал дальше, к какой-то помещице и к Свечину. У Бибикова и у помещицы мысль о столовых для голодающих была принята очень холодно. Ни у кого лишних денег нет, все своим заняты. У Свечина выразили больше сочувствия. На пятый день Левочка и Таня вернулись, а 23-го, в день нашей свадьбы (29 лет), Левочка поехал уже с Машей в Епифанский уезд по железной дороге. Они остановились у Р.А.Писарева и оттуда исследовали голодающие деревни. Туда же приехал Раевский, обсуждали вопросы о столовых для голодающих. Левочка сейчас же решил, что на всю зиму переселится к Раевскому с двумя дочерьми и будет устраивать столовые, и отдал на покупку картофеля и свеклы 100 рублей, которые взял еще у меня дома. Когда они приехали и объявили мне, что в Москву не поедут, а будут жить в степи, я пришла в ужас. Всю зиму врозь, да еще 30 верст от станции, Левочка с его припадками желудочной и кишечной боли, девочкам в этом уединении, а мне с вечным беспокойством о них. Меня это до того поразило! Едва один вопрос кое-как, с болью, разрешился – во имя того, чтоб Левочке не так трудно было жить в Москве, я согласилась на напечатание его заявления о XII и XIII томе сочинений, – и опять новый вопрос, новое решение! Я заболела от этого. С другой стороны, Лева написал, не зная еще о решении ехать к Раевскому, чтоб мы все оставались в Ясной, что мой приезд в Москву помешает им троим учиться, что я совсем не нужна. Это был новый предлог моему горю. 29 лет жила я только для семьи; отреклась от всего, что составляет радость и полноту жизни всякого молодого существа, и стала никому не нужна. Сколько я плакала всё это время! Видно, я очень плоха; но как же я так много любила, а любовь считается хорошим чувством… Вечером сегодня читала с Сашей, играла с ней и Ванечкой, рассказывала им картинки и истории. Днем сажали за Чепыжем 2000 елочек, завтра будут сажать 4000 берез. Еще я взяла Никиту и Митю и сажала в саду кое-что: сосны, ели, лиственницы, березы и зубчатые ольхи. Завтра буду еще сажать. В Москву собираюсь 20-го. Страшно не хочется ехать! Не знаю, что будут делать Левочка и девочки, совсем не знаю. Вопрос о столовых для меня сомнителен. Ходить будут здоровые, сильные, свободные люди. Дети, роженицы, старики, бабы с малыми детьми ходить не могут, а их-то и надо кормить. Когда Левочка не печатал еще своего заявления о праве всех на XII и XIII тома, я хотела дать 2000 на голодающих, предполагая где-нибудь, избрав местность, выдавать на бедные семьи по столько-то в месяц пудов муки, хлеба или картофеля на дом. Теперь я не знаю, что буду делать. По чужой инициативе и с палками в колесах (заявление) действовать нельзя. Если дам денег, то в распоряжение Сережи: он секретарь Красного Креста в их местности. Его прямое дело – служить делу голода, он свободен, честен и молод, и он там на месте. 16 октября. Была в Туле, окончила раздел с Соколовой, женой священника; не знаю, утвердит ли старший нотариус. Еще хлопотала о нашем семейном разделе у нотариуса Белобородова. Всё это крайне скучно и тяжело. Выпал с утра снег, ездила на розвальнях, парой, приехала, было 80 мороза. У границы раскинуты шатры и стоят цыгане: дети, куры, поросята, штук 40 лошадей и толпа людей. Девочки пошли к ним, привести их в кухню флигеля. Вчера ночью Левочка отослал статью «О голоде» в журнал Грота «Вопросы философии и психологии». Сейчас Саша и Ваня вынимали жребий: за Сашу – она сама, ей достался левый участок Бистрома; за Андрюшу и Мишу вынимал Ванечка. Мише достался Тучковский участок, а Андрюше – правый Бистрома и… Ездила я к Сереже и Илье 13-го числа. Первый день провела с Соней, вечером приехал Илья. Тяжелое они на меня произвели впечатление. Любви между ними мало, интересы низменные, хозяйство плохо. Илья имеет подавленный и несчастный вид, его очень жаль. Кто из них виноват, бог знает, но счастья у них мало. Хуже же всего – маленький Николай. Он прямо заброшен и заморен матерью: она дурная мать и не любящая – это бросается в глаза. Анночка удивительно мила. А Николай маленький умрет или будет урод, и это мне как камень на сердце. Сережа весел, спокоен и хорош во всех отношениях. Я у него всё осмотрела, так хотелось внести что-нибудь в его жизнь, чтоб ему было еще лучше. Он занят службой земского начальника и теперь секретарем Красного Креста. У него чисто, уютно; привычки порядочного человека, хотя всё бедно и скромно. Дай бог ему силы подольше жить хорошо. Лева вдруг загорелся ехать в Самару по случаю голода. Его беспокойство меня смущает; опять метаться, бросать университет и с пустыми руками лететь на неизвестность – как деятельность. Мне дирекция петербургских театров отказала в выдаче поспектакльной платы за «Плоды просвещения». Я очень злилась и на дирекцию, и на Льва Николаевича, лишившего меня радости отдать эти деньги на голодающих. Вчера написала министру двора Воронцову, прося его о выдаче этой платы, не знаю, что из этого выйдет. Укладываемся, собираемся в Москву, скучно, нездоровится, во всем на свете и в семье чувствуется разлад. Народный голод лежит тяжелым гнетом на всем и на всех. 19 октября. Полная апатия. Не еду, не укладываюсь, весь день рисовала Ване книжку. Тут Петя Раевский, Попов (темный) и еще какой-то прохожий интеллигентный человек, идет от Сютаева; мрачный, недовольный, разочарованный и больной. Левочка странно эгоистично весел. Весел жизненно, телесно, а не духовно. 12 ноября. С 22 октября я в Москве с Андрюшей, Мишей, Сашей и Ваней. 26-го Левочка-муж уехал с дочерьми в Данковский уезд, к Иван Иванычу Раевскому в имение Бегичевка, а 25-го Лева-сын уехал в Самарскую губернию в село Патровку. У всех было одно на уме и на душе: помогать народному голоду. Долго мне не хотелось пускать их, долго мне страшно и тяжело было расставаться со всеми, но в душе я сама чувствовала, что это надо, и согласилась. Потом я им даже послала 500 рублей, прежде дав 250. Лева пока взял только 300, и в Красный Крест я дала 100 рублей. Всё это так мало в сравнении с тем, сколько нужно! Приехав в Москву, я страшно затосковала. Нет слов выразить то страшное душевное состояние, которое я пережила. Здоровье расстроилось, я чувствовала себя близкой к самоубийству. Тут еще случалась смерть Дьякова. В нем мы потеряли лучшего и старейшего друга Льва Николаевича. Я была почти уже при его агонии и при похоронах. Потом у меня заболели инфлюэнцей все четверо детей. Одну ночь я лежала и не спала и вдруг решила, что надо печатать воззвание к общественной благотворительности. Я вскочила утром, написала письмо в редакцию «Русских Ведомостей» и сейчас же свезла его. На другой день, в воскресенье, оно было напечатано. И вдруг мне стало веселее, легче, я почувствовала себя здоровой, и со всех сторон посыпались пожертвования. Как сочувственно, как трогательно отозвалась публика к моему письму! Некоторые плачут, когда приносят деньги. С 3-го по 12-е число мне прибыло 9000 рублей денег. 1273 рубля я отослала Левочке, 3000 рублей вчера дала Писареву на закупку ржи и кукурузы; теперь жду от Сережи и Левы письма, что они скажут делать с деньгами. Всё утро я принимаю пожертвования, вписываю в книги, говорю с публикой, и это меня развлекает. Иногда вдруг руки опустятся и так хочется видеть и Левочку, и Таню, и даже Машу, хотя знаю, что Маше самой всегда веселей и радостней вне дома. Странно, когда мы вместе с Левочкой, его неласковость, отсутствие интереса к семье, всё это такой холодной водой меня обдает, что думаешь: «Чего же я хотела? Зачем он тут?» А когда врозь – только и мысли о нем. Это оттого, что я любила в нем лучшее и большее, чем он в состоянии был дать. Сегодня опять не спала от статей «Московских Ведомостей». Статью Левочки «Страшный вопрос», напечатанную в «Русских Ведомостях» на этих днях, перетолковали по-своему. Объясняют ее с точки зрения «воспрянувшей вновь либеральной партии с политическими замыслами», чуть ли не обвиняют в революционных намерениях. Этот намек на возможность только мысли о каком-либо движении, кроме движения на помощь народу, есть уже само по себе революционное движение самих «Московских Ведомостей». Они намекают слабоумным революционерам, что те могут считать себя солидарными с Толстым и Соловьевым, и это, по-моему, есть та искра, которая бросается в их кружок и которая поможет им подняться духом. Что за подлая, ужасная газета! И как всё, что есть живого, враждебно к ней относится! Я уж думала писать министру, государю о том вреде, который она приносит, думала поехать в редакцию и пригрозить им; но, не посоветовавшись ни с кем, не решаюсь ничего делать. Андрюша и Миша учатся в Поливановской гимназии, и Миша идет плохо, а Андрюша средне. Мне их всегда жалко, хочется повеселить, рассеять, вообще у меня всегда стремление к баловству, и это дурно. Сегодня сели мы с детьми обедать; так эгоистична, жирна, сон-на наша буржуазная городская жизнь без столкновения с народом, без помощи и участия к кому бы то ни было! И я даже есть не могла, тактоскливо стало и за тех, кто сейчас умирает с голоду, и за себя с детьми, умирающими нравственно в этой обстановке, без всякой живой деятельности. А как быть? От министра двора ответ получила. Ввиду моей благотворительной цели, он обещает проценты со спектакльного сбора «Плодов просвещения», и я уже писала об этом директору Всеволожскому.
1892
16 февраля. Еще прошло три месяца, и необыкновенно скоро они прошли. Я опять одна, в Москве с Андрюшей, Мишей, Сашей и Ванечкой. Левочка с Таней и Машей приезжали два раза: первый раз – с 30 ноября по 9 декабря, второй раз – с 30 декабря по 23 января. Бывало много гостей, мы все рады были быть вместе, но еще тяжелее было разлучаться. Тогда я решилась сама ехать с Левочкой и Машей в Бегичевку, а Таню оставила в Москве с детьми. В день нашего отъезда принесли нам статью «Московских Ведомостей» в № 22, в которой перефразировали статью Левочки «О голоде», написанную для журнала «Вопросы философии и психологии», и, сопоставив ее с прокламацией, объявили Льва Николаевича революционером. Мы с Левочкой написали опровержение, которое он меня заставил подписать, и уехали. Приехав в Тулу, мы застали Елену Павловну Раевскую, у которой остановились, больную, со страшной болью в ноге и лихорадкой. Она, бедная, никак не может поправиться со смерти мужа. Иван Иванович скончался 20 ноября от инфлюэнцы в своем имении Бегичевке, во время пребывания наших там. Из Тулы 24-го мы поехали по скучной Сызрано-Вяземской дороге на Клекотки. В вагоне у меня сделалось удушье и нервный припадок. Левочка всё выходил, был суетлив, беспечен и молчалив. Погода была отвратительная: таяло, шел дождь, серое небо тяжело свисло, ветер дул страшный. Мы поехали в двух санях: Маша, повар Раевских, старичок Федот, и Марья Кирилловна; а в других, маленьких – мы вдвоем с Левочкой. Было тесно, темно и жутко. Машу всю дорогу тошнило, а меня тревожило, что Левочка простудится от такого ветра. Наконец доехали к ночи. Встретили нас в Бегичевке, в доме: Илья, Гастев, Персидская, Наташа Философова и Величкина. Илья был в странном, боязливом духе, всё боялся привидения Раевского. На другое утро он уехал, и мы остались с нашими помощницами. Жили мы с Левочкой в одной комнате. Я взяла все письменные работы и уяснила что могла в их делах. Потом я пошла смотреть столовые. Вошла в избу: в избе человек десять, при мне стали собираться еще до 48 человек. Все в лохмотьях, с худыми лицами, грустные. Войдут, перекрестятся, сядут. Два стола сдвинуты, длинные лавки. Чинно усаживаются. В решете нарезано множество кусков ржаного хлеба. Хозяйка обносит всех, все берут по куску. Потом она ставит большую чашку щей на стол. Щи без мяса, слегка приправлены постным маслом. К одной стороне сидели все мальчики. Эти были веселы, смеялись и радостно приступили к еде. После щей давали похлебку картофельную или же горох, пшенную кашу, овсяный кисель, свекольник. Обыкновенно по два блюда на обед и два на ужин. Мы обошли и объехали несколько столовых. Сначала я была в недоумении, как относится народ. Но во второй столовой какая-то девушка, серо-бледная, взглянула на меня такими грустными глазами, что я чуть не разрыдалась. И ей, и старику, сидящему тут же, и многим, я думаю, нелегко ходить получать это подаяние. Не дай Бог взять, а дай Бог дать — это справедливая русская пословица. Потом я равнодушнее смотрела на эти столовые, без которых было бы хуже. Самое трудное в деле, которое все наши взяли на себя, – это выбор беднейших. Это трудно и в выборе кому ходить в столовые, и в раздаче дров, и в одежде, которую тоже жертвовали, и во всем. Когда я сделала списки, последние дни было 86 столовых. Теперь открыли до ста. Раз мы с Левочкой ездили вдвоем в чудный ясный день по деревням. Справлялись на мельнице о помоле; заезжали в другой склад провизии велеть выдавать пшена (из Орловки) и вообще узнать о выдаче; и наконец открыли столовую в Куликовке, где погорелые. Вошли к старосте, спросили о беднейших. Велели ему позвать на совет еще старцев и мужиков. Собрались мужики, сели на лавки. Стали их спрашивать, какие семьи беднейшие, и назначали по стольку-то человек из семьи ходить в столовую. Когда я всех переписала, Левочка велел приезжать за провизией во вторник и бабе, жене старосты, предложил иметь столовую у себя так, как прочие погорелые. Возвращались мы сумерками: с одной стороны красно село солнце, с другой – поднялась луна. Ехали мы по Дону и степями. Местность плоская, скучная. Только по берегам Дона красиво расположены старые и новые усадьбы. По утрам я кроила с портным поддевки из пожертвованного сукна, и мне их сшили 23 штуки; большую радость доставляли мальчикам эти поддевки и полушубки. Теплое и новое; это то, чего некоторые от рожденья не имели. Прожила я в Бегичевке 10 дней. Были метели, раз помощницы наши разъехались и дома не ночевали; мы очень беспокоились. Обе эти барышни хорошие: одна, казачка Персидская, румяная, энергичная, лечила народ, и все ее звали «княгиней». Другая, болезненная, худенькая, дочь священника, старательная и сентиментальная; но дело делала, и делала хорошо. Их рассылали проведать или открыть столовые, раздавать платья, записывать нуждающихся в топливе, пище или одежде. Когда я вернулась в Москву, то постепенно слышала всё большие и большие толки о том, что Левочка будто бы написал письма в Англию о русском голоде; что все негодуют. Наконец я стала получать письма из Петербурга о том, что надо мне спешить предпринять что-нибудь для нашего спасенья, что нас хотят сослать и т. д. Я долго ничего не предпринимала. Целую почти неделю я ездила к зубному врачу всё зубы чинить, но мало-помалу меня разобрало беспокойство. Я написала письма: министру внутренних дел Дурново, Шереметевой, товарищу министра Плеве, Александре Андреевне и Кузминским. Во всех письмах я объясняла истину и опровергала ложь «Московских Ведомостей». Опровержения в газеты печатать запретили, хотя и послала свое в «Правительственный Вестник». Тогда я поехала к великому князю Сергею Александровичу, которого просила велеть напечатать мое опровержение. Он говорил, что не может, а пусть сам Лев Николаевич напишет в «Правительственный Вестник», и это вполне успокоит взволновавшиеся умы и удовлетворит государя. Тогда я написала Левочке, умоляя его это сделать. Сегодня я получила это письмо и уже послала его в «Правительственный Вестник» сегодня же. Очень жду нетерпеливо известия – напечатают ли его. Левочка, Таня, Маша и Вера Кузминская опять в Бегичевке. Приехал и Лева из Самары. Жду его с нетерпением и не знаю, что он намерен делать дальше. Сама я притерпелась к своему положению и живу интересами своих четырех детей; начала писать повесть, собираю пожертвования, переписку веду огромную, плачу за купленный хлеб через банки, делаю всякие денежные операции. Кроме того, своих дел много. Порою грустно, а то и хорошие минуты бывают. Завтра начало поста, хочу поститься.1893
2 августа. Сейчас узнала от Черткова, что большая часть рукописей Льва Николаевича находится частью у него, а частью у полковника Трепова в Петербурге, о чем пусть знают наши дети. Впоследствии Чертков отбирал все рукописи Льва Николаевича и увозил их к себе в Англию, в Christchurch[89]. 5 ноября. Москва. Я верю в добрых и злых духов. Злые духи овладели человеком, которого я люблю, но он не замечает этого. Влияние же его пагубно. И вот сын его гибнет, и дочери гибнут, и гибнут все, прикасающиеся к нему. А я день и ночь молюсь о детях, и это духовное усилие тяжело, и я худею, и я погибну физически, но духовно я спасена, потому что общение мое с Богом, связь эта не может оборваться, пока я не под влиянием тех, кого обуяла злая сила, кто слеп, холоден, кто забывает и не видит возложенных на него Богом обязанностей, кто горд и самонадеян. Я еще не молюсь о меньших, их еще нельзя погубить. Тут в Москве Лева стал веселей и стал поправляться. Он вне всякого влияния, кроме моей молитвы. Бог внушил послать с ним хорошего человека. Только бы не ослабла во мне энергия молитвы, а то всё пропало. Господи, помилуй нас и избавь от всякого влияния, кроме Твоего.1894
2 марта. Таня уехала в Париж, с Левой пожить. Ему стало хуже. Ужас давно уже в моем сердце, что он не жилец на земле. Слишком исключителен, хорош и неуравновешен. Живу со дня на день – без жизни. Беспокойство о Леве, отчасти теперь и о Тане – исключило всякие другие жизненные интересы. Сейчас же подломило и здоровье. Сегодня кровь шла горлом – и много; лихорадка по ночам, грудь болит, пот. Лев Николаевич тоже приуныл, но жизнь его идет по-прежнему: встанет рано, уберет комнату, поест овсянку на воде, пойдет заниматься. Сегодня застала его делающим пасьянс. Завтракал он очень обильно, Дунаев громко рассказывал какие-то истории и не замечал, что они никому не интересны. Потом Лев Николаевич пошел спать, а теперь с удивительной жизнерадостностью, взглянув в окно на яркое солнце и взяв с окна фиников, отправился с Дунаевым на грибной рынок, чтоб бросить coup-d’oeil[90] на этот торгующий грибами, медом, клюквой и проч. народ. Маша нервна, худа и жалка. Сережа очень приятен, и мне грустно, что он скоро уедет в Никольское. 4 августа. Захарьин нашел, что Лева плох. Мое сердце давно это знает. Но как пережить горе видеть погибающим этого молодого, любимого и такого хорошего сына! Сердце так надорвано, так постоянно ноюще болит, с таким усилием живешь обыденной жизнью, что чувствуешь, как вот-вот сил не хватит. А жить надо: надо для маленького Ванечки, для Миши, Саши, даже для Андрюши, у которого многое уже погибло, но светится огонек любви и нежности ко мне. А всё стало тяжело. Давно гнетущая меня отчужденность мужа, бросившего на мои плечи всё, всё без исключения: детей, хозяйство, отношения к народу и делам, дом, книги, и за всё презирающего меня с эгоистическим и критическим равнодушием. А его жизнь? Он гуляет, ездит верхом, немного пишет, живет где и как хочет и ровно ничего для семьи не делает, пользуясь всем: услугами дочерей, комфортом жизни, лестью людей и моей покорностью и трудом. И слава, ненасытная слава, для которой он сделал всё, что мог, и продолжает делать. Только люди без сердца способны на такую жизнь. Бедный Лева, как он мучился недобрым отношением отца к себе всё это последнее время. Вид больного сына мешал спокойно жить и сибаритствовать – вот это и сердило отца. Не могу вспомнить без боли эти черные, болезненные глаза Левы, с каким упреком и горем он смотрел на отца, когда тот упрекал ему его болезнь и не верил страданиям. Он никогда их не испытал сам, а когда болел, то бывал нетерпелив и капризен. Таня тоже в Москве с Левой, и ее жаль и без нее грустно – уж никакого друга не осталось дома, хотя приверженцы Льва Николаевича и он сам и на ее веселую натуру – здравую и жизненную – наложили тяжелый гнет и отчуждили от меня. Сегодня уехал от нас Страхов. Дома жара, купанье с Сашей, сходка мужиков, беганье по неубранным полям в жару до одышки, чудная лунная ночь, теплая и красивая до страданья. Лев Николаевич уехал в Потемкино узнать о погорелых и помочь им благотворительными деньгами. Андрюша уехал в Овсянниково к Шмидт. Миша сидит со мной, Маша с Марьей Кирилловной – на Козловку. 23 ноября. Живем всей семьей в Москве. Центр всей моей жизни и всех моих интересов – больной Лева. Привыкнуть к такому несчастью нельзя. Каждую минуту жизни помнишь его жалкое болезненное состояние, и страх за него болезненно мучает постоянно. Видаю мало людей, мало выезжаю из дому. Поступила новая англичанка, miss Spiers. Левочка, Таня и Маша уехали к Пастернаку слушать музыку. Играет его жена с Гржимали и Брандуковым. Андрюша после многих неприятностей, причиненных мне последнее время, смирился. Здоровье его плохо: было четырнадцать нарывов, желудок часто расстроен. Миша ясен и весел, но учится плохо. Снегу нет, и санного пути еще не было. Ветер и 2 ° мороза. Печатаю XIII том, читаю «Marcella» [миссис Хамфри Уорд]. С Левочкой жили долго очень дружно, но последние дни было немного неприятно. Меня сердило его равнодушие к поступкам Андрюши и то, что он мне не помог с ним. Я виновата, главное, тем, что после 32 лет еще надеюсь, что Левочка может что-нибудь сделать для меня и для семьи. Надо радоваться и довольствоваться тем хорошим, что в нем было.1895
1 и 2 января. Надо писать дневник, слишком жалко, что мало его писала в жизни. Вчера Левочка уехал с Таней к Олсуфьевым в Никольское. Когда я остаюсь без мужа, то чувствую себя вдруг свободной духом и одной перед Богом. Мне легче разобраться с самой собой и с той путаницей, в которой я живу. События: Лева начал лечение электричеством, стал спокойнее, уехал к Шидловским. Маша лежит, Саша и Ваня в гриппе, скучают, бегают с девочкой Верой и Колей (артельщика). Андрюша в деревне у Ильи, Миша со скрипкой ушел к Мартыновым. Была метель, 7° мороза. Сегодня ночью в 4 часа разбудил меня звонок. Я испугалась, жду – опять звонок. Лакей отворил, оказался Хохлов, один из последователей Левочки, сошедший с ума. Он преследует Таню, предлагает на ней жениться! Бедной Тане теперь нельзя на улицу выйти. Этот ободранный, во вшах, темный везде за ней гоняется. Это люди, которых ввел теперь Лев Николаевич в свою интимную семейную жизнь, и мне приходится их выгонять. И странно! Люди, почему-либо болезненно сбившиеся с пути обыденной жизни, люди слабые, глупые – те и бросаются на учение Льва Николаевича и уже погибают так или иначе – безвозвратно. Боюсь, что когда начинаю писать дневник, я впадаю в осуждение Льва Николаевича. Но не могу не жаловаться, что всё то, что проповедуется для счастья людей, – всё так осложняет жизнь, что мне всё тяжелее и тяжелее жить. Вегетарианство внесло осложнение двойного обеда, лишних расходов и лишнего труда людям. Проповеди любви, добра внесли равнодушие к семье и вторжение всякого сброда в нашу семейную жизнь. Отречение (словесное) от благ земных вносит осуждение и критику. Когда очень уж обострятся все эти осложнения, тогда я горячусь, говорю резкие слова, делаюсь от этого несчастна и раскаиваюсь, но слишком поздно. Была Елена Павловна Раевская; приходила посидеть со мной вечер, просила мою повесть. Я пересмотрела ее и вижу, как люблю ее[91]. Это дурно, но это так приятно! К Маше чувствую нежность. Она нежная, легкая и симпатичная. Как мне хотелось бы ей помочь с Петей Раевским! Таню стала любить меньше прежнего; чувствую на ней грязь любви темных: Попова и Хохлова. Мне жаль ее, она потухла и постарела. Мне жаль ее молодости, красивой, веселой и обещающей. Жаль, что она не замужем. Вообще, как мало дала мне моя многочисленная, красивая семья. То есть как мало они все счастливы. А это матери самое больное. Написала три письма: деловое в Прагу, ответ баронессе Менгден и С.А.Философовой. Ложусь в 3 часа ночи. Читала утром Саше и Ване вслух «80 тысяч верст под водою» Верна. Говорю им: «Это трудно, вы не понимаете». А Ваня мне говорит: «Ничего, мама, читай, ты увидишь, как мы от этого и от “Детей капитана Гранта” поумнеем». Лева приехал от Шидловских унылый и очень жаловался. 3 января. Встала поздно. Пошла к Маше, Леве, побранила Мишу, что не играет на скрипке и не встает до 12 часов. Потом Лева уехал в клинику лечиться электричеством, оттуда к Колокольцевым. Я дурно досадовала, что он долго не посылал мне лошадь. Поехала с визитами к Мартыновой, Сухотиной, Зайковской и Юнге. Зайковские подняли воспоминания молодости. Но какое грустное, некрасивое впечатление стародевичьей жизни! Неужели мои дочери не выйдут замуж? Вечером пришли дети играть, а я читала Леве вслух повесть Фонвизина «Сплетня». Пока не очень хорошо, не тонко, грубо. Послала свою повесть прочесть Раевской. Хочется еще писать, но нет спокойствия, и нервы расстроены, и жаль всегда отнимать свое время у детей, которые так любят быть со мной. Снег засыпал все улицы, дворы, весь наш сад и балкон; 4° мороза. 5 января. Вчера не писала, читала вечером вслух Леве Фонвизина повесть, заинтересовало, но грубо. До третьего часа ночи возилась со счетами, и всё у меня запутано. Не умею. Сидела днем много с Ваней, читала ему, ходила с ним гулять к Толстым[92]. Сегодня он с утра заболел. Я страшно пугаюсь теперь всего, а особенно нездоровья Ванечки; я прицепила так тесно свое существование к его, что это опасно и дурно. А он слабый, деликатный мальчик, и какой хороший! Ездила вчера к Варе Нагорновой и Маше Колокольцевой. Везде мне уныло. У меня такая натура, которая требует или деятельности, или впечатлений, иначе я угасаю. А теперь мне приходится всё с больными детьми быть, а это уж хуже всего. Без Левочки и Тани не скучаю. Приехал Илья и Андрюша. Дождь и 1 ° тепла. Саша все-таки уехала на каток с Мишей и miss Spiers. 8 января. Эти дни болел Ванечка, у него лихорадка и что-то желудочное. Он вдруг так побледнел и похудел, что не могу его видеть без боли сердечной. Вчера Андрюша, Миша и Саша были на детском вечере у Глебовых, а Ваня в жару весь вечер протомился у меня на коленах. Мне очень было грустно лишить его радости. Он хворал раньше гриппом и третью неделю не видит воздуха. Борьба со старшими мальчиками, чтоб приучить их к исполнению обязанностей, делается мне непосильна, и та боль, которую они мне причиняют постоянно этой борьбой, совершенно отталкивает меня сердцем от них. Всё это больно и больно, как больно видеть глупое и пошлое разорение Ильи, и безнравственную жизнь Сережи, и болезнь Левы, и безбрачие дочерей, и этот едва мерцающий огонек жизни в бедном миленьком Ванечке. С утра дела: уплата прачке и другим, распоряжения артельщику, люди отпросились на свадьбу, принесли бумагу из полиции о деле яснополянской кражи, жалованья, просроченные паспорты и проч., и проч. Потом сидели втроем: Лева, Ванечка и я смотрели картинки в исторических книгах, я рассказывала о египтянах всё, что могла почерпнуть из дальних знаний, читала сказки Гримм. Приехала Веселитская, пошла сидеть с Левой. Я мерила Ване температуру – 37 и 8. Обедали Нагорновы, Илья, Веселитская. После обеда – Маня Рачинская, умненькая и симпатичная. Дала Илье 500 рублей. Ему не поможешь ничем; чувства меры в моих детях нет, они все неуравновешенны и не понимают чувства долга. Это черта их отца, но он над ней работал всю жизнь, дети же с молодости распускаются – слабость современной молодежи. Вечером часа два поправляла плохое изложение «Капитанской дочки» Миши. Сейчас к ужасу своему увидала, что он не переписал и половины, а конца совсем нет. Будет опять плохой балл, и опять пойдет на полугодие. Позднее пришли дети Стороженко и он сам; потом пришел Митя Олсуфьев. Я много с ним болтала, он хорошо всё понимает, но от болтовни всегда остаются угрызения совести. Событие с фотографией всё еще не улеглось. Приходил Поша[93] и обвинял меня, а я – их всех. Обманом от нас, тихонько, уговорили Льва Николаевича сняться группой со всеми темными; девочки вознегодовали, все знакомые ужасались, Лева огорчился, я пришла в злое отчаяние. Снимаются группами гимназии, пикники, учреждения и проч. Стало быть, толстовцы – это учреждение. Публика подхватила бы это, и все старались бы купить Толстого с его учениками. Многие бы насмеялись. Но я не допустила, чтоб Льва Николаевича стащили с пьедестала в грязь. На другое же утро я поехала в фотографию, взяла все негативы к себе, и ни одного снимка еще не было сделано. Деликатный и умный немец-фотограф Мей тоже мне сочувствовал и охотно отдал мне негативы. Как отнесся к моему поступку Лев Николаевич – я не знаю. Он был очень ласков со мной, но принципиально будет меня осуждать в своем дневнике, в котором теперь он никогда не бывает ни искренен, ни добр. Маша сегодня не так приятна, как была те дни. Она всегда нехороша, когда должна быть чем-то при других. А сегодня надо быть при Веселитской тем, чем она ей кажется. Англичанка нехороша. Сухая, несимпатичная, от детей запирается и занята только изучением русского языка и своими развлечениями. Читаю плохой английский роман, который брошу. Хочу читать историю, чтоб рассказывать по картинкам детям. Ложусь поздно. 9 января. Миша Олсуфьев привез письмо от Льва Николаевича. Он мне пишет упрек, что я не радостна, а сам усложнил и испортил нашу жизнь. Но письмо доброе, и мне приятно, хотя насколько меньше я люблю его, чем прежде! Мне без него не только не скучно, но легче. Сколько раз бесплодно скучала я и горевала его отсутствием, просила побыть со мной, подождать или моего выздоровления, или еще чего. И сколько раз беспощадно били меня по моей привязанности. Если я не радостна, то только потому, что устала любить, устала всё улаживать, всем угождать, за всех страдать. Теперь меня трогают только двое, и оба болезненно: Лева своим состоянием и Ванечка. Я по нескольку раз в день ощупываю его ножки и ручки, как они худы, целую в бледную дряблую щечку и всё мучаюсь, и мне больно. За обедом он мало ест, и я не ем. Совсем на него исстрадалась. Уехал Илья; с Веселитской спокойно-хорошо и тонко-умно разговаривали. Она мне рассказала всю историю своего развода с мужем. Досадно, что Олсуфьев не женится на Тане, хотя разлука с ней была бы горем. Приходил Дунаев, была Маша Зубова утром; уехала Маня Рачинская. Провела день очень праздно и с гостями; устала, нервна и безжизненна. Погода хорошая, 3° мороза. 10 января. Если б меня спросили, что я теперь чувствую, я бы сказала, что перестала жить. Меня ничего не радует, а всё только огорчает и огорчает. День прошел вяло: сидела с Лидией Ивановной (она сегодня уехала), читала Ване сказки Гримм, ходила в аптеку и на рынок Ване и Леве за зернистой икрой. Андрюша и Миша очень благонравны; Саша играла на своем органчике вальс, Миша ей аккомпанировал на скрипке, и всегда он поражает своим слухом и прекрасной манерой играть. Лева ездил к Шидловским; он спокойнее, но плох и худ по-старому. Слушая игру, Ванечка говорит: «Как я бы желал выучиться делать что-нибудь очень-очень хорошо! Учи меня, мама, скорей музыке». Вечером была в бане, брала ванну. Пили чай с Машей вдвоем, говорили об Олсуфьевых и Тане. Дождь льет, 3° тепла и грязь. Ночью била негативы с фотографий группы темных и своей бриллиантовой серьгой старалась из них прежде вырезать лицо Льва Николаевича, что плохо удавалось. Легла в 3 часа ночи. 11 января. С утра Ваня кашлял хриплым кашлем, сидела всё с ним, читала ему сказки Гримм; потом попробовала срисовать наш сад – без ученья ничего нельзя. Потом пошла, для здоровья больше, разметать снег на катке. В окно увидала, что Ваня вскочил и бегает неодетый. Вернувшись, рассердилась дурно на няню, она неистово кричала, а Ваня заплакал. Обедали все дома. Миша именинник, я дала ему 10 рублей, и вечером они взяли деревенского кучера Ильи Абрамку в цирк и восхищались его наивной радости. Он прислан за купленной Ильей лошадью. Вечером пошла посидеть к Леве, нечаянно упомянула о его нервах, повторив слова доктора Белоголового, что всё дело в нервах. Лева неожиданно вскочил, начал страшно браниться: дура, злая, старая, вы все врете!.. Каково переживать такие вещи! Всё меньше и меньше делается его жалко, так он беспощаден и зол, хотя всё это от болезни, за болезнь все-таки его жаль. Зато Андрюша, вернувшись из цирка, всё мне говорил, что они мало меня ценят, что я удивительно хорошая, что он меня любит больше всех на свете. До трех часов ночи разбирала письма Льва Николаевича к сестре Тане и мои к ней, а потом перечитывала его письма к Валерии Арсеньевой, на которой когда-то он хотел жениться. Письма очень хорошие, но он никогда не любил ее. Мороз 5°, ясно и красиво. 12 января. Встала раньше, дала Ване апоморфин от кашля, который усилился. Открыла форточку, 10° мороза, вымылась холодной водой, но всё не оживилась. Так что-то нерадостно. Сидела с Ваней, читала ему, принимала гостей. Были Чичерин, Лопатин, с которым говорили хорошо о смерти; между прочим, он говорил, что жизнь не была бы так интересна, если б не было этой вечной загадки впереди – смерти. Потом приехали Петровская и Цурикова. Цурикова осталась и обедать, и ночевать. Тип старинной барышни дворянской с гаданием в карты, огромным кругом знакомства и влюблением до 40 лет. Вечером у Ванечки оказался опять жар, и я опять страшно встревожилась. Что-то во мне надломилось и болит внутри, и я собой совсем не владею. Взяла на себя, съездила на панихиду Лопухиной, заехала за Мишей к Глебовым и посидела еще часок у Толстых. Пришла оттуда пешком и немного боялась. Лева опять кроток, Маша очень мила и старается помочь, и мальчики ласковы. Чичерин сегодня говорил о Левочке, что в нем два человека: гениальный литератор и плохой резонер, поражающий людей парадоксальными эффектами самых противоречивых мыслей. И он привел несколько примеров. Чичерин любит Льва Николаевича, но по старой памяти; он видит в нем того Льва Николаевича, которого он знал молодым и от которого хранит множество писем. 13 января. Разбирала письма голодных времен от жертвователей; рвала те, в которых только цифры и официальные фразы, откладывала те, в которых выражение мыслей или чувств. Ваня помогал очень мило. Бедный крошка, всякий день жар, и очень он опять побледнел и похудел. 14 января. Сидела с Ваней, читала ему. Вечером Бугаева, Зайковская, Литвинова. Глупо болтали. У Вани утром 37 и 8, вечером 38 и 5. Кашель мягче, насморк гуще. Остановка жизни и души, и тела. Жду пробуждения. 15 января. Пробуждение не наступило, тоска усилилась; оттого ли, что утомляюсь, целые дни глядя на больного Ванечку и Леву, и это влияет на нервы и настроение. Весь день напряженно и усиленно занимала Ванечку. Вечером был доктор, Филатов, не нашел ничего осложненного ни в легких, ни в горле, и селезенка не увеличена. Грипп – и больше ничего. Прокатилась за Сашей к Глебовым, где был первый танцкласс; приехал вечером брат с женой, жалкой и худой. Позднее гадала Маше на картах. Гадала на Мишу Олсуфьева, и ему вышла смерть. Меня расстроило гаданье, и стало страшно за Таню и Льва Николаевича. Хоть бы скорей вернулись. Как я любила бы Льва Николаевича, если б он был хоть немного добрей ко мне и внимательнее к детям, мальчикам. Лева капризен немного, но сегодня он как будто в первый раз мне показался свежей. Маша жалка и приятна желанием помочь. 16 и 17 января. Ваня всё тот же. Жар начинается с полудня и продолжается до ночи. Кашель лучше, насморк всё тот же. У Саши тоже насморк. Вчера и сегодня был Стахович; и он не развеселил меня. Вчера вечером еще приехала Маша Колокольцева, и ее душевное участие и настоящие дружеские отношения очень приятны. Сегодня вечером пришли Елена Павловна Раевская и Дунаев. Я очень утомлена и Ваниной болезнью, и своим положением. Чувствую себя слабой, одышка от всякого движения. Андрюша жаловался на боли в животе; Миша спит у Левы, Маша очень кротка, мила и полезна. Метель, ветер гудит, 6° мороза. Завтра обещают вернуться Лев Николаевич и Таня от Олсуфьевых. Читаю «Les Rois» [Альфонса Доде], пока интересно. Шила, сидела с Ваней весь день. Живу праздно и грустно. 18 января. Всегда помню, что это день смерти моего Алеши; он умер 9 лет тому назад. Встала в 6 часов утра, дала 4 грамма хинину Ване. Потом встала в 8½ часов, померила ему температуру – 36 и 7. Легла и заснула. Встала поздно, висок болит. Ездила за покупками полотна, чулок, катушек и проч., всё необходимое; привезла детям пьес еще для аристона[94]. После обеда играла с Мишей, со скрипкой, сонату Моцарта, потом Шуберта; жалела, что плохо разбираю; он увлекался, и жаль было его отрывать для уроков с репетитором. У Андрюши живот болит, но он ленив и неприятен своей слабостью. Приехали Лев Николаевич и Таня от Олсуфьевых. Не радостна была наша встреча после 18 дней разлуки, не так, как бывало. У Тани злобный тон осуждения, у Левочки полное равнодушие. Они там жили весело, беззаботно: ездили по гостям, Лев Николаевич даже в винт играл и в четыре руки играл. Там нет критических взоров его последователей и можно жить просто и отдыхать от этой ходульной фальши, которую он сам себе создал среди своих темных. Был у меня утром разговор с miss Spiers о ее бесполезности. Она очень неприятна и не любит детей. Придется и с ней расстаться. Совсем нет теперь хороших гувернанток. Всё грустно. 19 января. Встала раньше, занималась Ваней; он рисовал с натуры по-своему корзиночки, а я пробовала акварелью срисовывать свой сад, выходило ужасно. Ничему я хорошенько не выучилась! Жаль. Читала «Les Rois», очень плохо. Обедали приятно, всей семьей. Я не умею жить одна, я привыкла жить при Левочке и при семье, и когда я одна с маленькими, мне скучно. После обеда занималась самарскими счетами и делами. У Левочки Гольцев, читает тверской адрес и поданную новому государю петицию[95]. Еще там Дунаев. Ваня всё не хорош, его ломает лихорадка ежедневно около 3½ часов дня. Ясно, 6° мороза, лунная ночь, как хорошо! А я всё грущу и сплю душой. 20 января. Ване очень плохо, сильнейший жар; была вечером у доктора Филатова; велел хинин давать усиленно. Левочка недоволен, что я советуюсь; сам же, видно, не знает, как быть. Он бодр, возил из колодца воду, писал; вечером читал, теперь ушел к Сергею Николаевичу. 17° морозу, иней, туман, ясный день и светлая ночь. На душе ужасно тяжело, что-то невыносимое! 26 января. Все дни проболел Ванечка лихорадкой. Измучилась и телом, и душой, глядя на него. Сегодня получше, но ему дали хинину 8 грамм в два приема. В первый раз я выехала, купила ноты, игрушки, сыр, свежие яйца и проч. Сидела с Ваней мало, после обеда играла с Львом Николаевичем в четыре руки, выбирала для Саши и Нади Мартыновой пьесу на предполагаемый музыкальный детский вечер. Потом все ушли, Лева говорил о доме, который хочет строить на дворе, неприятно требовал для этого денег у меня. Я отказала, но он скоро переменил тон на дружелюбный. Потом мы с Машей поправляли и переписывали корректуры рассказа Левочки «Хозяин и работник». Я досадую, что он отдал в «Северный Вестник». Ничего не поймешь в его мыслях. Напечатал бы даром в «Посреднике», и всякий за 20 копеек купил бы и прочел повесть Толстого, это я понимаю. А ведь здесь публику заставляют платить 13 рублей, чтоб прочесть повесть эту. Вот почему я не разделяю идей моего мужа, потому что он не искренен и не правдив. Всё выдумано, сделано, натянуто, а подкладка нехорошая, главное, везде тщеславие, жажда славы ненасытная, непреодолимое желание еще и еще приобрести популярность. Никто мне не поверит, и мне больно это сознавать, но я страдаю от этого, а другие не видят – да и всё им равно! Теперь второй час ночи. Левочка ушел на какое-то заседание, собранное князем Дмитрием Шаховским, не знаю по поводу чего. Все лампы горят, лакей ждет, я овсянку ему сейчас варила и вклеивала корректурные листы, а у них там разговоры. А завтра в восьмом часу я стану температуру мерить Ванечке и хинин давать, а он будет спать. И потом пойдет воду возить, не зная даже, лучше ли ребенку и не утомлена ли слишком мать. Ах, как он мало добр к нам, к семье! Только строг и равнодушен. А в биографии будут писать, что он за дворника воду возил, и никто никогда не узнает, что он за жену, чтоб хоть когда-нибудь ей дать отдых, ребенку своему воды не дал напиться и пяти минут в 32 года не посидел с больным, чтоб дать мне вздохнуть, выспаться, погулять или просто опомниться от трудов. 11° мороза, иней, тихо, лунно. 1 февраля. У Вани третий день жару нет, четвертый день даю мышьяк по 5 и 6 капель два раза в день после обеда. Стало легче на душе. Лева всё не радует. С Левочкой отношения хорошие. На днях, между прочим, я его мерила. В нем росту 2 аршина и 7¼ вершков. Тепло, после 25° мороза вчера было 5, сегодня только 1½ Здоровье мое плохо: удушье и сердцебиение меня мучают постоянно. Пульс в течение пяти минут бьется то 64, то 120, если я пройдусь скоро. Читала «О пространстве и времени» Чичерина. Бездарно и скучно. Была в гимназии Поливанова, который жаловался на шаловливость и дурное поведение Миши в классах. Писала письмо [учителю] Кандидову и приказчику. 5 февраля. Или у меня дурной характер, или здравый взгляд. Лев Николаевич написал чудесный рассказ «Хозяин и работник». Интриганка, полуеврейка Гуревич ловким путем лести выпрашивала постоянно что-нибудь для своего журнала. Лев Николаевич денег не берет теперь за свои произведения. Тогда печатал бы дешевенькой книжечкой, чтоб вся публика имела возможность читать, и я сочувствовала бы этому, поняла бы. Мне он не дал в XIII часть, чтоб я не могла получить лишних денег; за что же Гуревич? Меня зло берет, и я ищу пути поступить справедливо относительно публики не в угоду Гуревич, а назло ей. И я найду. Когда-то в день моих именин Лев Николаевич в портфеле принес мне для нового издания «Смерть Ивана Ильича». Потом он отнял рассказ у меня, напечатав, что отдает в общую пользу. И тогда я плакала и сердилась. Почему он всегда неделикатен именно со мной? Как всё, всё стало нерадостно! Маша была вчера у профессора Кожевникова, и он неутешительно говорит о болезни Левы. Сегодня утром я упрекала Андрюшу, что он обманул и меня, и отца третьего дня, обещая прийти домой, а сам уехал к цыганам с Клейнмихелем и Северцевым. Андрюша вдруг разволновался, говорит, что если он обманул отца, то потому, что во весь год единственное, что он от него слышал, были эти два слова: «Приходи домой». А что отец никак никогда к ним не относится, что отцу до них дела нет, что он никогда ему не помог ни в чем. Горько всё это слушать, а много в этом правды. Были Мамонов и графиня Капнист, худая, огорченная беспорядками университета и очень милая. Левочка кашляет и поправляет корректуру «Хозяина и работника». Вчера вечером собрались товарищи Миши, и Софья Михайловна Мартынова нам прочла «Фауста» Тургенева. И вспомнился мне Тургенев, когда он был у нас в Ясной Поляне и мы весной стояли на тяге вальдшнепов: Левочка – у одного дерева, а я с Тургеневым – у другого. И я спросила его: отчего он больше не пишет? А он нагнулся, оглянулся кругом немножко шутовски и сказал: «Никто, кажется, кроме деревьев, нас не слышит. Так вот что, душа моя (он всем говорил под старость «душа моя»), перед тем как написать что-нибудь новое, меня всегда должна была потрясти лихорадка любви, а теперь это уж невозможно!» «Жаль», – сказала я и шутя прибавила: «Ну, влюбитесь хоть в меня, может быть, и напишете что-нибудь». – «Нет, поздно!» Он очень был весел, плясал вечером с моими девочками и племянницами Кузминскими нечто вроде cancan парижского, добродушно спорил с Львом Николаевичем и покойным князем Урусовым. Помню, что к обеду просил сделать куриный манный суп и пирог с говядиной и луком, говоря, что только русские повара умеют так готовить. Ко всем он относился ласково и нежно и Льву Николаевичу сказал: «Как хорошо вы сделали, что женились на вашей жене». 1½оваривал всё Льва Николаевича писать в художественной форме и очень горячо говорил о высоте его таланта. Теперь трудно всё вспомнить, жалею, что мало записывала в своей жизни. Мне никто не внушил, что это важно, и долго я жила в ребячливом неведении. Сегодня в «Новом времени» поразительное известие о смерти Мэри Урусовой. Ей всего было 25 лет, было в ней что-то особенное, артистическое, музыкальное и нежное. Теперь душа ее с отцом; она не ужилась с грубостью матери. Бедная девочка! 21 февраля. Пережила и переживаю еще один тяжелый период жизни. Не хочется писать, как тяжело, страшно и как ясно, что с этого периода жизнь моя пойдет на убыль. Совсем мне ее не жаль, и мысль о самоубийстве всё больше и больше преследует меня. Помоги мне Бог не впасть в этот тяжкий грех! Сегодня опять чуть не ушла из дому; я, очевидно, больна, собой не владею, но как обострились в душе моей все пережитые мной страданья от главной самой острой причины – малой любви Левочки ко мне и детям! Есть же счастливые старички, которые, прожив любовную жизнь, какой мы жили 33 почти года, переходят на дружеские отношения. А у нас? У меня постоянно взрывы нежности и глупой сентиментальной любви к нему; когда я болела, он принес мне два яблока чудесных, и я семечки посадила на память о его столь редкой нежности ко мне. Увижу ли я, как взойдут эти семечки?.. Да, я хотела описать всю нашу тяжелую историю. Я в ней виновата, конечно, но как я была приведена к ней! Да не осудят меня дети, ибо никто никогда не узнает и не разберется в наших супружеских отношениях. Если, несмотря на всё мое внешнее счастье, я хочу уйти из жизни и столько раз этого хотела, то не без причины же это? Если б кто знал, как тяжелы вечные подъемы и попытки любви, которая, не получая другого удовлетворения, кроме плотского, болезненно изнашивается от этих подъемов; и еще болезненнее убедиться в отсутствии взаимности при последних днях своей жизни и своей единственной и неизменной любви к человеку эгоистичному, давшему взамен всего строгий и беспощадный приговор. Ну, вот история. Повесть «Хозяин и работник» меня мучила, как видно из прежних моих дневников. Но я работала над собой; я усиленно помогала Левочке в корректурах, и когда всё было у него готово, я просила позволения с корректур переписать для себя, чтоб и мне ее напечатать при XIII части Полного собрания сочинений. Чтоб не задержать отсылку в Петербург, я хотела ее переписать ночью. Почему-то Левочка рассердился, говорил, что пришлют оттиски, и горячо протестовал против того, чтоб я переписывала, давая одну причину, что это безумно. Но меня мучило, что один «Северный Вестник» будет иметь преимущество; мне вспомнились слова Стороженки, сказавшего, что Гуревич (издательница) умела обворожить графа, то есть выпросила у него две статьи в один год, и я решилась во что бы то ни стало устроить одновременно издание мое и «Посредника». Мы оба были возбуждены и рассержены. Левочка так был сердит, что побежал наверх, оделся и сказал, что уедет навсегда из дому и не вернется. Чувствуя, что вина моя только в желании переписать, я вдруг подумала, что это только повод, а что Левочка хочет меня оставить по какой-нибудь более важной причине. Мысль о женщине пришла прежде всего. Я потеряла всякую над собой власть, и, чтоб не дать ему оставить меня раньше, сама выбежала на улицу и побежала по переулку. Он за мной. Я в халате, он в панталонах без блузы, в жилете. Он просил меня вернуться, а у меня была одна мысль – погибнуть так или иначе. Я рыдала и помню, что кричала: «Пусть меня возьмут в участок, в сумасшедший дом!» Левочка тащил меня, я падала в снег, ноги были босые в туфлях, одна ночная рубашка под халатом. Я вся промокла и теперь больна и ненормальна, точно закупорена, и всё смутно. Кое-как мы успокоились. На другое утро я опять помогала ему исправлять корректуры для «Северного Вестника». После завтрака он кончил и хотел спать. Я говорю: «Теперь можно переписывать, я возьму». Левочка лежал на диване, но когда я это сказала, он вскочил со злым лицом и опять начал отказывать, не объясняя причины. (Я и теперь ее не знаю.) Я не сердилась, но умоляла его позволить переписать; у меня были слезы в горле и на глазах. Я ему обещала, что не выпущу книги без его позволения, но прошу только переписать. Хотя он и не прямо отказал мне, но его злоба меня ошеломила. Я ничего не могла понять. Почему ему так дороги интересы Гуревич и ее журнала, чтоб не допустить одновременного выхода и в приложении XIII тома, и в издании «Посредника»? Чувство ревности, досады, огорчения за то, что мне никогда ничего он не сделает; старое чувство горя от малой любви Левочки взамен моей большой – всё это поднялось со страшным отчаянием. Я бросила на стол корректуры и, накинув легкую шубку, калоши и шапку, ушла из дому. К сожалению или нет, но Маша заметила мое расстроенное лицо и пошла за мной, но я этого не видала сначала, а только потом. Я ушла к Девичьему монастырю и хотела идти замерзнуть где-нибудь на Воробьевых горах, в лесу. Мне нравилась, я помню, мысль, что в повести замерз Василий Андреич и от этой повести замерзну и я. Ничего мне не было жалко. Вся моя жизнь поставлена почти на одну карту – на мою любовь к мужу, и эта игра проиграна, и жить незачем. Детей мне не было жалко. Всегда чувствуешь, что любим мы их, а не они нас, и потому они проживут и без меня. Маша меня всё время, оказалось, не упускала из глаз и вернула меня домой. Отчаяние мое не улеглось еще два дня. Я опять хотела уехать; взяла чужого с улицы извозчика на другое утро и поехала на Курский вокзал. Как могли догадаться дети дома, что я именно поехала туда, – не знаю. Но Сережа с Машей меня опять перехватили и привезли домой. Всякий раз домой мне было возвращаться стыдно и неприятно. Вечером накануне (это было 7 февраля) я была очень больна. Все чувства, жившие во мне, обострились до последней крайности. Смутно помню, что мне казалось, будто рука Левочки кого коснется, того он и погубит. Стало мне болезненно жалко сошедшего с ума Хохлова, хотелось всех отмаливать от влияния Левочки. Я и теперь чувствую, что моя любовь к нему меня погубит; погубит мою душу. Если я от нее, то есть от любви этой, освобожусь, я буду спасена, а то так или иначе – погибну. Он меня убил во мне самой, я теперь убита, не живу. Когда я очень плакала, он вошел тогда в комнату, и, в землю кланяясь до самого пола, на коленях, кланялся мне и просил простить его. Если б хоть капля той любви, которая была тогда в нем, осталась бы и на долгий срок, я могла бы еще быть счастлива. Измучив мою душу, мне позвали докторов. Комично было то, что всякий дал лекарство по своей специальности. Нервный врач дал бром, по внутренним болезням – дал Виши и капли. Наконец позвали и акушера Снегирева; этот цинично сказал «о критическом периоде» и дал свое. Лекарств я не принимала. Мне не лучше. Пробегав трое суток, едва одетая в 16° мороза, по улицам, продрогшая до костей, измученная нервами – я совсем больна. Девочки отнеслись ко мне пугливо, Миша рыдал, Андрюша уехал свое горе передать Илье; Саша и Ваня по-детски смутились, Левочка встревожился. Но больше всех мне был мил Сережа своей спокойной лаской и отсутствием всякого осуждения. Левочка, христианин, от тебя видела больше осуждения, чем любви и жалости. А вся история только от моей беспредельной любви к нему. Он всегда ищет во мне злобу, а если б он знал, что ее-то и нет у меня, а других мотивов много; что делать, когда Бог мне дал такой беспокойный и страстный ко всему темперамент? Очень добра была еще сестра Мария Николаевна, ласкова, и говорила, что я в исступлении своем твердила всё правду одну, но преувеличенно. Да, но исступление это непоправимо и неизвиняемо! Теперь мы опять мирны. Лева уехал в санитарную колонию Ограновича[96] и не пишет ни слова. Он болезненно недоброжелателен к семье и не хочет иметь с нами никаких отношений. Можетбыть, это и лучше для его нервного состояния. Вчера был оттуда доктор и говорил утешительно. Ну, да Бог даст, я не увижу смерти никого из детей моих и Он возьмет меня раньше к себе, туда, где любовь будет не мученьем, а радостью. И мне, и «Посреднику» повесть отдана. Но какою ценою! Поправляю корректуры и с нежностью и умилением слежу за тонкой художественной работой. Часто у меня слезы и радость от нее. 22 февраля. Утро. Со вчерашнего вечера опять заболел Ваня. У него сегодня уже скарлатинная сыпь, болит горло и понос. Был Филатов и определил. 23 февраля. Мой милый Ванечка скончался вечером в 11 часов. Боже мой, а я жива!1897
1 июня. Два года было 23 февраля, что умер мой Ванечка, и с тех пор, написав последнюю страницу в книге дневника, я закрыла ее так же, как закрыла свою жизнь, свое сердце, восприимчивость и радость жизни. И я не ожила, но полнейшее душевное одиночество снова пробудило желание писать дневник. Да и пускай останется на бумаге картина последнего времени моей жизни – главное, замужней жизни. Буду писать строго одни факты, а когда буду более расположена, опишу и эти промежуточные два года моей столь значительной, по внутреннему ее содержанию, жизни. Сегодня Троицын день. Ясно, красиво. С утра проводила Таню и Сережу в Москву на свадьбу Маши, которая будет завтра[97]. Потом читала корректуру XII части нового печатаемого мною издания. Лев Николаевич пишет статью об искусстве[98], и я его до обеда не вижу. В 2 часа обедали. В 3 часа меня стал Лев Николаевич звать ехать верхом. Я отказывалась, но потом мне ужасно захотелось ехать, а главное, одной оставаться было жутко и тоскливо. Мы поехали втроем (третий был Дунаев) и ездили по очень красивым местам Засеки. Были и на рудниках, где копает руду Бельгийская компания[99], спускались и поднимались в оврагах. Лев Николаевич был необыкновенно нежен со мной и заботлив, и я умилялась и трогалась этим, но прежде это его отношение дало бы мне огромное счастие, а теперь, когда я узнала по его дневникам его настоящее отношение ко мне, я только умиляюсь его старческой добротой и уж никогда не отдамся тем порывам то счастия, то отчаяния, которым предавалась, любя его. Когда-нибудь опишу эту историю с дневниками, перевернувшую всю мою сердечную жизнь. Ездили мы часа три с половиной, было очень хорошо. Вернувшись, застали А.А.Зиновьева. Лев Николаевич читал со своими гостями немецкое письмо какое-то, я опять поправляла корректуры. Приехал Андрюша, и, увы, они оба с Мишей ушли на хороводы. У Саши гостит Соня Колокольцева, они гуляли с m-lle Aubert. 2 июня. Опять то же: корректуры с утра, вечером прогулка с Львом Николаевичем, Дунаевым и Маклаковым. Дунаев всё говорил (очень громко) о вывозе и привозе товара из-за границы. Красивый закат: на чистом небе яркий шар солнца и одно черное облачко. Думала хорошо и вспоминала счастливое. А теперь наша жизнь больная. Да и в прямом значении Лев Николаевич что-то меня пугает: он худеет, у него голова болит – и эта наболелая ревность! Виновата ли я – не знаю. Когда я сблизилась с Танеевым, мне представлялось часто, как хорошо иметь такого друга на старости лет: тихого, доброго, талантливого. Мне нравились его отношения с Масловыми, и мне хотелось таких же… И что же вышло![100] Вечером были Зиновьев и Фере с женой. Ездила с Сашей на Козловку, встретила мисс Вельш. Луна, сыро, холодно… и как тоскливо! 3 июня. Приехали Маша с Колей женатые. Приехали Танеев и Туркин учить Мишу. Мучительный страх перед неприятностями по случаю приезда Сергея Ивановича заслонил все другие чувства. Маша мне жалка, и я потому чувствую к ней нежность и, конечно, буду ее любить и помогать ей в жизни, чем могу. Коля производит то же впечатление – хорошего мальчика, но мысль как о муже моей дочери сейчас же исключает хорошее чувство к нему. Это не сила, не поддержка в жизни… Ну да увидим. Сила моего мужа меня сломила и убила и мою личность, и мою жизнь. А я ли не сильна была – в смысле энергии. Сейчас на душе хорошо и примирительно. Но больно было ужасно видеть ужас и болезненную ревность Льва Николаевича при известии о приезде Танеева. И страданья его мне подчас невыносимы. А мои… 4 июня. С утра тяжелый разговор с Львом Николаевичем о Танееве. Всё та же невыносимая ревность. Спазма в горле, горький упрек страдающему мужу и мучительная тоска на весь день. Читала корректуры «Власти тьмы»; прекрасное, цельное и не лживое произведение искусства. Потом пошла купаться, встретила Танеева, и это напомнило с грустью прошлогодние ежедневные веселые встречи. После обеда он играл Тане свои романсы. Я люблю и его музыку, и его характер: спокойный, благородный и добрый. Потом я переписывала для Льва Николаевича его статью об искусстве. Пришел он с такой добротой звать меня гулять, и мы отлично прошлись. Тяжелая сцена с Андрюшей из-за денег. Он плакал, и мне было его жаль, но он мне неприятен своей слабостью – не мужскою. Танеев сыграл две «Песни без слов» Мендельсона и перевернул всю душу. Опять переписывала Льву Николаевичу до сна. Были Маша с Колей, жалкие, худые, слабые… Таня очень мне дорога и мила. Но куда девалась жизненная энергия, та, которая из меня просится наружу с такой силой? 5 июня. Уехал сегодня Сергей Иванович, и Лев Николаевич стал весел и спокоен, а я спокойна, потому что повидала его. Ревнивые требования Льва Николаевича прекратить всякие отношения с Сергеем Ивановичем имеют одно основание – страдание Льва Николаевича. Мне же прекратить эти отношения – тоже страдание. Я чувствую так мало греховности и столько самой спокойной, тихой радости от моих чистых, спокойных отношений к этому человеку, что в душе не могу их уничтожить, как не могу не смотреть, не дышать, не думать. С утра читала корректуры, ждала Сергея Ивановича на балконе к кофе, и он пришел ровно в тот промежуток времени, когда я уходила в сад, на вышку, и беседовала в саду с Ванечкой, спрашивая его, дурно ли мое чувство к Сергею Ивановичу. Сегодня Ванечка меня отвел от него; видно, ему просто жаль отца; но я знаю, что он меня не осуждает; он послал мне Сергея Ивановича и не хочет отнимать его у меня. Потом ходила с Марьей Васильевной [Сяськовой] купаться. Сила моя и легкость в ходьбе меня ужасают. После обеда Лев Николаевич, Сергей Иванович, Туркин и я – мы ходили гулять, я нарвала чудесный букет. Лев Николаевич очень горячо и хорошо толковал свои мысли об искусстве Сергею Ивановичу, и меня удивляло это после всей его ревнивой злобы. Мучаюсь тем, что не поправила Саше заданный ей мною перевод. Приехали Вера и Маша Толстые. Весь вечер работала: сначала прочли корректуру с Марьей Васильевной, а после ужина я часа три подряд переписывала статьи об искусстве Льва Николаевича. У нас очень мало жизни в доме; мало людей, а главное, скучно без Сергея Ивановича. 6 июня. Ночь не спала от головной и спинной боли и невыносимой тоски. Верно, это физическое тяжелое состояние от моего критического женского периода. Ходили купаться с Таней, Верой и Машей Толстыми. Корректур нынче нет, и я весь день усердно переписываю для Льва Николаевича. Статья эта меня очень интересует и наводит на мысли. Все ездили в Овсянниково, мы с Львом Николаевичем остались; я шла наверх писать, а он к себе, и мы остановились поговорить о Маше и о том, что когда-то помогавшее ей жить религиозное настроение в ней не удержалось. Лев Николаевич говорил, что его религиозное настроение повернуло всю его жизнь. Я говорю: может быть, внутренно, но внешне – нисколько. Он рассердился, стал кричать, что прежде он охотился, занимался хозяйством, учил детей и копил деньги, а теперь он этого не делает. Я сказала, что очень жаль: тогда это было на пользу семье, хозяйство на пользу местности, так как он много посадил и улучшил; а теперь при той же жизни внешней, то есть тех же комнатах, пище, обстановке, он после своих занятий катается на велосипеде (как все эти дни), ездит верхом на разных лошадях, каких хочет, и питается готовой, прекрасной пищей, о детях же не только не заботится, но очень часто забывает об их существовании. Всё это его взорвало. Это жестокая правда, о которой я не должна ему поминать. Пусть его на старости лет утешается и отдыхает. Но он мне такие говорил упреки, например, что я испортила всю его жизнь, в то время как я жила только для него и детей, что я не вынесла. Такого душевного терзания я давно не испытывала; я убежала из дому, хотела убиться, уехать, умереть, всё – только бы так не страдать душевно. Какое бы было счастье дожить тихо и дружно с добрым, спокойным человеком остаток своей жизни, а не терзаться то безумными сценами ревности, как третьего дня, то жестокими упреками обоюдными, как сегодня. А небо так ясно, погода, сияющая красотой, тишиной; природа богатая, сочная, яркая; точно всё дошло до высшей степени ликованья в природе, чтоб доказать человеку, как он несостоятелен перед ней со своими страстями и тоской. Вечером мы примирились без объяснений. Я пошла в сумерки уже купаться на Воронку, а Лев Николаевич приехал за мной в тележке и стал говорить добрым голосом, что пора бы нам перестать так сильно и страстно любиться и так сильно ссориться. Никогда не дождусь спокойной, нежной, духовной дружбы. Шла по лесу вечером одна и всё молилась и плакала, плакала – и о Ванечке, и, в связи с ним, о той единственной в моей жизни святой, сильной любви, которой мы с ним любили друг друга. И теперь я никогда ни от кого ее не буду иметь, а вместо этого безумная, ревнивая плотская страсть, исключающая насилием все другие привязанности в моем сердце. 7 июня. Сегодня в первый раз проснулась к впечатлениям красоты природы, и чувство мое к ней было девственно, то есть без воспоминаний, без сожалений о тех, с кем и через кого еще я любила эту яснополянскую прелестную природу. Недавно я создала себе целую теорию о девственности отношения к религии, искусству и природе. Религия чиста и девственна, когда она не связана с отцами Иоаннами, Амвросиями или католическими духовниками, а вся сосредоточена в одной моей душе перед Богом. И тогда она помогает. Искусство девственно и чисто, когда его любишь само по себе, без пристрастия к личности исполнителя (Гофмана, Танеева, Ге, к которому так пристрастен Лев Николаевич, к самому Льву Николаевичу и т. д.), и тогда оно доставляет высокое и чистое наслаждение. Так же и природа. Если дубы, и цветы, и красивая местность связаны с воспоминаниями о тех лицах, которых любил, с которыми жил в этих местах и которых теперь нет, то природа сама по себе пропадает или принимает то настроение, в котором мы сами. Надо любить ее как высший, Божий дар, как красоту, и тогда она дает тоже чистую радость. С утра много переписывала Льву Николаевичу. Потом учила Сашу; с ней учиться приятно, но характер ее относительно окружающих – не меня, со мной она хороша – делается невыносим; она бьет и свою гувернантку, и девочку, и Марью Васильевну, и кого попало. Ездила утром со всеми купаться, опять переписывала, опять вечером купалась, стригла в саду аллеи, подвязывала липки и розы и провела день одиноко и спокойно. Лев Николаевич тоже спокоен: он писал, ездил на велосипеде, потом верхом в Овсянниково, куда не доехал, встретив Машу и Колю у Козловки. Вечером он рассматривал с удовольствием рисунки в «Salon», который получает Таня. Она ходила на Козловку с Марьей Васильевной. Миша верхом ездил в Горячкино к Кулешову, своему товарищу. Была сухая гроза, жарко, вечером шел недолго дождь. Ужасно хочется музыки, хочется самой играть, и всё нет времени. Только сыграла сегодня две «Песни без слов» Мендельсона. Ох, эти песни! Особенно одна из них так и врезалась в мое сердце. 8 июня. Делаю страшные усилия, чтоб найти свою бодрость, и достигаю, если не для радости, то для работы. С утра корректура, потом пошла пешком купаться на Воронку. К обеду оделась (для чего и для кого? только чтоб не опускаться) в белое платье, после обеда пошла на теннис (tennis), где играли Таня, Маша, Миша, Коля, Саша и Лев Николаевич. Пустота! Ни Черткова, ни Танеева. Пошла подвязывать и выстригать сушь в куртине розанов, нарвала букет Льву Николаевичу. Потом опять корректуры, вечером ездили купаться в катках, потом записывала счеты, сверяла оглавления в новом издании, и опять корректура. Теперь второй час ночи. Погода удивительная: тепло, ясно, жарко, красиво. Таня тоже бодрится. Бедная, ей так законно хочется хорошей любви: любви друга-мужа, любви детей. Последняя действительно дает радости чистые, хорошие, а первая – радости нечистые, обманчивые и… Вчера я легла в таком спокойном, хорошем настроении и тихо, дружески начала разговаривать с Львом Николаевичем. Он отвечал ласково и охотно. Говорит: «Какой у тебя сегодня голос милый, женственный, я не люблю, когда ты кричишь». Корректировала сегодня «Крейцерову сонату», и опять то же тяжелое чувство; сколько цинизма и голого разоблачения дурной человеческой стороны. И везде Позднышев говорит: мы предавались страсти, мы чувствовали пресыщение, мы, везде мы. Но женщина имеет совсем другие свойства, и нельзя обобщать ощущения, хотя бы половые; слишком разно отношение к ним мужчины и чистой женщины. Рассветает, спать не хочется, бьет два часа, луна прямо светит в окно. Сегодня она светлая, стоит так высоко и как будто элегантно светит, споря с июньским ранним рассветом. 10 июня. Вчера не писала, так монотонно-однообразно идут дни за днями. Вчера была Марья Александровна [Шмидт]. Она вся живет фанатическим обожанием Льва Николаевича. Когда-то она была крайне православная; начитавшись статей Льва Николаевича, она сняла образа и лампады и повесила всюду его портреты, собрала целую коллекцию его запрещенных сочинений, которые переписывает за деньги для других. Она худа до невозможного, живет трудом непосильным, всё сама делает, радуется на свой огород, на свою корову Манечку, телушку и на весь мир Божий. Мы, женщины, не можем жить без кумиров, и ее кумир – Лев Николаевич. Мой был Ванечка, а теперь… вот и пуста жизнь. А Льва Николаевича я развенчала как кумира. У меня осталась к нему большая привязанность; мне было бы страшно тяжело, если б я лишилась этого его ежеминутного участливого отношения ко мне. Где бы он ни был, что бы ни делал, всё бежит меня искать, и мне всегда радостно его видеть. Но счастия, настоящего счастия он мне не может уж дать. Всё то же: корректуры, купанье – утром, днем, вечером – всё одно и то же. Перед обедом кроила и слаживала блузу полотняную Льву Николаевичу, вечером сверяла и составляла оглавления последних частей. После обеда я позвала Льва Николаевича, Туркина и художника, юношу, гостившего у нас, погулять, и было хорошо с природой. Приехал Сережа на велосипеде из Никольского. Приехал Семен Иваныч на тележке для Маши. Погода чудесная: грозы, маленькие дожди, тепло, ясно, пышно, свежо, зелено. Душевное состояние подавлено; страшными духовными силами я заглушаю всякие воспоминания. Нынче вгляделась в портрет Ванечки и расплакалась. А утешенья нет, нет и нет. Телеграмма от Левы, он тревожится о семье. Любит ли он нас? Если любит, то почему так мучает? Сколько боли он мне сделал в короткое время! Таня тоже поднялась духом. Помоги ей Бог, я очень ее люблю, чувствую и хотела бы ей помочь, да не в моей власти. 11 июня. Все бодры, веселы. Встала поздно, ночь не спала, пошла купаться с Сашей. Читала с Марьей Васильевной корректуры, с садовником занималась яблонями, прививками, цветами и посадкой елочек. Сердилась на Дуняшу за испорченную трату муки отрубной, которую я везла из Москвы для Льва Николаевича. Вечером с Таней ходила купаться, и говорили о половой любви. Ее это стало как будто тревожить, и я ужасно за нее боюсь. Она такая целомудренная по природе и, сохрани Бог, выйдет замуж за какого-нибудь нелюбимого человека или брюзглого Сухотина. Вечером ходили по аллеям, Сережа и Семен Иваныч, который старик, тут. Все были веселы, пели, шалили, плясали. Иду домой сегодня, Сережа играет, и вдруг поднялось болезненно в сердце желание той музыки, которая приводила меня в чудесное состояние и дала столько счастья. Вечером корректуры, немного фотографии, письма и приготовления к тульской поездке. 2 часа ночи. 12 июня. Была с Сережей и няней в Туле. Получала с няней ее проценты в сберегательной кассе, с Сережей устраивали Машины денежные дела, и для Миши прошение взяли – для назначения меня его попечительницей. Потом покупки для всех. Жара, пыль и тоска ужасная! Вспоминала прошлогоднее пребывание в Туле с Таней, Сашей и Сергеем Ивановичем. Наше катанье на лодке, обед на вокзале, возвращение ночью по поезду, неожиданное появление в Туле Андрюши и беззаботное, радостное настроение. Приехала – всех застала веселыми, села за корректуры. Потом одна пошла купаться. Когда вышла из Заказа, меня поразил закат солнца. Чисто, ясно, тихо; торжественное солнце и казавшийся особенно темным лес. Какая красота! С грустью плавала под молочным туманом. Шла одиноко домой, было совсем темно и совсем не было жутко. Над бугорком Ванечки, где он, бывало, находил белые грибы, где мы с ним отдыхали, я всегда остановлюсь на минутку и прочту «Отче наш». Когда я теперь иду одна, то не бываю одинока – моя душа всегда с теми, кого я любила в жизни и кого уже нет со мной. И это неотъемлемо, что бы ни случилось со мной и как бы люди ни были строги ко мне. Вечером приехала Ольга Фредерикс, и у нее с Сережей сентиментальные воспоминания о прошедшем, и оба несчастливы! Пожалуй, что Таня избрала лучшую долю. Пересматривала с Туркиным старые фотографии, и опять сердце мое повернулось от сожаления о прошедшем. Лев Николаевич весел и счастлив. Помоги мне Бог сохранить его спокойствие и не взять на свою совесть ничего, в чем бы я могла упрекнуть себя. Написала письмо Леве. Неприятные ошибки в оглавлении нового издания. 13 июня. Спала дурно, встала поздно, побежала купаться. Идут навстречу по дороге дети крестьянские, носили на покос обед мужикам; всё больше маленькие, и так мне они стали все милы, эти ласковые, любопытные и серьезные глазки! Вспомнила Ванечку, иду с полным слез сердцем, прихожу в купальню, Таня говорит: «А я о вас сейчас думала». Я спрашиваю: «Что именно?» – «Да о Ванечке. Если мне так тяжело его вспоминать, как он плакал, оттопырив губки, и никогда от злобы или каприза, а всегда от горя, то каково вам». Я говорю: «Ты по поводу детей его вспомнила?» – «Да». И мы обе расплакались. Как часто я в сердце Тани неожиданно слышу и чувствую отголосок моего сердца и мысли. Мы не сговорились, а пережили в один и тот же момент и по одному и тому же поводу одно и то же чувство. Саша без меня захлебнулась около купальни в реке, и Таня ее вытащила с большим трудом в купальню. Пришла домой, зашла ко Льву Николаевичу. Он веселый и бодрый, отлично работалось ему сегодня. Потом писала часа четыре подряд, переписывая для Льва Николаевича об искусстве. Вечером опять купались, приехал Маклаков. После ужина ездили в катках на завод Бельгийской компании около Судакова и смотрели машины, смотрели, как спускали расплавленный огненный чугун. Очень интересно, но грустно смотреть на этот ад, в котором день и ночь жарятся люди. Разбитная француженка, много людей, жара, камни и железо под ногами; сорвались лошади, их ловили. Лев Николаевич нежно заботлив обо мне, и это моя главная радость. Надолго ли? Тихая, свежая ночь, заря сходится с зарей, и воспоминания о прошлогодних поездках на катках. Дома была большая досада: из Москвы прислали ноты не так переплетенные, а главная досада, что обложку с надписью Сергея Ивановича на его квартете сорвали и бросили. Я чуть не плакала. Льву Николаевичу моя досада была неприятна, и я старалась сдерживаться, но у меня необузданный, горячий характер, и я всё не выучусь владеть собой. Написала артельщику сердитое письмо и мало раскаиваюсь. 14 июня. С утра усердно учила Сашу; поправляла ей сочинение «О домашних животных» и перевод с английского и спрашивала урок географии «О Китае». Она учится хорошо, внимательно, и мне с ней не трудно. Я люблю преподавание, и это дело мне привычно. Ходили купаться с Таней, Сашей и Марьей Васильевной. Потом обед, корректуры, и корректуры до самой ночи. Вечером с Сашей, мисс Вельш, m-lle Aubert и Марьей Васильевной опять бегали на Воронку купаться. Таня, Коля, Маша, Миша уехали в Пирогово верхами и в кабриолете, Маклаков и Туркин уехали в Москву. Вечером пили чай Лев Николаевич, Сережа и я. Чувствую себя постоянно одинокой. С Львом Николаевичем общения мало. Он всё утро сидит у себя и пишет до обеда, до двух часов. После обеда уезжает на велосипеде или верхом. Потом спит; потом ходил на Козловку, провожал киевского юношу, который, кажется, хотел у нас пожить, но Лев Николаевич ему дал сильно почувствовать, что этого нельзя. Вернулся он уже после нашего ужина и ужинал один. Лег он рано, а я сижу поздно. Живу природой и усиленным трудом; помимо этого, очень скучно и одиноко; но я стараюсь быть бодра перед другими и чувствую виноватость перед совестью и судьбой, давшей мне, относительно, все-таки так много. 15 июня. Всю ночь напролет не спала, к утру заснула, разбудили рыдания. Видела во сне, что Ванечкины игрушки разбирала с няней и плакала. Сильное горе или сильную любовь, как ни старайся, ничем не заглушишь. Бывают дни, когда жизнь не натянешь. Это как ткань, которую на что-нибудь натягиваешь: иногда жизни так много, что ее избыток, иногда точь-в-точь – сколько нужно для счастья, а иногда не хватает, не натянешь – ткань, натягиваясь, вдруг и лопнет. Пошла, вставши, проведать Льва Николаевича. Он делает пасьянс и говорит, что ему отлично работается. Потом он посмотрел на меня с улыбочкой и говорит: «Вот ты сказала, что я сгорбился, я и стараюсь держаться прямо», – и сам вытягивается, выпрямляется. Ночью был дождь, теперь ясно и свежий ветер. После кофе читала корректуры – скоро кончу всё. Приехали Буланже и сестра Лиза с дочерью. Я им всем рада. Несмотря на холодный северный ветер, мы два раза купались. Вечером разговоры с Буланже о Льве Николаевиче как о великом реформаторе. Мы с сестрой не соглашались с отрицанием церкви и с мыслью (в новой статье об искусстве) о том, что значение произведения искусства зависит от степени его заразительности. Вопрос заразительности кого! уже уничтожает всё. Мужика заражает гармоника и песнь, меня – соната Бетховена или «Песнь без слов» Мендельсона, Страхова – «Руслан и Людмила», т-те Хельбиг – Вагнер, башкирца – его дудка. Холодно, ветер, облачно. 16 июня. Встала поздно, Льва Николаевича не видала до обеда. Усиленно работала над корректурами. К обеду все вернулись из Пирогова усталые. Приехала сестра Лиза, разговоры о религии. Жалею, что высказала свое мнение. Надо блюсти свято свое внутреннее отношение, самое непосредственное, к Богу: надо брать от церкви, что внесено в нее святыми отцами и самим Богом, и главное – нужны не формы, не правила нравственные или религиозные – это второстепенно, – а строгое воспитание внутреннего чувства, которое бы руководило нашими поступками, чтоб мы без компромиссов ясно и честно знали наверное, что хорошо и что дурно. Бегала купаться на Воронку с Марьей Васильевной, моей единственной собеседницей нынешнего лета; это почти что одиночество: она вульгарна, шумна и была бы несносна, если б не ее внутренняя доброта. Вечером опять корректуры – и вот и дню конец. Холод, пасмурно и ветер. 17 июня. Вижу сон: будто я лежу в незнакомой комнате, на незнакомой постели. Входит Сергей Иванович, меня не видит и идет прямо к столу; на столе пачка бумажек, точно оторванных от записок, счетов – небольшие клочки. Он надевает очки и поспешно пишет на этих бумажках. Я боюсь, что он меня увидит, и лежу смирно. Но исписав все клочки бумаги, он их складывает, снимает и убирает очки и уходит. Я вскакиваю с постели, беру эти бумажки и читаю. В них подробное описание состояния его души – борьба, желания, – я всё это быстро просматриваю; и вдруг кто-то застучал и я проснулась. Так я и не прочла всего. Очень было досадно проснуться, хотелось заснуть и прочесть – но, конечно, не удалось. Опять чтение корректур, купанье в холодной воде и на холодном воздухе, одинокое возвращение домой по той дороге, на которой пережилось столько в 35 лет моей замужней жизни. После чая ходили на Козловку все: Таня, Саша, Веточка, А.А.Берс, Туркин, мисс Вельш и мисс Обер. Шли хорошо, с Туркиным говорили о философии, и он мне рассказывал о новой английской философии и ее направлении. Думала о прошлогодних прогулках на Козловку же. Какая разница! Как тогда было бодро, весело, счастливо. Разница и в том, что вместо прошлогодней изящной, прекрасной музыки, доставляемой Сергеем Ивановичем, в настоящую минуту Лев Николаевич фальшиво и громко стучит на фортепьяно аккорды, подбирая их, чтобы аккомпанировать Мише, который на балалайке играет довольно ловко – но нелюбимые мною русские песни. И невольно просится сравнение – и неужели оно может быть в пользу последнего? Одному я рада: Миша дома и хоть этим путем у него столь редкое общение с отцом. Опять буду читать корректуру, и вот еще день из жизни вон. С Сашей всё не ладится. Она груба, дика, упряма и измучила меня, оскорбляя всякую минуту все мои лучшие человеческие чувства. Лев Николаевич ходил к умирающему мужику, Константину, два раза сегодня. Когда мы гуляли – он успешно писал и потом ездил на велосипеде. Он весел и бодр. 18 июня. Рождение Саши, ей 13 лет. Какое тяжелое воспоминание о ее рождении! Помню, сидели мы все вечером за чаем, еще Кузминские жили у нас, и была т-те Seuron гувернанткой и сын ее Alcide (умер, бедняга, холерой); и разговорились мы о лошадях. Я сказала Льву Николаевичу, что он всё делает всегда в убыток: завел чудесных заводских лошадей в Самаре и всех переморил – ни породы, ни денег, а стоило тысячи. Это была правда, но не в том дело. Он всегда на меня нападал, на беременную, вероятно, мой вид был ему неприятен, и всё время последнее раздражался на меня. И на этот раз, слово за слово, он страшно рассердился, собрал в холстинный мешок кое-какие вещи, сказал, что уходит из дому навсегда, может быть, уедет в Америку, и, несмотря на мои просьбы, ушел. А у меня начались родовые схватки. Я мучаюсь – его нет. Сижу в саду одна, на лавочке, схватки всё хуже и хуже – его всё нет. Пришел Лева, мой сын, и Alcide, просят меня пойти лечь. На меня нашло какое-то оцепенение от горя; пришли акушерка, сестра, девочки плачут, повели меня под руки наверх, в спальню. Схватки чаще и сильней. Наконец в пятом часу утра возвращается. Иду к нему вниз, он злой, мрачный. Я ему говорю: «Левочка, у меня схватки, мне сейчас родить. За что ты так сердишься? Если я виновата, прости меня, может быть, я не переживу этих родов…» Он молчит. И вдруг мне блеснула мысль, не ревность ли опять какая, не подозрения ли? И я ему сказала: «Всё равно, умру я или останусь жива, я тебе должна сказать, что умру чиста и душой и телом перед тобою; я никого, кроме тебя, не любила…» Он поглядел, вдруг повернув голову, пристально на меня, но ни одного доброго слова мне не сказал. Я ушла, и через час родилась Саша. Я отдала ее кормилице. Я не могла тогда кормить ребенка, когда Лев Николаевич вдруг сдал мне все дела, когда я сразу должна была нести и труд материнский, и труд мужской. Какое было тяжелое время! И это был поворот к христианству. За это христианство мученичество приняла, конечно, я, а не он. Встала сегодня поздно, пошла купаться с Таней я Марьей Васильевной. Холод ужасный. Сейчас 5° только. Днем ленилась, прочла мало корректур, обдумывала и записывала материалы к повести. Вечером ездила в катках в Овсянниково, к Маше. С ней было приятно. На Козловке народ с песнями перетаскивал вагон для временного жилья – через рельсы. Были с нами Берсы, отец и дочь, и Туркин, и Саша, и две гувернантки, Марья Васильевна, и Таня с Мишей верхом. Еще позднее проявляла фотографии Саши и Веточки, которых сняла сегодня днем. Лев Николаевич утром купался в среднем пруду, потом писал. После обеда играл в теннис с девочками и Мишей. Потом ездил один на велосипеде и верхом, выехал к нам навстречу. Пока я проявляла, он говорил с Берсом и Туркиным об искусстве: он очень этим теперь занят, и я во многом с ним совсем не согласна. Еще Берс играл с Таней, она на мандолине, и Миша и три девочки плясали, и я с Мишей сделала тур вальса так легко, что сама удивилась. Час пробило. 19 июня. Утром, не одеваясь, начала копировать фотографии Саши с Веточкой. Потом проводила Веточку и ее отца и села за корректуры. Ходила купаться с Марьей Васильевной, вода очень холодна. Вчера вечером в 9 часов было только 50 тепла. После обеда опять корректура. Ходили на Козловку за письмами. Всё время говорила с учителем Миши Туркиным о воспитании, о типах и характерах людей. На обратном пути встретили Льва Николаевича, провожавшего какого-то человека, сидевшего в остроге за стихотворение, написанное по поводу Ходынской катастрофы. Лев Николаевич простился тут же с ним и домой пошел с нами, чему я была очень рада. Мне нездоровится, всё бросает в жар, ноги болят – всё это, говорят все, от критического периода. Самое ужасное – это тоска, перед которой часто чувствую себя бессильной. Еще раз во мне что-то сломилось. Неприятное: сегодня были порубки, и бедный грумонтский мужик, оборванный, просил прощения и кланялся в землю. Мне хотелось плакать, и было досадно на кого-то (сама не знала на кого), кто меня поставил в эти условия против моей воли, что я должна хозяйничать, то есть охранять леса, а чтоб их охранять, должна наказывать таких жалких мужиков. Никогда не любила, не хотела и не умела хозяйничать. Хозяйство – это борьба с народом за существование, а на это я совсем не способна. Решили: мужиков, совершивших порубки, заставить отработать, уряднику не доносить, деревья, уже употребленные на постройку, им оставить. Еще неприятно письмо Холевинской, ее сослали в Астрахань за запрещенные книги, которые она по записке Тани дала читать писарю в Туле. Холевинская озлоблена, измучена, просит у меня помощи. Не знаю, что еще буду делать, но очень хотелось бы ей выхлопотать прощение. Лев Николаевич лихорадочно пишет «Об искусстве», уже близок к концу, и ничем больше не занимается. Сегодня вечером он читал нам вслух французскую комедию из «Revue Blanche». 20 июня. С утра корректуры, весь день усиленно ими занималась, и, о радость! кончила все. Шесть месяцев работала над корректурами, и сегодня конец. Хорошо ли только? Ходили купаться с Таней и Марьей Васильевной. В воде 12½ градусов, и ночи холодные. Лев Николаевич ездил вечером в Тулу послать телеграмму Черткову в Англию. Чертков что-то тревожится о чувствах Льва Николаевича к нему. Но как Лев Николаевич его любит! Вечером играла «Песни без слов» Мендельсона и, вслушиваясь в звуки, вспоминала, как их играл Сергей Иванович. Еще позднее читала письма, полученные от Левы из Швеции и от Стасова. Потом наклеивала фотографии и написала письмо Леве. Полное одиночество вдвоем с Львом Николаевичем было приятно, напомнило мои молодые года, с их полным, чистым душевным спокойствием, даже апатией, но зато без греха, без эмоций и страстей. Поглубже задушить всё это и потуже забить жерло, из которого всё рвется и просится наружу вулкан моей необузданной натуры. Таня переписывала, играла на мандолине и гитаре, Саша убирала аккуратно свою комнату, варила варенье и делала букеты. Миша ездил куда-то с 22 рублями, громко пел и стучал аккорды на рояле, переодевался в Сашино платье и мало занимался. 21 июня. Не спала, встала поздно, села заниматься с Сашей. Вижу – она вся бледная, у ней тошнота, головная боль. Так жаль, но урок расстроился. Ее рвало, и она легла. У ней бывают мигрени, как у отца. Позвала Таню и Марью Васильевну, пошли на Воронку купаться. Мерила платье, обедали. Приехали Оболенские, все играли в lawn-tennis, а я пошла одна бродить, посидела на вышке, побеседовала с Ванечкой, набрала цветов для его портрета. Иду домой, все мне навстречу, но я вернулась одна домой и села за фортепьяно расправить пальцы, хочу опять играть. Приехал Илюша; мне очень жаль его, я знаю, что дела его очень плохи; между тем мне слепо давать деньги своим детям, не руководя их делами, невозможно. Я никогда не знаю, для чего я даю и где предел. Пробовала не отказывать – вижу, что предела их требованиям нет, а мне теперь надо уплачивать за издание и жить, и на это не хватает. Самое тяжелое в жизни – денежные дела. Вечером ходили гулять на Грумонт, и очень было хорошо, красиво и спокойно на душе. Если нет в жизни полного, безумного счастья, если не всегда праздник жизни, то хорошо полное спокойствие, и за это надо благодарить Бога. Мне нездоровится; с самого моего приезда сюда что-то во мне надломилось, и так я это чувствую до сих пор. Странное я в себе подстерегла чувство: точно я поджидаю предлога лишить себя жизни. Эту мысль я давно в себе воспитываю, и она делается всё зрелее и зрелее. Я ее страшно боюсь, как боюсь сумасшествия. Но я люблю ее, хотя суеверие и просто религиозное чувство мешают мне. Я верю, что это грех, и боюсь, что душа моя вследствие самоубийства лишится общения с Богом и, следовательно, с ангельскими душами, а потому и с Ванечкой. И вот иду я сегодня и думаю: напишу сотни писем и всем разошлю – самым неожиданным лицам, и расскажу в этих письмах, почему я убилась. И вот я сочиняю эту исповедь, и она так трогательна, что мне самой над собой хочется плакать… И мне теперь страшно, что я могу так сойти с ума. Теперь всякий раз, как у меня горе, или упреки, или неприятности, я радостно думаю: а вот пойду на Козловку и убьюсь, а вы там как хотите. Страдать больше не хочу и не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. Или жить без страданий, или умереть, и даже лучшее из всего, всего – умереть. Прости, Господи! И сейчас обед писать: суп принтаньер[101]. Ах, как надоело! 35 лет, всякий день – суп принтаньер… Я не хочу больше писать «суп принтаньер» и тому подобное, а хочу слушать самую трудную фугу или симфонию, хочу всякий день слушать самую сложную, гармоничную музыку, чтоб вся душа моя напрягалась от внимания и усилия понять, что автор хотел выразить этим таинственным, сложным музыкальным языком, чем он жил в самой глубине своей души, когда сочинял эти произведения. Миша и Илья стучали на гитаре и рояле аккорды и громко кричали русские песни… Как речью можно выражать простые потребности – хочу есть, хочу плясать, хочу целовать – или самые сложные философские соображения – какое мое отношение к вечности? существует ли связь между моей душой и вечным началом, Богом? каково это отношение?.. – так и в музыке можно. Простая мелодия, песнь – это простые слова, они понятны и Илье, и Мише, и мужику, и ребенку. Сложная музыка, симфония, соната – это философская речь, доступная только тонко развитому человеку. Как дорого бы я дала, чтоб вместо этой стукотни опять заслышать эти изящные звуки, которыми я жила прошлое лето. Да, то был праздник жизни. Спасибо судьбе и за те воспоминания. 22 июня. Прекрасный ясный летний день. С утра играла на фортепьяно гаммы, этюды и упражнения. Потом купались. Обедали Илья и Коля Лопухин. Потом опять час играла. После чая ходили мы, одни женщины, гулять. Саша грубо ворчала за то, что я ее отозвала от тенниса, на который она только смотрела. Таня пошла с нами, догнала нас, и я ей очень обрадовалась. Она говорит: «Меня всё больше и больше тянет к вам, и я наконец так притянусь, что войду в первобытное состояние и начну вас опять сосать». Я тоже всё больше и больше привязываюсь к ней. Илье я не дала денег, и он мне всё говорил неприятное. Что напрасно отдал мне Лев Николаевич имение по купчей, а не пожизненно; что я к старости буду деньги любить, и т. п. Боже мой! Неужели только и отношений с большими сыновьями, что деньги и деньги! От Андрюши тоже – только дай денег и денег! Ужасно! Вечером написала шесть писем: Стасову, Холевинской, Андрюше, Кушнереву, типографу, Раевской и в магазины. 23 июня. Природа наконец всю меня охватила своей красотой и вытеснила из меня много тяжелого, чем страдала душа, и осветила мою жизнь. Я долго была к ней тупа и равнодушна нынешнюю весну, всё смотрела внутрь себя, а теперь это прошло, и так хорошо! Покос везде, запах сена, ясные дни, тоненький, ясный серпок луны (сегодня в Воронке отражался), пестрый народ, котлы на рогатках, шалаши в поле (ночлеги покосников), скотина отъевшаяся, и темная, зрелая и очень богатая в нынешнем году листва дерев. Утром час играла упражнения, потом пошли купаться. После обеда от третьего до седьмого часа переписывала для Льва Николаевича статью «Об искусстве». Написала очень много. После чаю ходили все гулять на Горелую Поляну, потом вышли на мост, на шоссе. Под мостом пройди вдоль по речке – новая купальня; мы с Сашей купались, холодно, но хорошо. Домой вернулись в катках, Лев Николаевич нас встретил на велосипеде и потом жаловался, что устал. За обедом Миша резко разговаривал с Иваном, лакеем, отец ему заметил, Миша продолжал в том же тоне, и Лев Николаевич рассердился, взял свою тарелку и ушел к себе. Очень было неприятно. Получила от Андрюши письмо – опять требования денег, и только от него и толку. Какое всё горе от детей! Только Таня горя не делает, от нее больше всего радости, но пока. Вернувшись, нашли Марью Александровну. Она фанатически обожает Льва Николаевича и им только и живет. В этом обожании она черпает силы, которыми живет, работает и всё переносит. А то где бы ей взять эти силы с ее истощенным, худеньким телом и ее болезнью? Какая сила во всякой любви! Это прямо стержень, на котором держится всякая жизнь. Вечером, после ужина, Лев Николаевич прочел о последних днях Герцена, я дописала для Льва Николаевича свою главу, много говорили и вспоминали о Николае Николаевиче Ге и спорили о его «Распятии». Я ненавижу эту картину, а Лев Николаевич и Марья Александровна ее хвалили. Мы вдавались в крайности, и потому разговор этот скоро прекратился. Получила письмо от Левы из Швеции. 24 июня. С утра дождь, встала поздно, всю ночь болела правая рука. Очень хорошо учила Сашу, и она была внимательна. Ей, главное, нужно не учение, а развитие, о чем я и стараюсь. Мы учились часа два. Потом сидела с Марьей Александровной и перешивала свое платье – рукава; мы с ней говорили о семейных наших делах, она очень участлива и добра. Ездила в катках с Сашей, Марьей Васильевной, мисс Белый и Обер купаться. Лошади заминались, и было несносно. Вода холодная, чистая и прибыла от дождя. Лев Николаевич страшно сосредоточен в своей работе, и весь мир для него не существует. А я как была всю жизнь одинока с ним, так и теперь. Я нужна ему ночью, а не днем, и это грустно, и поневоле пожалеешь о прошлогоднем милом товарище и собеседнике. Лев Николаевич ездил верхом один в Овсянниково, потом всё сидел внизу. Я вошла к нему – он пасьянс разложил. Играла, когда никого дома не было, две сонаты Бетховена и «Песнь без слов» Мендельсона; ею я всегда заканчиваю – как молитвой, я очень ее люблю. От ужина до сих пор переписывала для Льва Николаевича и очень много переписала. Теперь два часа ночи, иду спать. От Сухотина письмо – умерла его жена. Очень тяжелы мне и Льву Николаевичу эти отношения и переписка Тани с Сухотиным. 25 июня. Ночь уж эту совсем не спала, всё бросает в жар, точно обдает всю жарким паром. Трудное я физически время переживаю. Играла часа два с лишком сонаты Моцарта и упражнения разные. Переписала много Льву Николаевичу. Не нравится мне его статья, и мне это очень жалко. Какой-то неприятный, даже злой задор в его статьях. Так я и чувствую, что нападает он на воображаемого врага (хотя бы Сергея Ивановича, к которому так ревнует меня), и вся цель его – уничтожить этого врага. Ходила пешком купаться на Воронку, тихо радовалась природе и даже не разговаривала с Марьей Васильевной. День прошел, как и всё лето идет – вяло и скучно. Приезжали Маша с Колей, пришла Надя Иванова. И люди, и всё – тускло, тускло… Читаю французскую книжку отвратительную – просто валялась, я взяла и ужаснулась сладострастному ее содержанию. Уже заглавие одно: «Aphrodite» [Луи Пьера]… До чего развращены французы! Но зато какую верную оценку можно сделать женской и своей красоте тела, прочтя эту книгу. Большое счастье – неведение, в котором красивая женщина находится до старости о своей красоте, особенно тела, это оставляет в ней чистоту и свежесть моральную. А такие книги – гибель. 26 июня. Жара, покос, сильно болит голова. С утра ходила купаться с Надей Ивановой и говорила ей о том, что внутри, в самой глубине души каждого человека есть двигатель его жизни. У мужчин – любовь к славе, нажива, у редких – искусство, наука в чистом виде; у женщин главное – любовь, иногда фанатизм. В Шамордине монахиня посадила два дерева косточками апельсина, который ел отец Амвросий и плевал их. Она обожает эти два дерева и живет ими; а была курсистка, дворянка. Марья Александровна Шмидт боготворит Льва Николаевича. Лев Николаевич любит больше всего славу и т. д. После обеда играла с мисс Белый, буду учить сонату Бетховена в mi b. majeur. Очень приятно с ней заниматься. Таня и Саша ездили в Тулу. Приехал Сережа, завтра с Сашей еду к нему и к Илье. Весь вечер переписывала Льву Николаевичу. Его почти не видала, как всегда. Он ездил на велосипеде в Тулу, отдал его чинить, оттуда вернулся частью пешком, частью на обратных телегах. Здоровье мое всё хуже и хуже. 30 июня. Вчера вечером вернулась от Сережи и Илюши, куда ездила с Сашей; хотела провести с Сережей день его рожденья, 28-го, и дать ему менее почувствовать его одиночество именно в этот день. Он мне очень жалок и трогателен тем, что несчастие его так смягчило: он кроток, тих и грустен, к людям более снисходителен и ласков. А сбежавшая сумбурная жена его ждет родов его ребенка и своим ледяным сердцем ни разу не пожалела своего мужа, ничем перед ней не виноватого[102]. Жизнь Ильи и он сам на меня произвели безотрадное впечатление: четверо прекрасных детей (особенно Миша хорош), и какие будут те идеалы, которые им ставит отец? Лошади, собаки? Как подвывали гончие? Гоняли ли Бархатного? А потом при всяком удобном случае выпивка бог знает с каким сбродом – и больше ничего. Если он не изменится, плохие вырастут дети. Соня, жена его, смутно это чувствует, и ее жалко. Она всячески выбивается из всего этого, много трудится – и он ей ни в чем не помощник, и она не справится одна с жизнью и с воспитанием детей. В Никольском у Сережи – чудесная прогулка по живописным местам, гости, разговоры о теории музыки; он мне кое-что сообщил о своих знаниях и дал прочесть кое-какие музыкальные брошюры и учебники. Рада была провести день с Варей Нагорновой. Читала на железной дороге книгу ужасную –«Полудевы» Прево – и почувствовала и стыд, и какое-то недомогание, почти физическое, которое у меня бывает, когда я прочту грязную книгу. Как ужасно отсутствие чистоты в любви, а как и самая возвышенная любовь приходит к тому же, к желанию обладания и близости! Но во французской книге не падение женщин огажено, а этот полуразврат, то есть всё, только не самый последний шаг, и это хуже уж всего. Вернувшись, застала Таню на Козловке; она ехала к Олсуфьевым, и я рада, что она хоть на время выйдет из своего тяжелого состояния, в которое попала под влиянием Сухотина, и хоть рассеется и увидит порядочных людей. Дома застала Мишу в дизентерии очень сильной, и никто ему не помог ничем: Маша занята мужем молодым, Таня – отъездом, а отец… У моих детей давно нет отца. Сам же Лев Николаевич очень неприветлив, неприятен, и я очень огорчена тем, что увидала еще и еще, как спокойно равнодушен он ко мне и моей жизни, когда я сижу в семье и никого не вижу; и как для того чтоб замечать и ценить меня, ему нужно, чтоб была опасность потерять мою любовь или разделить ее, хотя самым чистым и невинным образом, но с другим человеком. Как будто то, что я никого не вижу, может уничтожить в душе привязанности к другим или усилить их к нему! Изо всего дня только и было сегодня приятного – разговор с Туркиным. Говорили о воспитании и характерах детей, об «Эмиле» Руссо. Потом о путешествиях, о Крыме он мне рассказал. Я много шила, и как-то пуст был день. Дождь льет с утра, и ничто не веселит. 2 июля. Вчера не писала. Заболел Лев Николаевич желудочно-желчным припадком. Я сидела, переписывала его же статью, прибежал Миша испуганный, говорит: «Папа кричит и охает от боли». Прихожу вниз, он сидит согнувшись и охает, и пот с него так и льет, пришлось тотчас же рубашку сменить. Сейчас же мы с Машей и Мишей принялись хлопотать: припарки из льняного семени, сода, ревень. Ничего не помогало, и всякие внутренние средства вызывали рвоту, а от рвоты – нестерпимые боли. Всю ночь он не спал, боль продолжалась, и мне ночью страшно стало за его жизнь. Я почувствовала, как я вдруг стану страшно одинока без него; и хотя я часто страдаю от того, что он любит меня физически больше, чем морально, но если не будет его постоянного участия, мне и жить не будет хотеться. Сегодня я перевязываю ему компресс, он ласкает рукой мои волосы, и потом, когда я кончу, он целует мои руки и всё следит за мной глазами, когда я убираюсь или готовлю ему что-нибудь в комнате. Сегодня был доктор Руднев, нашел организм Льва Николаевича очень сильным; болезнь – острый желудочно-желчный катар, опасности никакой. Трудно будет выдержать Льва Николаевича на диете. Он и заболел от огурца и редиски, которые ел, несмотря на мою просьбу не есть теперь, когда эпидемия и у него уже болело под ложкой. Миша тоже нездоров еще: у него всё еще продолжается дизентерия. Он очень тих, ребячлив и мил в своем нездоровье. Ходила купаться, тепло, сыро, чудесная лунная ночь – и так судьба устроила, что вместо прогулок, красоты природы, музыки – всего, что украшает жизнь, приходится возиться с компрессами и бороться со сном, с желанием радостей природы и т. д. Читала Льву Николаевичу вслух глупый рассказ из «Нового времени» и сама кончила роман Прево. 3 июля. Льву Николаевичу сегодня лучше, боли прошли, желудок действовал, и отлегло от души то горе, которое произвела его болезнь. Но он еще лежал весь день. К нему приходил молодой человек, сектант[103], и Лев Николаевич с ним много беседовал. Как все сектанты – этот тоже очень односторонний, узкий, но много читал и интересуется отвлеченными вопросами и человеческой мудростью. Читал в издания «Посредника» Эпиктета, Платона, Марка Аврелия и других. Перешла сегодня в комнату Маши из своей спальни, где проспала 35 лет почти. Но стала желать больше уединения, и очень жарко в спальне было, а я всё задыхаюсь, и меня и так в пот весь день бросает. Ходила вечером одна на Воронку купаться, Туркин мне вышел навстречу, думая, что мне жутко одной идти. Сидели все вместе вечером на балконе, жарко, луна необыкновенно красива. Маша с Колей уехали в Овсянниково. Утром учила немного Сашу; она стала лучше, я ее напугала, что отдам в институт. Миша учится, очень приятен, но дик во многом, и меня это неприятно пугает: из ружья тушит свечи, собирается делать наливку, стучит на фортепьяно аккорды и громко, глупо и некрасиво выкрикивает песни. Может быть, еще молод и облагородится, станет утонченнее душой. Было короткое холодное письмецо от Сергея Ивановича, он приезжает в воскресенье. Я еще не сказала Льву Николаевичу, боюсь его расстроить. Неужели он будет опять ревновать! Но мучительно это предположение, а главное, Лев Николаевич болен, и я так боюсь ему повредить! Если б Сергей Иванович знал, как он удивился бы! А я не могу преодолеть своего чувства радости, что будет музыка и будет приятный собеседник, веселый и порядочный. Он написал романсы для Тани и, наверное, очень любит ее. 4 июля. Здоровье всех лучше, но опять были неприятности. Миша за обедом упомянул о приезде Сергея Ивановича, Лев Николаевич весь вспыхнул и говорит: «Я этого не знал». После обеда опять тяжелые разговоры, упреки во лжи, требования искоренить какое-то мое особенное чувство к Сергею Ивановичу или прекратить всякие отношения. И это и другое – глупость. Искоренять чувства, если они существуют, – ни в чьей власти. Только поступки в нашей власти, и в этом мне ничего нельзя упрекнуть, как бы зло ни искали к чему придраться. Прекратить всякие отношения с порядочным, деликатным и добрым человеком – это значит его оскорбить без всякой причины и компрометировать свою жену тоже без всякой причины, не говоря уже вины. Играла сегодня часа четыре и наслаждалась Моцартом. Совсем вечером ходила купаться с мисс Белый. Приехал Померанцев. И его ругательски ругали; он ученик Сергея Ивановича. Была гроза и дождь. 5 июля. Никакие ласки, ни мой внимательный и нежный уход, ни мое терпение перед всеми грубыми и несправедливыми упреками Льва Николаевича не смягчают его раздражения из-за приезда Сергея Ивановича. Теперь я решилась молчать. Дело мое, личное, перед Богом и моей совестью. Приехали Померанцев, Муромцева. Весь день провела праздно, в разговорах. Муромцева – талантливая натура и потому понимает многое если не умом, то чутьем. Лев Николаевич разговорился об искусстве перед Померанцевым, Муромцевой и Мишей, отрицая Вагнера, новую музыку, последние произведения Бетховена и проч. Его споры и доказательства всегда сопровождаются таким раздражением, что я не могу их слушать и ухожу. 6 июля. С утра разговоры с Муромцевой, потом поехали купаться. Жара такая, какой еще не было, и я это люблю. Возвращаемся домой, у леса встретили Сергея Ивановича и Юшу, идут по-прошлогоднему – купаться. Вернувшись, вошла ко Льву Николаевичу. Он зол, неприятен, ревнив, и никакие самые кроткие и добрые речи не смягчили его. Муромцева уехала. Она противно прижималась к Сергею Ивановичу и цеплялась за него в катках, и я в ней увидала ее другую – нехорошую сторону. Приехал Митя Дьяков, ушли все мальчики на хороводы. Вернулась Таня, милая и приятная. Сергей Иванович ничего не ел за ужином и говорил, что у него болит голова. Сохрани Бог, если он что заметит! 10 июля. Пережила тяжелые, тяжелые испытанья. То, чего я так страшно боялась с Таней, получило определенность. Она влюблена в Сухотина и переговорила с ним о замужестве. Мы случайно и естественно разговорились с ней об этом. Ей, видно, хотелось и нужно было высказаться. Она погибает и ищет спасения. С Львом Николаевичем тоже был у ней разговор. Когда я ему это впервые сообщила, то он был ошеломлен, как-то сразу это его согнуло, огорчило, даже не огорчило, а привело в отчаяние. Таня много плакала эти дни, но она, кажется, сознает, что это будет ее несчастье, и написала ему отказ. Мои отношения с Львом Николаевичем опять исправились. 13 июля. Сегодня уехал Сергей Иванович. Эти дни всё было мирно и хорошо. Сергей Иванович играл несколько раз. В первый раз, вечером 10-го, Лев Николаевич пошел к Тане говорить о Сухотине, а я попросила Сергея Ивановича мне сыграть сонату Моцарта. Мы были одни в зале, тихо было и хорошо. Он сыграл две, и прелестно! Потом сыграл прекрасный Andante из своей симфонии, я его раньше слышала в Москве и очень его люблю. В тот же вечер, когда все собрались к чаю, он еще играл сонату Шопена. Никто в мире так не играет, как он. Это благородство, добросовестность, чувство меры, иногда стремление куда-то, как будто он, забываясь, отдается чему-то и тогда захватывает слушателя. На другой день, 11-го, он опять играл – Rondo Бетховена, вариации Моцарта, потом Шуберта, из «Фауста» песнь Маргариты, балладу Шопена, полонез Шопена. Очевидно, он старался выбирать то, что любит Лев Николаевич, игра его меня истерзала. Когда он доигрывал полонез, я уже не могла сдерживать слезы и меня трясло от внутренних рыданий. Вчера, 12-го, сонату Шопена он повторил. Сегодняшним днем лето переломилось. Мне всю неделю так было хорошо с Сергеем Ивановичем. Мы ездили два раза на завод Бельгийской компании, ходили гулять по Горелой Поляне, кругом, и купались около шоссе под мостом. Еще ходили нал шахты, прекрасная прогулка Засекой; еще вчера гуляли на Лимонную посадку и сделали хороший круг. Ездили всякий день вместе купаться целой компанией. Сегодня и вчера я всех фотографировала, и то же делал Туркин. Мои фотографии почти все удались хорошо. Я много раз снимала Сергея Ивановича, и на этот раз Лев Николаевич не сердился. Он вдруг затих, стал добр, ездил вчера и верхом, и на велосипеде и на меня не сердится. Да и за что бы! Что дурного выйдет из моей дружеской привязанности к такому чистому, доброму и талантливому другу? Как жаль, что ревность Льва Николаевича испортила наши отношения! Таня получила ответ от Сухотина, и он ей, очевидно, пишет ряд тех банально-нежных слов, которыми уже завлекал столько женщин! Мы с Машей сегодня плакали о безумной, слепой любви Тани. Приезжал Андрюша на один час из Москвы. Всё то же! Денег дай – слабый, нежный и жалкий. Ходили вечером купаться. Порою сожмется сердце, и не хочется думать, что никогда не повторятся ни наши прогулки, ни музыка, ни тихое милое общество этого человека. Но и тут – что Бог даст! Верю в Божью волю и в добрую его волю. Переписывала Льву Николаевичу немного, проявляла фотографии, мало видела Марью Александровну, о чем жалею. Второй час ночи, правый глаз плохо видит. Как страшна не смерть – я ее приветствую, – а немощная старость! Померанцев мне посвятил свои романсы, Танеев привез свои дуэты. Буду опять заниматься музыкой. Погода меняется; эту неделю была страшная жара, а сегодня тепло, но дождь маленький и ветер к вечеру. Какая была теплая, светлая и радостная неделя, если б не горе с Таней. 14 июля. С утра и весь день проявляла фотографии, копировала и работала на всех, кто меня просил. Ходили пешком купаться, северный ветер, ясное небо. Вечером я устала. Лев Николаевич меня позвал прогуляться, чему я была очень рада. Миша неожиданно откровенно и горячо начал мне рассказывать о том, как ему стало трудно от полового возбуждения, как он чувствует себя даже больным, желал бы остаться чист и боится, что не устоит. Бедные мои мальчики! У них нет отца, а что я могу советовать в таких делах? Я ничего не знаю из этой области мужской жизни. Таня была в Туле. Лев Николаевич весел, рассказывал, как он в Туле заехал на велосипеде в велосипедный круг, и все разговоры о гонках и обо всем, что касается велосипедной езды. Его и это еще интересует! Чувствую себя вялой, писала письмо Леве, отвечала на разные деловые, выдавала жалованье, записывала счеты и немного переписала для Льва Николаевича его статью «Об искусстве». Бодрюсь и лихорадочно деятельна. Переписывала для Льва Николаевича до трех часов ночи. 15 июля. Встала поздно, копировала фотографии, ездила купаться с Сашей и гувернантками. Опять копировала, учила Сашу, очень хорошо сегодня шел урок, задала ей сочинение о лесе, и мы перечитывали разные отрывки Тургенева и других писателей, где описывается лес. Я ей указывала на красоты описаний, взятых автором из непосредственных впечатлений, а не выдуманных. Саша как будто всё понимала. Поправляла ей перевод с английского – рассказ о древних философах – и спросила географию Америки. После чая мы все пошли пешком в Овсянниково. У нас в гостях шведский студент, хороший малый. Дорогой Николай Васильевич всё фотографировал разные моменты с овцами, станцией, остановкой с нашими лошадьми. Хорошо бы, если б вышло. Посидели у Маши, вернулись в катках. Яркий красный шар солнца на закате, чистое светло-голубое небо, свежо и красиво. Лев Николаевич и швед вернулись домой верхами. Лев Николаевич меня поразил сегодня, выпив восемь чашек чаю вечером, и это после целой кастрюли геркулесовой овсянки, целой тарелки винегрету и компоту. Сейчас два часа ночи, я всё переписывала. Ужасно скучная и тяжелая работа, потому что, наверное, то, что написано мною сегодня – завтра всё перечеркнется и будет переписано Львом Николаевичем вновь. Какое у него терпение и трудолюбие – это поразительно! Думала много сегодня о Сергее Ивановиче после разговора о нем с Николаем Васильевичем, после восторженных о нем отзывов шведского студента, знавшего С.И. в Москве. Есть что-то в нем, что все любят. Думаю о нем спокойно; это всегда бывает, когда я его повидаю. Но недостает мне его в моей, особенно летней, жизни постоянно. Хочется страстно музыки, хотя бы самой поиграть. Но то нет времени, то Лев Николаевич занимается, то он спит – и всё ему мешает. Без личной радости, которая теперь у меня в музыке, скучно жить. Стараюсь себя уверять, что радость в исполнении долга, заставляю себя переписывать и делать всё, что составляет мой долг, но иногда сламывается воля, хочется личных радостей, личной жизни, своего труда, а не труда над чужими трудами, как было всю жизнь, – и тогда я слабею и мне плохо. 16 июля. Встала поздно, вчера опять переписывала до трех часов ночи. С утра опять переписывала до обеда. После обеда пошла смотреть, как прививают яблони, потом с садовником прошла по посадкам и сделала разные полезные распоряжения. Набрала сыроежек, шла домой, встретила из яблочного сада хозяина, снявшего наш сад, и постыдно и больно кричала на него за то, что не ставят подпорки и яблони в большом количестве поломались. Решила подать жалобу земскому начальнику и не подала. Потом пошли купаться. Весь день была деятельна и бодра, и вдруг нахлынула волна такого болезненного отчаяния, что я ужаснулась. Надо жить бодро и вперед, вперед, не оглядываясь, без сожаленья и с твердой верой в то, что Бог делает всё к лучшему. Шла по лесу домой и всё молилась горячо, всей душой, отдаваясь воле и благости Божьей. Вечер весь наклеивала фотографии, завтра их все раздарю и больше так работать над фотографией не буду. Наклеила сегодня 80 штук. Уехал Туркин, учитель Миши, и очень жаль, он был прекрасный человек и педагог. Тепло, ясно, чудесное лето! Лев Николаевич всё сидит в своем кабинете, пишет статью, письма, читает, ездит купаться на велосипеде. Он ко всему и всем равнодушен. 17 июля. Всё переписываю и копирую фотографии. Сегодня все раздала и на время прекращу это занятие. Ездили купаться, приезжали после обеда соседи из Судакова – Шеншины, ходили гулять вокруг посадки и на купальню. Чудесный вечер, чистый, ясный, темно-розовый закат, грустная Таня, какой-то чуждый Левочка – и грусть на душе. Миша ездил крестить девочку Ивана-лакея. Саша варит варенье Маше, писала сочинение, весь день хохочет, толста, красна и грубит всем. Были Маша с Колей, играли в tennis. Приехала внучка Леночка, с русской учительницей. Завтра приедет Соня с тремя мальчиками, а в субботу Илья. Они все уезжают от Ильи, когда у них в доме съезжаются соседи и происходит пьянство. Люблю и хвалю Соню, что она старается отклонять от Ильи и от семьи всё безобразное и безнравственное. Я рада внукам, особенно Мише. Сегодня мечтала провести день одна, писать, играть, читать – и вдруг гости, а теперь семья Илюши, и я займу свое время внучатами. Переписала длинную главу в 50 с лишком листков и кончила. Трудная и скучная эта работа. Ну, да всё равно! Дотягивать свою жизнь долга до конца. Мало мне было радостей, а теперь еще и еще меньше. 18 июля. Уже 18 июля! Не знаю, хочу я, чтоб шло время или чтоб стояло. Ничего не хочу! Сегодня Таня сидит в зале на кресле и плачет горько; пришли мы с Марьей Александровной и тоже принялись плакать. Бедная! Она не радостно, не смело любит, как любят молодые с верой в будущее, с чувством, что всё возможно, всё весело, всё впереди! Она болезненно влюблена в старого – ему 48 лет, а ей 33 будет – и слабого человека! Знаю я это именно болезненное чувство, когда от любви не освещается, а меркнет Божий мир, когда это дурно, нельзя – а изменить нет сил. Помоги нам Бог! Приехала невестка Соня со всеми моими внучатами. Я им очень рада, но – увы! они не наполнят моей жизни, вся моя любовь к детям (своим) иссякла до дна; этим я уже жить больше не могу. Они все уехали в Овсянниково, трое маленьких мальчиков легли спать, а я упражнялась на фортепьяно, но приехали Оболенский с молодым графом Шереметевым и помешали мне. Мне всегда мешают, и это очень досадно и тяжело. Сегодня и Лев Николаевич, и я больны желудками и потому физически просто мрачны. Занималась много делами: написала самарскому управляющему, составила объявления в газетах о выходе нового издания, написала прошение земскому начальнику о порче яблонь, послала книги Леве, деловые бумаги, паспорты в Москву, отвечала Левенфельду в Берлин, записывала дела в Туле на завтра и проч., и проч. Всё это нужно, но так скучно, скучно! Лев Николаевич утром писал, потом всё лежит на диване в кабинете и читает. Внуки его не радуют, как и дети. Ничего и никого ему не нужно; а между тем вокруг него всякий заявляет свои права на жизнь, на движение, на свой, личный интерес в жизни… 20 июля. Вчера не писала, провозилась с внуками, потом с неудачными фотографиями до самой ночи. Спала дурно, мало. Сегодня день неудач. Саша что-то прищемила Анночку, Таня на нее напала, и Саша до того разрыдалась, что обедать не пошла. Мне стало досадно, что она расстраивает именинный обед Илюши, я велела ей, грозно крича на нее, выйти; она пошла, но рыдала весь обед и ничего не ела. Я вспомнила, как нежный Ванечка страдал бы, глядя на горе Саши; он не мог выносить ничьего горя, и так стало грустно, грустно. Мне мало было жалко Сашу, потому что перед обедом она одевалась и всё время безжалостно изводила няню, и я это слышала из третьей комнаты. Опять всё то же: ездили купаться, и я много переписывала. Ко Льву Николаевичу у меня тихая нежность; в минуты затруднений и горя я все-таки льну к нему, ищу поддержки и утешения, хотя знаю, что редко отзовется он и еще реже поможет. Боже мой, сколько трудных душевных и семейных вопросов приходилось переживать и решать самой и одной! Вот и сегодня: телеграмма от Андрюши: «Ради Бога, пришли 300 рублей денег». Что делать? Посоветовавшись со всеми, решили не посылать; а Илюша вызвался съездить в Москву и к Андрюше, в лагерь, завтра. Я ему очень благодарна. Еще неудача: наш симпатичный Мишин преподаватель, Николай Васильевич Туркин, никак не может продолжать уроков с Мишей. Сабанеевы – и муж, и жена – больны, и он один остается и для семьи, и для журнала «Природа и охота». Какая неудача для Миши! Это может повредить его экзамену в 7-й класс. Один он ничего не сделает, а какой еще попадется учитель! Пробовали вечером дуэты и романсы Танеева, и ничего не вышло. Трудно и сложно, надо поучить сначала. Жара страшная, на солнце 43°, в тени 30. Семья Илюши мне очень приятна, и я благодарна милой Соне, что она приехала и привезла всех. Какая она хорошая, настоящая, и женщина, и мать, и жена; и характер у нее милый. Таня и вчера, и третьего дня плакала, а сегодня как будто покойней. Поиграла вчера и сегодня по часу. Но это так мало! Ничего – для успехов, но что-нибудь для нерв и развлечения. 21 июля. Вчера видела во сне Ванечку, худенького, лежащего, протягивающего мне бледную ручку; сегодня видела во сне Сергея Ивановича, тоже лежащего и с улыбкой протягивающего мне руки. Маша говорила мне, что Илья очень огорчается, что в Киеве у сестры Тани, у Философовых и везде говорят о моей привязанности к Сергею Ивановичу. Как странно устроилось мнение общества! Кого-нибудь любить — это дурно. А меня не огорчают и не смущают толки эти. Я даже рада и горда, что мое имя связывают с именем такого прекрасного, нравственного, доброго и талантливого человека. Моя совесть спокойна; я чиста перед Богом, мужем и детьми – как новорожденный младенец, как телом, так и душою, и даже помыслами. Знаю, что больше, лучше, сильнее Льва Николаевича я никого не любила и не могу любить. Когда я его увижу вдруг где-нибудь неожиданно, мне станет всегда радостно, я люблю всю его фигуру, его глаза, улыбку, разговор, в котором никогда не услышишь ничего вульгарного (разве только в гневе, но забудем это), его вечное желание совершенствования. Уехали Миша и Митя Дьяков в Полтаву к Данилевским. Уехал Илья в Москву к Андрюше, уехали Маша и Коля Оболенский к родным. Купались, сняла опять группы в катках и в воде. Копировала вчерашние, переписывала для Льва Николаевича часа три сряду. Буря, ветер, пыль столбом, отдаленные раскаты грома, и набат по случаю пожара где-то недалеко. Жара была томительная, в тени – 28°, на солнце – 43, в комнатах – 20½. Таня не совсем здорова, бледна, и, боже мой, как мне ее жалко и как я ее люблю! Так взяла бы, схватила, обняла, унесла бы куда-нибудь. Ах вы мои старшие, любимые дети, Сережа и Таня, сколько любви, забот, мечты мы вам дали – а Господь не оглянулся на вас! Мало счастья было на их долю. 22 июля. Опять всю ночь нездоровье Льва Николаевича. У него среди ночи сделался приступ холерины; рвота непрерывно часа четыре. Болей больших не было, и к утру прекратилось. Вчера он съел невероятное количество печеного картофеля, пил квас при боли под ложкой, а третьего дня пил Эмс и съел персик. Отсутствие гигиенических сведений и невоздержание Льва Николаевича изумительны при его уме. Приехал Сережа, играл приятно на фортепьяно. Я живу как автомат: хожу, ем, сплю, купаюсь, переписываю… Своей жизни нет: ни почитать, ни поиграть, ни подумать – и так вся жизнь. Жизнь ли это? «Helas, la plus grande partie de notre vie n’est pas vie, mais duree»[104]. Да я не живу, je dure[105]… Сережа сегодня говорит: «Мама впадает в детство, я ей подарю куклу и, так и быть, фарфоровый сервиз». Это смешно, его слова, но мое впадание в детство совсем не смешно, а очень трагично. Я никогда не имела времени заняться самостоятельно чем бы то ни было, не было времени собой заняться. Приходилось подставлять свои силы и свое время на то, чего в данный момент требовала от меня семья: муж или дети. И вот подкралась старость, и я проработала на семью все свои умственные, душевные и телесные силы и осталась, как говорит Сережа, ребенком. Отработав на семью, я и ахнула, что не образовалась лучше и не имею в руках никакого искусства, что мало знала людей и мало от них чему научилась, – но всё поздно. Переменилась погода: ветер, серое небо. Написала письмо Туркину, переписывала целую главу «Об искусстве» для Льва Николаевича. Еще день из жизни. Льву Николаевичу к вечеру лучше, он сидит в зале и с сыном Сережей играет в шахматы. 23 июля. С утра впечатление приезда Ильи с Андрюшей и нового учителя Миши – Соболева, который заменит Туркина. Как жаль Туркина! Этот живой, развязный и страстный химик много говорил с Сережей об университете и химии. Андрюша опять прокутился у цыган, занял 300 рублей и очень мне тяжел и неприятен своей безобразной жизнью. Что-то с ним будет! Плох уж он очень, а главное, пьет, а пьяному ему море по колено. Илюша пришел сегодня в мою комнату и начал мне упрекать, что я переменилась, стала меньше детей любить, стала от них отстраняться. Я стала оправдываться, вспоминая им (тут были еще Таня, Соня и Андрюша), как я проводила время в вечном труде то с детьми, то с переписыванием и служением отцу их и вспомнила тяжелое время, когда родился Ванечка. Лева экзамен зрелости держал, мальчики остались без гувернантки, я кормила с больными грудями плохонького ребенка, и весна, и отыскивание учителей, и слабость после родов, а Лев Николаевич ушел в Ясную пешком, меня бросил, несмотря на мои слезы и просьбы о помощи. И так сколько, сколько трудов, бессонных ночей, слез, сомнений я пережила, сколько весен прожила в городе, чтобы не покидать экзаменующихся сыновей! А теперь только упреки и упреки. Я слушала, оправдывалась, да и не выдержала – разрыдалась. И как меня ни упрекай дети – я никогда уже не буду чем была. Всё изнашивается, и мое материнское, страстное отношение к семье износилось. Не могу и не хочу больше страдать, глядя на их слабости, недостатки, их неудачные жизни. Мне легче с посторонними, мне нужны новые, более содержательные и спокойные отношения с людьми; мне так наболели все семейные отношения! Упрекали мне и за Сергея Ивановича. Пускай! То, что дал мне этот человек, – такой богатый, радостный вклад в мою жизнь! Он мне открыл дверь в музыкальный мир, в котором я только после его игры стала находить радость и утешение. Он своей музыкой разбудил меня к жизни, которая после смерти Ванечки совсем ушла от меня. И он мне давал своим кротким и радостным присутствием душевное успокоение. И теперь, после того как я повидаю его, мне вдруг делается так спокойно, хорошо на душе. А они все думают, что я влюблена! Как у нас всё умеют опошлить! Я, старая уже, – и такое несообразное слово и мысли. Ходили после чая гулять с Львом Николаевичем, Сережей, Таней, Сашей и гувернантками. Лев Николаевич говорил с Сережей неприятным, раздражительным тоном о значении науки. Я отошла подальше, я не выношу этого тона, который грозит всякую минуту перейти в тяжелый спор и даже ссору. Но Сережа был сдержан, и обошлось благополучно. Пришли – темно, играли мужчины в шахматы, я немного почитала – и весь день переписывала. Стало холодно, северный ветер, сухо, к вечеру прояснило. Мы все-таки купались. Играть совсем не приходится, и очень скучно живется. Остригла внуков, повозилась с ними вечером; они очень милы, но не глубоко забирает меня это чувство бабушки. Надо опять спуститься к земле, полюбить земные интересы с детьми, а я уж ушла, меня детская жизнь перестала интересовать. Довольно ее было! 24 июля. Учила утром Сашу, поправила ей сочинение Лес. Потом купались. После обеда переписывала Льву Николаевичу и сейчас переписывала, кончила длинную главу. Вечером все играли в теннис: Илья, Андрюша, Лев Николаевич и Вака Философов. Внуки бегали с хлыстиками, Таня, Соня и я смотрели на игру и возились с тремя внуками: Мишей, Андрюшей и Илюшей. Я долго сидеть не люблю, принесла пилку и ножницы и стригла сухие и негодные ветки по аллее. Дождь нас всех домой вогнал. Ходила раньше по саду и смотрела печальное хозяйство плохого садовника. Дома разговаривала сначала с Ильей, потом с Андрюшей и Вакой. Главное, я внушала им страшный вред опьянения и горячо советовала совсем бросить вино. Все ошибки и все дурные поступки моих сыновей – от употребления вина. Таня была в Туле; приехала довольно оживленная; но мне грустно ее невеселое оживление. Она ушла, наша милая Таня, ушла от нас, от себя, от спокойной счастливой жизни и идет к погибели. Дойдет ли? И вернется ли когда опять? Ах, как всё печально, печально! Сейчас иду читать «Письма о музыке» Рубинштейна. У Льва Николаевича какой-то темный — Ярцев. Ему, видно, невыносимо скучно с ним. Притом нездоровится, живот всё болит и слабость. Лежит внизу, читает, мрачен, серьезен очень. Его Таня сильно огорчает. 25 июля. Лев Николаевич всё не совсем здоров желудком и потому мрачен, работать не может, не в духе, в чем даже у меня просил извинения. День сегодня провела довольно праздно. Переписывала романс Сергея Ивановича, который он написал по заказу Тани на слова Фета: «Какое счастье – ночь, и мы одни». Читала «Письма о музыке», мечтала поиграть, и не удалось. После чая, вечером, ужасно хотелось пойти далеко погулять. Таня и Соня катались на лодке, гувернантки с Сашей ездили на Козловку. У Льва Николаевича был посетитель, какой-то студент Духовной академии, присланный Анненковой. Я позвала Льва Николаевича гулять, но уже кончился чудесный закат, стало холодно, Лев Николаевич дошел до деревни, озяб и вернулся один домой, а я с Соней еще прошлась. Но какие это прогулки! Короткие, бессодержательные. И то спасибо Соне милой, она для меня пошла, и с ней всегда приятно. Покупали с Таней у старухи русские кружева. После ужина Лев Николаевич прочел нам французскую драму в «Revue Blanche», довольно глупую. Завтра утром Соня с детьми уезжает, и мне очень этого жаль. Они нисколько не мешали, а вносили много радости и оживления. Сегодня сижу одна на балконе и думаю, как я хорошо обставлена: как красива Ясная Поляна, как спокойна моя жизнь, как мне предан муж, как я независима касательно денег. Отчего же я не вполне счастлива? Виновата ли я? Я знаю все причины моей душевной боли. Я знаю, во-первых, что скорблю о том, что дети мои не так счастливы, как бы я того желала, а сама я, в сущности, страшно одинока. Муж мой мне не друг; он был временами и особенно к старости мне страстным любовником. Но я с ним всю жизнь была одинока. Он не гуляет со мной, потому что любит в одиночестве обдумывать свое писание. Он не интересовался моими детьми – это ему было и трудно, и скучно. Он никуда никогда со мной не поехал, не переживал никакие впечатления вместе – он их пережил раньше и везде бывал. Я же покорно и молчаливо прожила с ним всю жизнь – ровную, спокойную, бессодержательную и безличную. И теперь часто болезненно поднимается потребность впечатлений искусства, новой природы, умственного развития, желания приобрести новые сведения и знания, желание общения с людьми – и опять всё надо подавлять и молчаливо, покорно доживать жизнь без интереса личного и без содержания. Всякому своя судьба. Моя судьба была быть служебным элементом для мужа-писателя. И то хорошо: служила по крайней мере достойному жертвы человеку. Ходила к больному мальчику, клала компресс на живот, давала лекарство, и так он мне охотно подчинялся во всем. 26 июля. С утра переписывала ноты, ходила купаться; очень холодно, ветер, приехали англичанин Моод, Буланже, Зиновьев и Надя Фере. Моод тяжеловесен и скучен; Зиновьев способный, живой, но мало симпатичный; Буланже умный и добрый, очень предан Льву Николаевичу и всей нашей семье. Он очень занят теперь изданием книг «Посредника». Говорили о смерти и разных отношениях людей к этому вопросу. Сама я отношусь к этому вопросу вот как: давно чувствую свою душу вне тела, отрешившуюся от земных интересов. И это дало моему духовному «я» безграничный простор – следовательно, беспредельность и вечность. Кроме того, моя несомненная связь с божественным началом так тверда, что я так и чувствую путь, по которому вернусь к тому, откуда и изошла. У меня бывают иногда минуты такой радости, когда я подумаю о том таинственном переходе куда-то, где, наверное, уже не будет тех страданий, которыми я мучаюсь здесь. Я не умею выразить, но мне кажется, что когда я умру, я стряхну с себя всё лишнее, всю тяжесть – легко, легко станет – и улечу куда-то. Вечером много играла. С интересом и любопытством перечитывала разные места из бетховенских сонат, учила инвенцию Баха. Читаю и кончаю «Письма о музыке» Рубинштейна. Лев Николаевич всё не совсем здоров. Его вегетарианская пища его не довольно питает. Он ездил на Козловку верхом и разговаривал много с гостями. Рано утром уехала Соня с детьми. Андрюша ездил к Бибикову. Всё обещает не пить, а двух дней не может прожить без пьющего и преступного общества, как эти Бибиковы. Таня как будто поспокойнее. Но как она похудела! Саша ходила с гувернантками за орехами. Стало холоднее. Огромное количество яблок; как красив их вид и сбор сегодня. 27 июля. Ходили утром купаться: в воде 14°, на воздухе 11. Очень холодно. Льву Николаевичу всё нездоровится, но он ездил верхом в Ясенки; Таня и я – мы ездили тоже верхом в Овсянниково. Чистый, яркий закат, луна; к вечеру затихло, очень было хорошо. Я теперь так живу: сейчас, в данную минуту, хорошо – ну и славу богу. Марью Александровну застала очень утомленную и даже угнетенную. Она слишком много работает. Опять Зиновьев, Моод и Буланже. Буланже вел со мной длинный разговор о том, что если б я по теории Льва Николаевича отдала бы всё имущество и стала работать, то нам не дали бы ни работать, ни бедствовать, отовсюду явились бы и деньги, и помощь, и любовь к нам. Какая наивность! Однако мы живем, пишем, болеем – и никогда никто, кроме меня и дочерей, ни попишет, ни за больным не походит и ни в чем не поможет. Поиграла немного. Поучила Inventions Баха и разобрала увертюру «Оберон», сыграла любимые «Мелодию» Рубинштейна, «Песнь без слов» Мендельсона и «Романс» Давыдова. 28 июля. Живу вяло и лениво, хотя внешне жизнь полна. Ходили купаться, приехали Гинцбург и Ваня Раевский, потом вечером Цингер. Гинцбург хочет меня лепить во весь рост в виде маленькой статуэтки. Он хвалил мой рост, фигуру; говорил, что я совсем не изменилась. Зачем всё это? А что-то есть тщеславно-приятное в этой лести, если это лесть. Все и Лев Николаевич играли в lawn-tennis, а я два часа играла на фортепьяно и отвела душу. После чая ходили гулять, на Горелую Поляну, перешли по жердочке речку и вышли Засекой на шоссе. Потом сидели в казенном питомнике и вернулись домой, когда взошел прекрасно месяц, светлый и почти полный. А на западе заря вечерняя разлила по чистому небу такой чудесный, нежный розовый цвет, что глаза беспрестанно перебегали с луны на это розовое небо, и и то и другое было прелестно. Англичанин Моод, кажется, считал своей обязанностью меня сопровождать и разговаривать; а как мне хотелось идти одной, молчать и думать… Вечером играла в четыре руки с новым учителем Соболевым 8-ю симфонию Моцарта и начали септет Бетховена, но не кончили. Получила письмо от Сергея Ивановича. Я всё его ждала, так как послала ему фотографии, а он, учтивый человек, должен был меня поблагодарить. С Таней опять говорили о Сухотине, и опять было мучительно больно видеть, как она далеко с ним зашла. Лев Николаевич здоров, но не весел. Играл в теннис, теперь играет в шахматы с англичанином. Досадно, что не едет домой Миша. Андрюша опять уезжает сегодня ночью в полк. От Левы ласковое письмо. Скучает по России и робеет за жену, что ей тут не весело без ее родных[106]. Всего не помиришь в жизни! 29 июля. Еще один скучный день! Что я делала? С утра неохотно учила Сашу, потом ходила купаться, это берет много времени, но поддерживает свежесть тела, и это очень приятно. После обеда писала письма Леве и Сергею Ивановичу. Два раза переписала письмо к нему, и всё выходило нескладно. Таня сегодня на меня рассердилась за то, что я о ее истории с Сухотиным написала Леве. А у меня сердце наболело – я и сообщила сыну. Сама же она со всеми гувернантками и няней говорит об этом. Еще днем я шила шапку Льву Николаевичу из черного трико. Ходили гулять на Козловку: я отправила письма и послала Мише телеграмму, вызывая его. Вечером переписывала для Льва Николаевича. На фортепьяно не играла, и потому мне скучно. Были весь день англичанин Моод, потом редактор «Северного Вестника» Флетчер (им нужно сотрудничество Льва Николаевича, и потому мне противно). Ходили все гулять, но Лев Николаевич с ними шел далеко от нас, женщин, и разговоров их я не слыхала. Да и ничего нового или интересного не услышишь. Надоело это умствование, ломка всего, отрицание и искание не истин – это было бы хорошо, – а того, чего еще не было сказано человечеству, нового чего-то, удивительного, необыкновенного – и это скучно. Хорошо, когда люди с болью сердца ищут истины для себя, это всегда почтенно и красиво, а для удивления других – это не надо. Всякий сам для себя ее ищи. Опять ясные дни, страшно сухо и прелестные лунные ночи. Куда-нибудь бы употребить эту красоту природы! А то буднично идут дни… 30 июля. Какая красавица луна сейчас светит в мое окно! Как это бывало хорошо в молодости, когда, глядя на луну, в душе переговариваешься с любимым, но отсутствующим человеком, зная, что и он смотрит на ту же луну, и она притягивает своей красотой и его и мои взоры, точно через нее идет таинственная беседа. Играла сегодня часа четыре, и музыка меня тотчас же поднимает от земли, и то, что казалось досадно и важно, сделалось менее досадно и легче переносить. А сегодня были две досады: телеграмма от Данилевской, что Миша здоров, весел, а приедет только в субботу. Эта распущенность, отсутствие деликатности и добросовестности у Миши меня привели в отчаяние. Живет учитель, выхлопотала я у директора лицея экзамены осенью, и теперь Миша гуляет в Полтаве, а я переношу стыд перед учителем за сына и буду переносить стыд и перед директором. Нет, не могу больше нести всю эту тяжесть воспитания слабых, плохих сыновей! Они меня измучили. Я нынче просто плакала, когда получила телеграмму. Даже равнодушный ко всему, что касается детей, Лев Николаевич и тот вознегодовал. Послала третью телеграмму Мише, но уже почти две недели пропали! Другой досадой была Саша. Она стала очень плохо со мной учиться, и я дала ей переучить урок, она опять не выучила, и я ее не пустила с Таней верхом. Не люблю наказывать, но с Сашей все гувернантки потеряли терпение. День прошел обычно: купалась, переписывала, играла. Лев Николаевич ездил верхом узнать в Мясоедове о погорелых. Приехал скульптор Гинцбург. Жара сегодня африканская и страшно сухо. Сова кричит пронзительно и гадко. А ночь чудесная, и тихо как! 31 июля. Всё то же: переписывала Льву Николаевичу очень много. Местами интересно, а местами я совсем не согласна и бессильно сержусь, так как не решаюсь вступать в разговор с ним. Он так сердится, когда кто с ним не согласен, что всякий разговор немедленно должен прекратиться. В его книге «Об искусстве» хороша та мысль, что искусство прежде служило церкви, религии, потому что она была искренна; а когда утратилась вера, тогда искусство не знало, чему служить, и заблудилось. Но мне кажется, что это не новая мысль. Помню, что даже я, когда мне показывали храм Спасителя, сказала, что он мне не нравится, поскольку видно, что весь он создан без религиозного чувства, и потому храм этот языческий; а Успенский собор, напротив, весь дышит старинной, наивной, но настоящей верой, и потому гораздо лучше, и это храм Божий. Ходили купаться, час я играла упражнения; вечером Лев Николаевич ездил верхом в Тулу за почтой, Таня тоже верхом в Ясенки. Приехал Гольденвейзер, играл мне все романсы, прелюды и всё, что у меня есть переписанного из сочинений Сергея Ивановича. Отлично разбирает Гольденвейзер. Днем сегодня с меня лепил Гинцбург статуэтку. Пока очень дурно, безвкусно и непохоже. Что дальше будет? Миша не приехал, и очень досадно. Вечером шила себе рубашку и перешила шапочку Льву Николаевичу. Потом еще и еще переписывала. Скучно и нездоровится! Вечером Лев Николаевич играл в шахматы с Гольденвейзером. Он здоров и весел, слава Богу! Письмо от Левы, возвращается 12-го. 1 августа. Переписываю сегодня сочинение Льва Николаевича «Об искусстве», и везде с негодованием говорится о слишком большом участии любви (эротической мании) во всех произведениях искусства. А Саша мне утром говорит: «А папа какой сегодня веселый, и все оттого веселые!» А если б она знала, что всегда веселый всё от той же любви, которую он отрицает. Всё ясные и очень сухие дни. Везде пыль и бедствие. Ходили купаться; стояла – позировала Гинцбургу. Гуляли вечером при лунном свете. Гольденвейзер прекрасно играл сонату Шопена с похоронным маршем. Какая чудесная, прочувствованная музыкальная эпопея! Тут целый рассказ о смерти. И однообразный похоронный звон, и дикие звуки агонии, и нежные, поэтические воспоминания об умершем, и дикие крики отчаяния – так и следишь за рассказом. Надеюсь, что это — настоящее искусство и с точки зрения Льва Николаевича. Еще Гольденвейзер играл прелюды Шопена, сонату Бетховена (ораторию № 90), вариации Чайковского. Какое мне было удовольствие! Приехали Оболенские. Таня уже начала кривляться с новым учителем. Как сильна привычка кокетства. Лев Николаевич сегодня часа три играл с азартом в lawn-tennis, потом верхом ездил на Козловку; хотел ехать на велосипеде, но тот сломался. Да, сегодня он и писал много, и вообще молод, весел и здоров. Какая мощная натура! Вчера он мне с грустью говорил, что я постарела эти дни. Меня, пожалуй, не хватит для него, несмотря на 16 лет разницы, и на мою здоровую, моложавую наружность (как говорят все). Не играла, не читала, совсем не хватает ни на что времени с огромным трудом переписывания. Вечером опять тоска напала, и я убежала гулять. Какое бессилие иногда перед страстностью каких-нибудь желаний; какое мучительное бессилие! Так должен себя чувствовать человек, если б его заперли, даже замуравили и выхода нет. Так я чувствовала себя после смерти Ванечки и теперь часто чувствую минутами. Как бывает больно, как в эти минуты приветствуешь смерть! 2 августа. Утром вернулся Миша из Малороссии от Данилевских. Хотела его бранить за промедление, но не хватило духу: приехал счастливый от полученных в путешествии разных впечатлений. Как это хорошо бывает в молодости: новизна впечатлений от природы, людей, особенно природы. Потом хорошо ему было перебить жизнь, он последнее время волновался от своих половых, смущавших его, соблазнов. Сегодня купалась с Надей Ивановой, далеко плавала. Потом долго и много переписывала, и Лев Николаевич сегодня мне сказал: «Как ты мне хорошо переписываешь и приводишь в порядок мои бумаги». Спасибо и за это; от него благодарности не скоро дождешься, как ни трудись. Стояла опять для статуэтки Гинцбурга; совсем непохоже, безвкусно, уродливо, и мне жаль моего потерянного времени. Статуэтка Льва Николаевича тоже непохожа и уродлива. Не даровитый он скульптор, этот Гинцбург. Вечером ходила с Сашей вдвоем на Козловку навстречу лошади, возившей Машу с Колей. Бедная, бедная Маша с этим ушастым лентяем! И такая она болезненная, жалкая, худая. Вся забота на ней; а он гуляет, играет, кушает на чужой счет и ни о чем не думает. У Льва Николаевича в гостях какой-то фабричный, и хотя Лев Николаевич всё повторяет, что это очень умный человек, но ему, очевидно, с ним скучно, и он не знает, что с ним делать и куда его девать. Дочитала разговоры о музыке Рубинштейна и рассказывала дорогой Саше. Вечером Соболев, учитель Миши, рассказывал интересно об уральских приисках золота, платины ипроч. Тепло, тихо, лунно, хотя небо заволокло немного. Лев Николаевич сегодня огорчен: велосипед сломался и он на нем не мог доехать до купальни, ездил верхом. Удивил он меня еще тем, что играл утром в теннис. Он, который своими утрами так дорожит, так увлекся этой игрой, что с утра пошел играть. Сколько в нем еще молодого! Я теперь только могу увлекаться музыкой или работой в саду: пилить, сажать, вычищать плохие растения, но больше ничем. 3 августа. Разбирала утром свои письма ко Льву Николаевичу и его ко мне. Надо переписать и отдать на хранение в Румянцевский музей, в Москве. Часть я уже отдала. Купалась одна. Потом опять позировала; после обеда играла; только разбирала разные пьесы Шумана, Бетховена, Чайковского. Одна внизу, тихо, хорошо. Вечером приводила в порядок и переписывала статью об искусстве для Льва Николаевича. Я ему всецело теперь служу, и он спокоен, счастлив. Он опять поглощает всю мою жизнь. Счастлива ли я этим? Увы, нет, я делаю, что должно, в этом есть доля счастья, но я часто и глубоко тоскую от других желаний. 4 августа. Целый день народ. Только встала, приехал ко Льву Николаевичу француз, ездящий по Европе с геологическими целями; воспитанный, но мало образованный, помещик, живущий в Пиренеях в своем именье. Потом приехал Касаткин – художник; показывал нам большое количество фотографических снимков с различных картин и рисунков, которые он привез из-за границы. Это доставило мне большое эстетическое удовольствие. Опять купалась одна, опять немного позировала. Лев Николаевич тоже немного постоял для своей статуэтки, которую лепит Гинцбург. Вечером ходили гулять; сухо, тихо, розовое небо заката, и теперь луна. Еще приезжали на полчаса два доктора из Одессы, едут на съезд врачей в Москву: одни Шмидт, другой Любомудров, военный. Оба неприятные. Перед сном Гольденвейзер играл сонату Бетховена и «Карнавал» Шумана. Лев Николаевич жалуется на слабость, зябнет, купался и пил очень много чаю. Напрасно он купается. 5 августа. Безостановочно летит жизнь, день за день. Сегодня пошла утром купаться, взяла Сашу и Верочку в тележке. Снимали фотографии стада и девочек с тележкой и лошадью. На это ушло много времени. После обеда два часа стояла для Гинцбурга, который лепил с большим азартом, но я всё выхожу совсем непохожа. После обеда Касаткин, Соболев и я снимали фотографию с Льва Николаевича верхом, но ни у кого не вышло: лошадь шевелилась у меня и недодержано. Вечером все пошли гулять, Лев Николаевич уехал верхом в Мясоедово дать деньги погорелым. Мы шли по деревне и заходили по избам. Таня хотела непременно зайти к сыну кормилицы Льва Николаевича, к Петру Осипову, мужику, читающему книги и газеты и презирающему господ и ученых, потому что считает себя выше их всех – умом. Пренеприятный мужик. Вернулись уж темно, проявляли фотографии, ужинали. Получила письмо от Андрюши и от Гуревич: просит меня о статье Льва Николаевича для журнала. При чем я! Он всё всегда делал по-своему и большей частью нарочно против меня. А я Гуревич не люблю и ничего для нее не сделаю. В настоящую минуту он читает эту статью Касаткину, Гинцбургу, Соболеву и Гольденвейзеру. В чтении тяжел очень его язык. Сухо, ясно, тепло. Нездорова Маша, а Таня всё лелеет свою выдуманную мечту о посвящении своей жизни семье Сухотина, но, слава богу, она спокойна и веселее. С Сашей сегодня был урок очень хороший. Поправляла ей сочинение «Описание сада нашего», опять географию спрашивала и долго толковала ей о различных образах правления. 6 августа. Страшно устала, переписав для Льва Николаевича длинную главу «Об искусстве». Гинцбург долго меня лепил, и тоже устала. Всё притупляющие душу занятия; усталость и труд при чужом, хотя и интересном труде. Но насколько радостнее и легче всякий свой, личный труд! Ездила купаться с детьми: Сашей, Ленькой и Машкой. С детьми всё так несомненно важно на свете, так радостно и равноправно. Вечером Гинцбург представлял портного (комическая мимика), потом речь англичанина и чтение немца. Все смеялись, некоторые себя на это нарочно подвинчивали, а я не умею смеяться и не понимаю комизма. Это мой недостаток. Гольденвейзер прекрасно играл концерт Грига: сильная, очень своеобразная вещь, мне очень понравилось. Потом играл два ноктюрна Шопена, что-то Шуберта и вальс Рубинштейна. Касаткин пишет маленький этюд с Тани. Соболев нас сегодня опять снял, а я сделала несколько копий с его хороших негативов. Хотела тоже сегодня снимать, да времени совсем нет с переписыванием и позированием. Маша и Коля тут. Маша очень жалка, бледна и худа, и так и хочется ей, бедной, помочь. О Тане не хочется писать. С ней всё страшно. Миша очень взволнован сплетнями в Ясной: кто кого хочет сжить, своего поставить и т. д. Его это огорчает, а это так обычно! Лишь бы не вникать. Лев Николаевич ездил верхом с Колей в Ясенки. Его тоже лепили, но очень непохоже. Вечером он прочел своим гостям три первые главы статьи «Об искусстве». Позднее играл в шахматы с Гольденвейзером и сыном Сережей. Он здоров и бодр. 8 августа. Заболела Маша, Руднев думает, что это тиф. С какой сильной болью сердца я приняла это известие; меня душит спазма в горле и слезы, знакомые, ужасные слезы от беспокойства и страха, всегда где-то готовые. Маша всё видела во сне Ванечку, и, может быть, он и отзовет ее к себе, чтоб избавить от тяжелой, бедной и сложной замужней жизни с этим флегмой Колей. Хорошую, полезную и самоотверженную жизнь жила Маша до замужества, а что впереди – еще бог знает. Но лично ее страшно жаль, она такая жалкая с тех пор, как ушла из семьи. И невольно вспомнилась смерть Саши Философовой[107], тоже от тифа, и еще страшней стало. В доме точно чад какой-то от гостей. Приехали Маклаковы: Маша и Николай, две сестры Стахович, две Наташи – Оболенская и Колокольцева. Потом Гинцбург, Гольденвейзер, Касаткин. За столом было двадцать человек. Все порознь очень приятны, и жаль, что сразу так много. Ни прогулок, ни единения, ни работы, ни переписывания, а так, толкотня какая-то. Опять меня лепили, опять копировала фотографии и купалась, но дела никакого не делаю, что-то уходит безвозвратно, что-то испортилось в жизни и приняло крутой оборот. Вчера забыла дневник на столе, Лев Николаевич опять его читал и чему-то в нем огорчался. А чему бы ему огорчаться? Никого в мире не любила так, как его, и так долго! Была телеграмма от Ломброзо, ученого-антрополога, приехавшего в Москву на съезд врачей; он хочет приехать повидать Льва Николаевича. Льва Николаевича тоже лепит Гинцбург, во время сеанса читают его статью «Об искусстве». Очень хорошо в статье то, что он нападает на новейшее направление декадентов. Надо остановить это бессмысленное и низкое направление искусства. И кому же, как не ему. 11 августа. Три дня не писала. Третьего дня утром привезли из Овсянникова больную Машу. У нее брюшной тиф, и уже несколько дней около 40° жару. Сначала мы все очень испугались, но теперь приспособились к мысли о ее болезни. Руднев-доктор был и сказал, что тиф легкий, но очень ее жаль, она томится, мечется, ночи не спит. Вчера я у ней сидела до трех часов ночи и переписывала статью Льва Николаевича. Написала очень много, а потом у Маши сделались боли в животе. Лев Николаевич встал и хотел сам ставить самовар для припарок; но нашел плиту еще довольно теплой, чтоб греть салфетки в духовом шкапу. Мне всегда смешно, когда он возьмется за какое практическое дело, как он его делает примитивно, наивно и неловко. Вчера испачкал все салфетки сажей, спалил себе бороду свечой, и когда я начала руками ее тушить – на меня же рассердился. В 3 часа ночи меня сменила при Маше Таня. Утром приехал Ломброзо[108]. Маленький, очень слабый в ногах старичок, слишком дряхлый на вид по годам, ему всего 62 года. Говорит на очень дурном французском языке, неправильно и с сильным акцентом, и еще хуже по-немецки. Он итальянец, ученый, антрополог и много работал по вопросу преступности. Я вызывала его на разговоры, но он мало дал мне интересного. Говорил, что преступность везде прогрессирует, исключая Англию, и что он не верит статистическим сведениям России, так как у нас нет свободы печати. Еще говорил, что изучал женщину всю жизнь и так и не мог понять ее. Про женщин, как он выразился la femme latine, сказал, что француженки и итальянки ни на какую работу не способны, что вся цель их жизни – наряды и желание нравиться. А что la femme slave, и русские в том числе, способны на всякий труд и гораздо нравственнее. Про воспитание Ломброзо говорил, что оно почти бессильно перед врожденностью свойств, и я с ним согласна. Гинцбург уехал сегодня. Он кончил и мою, и Льва Николаевича статуэтки. Вчера лепили Льва Николаевича, пришли три барышни, пристали к Васе Маклакову, чтоб он доставил им возможность видеть Льва Николаевича. Их и повели к нему. Он спросил их, не имеют ли они что его спросить, они сказали, что только хотят его видеть. И вот посмотрели и ушли. Потом пришел какой-то молодой человек с тою же целью, но ему сказали, что Льва Николаевича дома нет. Затем, сидим, пьем чай, вдруг кто-то с велосипедом, весь облитый кровью идет и спрашивает Льва Николаевича. Оказалось, учитель тульской гимназии упал с велосипеда и расшибся. Его свели в павильон, промыли рапы, перевязали, и он с нами ужинал. Уехали Наташи вчера, и теперь завтра почти никого не останется. Я очень желаю уединения. Вчера же Миша уехал в Москву за своим учителем, которого назначили присяжным в Москве. Все дни жарко, сухо ужасно и пыльно. Мне нездоровится, ломота во всем теле, болят печень и почки. Лев Николаевич здоров, играл сегодня долго в lawn-tennis. Неужели я никогда больше не буду ни весела, ни счастлива? Мне всё неудача. Для удовлетворения мне хотелось немного: иметь возможность играть часа два на фортепьяно и пять дней свободных съездить в Киев повидать сестру Таню. Болезнь Маши помешала всему. И что она тут, в доме родительском, это еще естественно, я сама ее хотела перевезти к нам больную. Но что тут Коля приживает – это меня сердит, и мне всё хочется от него отмахнуться как от назойливой мухи. Не люблю эти флегматические, беззастенчивые в своей лени натуры приживалов. 13 августа. У Маши всё жар, с утра и до вечера более 40°. Так ее жаль, бедную, и какое бессилие перед строгим течением и упорством этой ужасной болезни. Я никогда прежде не видала такого тифа. Опять был доктор, Лев Николаевич вчера съездил за ним верхом; и доктор опасности не видит, а у меня всё время тяжелый камень на сердце. Очень много переписываю эти дни для Льва Николаевича его статью. Вчера заговорила о ней с ним, спрашивала его, как же он хочет, чтоб искусство существовало без специальных школ (он их отрицает). Но с ним разговаривать никогда нельзя; он страшно раздражается, кричит, и делается так неприятно, что то, чем интересовался, отодвигается на задний план, и только и желаешь, чтоб он скорей замолчал. Так было и вчера. Когда были гости, он им читал эту статью, и никто ни слова не сказал; ну и правы все, будто со всем согласны. А есть превосходные мысли местами. Например, что искусство должно одухотворять, а не забавлять людей. Это несомненная истина. Что во всех школах должно преподаваться и рисование, и музыка, и всякое искусство, чтоб всякий талантливый человек имел возможность найти свой путь. Опять прекрасная мысль. Страшная жара и засуха. Рожь посеяли в пыль. Трава, листья – всё засохло. Мы купаемся, и это очень облегчает. О Мише из Москвы нет известий. 14 августа. Приехали из Швеции Лева и Дора, веселые и счастливые, слава богу. И у нас веселей будет. Был доктор, нашел Машу не опасной и очень утешал. Советовалась с ним о своем здоровье. Нашел мою нервную систему совершенно расстроенной, а организм – здоровым; прописал бром. Лев Николаевич ездил верхом в Бабурино по вызову какой-то петербургской учительницы. День провела лениво, очень устала от ночи: сидела у Маши всю ночь до 4½ часов. Очень она горела и металась, жар был 40 и 7. Ходила купаться, наклеивала фотографии, немного читала «Философию искусства» Тэна и сидела с Машей. Всё засуха страшная. 16 августа. Всё тяжелее и тяжелее жизнь. Маше всё плохо. Сегодня я встала совершенно шальная: до пяти часов утра, всю ночь, простояла над ней в ужасе. Она страшно бредила, и так всё утро продолжалось. В 5 утра я ушла к себе и не могла заснуть. И всё неприятности со всех сторон. Таня ездила на свидание с Сухотиным в Тулу, сидела с ним в гостинице и ехала с ним по железной дороге. Она ни на минуту (с моей точки зрения) не отказалась от мысли выйти за него замуж. Миша не поехал в Москву, где его ждет учитель, не занимается и, очевидно, экзамена не выдержит. Вместо этого с ребятами и гармонией и этим молчаливым, бессодержательным Митей Дьяковым таскался до второго часа ночи по деревне. Приехал сегодня утром Андрюша и проживет тут 1½ месяца. Собирается к Илье и в Самару, и это хорошо. Самое тяжелое – это с Львом Николаевичем. С ним ни о чем нельзя говорить, ему ничем не угодишь. Вчера был Буланже, и мы с ним переговорили, что хорошо бы статью Льва Николаевича «Об искусстве» пересмотреть с точки зрения цензуры, выкинуть всё нецензурное (такого немного) и напечатать одновременно и в «Посреднике», и в полном собрании сочинений как XV том. Я не решилась говорить первая, я так боюсь этого тона раздражения почти постоянного, с которым Лев Николаевич говорит теперь со мною да и почти со всеми, кто ему осмелится возражать. Буланже переговорил и сказал, что Лев Николаевич согласен. Но когда я заговорила, то Лев Николаевич начал сердиться и говорить, что Чертков просил не выпускать никакого сочинения Льва Николаевича до тех пор, пока оно не выйдет на английском языке. Опять Чертков, даже из Англии умеющий держать Льва Николаевича в своей власти. Сегодня заговорили о Тане. Лев Николаевич говорил, что надо думать только о себе, чтоб не ошибиться относительно того, в какую сторону советовать и желать для Тани. Я же говорила, что нельзя лгать, надо говорить непременно, что думаешь, если даже ошибаешься, и нельзя не быть честной ради осторожности. Не знаю, кто из нас прав; может быть, и он, но дело не в правоте, а в невозможности разговаривать без раздражения. Сегодня же, выйдя из своего кабинета, Лев Николаевич прямо налетел на Мишу и наговорил и ему, и Мите Дьякову много жестоких, хотя и справедливых слов. Но что он этим сделал? Если б он Мише твердо и спокойно сказал сегодня утром, чтоб он ехал в Москву и не ослабевал в своем решении готовиться к экзамену – насколько бы это было лучше. Выговор же его вызвал злобу в сыновьях; они начали рассуждать, что отец только бранится, что заботы, участия, совета они от него никогда не имеют, а только злобу. Стали говорить, что право выговора они признают только за матерью, потому что мать одна о них заботится. Да, я заботилась, а что же сделала, чего достигла; да ничего не сумела! И Андрюша, совершенно неудавшийся покуда, и Миша не тверд, и что-то еще из него будет!.. Ох, как всё печально, печально… Лева с Дорой устраиваются, разбирают вещи. Доре трудно, бедняжке, на чужой стороне и в нашей не очень-то радостной семье. Часто мне приходит мысль куда-нибудь бежать, я устала, устала страшно от жизни! Да уж, видно, надо нести тяжесть своего вечного труда и только труда — до конца. Надо бы опять переписывать для Льва Николаевича, но не могу еще, какое-то тяжелое к нему чувство за то, что он поработил всю мою жизнь и никогда ни обо мне, ни о детях особенно не заботился, а, главное, продолжает порабощать меня, а у меня уже нет сил работать и служить ему всячески. Ночь сидела у Маши, а кроме того, переписала целую 5-ю главу. Я всегда работаю вдвойне. Был маленький дождь, но тяжелый и очень теплый воздух. Читаю понемногу Тэна. Я уже раньше начинала его читать, но Льву Николаевичу понадобились эти книги, и он их куда-то заложил, теперь я нашла и кончу. Хорошее определение у него искусства: «Цель искусства состоит в том, чтобы обнаружить основной характер, какое-нибудь выдающееся и заметное свойство, существенную точку зрения, главную особенность бытия объекта». Лев Николаевич Тэна не хвалит, а мне его советовал читать Сергей Иванович. 17 августа. С Львом Николаевичем совсем примирились (я, кстати, и не ссорилась, а огорчалась его отношением ко мне). Приехала сиделка к Маше, и Маше сегодня лучше, температура несколько раз падала до 38 и 6. Лева и Дора что-то не совсем здоровы и вялы. Жаль ее, бедную, ей очень тяжело в России и без своих родных. Опять сухо, ветер, но воздух свежей с утра. С Таней шла с купанья, и говорили о Сухотине. Она говорит, что ничего еще не решила окончательно. Миша вчера вечером уехал в Москву, а Андрюша куда-то таинственно. Переписываю опять Льва Николаевича, сижу с Машей; но в исполнении своих прямых обязанностей не нахожу уж удовлетворения и тоскую. Тяжелое известие о том, что у Ильи опять был пожар: сгорел весь урожай нынешнего года, сарай, инструменты и т. д. Ох, жизнь – какая тяжесть вообще! Тут Дунаев и Митя Дьяков. Я спрашивала себя сегодня, отчего я так тягощусь работой переписыванья для Льва Николаевича? Ведь это несомненно нужно. И я нашла ответ. Всякая работа требует интереса, насколько хорошо она сделана и как и когда будет окончена. Я шью что-нибудь – я вижу результат; меня интересует процесс работы, насколько скоро, хорошо или дурно я это делаю. Я учу – я вижу успехи; я играю сама – я двигаюсь, вдруг пойму новое, открою красоты. Я не говорю уже о сочинении чего-нибудь, о картине, хотя бы самой первобытной, а просто о явлениях в области труда ежедневной жизни. В переписывании же в десятый раз одной и той же статьи ничего нет. Сделать хорошо тут ничего нельзя. Окончания не предвидишь никогда; всё перестанавливается, и вновь перетасовывается. Интереса, как в прежнее время, к ходу какой-нибудь художественной работы тоже нет. Я помню, как ждала в «Войне и мире» переписки после дневной работы Льва Николаевича. Как лихорадочно спешила я писать дальше и дальше, находя всё новые и новые красоты. А теперь скучно. Надо начать мне работать над чем-нибудь самостоятельно, а то совсем зачахну душой. 18 августа. Вчера вечером прекрасно гуляли с Львом Николаевичем и Дунаевым. Шли через Засеку, потом по полотну железной дороги к Козловке. В лесу на меня нашла такая поэтическая тишина, какой давно в себе не помню. Потом я устала слишком, мы верст 12 прошли, и стало трудно и скучно. Маше лучше. Была Марья Александровна Шмидт. Шел маленький дождь, но ходили купаться. Приехала вчера фельдшерица (третьего дня вечером) следить за состоянием пульса и здоровья Маши. Был доктор Руднев. Ходила к Леве в тот дом. Скучно хозяйничала с тюфяками, вареньями, лампами – в доме порядок наводила. Потом переписывала для Льва Николаевича, и переписывала очень много. Нижний передний зуб совсем расшатался, и я оттого не в духе. Ох, как не хочется стариться, а приходится мириться с этим. День провела бессодержательно, пойду читать Тэна. 21 августа. Все эти дни очень страшно за Машу. То был жар больше 40°, а сегодня утром вдруг 35 и 6. Поили ее вином, шампанским. Днем ничего не могла пить, ото всего ее рвало. Посылали за доктором, к вечеру, после озноба, опять был жар 40°. Всё это ужасно! И жалко ее, бедную, истомилась она совсем. Приехала Лиза Оболенская, помогает ухаживать за Машей. Взяли фельдшерицу следить за общим состоянием и помогать ночью. Был скучный князь Накашидзе, брат той княжны Накашидзе, которая в Тифлисе передавала деньги духоборам и потом уехала в Англию, к Чертковым. Приезжает сегодня Митя Олсуфьев. Второй день занимаюсь фотографией. Снимала цветы, сбор яблок, яблони, шалаш и т. д. Ходила с Рудневым гулять, закат солнца чистый, красивый, небо с розовыми облачками, окаймленными огненным ободком, и засуха ужасающая! Лев Николаевич ездил верхом по красивым местам Засеки. Статью свою начал переправлять сначала. Он очень заботлив и нежен со мною, а я точно застыла, ничего не чувствую от беспокойства о Маше и от бессонных ночей, и нервна ужасно. Учила утром Сашу, но недостаточно. Она вышивает мне салфеточку и завтра подарит. Завтра, 22 августа, мое рождение, мне будет 53 года. 23 августа. Маше лучше, все повеселели, но новый камень на сердце. Завтра приезжает Сухотин, и Таня взволнована. Лева с Дорой, Коля и Андрюша ездили в Тулу; там выставка кустарная. Вчера ходили на длинную прогулку в Засеку, на провалы, и вернулись в катках. Лев Николаевич трогательно, верхом, искал места красивые, чтобы пойти со мной гулять в день моего рождения и доставить мне удовольствие. И действительно, прогулка вчерашняя и места – прелестные; но я так мучительно устала, что не могла этого скрыть, и выразила это, чем огорчила Льва Николаевича, и очень жалею. Впрочем, мы отдыхали долго у избы работающих в лесу мужиков, у них горел яркий костер, темные вековые дубы были так величественно красивы, что я забыла свою усталость и уже весело и бодро возвращалась назад. Толкусь с неудачными фотографиями, не переписываю эти дни и чувствую себя в этом очень виноватой. Приехал Буланже, уезжает Лиза Оболенская. Завтра еду в Москву, мне там много дела, да и Мишу надо навестить и пробыть его два дня экзаменов. Ужасно не хочется, трудно, а чувствуется, что нужно. 26 августа. Второй день в Москве. Вчера ездила по банкам, получала проценты и внесла за залог именья Ильи 1300 рублей. И еще столько же надо вносить, а у него был пожар, и пропало 2000 рублей задатку в Волынской губернии, где они с Сережей неосторожно хотели купить именье. Всё это меня и сердит, и огорчает. На всё Илья был неспособен – как на ученье, так на управление делами и на всякое вообще дело. У Мани, жены Сережи, родился 23-го сын. Бедный Сережа, и бедный этот мальчик у такой матери! В Москве очень спокойно, но скучно, что никого еще нет. Приходил милейший Туркин, и так хорошо мы с ним о воспитании детей беседовали. Сергея Ивановича еще нет в Москве, и меня очень огорчило, что я его не увижу. Весь день сегодня не вставала с дивана и считалась с артельщиком. Цифры, цифры без конца и страшное напряжение ничего не просчитать и ничего не забыть. Шел дождь, и стало холодно и пасмурно. Завтра у Миши экзамен, у меня дела в цензуре и дома с артельщиком. 28 августа. Сегодня рождение Льва Николаевича, и ему 69 лет. Кажется, в первый раз, с тех пор как я замужем, я не провожу этот день с ним, и мне этого жаль. В каком-то он сегодня настроении! Вчера всё думала о его статье «Об искусстве», она меня мучает, потому что могла бы быть так хороша, а в ней так много несправедливого, парадоксального и задорного. Сегодня у Миши последние экзамены, и я жду его с нетерпением. Перейдет ли он в 7-й класс? Усиленно занимаюсь здесь делами с артельщиком, считала, считала целых два дня. Была вчера в цензуре с книгой Спира[109] для издания «Посредника», делала покупки, но ничего не сделала для дома, а тут очень грязно. Жить мне здесь одной и спокойно, и здорово, я опять приеду 10 сентября. Стало холодно, то есть свежо и пасмурно. Была сегодня в бане. 31 августа. Всё печально, и везде неудача. Миша остался в 6-м классе; Андрюша опять мне сделал тяжелую сцену в Москве, и сам, бедный, уехал в слезах к Грузинским с Мишей. Мне казалось, что он был немного выпивший, а то очень уж странно переходил от крайней грубости к крайней нежности. Миша меня огорчил своим отношением к неудаче. Он нисколько не смутился, сейчас же отправился с Андрюшей, Митей Дьяковым и Борисом Нагорновым в сад, и они громко, нескладно, грубо пели песни. Совсем мои дети не такие, какими бы мы желали их: я хотела от них образования, сознания долга и утонченных эстетических вкусов. Лев Николаевич желал от них труда простого, сурового, простой жизни, и оба мы желали высоких нравственных правил. И ничего не удалось! Усталая, измученная и огорченная я приехала третьего дня утром домой, в Ясную Поляну. Лев Николаевич меня встретил недалеко от дома, сел ко мне на катки и не спросил ни разу о детях. Как мне это всегда больно! Дома пропасть гостей: Дунаев, Дубенский с женой, Ростовцев, Сергеенко. Все комнаты заняты, суета, разговоры. Очень мне это было утомительно. Все эти господа чего-то ждут от Льва Николаевича, и вот он надумал написать письмо и напечатать за границей. Дело в том, что шведский керосиновый торговец Нобель оставил завещание, что всё свое миллионное богатство оставляет тому, кто больше всего сделает для мира и, следовательно, против войны. В Швеции по этому поводу был совет, и решили, что Верещагин своими картинами выразил протест против войны. Но в результате дознания оказалось, что Верещагин выразил этот протест не по принципам, а случайно. Тогда сказали, что это наследство заслужил Лев Николаевич. Конечно, Лев Николаевич не взял бы денег, но он написал письмо, что больше всех сделали для мира духоборы, отказавшись от военной службы и потерпев так жестоко за это. Я ничего не имела бы против такого письма, но оказалось, что в письме этом Лев Николаевич грубо и задорно бранит русское правительство, некстати, не к делу, а так, из любви к задору. Меня очень расстроило это письмо, я просто пришла в отчаяние, плакала, упрекала Льва Николаевича, что он не бережет своей головы и дразнит правительство без нужды. Я даже хотела уезжать, потому что не могу больше жить так нервно, так трудно и под такими вечными угрозами, что Лев Николаевич напишет что-нибудь отчаянное и злое против правительства и нас сошлют. Его тронуло мое отчаяние, и он пообещал письмо не посылать. Сегодня он опять решил, что пошлет, но смягченное. А я вдруг стала равнодушна, просто из чувства самосохранения; нельзя же не спать ночи, как я не спала вчера, нельзя же вечно плакать и вечно мучиться. И везде горе. Был тут Илюша. У него был пожар, и он, очевидно, ждал от меня помощи. А я и так завалена платежами и за него только что внесла 1300 рублей в банк, и еще столько же будет нужно внести зимой. Денег он не просил, всё только намекал, что ему очень плохо. Наконец он сказал Леве: «Я просил весной у мама 1000 рублей (а я уже ему передавала 2500 за зиму), она не дала, я ничего не застраховал, и теперь сгорело всё, а я ничего не получу». Лева ему ответил: «Ты сгорел, а мама опять виновата, это несправедливо». И ушел. Я напомнила тогда Илюше, что и Сережа, и он, ввиду того что неприятно просить всегда у матери деньги, решили, что я определенно и молча буду платить за залог именья 2000 рублей в год, и этим Илья удовлетворился вполне. Теперь же он мне упрекнул, что я не дала ему в руки деньги, и сказал, что лучше бы я в банк не платила, а ему дала. Тогда я, к сожалению, страшно рассердилась, сказала даже, что это подлость – то просить платы в банк, то за это же упрекать. Так совестно, больно и грустно, что мы поссорились из-за денег, которых мне совсем и не жаль, но у меня нет теперь. 1 сентября. Гости все уехали, так хорошо, что мы одни. Вчера вечером недолго, но неприятно поговорили с Львом Николаевичем. Мне очень нездоровилось, а он придирался ко мне, вспомнили о дневниках (всё я собираюсь описать эту прошлую историю). Сегодня мы дружны, я ему переписала две главы, убрала его комнату, поставила чудесный букет. Ходила с Сашей купаться: в воде 11°, ночи холодные, ярко-лунные с мелкими облачками, проходящими по луне; дни ясные, сухие и красивые. Таня была в Туле, на выставке. Маше лучше; Саша огорчилась, что пропал ее живой зайчик, живший в сарае. Лев Николаевич ездил верхом и принимал католического chanoine, ездящего изучать русские монастыри. Очень скучала по музыке весь день и живу мечтой о ней; скоро поеду в Москву, возьму рояль, буду играть и надеюсь, что Сергей Иванович придет и поиграет. Как будет это хорошо, даже от одной мысли этой оживаю. Сегодня думала: какую местность мы больше всего любим? Ту, при которой есть такое место, куда не проникала человеческая рука: скалы, горы, море, большой лес, большая река, даже большие овраги. Опять мы любим мечту и в природе. Мы не любим поля, сады, луга, где всюду прошла рука человека; мы любим нетронутость, таинственность – мечту. 2 сентября. Убирала книги в библиотеке и приводила ее в порядок; купалась в 11-градусной воде, ходила с Верочкой; снимала в саду фотографии яблонь, сплошь покрытых яблоками, и переписывала письмо Льва Николаевича, переделанное и смягченное, о наследстве Нобеля в пользу духоборов. Я еще его не кончила, а сначала довольно умеренно. Мои шатающиеся два зуба приводят меня в дурное расположение духа, и перспектива фальшивых зубов – несносна. Что делать, надо привыкать стариться. Иду ложиться, буду читать философское сочинение Спира. Был маленький дождь, но еще не холодно. 4 сентября. Надрываешься, надрываешься – и не натянешь жизни. Одиночество мы испытываем, каждый член нашей семьи, хотя всё дружно на вид. Лев Николаевич тоже жалуется на одиночество, на покинутость. Таня влюблена в Сухотина, Маша вышла замуж, со мной давно уже нет полного единения – мы все устали жить, только служа Льву Николаевичу. Он чувствовал себя счастливым, поработив три женские жизни: двух дочерей и мою. Мы ему писали, ухаживали за ним, заботились усердно об очень сложном и трудном подчас вегетарианском питании, никогда нигде не оставляли его одного. И теперь вдруг всякая из нас заявила свои права на личную жизнь. Друзей его сослали[110], новых последователей нет – и он несчастлив. Я напрягаю свои последние жизненные силы, чтоб помогать ему; я переписываю его статью и вчера переписала длинное письмо, в 15 страниц, о помощи духоборам; я ухаживаю за ним; но мне невыносима иногда жизнь без личного труда, без личных интересов, без досуга, без друзей, без музыки – и я падаю духом и тоскую. Лев Николаевич всегда и везде говорит и пишет о любви, о служении Богу и людям. Читаю и слушаю это всегда с недоумением. С утра и до поздней ночи вся жизнь Льва Николаевича проходит безо всякого личного отношения и участия к людям. Встает, пьет кофе, гуляет или купается утром, никого не повидав, садится писать; едет на велосипеде или опять купаться, или просто так; обедает или идет вниз читать, или на теннис. Вечер проводит у себя в комнате, после ужина только немного посидит с нами, читая газеты или разглядывая разные иллюстрации. И день за день идет эта правильная, эгоистическая жизнь без любви, без участия к семье, к интересам, радостям, горестям близких ему людей. И эта холодность измучила меня, и я стала искать, чем занять свою духовную жизнь, стала любить музыку, читать в ней и, главное, угадывать все те сложные человеческие чувства, которые в нее вложены. Но музыке не только не сочувствовали дома, но на меня напали за нее с ожесточением; и вот я опять очутилась без содержания жизни и, согнув спину, часами, по десяти раз переписываю скучную статью об искусстве, стараюсь найти радость в исполнении долга, но моя живая натура возмущается, ищет личной жизни, и я бегу из дому в лес, бегу на Воронку и в страшный ветер бросаюсь в реку, а в воде 9°, и я нахожу маленькое удовлетворение в этой физической эмоции. Лев Николаевич, не сказав мне ни слова, уехал верхом к Булыгину в Хотунку, за 16 верст. Приехал какой-то американец, профессор, я еще его не видала. Сейчас с ужасом пересмотрела бумаги Льва Николаевича и взяла переписывать. Сколько там опять работы! Утром учила Сашу 1½ часа; поправляла ей ее сочинение «Поездка в Троице-Сергиеву лавру». Метила платки Миши, читала, кроила, весь день была занята, а чувство – точно ничего не делала. Вот что значит, когда ни к чему сердце не лежит. Сегодня шла из купальни и думала опять, что человек жив только мечтой. Если б извозчик, проводя годами жизнь на козлах, в нелюбимом ему городе, не имел в голове мечты о деревне, о семье, о том, что происходит в его деревенском хозяйстве, как убрали сено, сколько копен ржи стало, купили ли корову или лошадь и т. д. – извозчик не выдержал бы этой жизни. А он выдерживает годами. Так и во всем в жизни. А самая уж сладкая мечта – это царство небесное после смерти, единение с Богом, соединение с умершими любимыми людьми. Ах, Ванечка, сегодня случайно увидела лоскуток от его синенькой полосатой курточки и горько расплакалась. Зачем он оставил меня одинокую, без любви, на земле; я не сумела жить без него и часто чувствую, что он унес мою душу, а мое грешное тело тяжело доживает свою земную жизнь. 8 сентября. Всё суета какая-то. Наехали опять гости: Дунаев, Буланже, Син-Джон, англичанин, присланный, кажется, Чертковым. Буланже ссылают за границу; его нашли вредным, потому что он пропагандирует идеи Льва Николаевича и написал и напечатал в «Биржевых Ведомостях» письмо о бедственном состоянии духоборов. Вызывали его в Петербург в бывшее III Отделение, то есть в полицию, действующую административным порядком, иначе говоря, произволом, – и всё ему высказали. Буланже очень умный, энергический и живой человек, и его испугались. Но что за деспотическое правительство у нас! Царя как будто нет, а какие-то тупые злючки вроде Горемыкина (министра внутренних дел) и Победоносцева делают поступки, навлекающие злобу на молодого царя, и это жаль. Лев Николаевич угнетен прыщиком, вскочившим у него на щеке, и много говорит о смерти. Как он боится ее, меня это пугает. Статья его «Об искусстве» приходит к концу, и у нас живет барышня, которая ее переписывает на машине Ремингтона: хотят послать в Англию перевод и напечатать там у Черткова. Таня уехала в Москву, просто ей хотелось проехаться, и она выдумала какие-то издания картин, которые должны быть изданы даже до отъезда Буланже, то есть до 1 октября. А у меня выпал зуб, и я должна ехать вставлять, но не хочется двигаться, не хочется к зубному врачу ходить и возиться со своим ртом. Эти дни занималась всё фотографией для своей сестры Тани и для Буланже. Сегодня фотографировала яблочный сад и баб на работе в саду. Ходила купаться, и совсем мне не показалось холодно. Заботы о постелях гостям, о еде, обо всем материальном очень надоели; вчера часа два поиграла на фортепьяно, насилу нашла время. Андрюша и Миша ушли на деревню, и Миша не поехал в лицей, и мне досадно ужасно. 9 сентября. Очень хотелось играть на фортепьяно, читать, гулять, даже чай пить. И вместо этого я переписывала несколько часов сряду для Льва Николаевича его статью «Об искусстве», за что он, приехав от Зиссермана, куда ездил верхом, мне даже спасибо не сказал, а с досадой ушел, когда я просила его разъяснить неясное в писании место. Мне досадно, что я приношу жертвы, а этой досадой обесценивается мой труд. Я не дала его, я допустила, чтоб у меня его взяли. Как говорит Сенека: «Он допустил, чтобы у него взяли то, что он не сумел удержать». Сегодня теплый день, ясно, паутина летает и блестит, и я ходила купаться, а Лев Николаевич тоже ездил на велосипеде. Какая странная история этого старого отставного генерала Зиссермана. Ему было за 70 лет, он на войнах был, а погиб от дерева, которое рубили в саду, и оно упало ему прямо на голову, наповал его убило. Осталась вдова, дочери, сыновья. Как печально у них теперь! Мучает меня то, что я с Сашей сегодня не занималась; много было хозяйственной суеты. 12 сентября. Второй день в Москве, в полном одиночестве с няней, и очень мне хорошо. Миша ходит в лицей, приходит только к обеду, Таня остановилась у Вульф, и я мало ее вижу. По утрам хожу к зубному врачу, который меня мучает мерками, горячей красной мастикой и прочими неприятностями вставных зубов. Настал тот тяжелый момент, что надо зубы вставлять, упал еще один передний зуб, а безобразия и неудобства я не выношу. Трудно будет и от фальшивых зубов, я уже это вижу. Хорошо мне здесь потому, что нет чуждых, тяжелых посетителей, посещающих Льва Николаевича; нет сложных семейных и супружеских отношений ни с кем; нет разговоров о духоборах, о правительстве, о статьях и письмах за границу, об обличении действий правительства; нет требований разных и упреков… Как я от всего устала, и как мне нужен отдых! Поиграла вечером и пописала немного материалы к повести, которую очень хочется написать[111]. Из дому известий не было еще. Здесь еще никого не видала, но очень хочется увидеть Сергея Ивановича, а главное, услышать его игру. Очень надеюсь, что он придет в мои именины и поиграет мне. 14 сентября. Вчера была опять у зубного врача, день весь сидела дома, шила, читала, вечером играла на фортепьяно. Учу две вещи: инвенцию Баха в два голоса и сонату Бетховена. Плохо идет, долго надо учить. Вечером сговорились с Таней встретиться у Колокольцевых, чтоб там увидать Варю Нагорнову, но она не приехала еще из деревни. Там с детьми и молодежью болтали и даже плясали; я тоже с Сашей Берсом прошлась вальс и глупо радовалась, когда мне говорили, что я необыкновенно легко вальсирую и хожу. Сегодня провела день, полный движенья. С раннего утра побежала с корзиной на Смоленский рынок покупать грибы. Грибов на торгу было очень много: я купила послать с Таней в Ясную Поляну, где таких белых грибов никто и не видал. Купила и винограду; всё завезла к Вульфам, где остановилась Таня, и потом, наняв извозчика, поехала на могилки Ванечки и Алеши с няней. Могилки эти всегда меня и умилят, и измучают воспоминаниями и болью, неизлечимой ничем. Страстно захотелось умереть, юркнуть в ту неизвестность, куда ушли мои мальчики. Няня вздыхала и плакала; а я, прочитав «Отче наш» и сделав усилие соединиться духом с младенцами и попросив их о молитве за нас, грешных, убежала от терзавшего меня горя. Желая сделать удовольствие няне, я пошла с ней и девочками из деревни в лес за грибами, но мы ничего не нашли. Вернувшись к обеду, я нашла компанию мальчиков к Мише: Митя Дьяков, Саша Берс, Данилевские. После обеда мы с няней варили варенье, грибы, мариновали их и кончили поздно. Конец вечера проиграла, разбирала разные, подаренные мне романсы Танеева, Померанцева и Гольденвейзера. Кстати, Танеев был сегодня без меня с Юшей Померанцевым, и меня не застали. Меня так взволновал визит Танеева, страшно захотелось его видеть, и не знаю теперь, как я это устрою. Бог как-нибудь поможет; а не увижу – и то хорошо. О доме ничего не знаю, Лев Николаевич не пишет, а Лева о нем не пишет, а только поручения. 15 сентября. Поздно встала, возилась по домашнему хозяйству. Вставляли рамы, мыли полы и двери, выколачивали мебель и тюфяки; потом заливали уксусом грибы, виноград, и проч., и проч. Ничего нельзя было делать, столько было суеты: поденные, маляры, полотеры и во главе всех няня – Анна Степановна. Потом пошла к зубному врачу, он вставил мне зубы очень удачно на вид, но так больно растерло губу, что придется опять пойти. Как это всё скучно! Пришла домой, узнаю, что Сергей Иванович опять был у меня и не застал. И опять меня это взволновало, захотелось общения с ним. Ходила было к князю Урусову в «Княжий двор», чтоб его видеть, но он, к сожалению, уже уехал в деревню. Заходила и в Конюшки, узнать, приехала ли Варенька или Маша Колокольцева, но никого нет. Захотелось вообще общества кого-нибудь близкого. Часов в 8 вечера пришел Сергей Иванович. Мы провели вечер вдвоем, Миша обедал со мной, а вечером ушел к Дьякову. Как жаль, что Лев Николаевич меня преследует за Сергея Ивановича. Какие у нас хорошие, полные содержания отношения! Серьезные, спокойные; сегодня весь вечер, не умолкая, мы говорили об искусстве, о музыке, о писании Льва Николаевича, которого он ужасно любит; о том, как лето провели, как сложна жизнь вообще, но как к старости всё суживается и бесконечность, которая перед нами в молодости – в целях, в достижении их, в силе умственной и физической, в возможности образования и т. д., – эта бесконечность исчезает и вместо нее воздвигается стена – предел сил и жизни. И вот тогда эту бесконечность надо перенести за предел этой жизни и вступить в область будущей жизни. Я уже это сделала, хотя еще в очень слабой степени. Помоги Бог развить в себе это стремление к духовной и религиозной, загробной бесконечности. Сергей Иванович сыграл мне свою прекрасную симфонию и очень меня ею взволновал. Прекрасное произведение, и благородного высокого стиля музыка его. 17 сентября. Именины мои, и весь день я глупо ими занята. Переставила мебель, купила цветов недорогих, всё убрала, украсила; как в детстве, бывало, готовишься к празднеству. Мой милый Ванечка любил справлять, как он говорил языком няни, свои именины и чужие. Получила письмо Саши и обрадовалась ему. Левочка мне не пишет, он меня как будто игнорирует, и мне это больно. Вообще нынче очень именито в доме; я и людей угощала, делала им пирог, гуся, чай с кренделями, и они очень все довольны. Вечером пришли дядя Костя, Алексей Маклаков, Танеев, Померанцев, [репетитор Миши] Курсинский; потом разные товарищи Миши – Голицын, Бутенев, Дьяков, Данилевские, Лопухин. Пели хором, прыгали, боролись, ели, пили; дядя Костя просил Сергея Ивановича играть – я не решалась, – и он опять сыграл свою симфонию. С музыкой Сергея Ивановича то, что бывает с некоторыми людьми: чем больше их знаешь, тем больше любишь. Я, слушая в третий раз его симфонию, открываю в ней всё новые красоты, и это очень интересно. Была у тетеньки Веры Александровны [Шидловской]. Она именинница, лежит в гриппе в постели и совершенно одна. Ее внучка, Вера Северцева, пока при ней, но уезжает. Поучительно видеть, как, народив одиннадцать детей, остаешься одна на свете. К этому надо быть готовой и не роптать. Сегодня немного читала, немного играла, покупала на рынке грибы; вообще пусто и бесплодно провела день. 18 сентября. Встала поздно, села играть на фортепьяно. Усердно учила двухголосную инвенцию Баха. Очень трудно. Потом, когда дождь перестал, пошла к зубному врачу и на фабрику Гюбнера покупать бумазей. Встретила совершенно неожиданно Сергея Ивановича. С первого взгляда я его не узнала, потом очень удивилась. Судьба со мной всегда играет в такие проделки. Он шел гулять к Девичьему монастырю, и я, разговорившись, прошла с ним до конки. На фабрику не попала, но к зубному врачу не опоздала. Сегодня он мне, кажется, устроил зубы совсем хорошо. Сергею Ивановичу напрасно рассказала о том, как хотела лишить себя жизни, замерзнув на Воробьевых горах. О причине и подробностях я, конечно, умолчала. Но острые и больные воспоминания вызвали потребность высказаться. Против клиник поставили памятник Пирогову. Безобразнейшее произведение искусства! Со всех сторон фигура сделана безобразно, не художественно. Вернувшись домой, обедала с Мишей, потом играла на фортепьяно четыре часа сряду и очень устала. Пришел Миша с Бутеневым; Миша сел уроки готовить, я вышивать метки, а Бутенев мне читал, заикаясь, французские «Pensees et maximes» [Сегюра] вслух. Получила телеграмму поздравительную, запоздавшую, от своей семьи. Минутами меня тянет в Ясную; но как вспомню все сложности и трудности нашей семейной жизни, опять не хочется ехать, а так бы сидела в тишине, одна, как сейчас. Одни чуждые посетители уж достаточны, чтоб нежелать жить в Ясной. 19 сентября. Талантливый человек всё понимание и чуткость душевную вкладывает в свои произведения, а к жизни относится вяло и равнодушно. Вчера вникала в романсы Сергея Ивановича. Их у меня теперь много. Музыка этих романсов соответствует не только настроению, но даже почти каждому слову (и какая сильная местами), а вместе с тем его, Сергея Ивановича, характер и стиль выдержаны вполне; я его музыку узнаю везде теперь. В жизни же он такой спокойно-несообщительный, не выражающий никаких чувств, редко высказывающий мысли свои и всегда на вид равнодушный ко всему и ко всем. А мой еще гораздо, несравненно более талантливый муж! Какое удивительное понимание в его писаниях психологической жизни людей и какое непонимание и равнодушие к жизни самых близких! Меня, детей, людей, друзей он совсем не знает и не понимает. Ветер, пасмурно и грустно. Тянет к музыке, и только к музыке. Нездоровится, одиноко, хочется любви, общения с людьми – а где их взять? И всякому хочется любви, а дать ее редко кто может. А то отдаешь ее горячо, самоотверженно, а ее не берут – не нужна любовь, а только в тягость. И большей частью так: линии любви параллельные и не сходятся. И всегда один любит, другой позволяет себя любить. 22 сентября. Вернулась в Ясную Поляну. В Москве оставила Мишу, няню и пьяного Ивана. Мне жаль было лишиться моего одиночества и возможности играть и вернуться в лихорадочную жизнь, которую мне устроил Лев Николаевич. Здесь были молокане, у которых отняли детей за их сектантство. Лев Николаевич уже раз писал об этом молодому государю, но ничего из этого не вышло. Теперь он опять написал, но, к счастью, государь за границей, и письмо, вероятно, не дойдет. Я сама бы сделала всё на свете, чтоб успокоить матерей и утешить детей; но раз ничего нельзя сделать, зачем рисковать своей безопасностью? Потом письмо в газеты о помощи духоборам; и всё ему хочется шума, гласности, риска. А не верю я его доброте и человеколюбию. Знаю я источник всей его деятельности. Слава и слава, ненасытная, безграничная, лихорадочная. Как поверить любви, когда Лев Николаевич своих детей, своих внуков – всех своих не любит, а так вдруг полюбил молоканских и духоборческих детей! У него чирей на щеке, он такой жалкий, подвязанный платком, мнителен ужасно. Без меня ездил два раза к доктору, и на третий его уже сюда привозили. Всё твердил, что у него рак и он скоро умрет; был мрачен, плохо спал. Теперь ему лучше. Ах, бедный, как ему трудно будет расстаться с жизнью и выносить страдания! Помоги ему Бог! Желала бы не видеть его конца и не переживать его. Таня собирается в Ялту, всё так же она слаба духом. Маша же слаба и телом, и духом. У Левы с Дорой всё хорошо. Коля Оболенский уехал в Москву по делам. Сейчас переписала Льву Николаевичу немного. Скопировала для Миши фотографии, скроила платьице для маленькой Веры, дочери Ильи-лакея. Ужасно хочется музыки, но только я заикнулась, что поиграю, обе дочери враждебно на меня налетели. 26 сентября. Суетливо идут дни за днями. Свой свадебный день 23-го провела очень приятно, хотя и без всякого особенного торжества. Было 35 лет нашего супружества, и как ни трудна подчас была моя сложная жизнь, благодарю Бога за то, что мы остались чисты друг перед другом и теперь живем мирно и даже еще любовно. Приезжали мои два старших сына, и вся семья собралась, кроме Миши. Теперь и он приехал, чему я очень рада. Из посторонних были Сергеенко и Буланже с сыном девяти лет. Буланже уезжает в Англию 28-го, ссылается за распространение идей Толстого. Лев Николаевич написал уже заключение к своей статье «Об искусстве» и опять переправил его, и я сейчас буду его переписывать. Кроме того, только что переписала ему письмо в «Русские Ведомости». В разных газетах печатают, что немыслимо, чтобы на Казанском миссионерском съезде было предложено отнятие детей у сектантов. А так как это факт и родители отнятых детей приезжали ко Льву Николаевичу с просьбой похлопотать об их деле, то Лев Николаевич и написал обо всем этом в «Русские Ведомости». Напечатают ли – это большой вопрос. Два дня жили тихо в семье; сегодня опять посетители: приехал офицер, князь Черкасский, учитель гимназии Томашевич. Вчера вечером приехала Лиза Оболенская, и мы ходили с ней сегодня далеко гулять – что за красота была! Шли елочками, потом вдоль посадки и речки, вышли к купальне, прошли в большие елки и кругом вернулись лесной дорогой. Эти переливы из светло-желтого, и во всех тонах, к зеленому и часто красному и темно-бурому листвы осенней – необыкновенно красивы. А там, где елки, эти темные высокие елки, случайно выросли молодые березки; редкий лист самого светлого желтого цвета сквозит на темном фоке прозрачным кружевом. Мы с Лизой всё останавливались и любовались даже вслух. Закат был чудесный, светлый и чистый. К Грумонту даль виднелась. Дорогой я, вопрошаемая Лизой, рассказывала обо всей истории моей привязанности к Сергею Ивановичу, о ревности Левочки, о том, что я теперь к нему испытываю, и рассказы эти меня взволновали. Дома с Машей были тяжелые разговоры о ее будущей жизни и о том, что они будут жить в Покровском у его матери, а я это не одобряла и говорила, что ему, то есть Коле, надо жить, работая или служа, а не кормиться то у одной, то у другой матери. Они укладываются и едут в Крым – и Таня, и Коля, и Маша. 29 сентября. Вчера уехали в Крым Маша с Колей Оболенским. Мне мало было жаль, хотя вообще чувствую более любви к ним обоим, чем в начале их брака. Страх смерти Маши во время ее болезни меня к ней привязал. Коля же – добрый, хороший мальчик, но вялый и ленивый. Работать он не хочет, не может и не умеет, и это неприятно видеть. Были Вера и Маша Толстые. Приезжал из Тулы к Льву Николаевичу тюремный священник, болезненный, кроткий и наивный; говорил, что находит много общего с Львом Николаевичем в своих мыслях и хотел с ним побеседовать. Но меня удивило то, что, для того чтоб поехать к нам, надо было священнику просить разрешения у архиерея. Неужели до такой степени Льва Николаевича считают еретиком? Еще были молокане, они ездили в Петербург с письмами Льва Николаевича к Кони, и еще к разным лицам, которых в Петербурге не оказалось. Дело об отнятии у молокан детей теперь поступит в Сенат, и Кони надеется, что там решат детей возвратить родителям, но может также поступить в Государственный совет и тогда затянется года на два. Рассказывали эти молокане, что девочка двух лет у монашенки, которая ее очень полюбила и сама негодует, что отняли ребенка у родителей, но хорошо за ней ходит. Девочка эта говорила отцу: «Возьмем скорей извозчика, и уедем отсюда». Мальчики тоже в монастыре, но плохо ухожены, все в насекомых и в грязных рубашках. Просили позволения у монахов выйти за ворота лошадей посмотреть своих. Молоканам же родителям, раньше свидания их с детьми, монахи сказали, что видеть детей можно только в церкви, и повели их туда. Но когда они пришли в церковь, детей там не было, а было то, что обращали молокан к православию и желали, чтоб показали бы этим пример. Настоятель обнял этих приезжих молокан, поцеловал их и сказал: «Вот вы огорчены, что дети ваши отошли от вас, так и мать-церковь огорчена тем, что вы отошли от нее». Но молокане остались непоколебимы. Сегодня все уехали: и Андрюша, и Лиза Оболенская, и Толстые, и молокане, и какой-то юноша Попов, съездивший в Англию к Черткову. Идет дождь; тихо, уединенно и хорошо. Одно горе: у Льва Николаевича его нарыв на виске не заживает; огромная гноящаяся шишка, красная, кровяная. Три недели она всё болит и что-то никаких перемен не представляет. Дождь нас всех запер дома, и это хорошо для занятий. Надо сверять по поправленным главам дальнейшие главы «Об искусстве», чтоб послать переводчикам. Третьего дня была в Туле по делу о вводе во владение сыновей Ясной Поляной, после смерти Ванечки. Я была как попечительница Андрюши и Миши. Много было дела самого разнообразного. Вчера сделали чудесную прогулку по Засеке, на Горелую Поляну и кругом мимо казенного питомника домой. Закат солнца был поразительно красивый. Народ по шоссе шумно возвращался в пустых, гремящих телегах с базара из Тулы; поденные толпой шли из казенного питомника, откуда высаживали деревца; и при всем этом шуме, точно праздничное, яркое, торжественное освещение солнечного заката прямо против нас всех, возвращающихся домой. Вечером пили чай у Левы, во флигеле. Выходили на балкон, так было тепло, и чудесная лунная ночь, прозрачные облачка так и гнал южный ветер мимо луны, то открывая, то как бы завешивая ее прозрачной тканью. Сидели поздно, глупо гадали на картах Тане, Лизе Оболенской, Вере и мне. Шили, болтали как-то интимно и дружно. Так распускаются женщины еоесю – откровенно и слабо – только тогда и только те, которые с детства до настоящей минуты любят и знают друг друга до самой глубины их жизни, характеров и событий. И так ближе всего я с моей сестрой Таней. 30 сентября. Уехала Таня в Крым, куда она везет сына Ильи Андрюшу. Опустел мой дом, остались Саша и Лева с женой во флигеле. Мне страшно жаль Льва Николаевича. Сколько лет он проводил свои тихие осенние месяцы со своими дочерями: они служили ему, писали ему, вегетарианствовали, просиживали длинные, скучные осенние вечера с ним. А я в эти осенние месяцы уезжала с учащимися детьми в Москву и скучала без мужа и дочерей, сердцем жила все-таки с ними же, так как в семье моей все-таки любимые мои были Левочка – муж и Таня – дочь. И теперь всё переменилось? Маша вышла замуж, а бедная Таня влюбилась, и эта плохая любовь к недостойному ее человеку истомила ее и нас. Она едет в Крым, чтоб одуматься хорошенько. Помоги ей Бог! Через 6 дней и я уеду с Сашей в Москву. Я дотягиваю как можно позднее, но ей пора учиться, она ничего не делает почти, а ей 14-й год. Жизнь Миши тоже меня озабочивает; я постоянно боюсь его нравственной порчи, и думается мне, что семейная обстановка все-таки лучшая для мальчика. Лев Николаевич остается с Левой, но я вижу, что ни тому, ни другому это не особенно приятно. Перевезу и устрою в Москве Сашу и опять вернусь ко Льву Николаевичу. Как всё это трудно и сложно! Молю Бога не ослабевать в моих обязанностях, понимать, в чем они состоят, и выпутываться всё с той же энергией из моей всё более и более сложной и всесторонне трудной жизни. Мелкий дождь, тепло; редкие листья все пожелтели, дуб и сирень еще зеленеют своими крепкими листьями. Убиралась сегодня по дому и хозяйству; копировала фотографию: отъезд Маши и Коли. Все просили им дать, и я всем разошлю. Учила немного Сашу, которая очень дурно написала изложение. Вечер буду в пятый раз переписывать «Заключение» к статье «Об искусстве» и шить свою денную рубашку, у которой износились кружева, и теперь делаю мелкие складочки и кружевные прошивки и браню себя за эту привычку к красивому и изящному. Не позволяю себе, но очень тоскую по Тане. Это 33-летний друг, с которым связана и моя счастливая прошедшая замужняя жизнь. И горе, и радости – всему она сочувствовала, всё переживала со мной. Ближе ее и нет никого. 2 октября. Осенняя тишина, листья желтые сплошь золотятся на солнце. Хороший провела день: утро читала Сенеку – «Утешение к Марции» и «Утешение к Гельвии». Убирала в библиотеке книги. После обеда пошли гулять на Козловку и обратно; грустна опустевшая дорога, по которой столько воспоминаний! Ох, не надо ни воспоминаний, ни сожалений!.. И зачем у меня такой характер, что разные впечатления жизни так избороздили глубоко мою душу… Вернувшись, узнала, что Лева уехал в Крапивну и Дора одна. Я побежала к ней и посидела с ней. Потом мне Левочка дал 10-ю главу своей статьи «Об искусстве», и я из одного экземпляра вносила поправки в другой. Трудная, напряженная, механическая работа. Сидела три часа, радовалась, что он декадентов бранит и изобличает их обман. Дает примеры самых бессмысленных стихотворений Маларме, Гриффена, Верхарна, Мореаса и других. Вечером меня Левочка для моциона пригласил играть в воланы, а я его просила поиграть со мной в четыре руки. И мы очень недурно сыграли септет Бетховена. Как хорошо, как весело и как легко стало после музыки! Легли поздно, почитала в «Неделе» «О половой любви» Меньшикова. Сколько ни рассуждай об этом вопросе – ничего не решит никто в мире. Самое сильное, самое лучшее, самое мучительное – это только любовь и любовь, и всё остальное группируется и руководится любовью. Художнику, ученому, философу, женщине, даже ребенку – всем любовь дает подъем духа, энергии, силы работать, вдохновения, счастья. Не говорю именно о половой любви, а о всякой любви. Я, например, в жизни любила сильнее, лучше, самоотверженнее всего своего маленького Ванечку. Затем все привязанности к мужу и к другим лицам в моей жизни всегда были сильнее в области душевной, художественной и умственной, чем в области физического влечения. Начиная с мужа, как бы физически он ни отталкивал меня своими привычками неопрятности, невоздержания в дурных наклонностях чисто физических, мне достаточно было его богатого внутреннего содержания, чтоб всю жизнь любить его, а на остальное закрывать глаза. У…а[112] я полюбила за тот мир философии, в который он ввел меня, читая мне Марка Аврелия, Эпиктета, Сенеку и других. Впервые открылась мне им и с ним эта область высокого человеческого мышления, в которой я нашла столько утешения в своей жизни. К Сергею Ивановичу я привязалась тоже посредством не его личности физической, а его удивительного музыкального таланта. То благородство, серьезность и чистота, которые есть в его музыке, очевидно, истекают из его души. Из детей любимцем был Ванечка по той же причине: бестелесный, худенький, он весь был – душа: чуткий, нежный, любящий. Это был тончайший духовный материал – конечно, не для земной жизни. Помоги и мне Бог выйти из области физической и самой духовно утончить свою душу и с очищенным сердцем перейти в ту область, где теперь мой Ванечка. 6 октября. Переехала с Сашей и m-lle Aubert в Москву. Вчера уезжала от Левочки с болью в сердце; давно мне не было его так жалко, как вчера. Одинокий, старый, сгорбленный (он всё больше и больше сгибается, вероятно, от сидячей жизни, от того, что пишет согнувшись почти целыми днями). Я убрала его кабинет, привела в порядок все его вещи, белье; приготовила ему всё его маленькое хозяйство: овсянку, кофе, разные кастрюлечки, посуду и проч., и проч., мед, яблоки, виноград, сухари Альберт – всё, что он любит. Прощался он со мной очень ласково, как будто робко; ему не хотелось со мной расставаться, и я дней через 6 поеду к нему, и мы вместе поедем в Пирогово к его брату, Сергею Николаевичу. Вся надежда на сына Леву и Дору, что они уходят за Львом Николаевичем. Нарыв его прошел, но теперь нос что-то заболел, и Лев Николаевич ужасно струсил. Надеюсь, что ничего серьезного. Ходила сегодня к зубному врачу, потом к Колокольцевым, потом по делам Льва Николаевича в банк к Дунаеву, чтоб он передал письмо Льва Николаевича в газету об отнятых у молокан детях, взяв в «Русских Ведомостях», которые не согласились печатать. Передать в «С.-Петербургские Ведомости», князю Ухтомскому. Устала, пишу нескладно… 10 октября. Четыре дня не писала, прожила лихорадочные по суете и большому количеству дел дни. Ни музыки, ни чтения, ни радости – ничего. Как я не люблю такой жизни! Много заняло времени писание Льва Николаевича. Вносила поправки из одного экземпляра в другой, чистый, переписала всё «Заключение». Потом искала русских учительниц Саше, сегодня взяла Софью Николаевну Кашкину, дочь бывшего Сережиного учителя музыки, Николая Дмитриевича Кашкина. Миша упал и ногу зашиб, лежит три дня – и в лицей не ходит, и ничего ровно не делает. Несноснейшее пьянство лакеев. Один спился и ушел, другой третий день пьян. Никогда ничего подобного не было, ужасно досадно и скучно. Сегодня провел со мной вечер Сергей Иванович, и осталась какая-то неудовлетворенность от наших отношений, даже отчужденность. Мне не было с ним весело, а неестественно и даже минутами тяжело. Оттого ли, что я получила от Льва Николаевича хорошее письмо и перенеслась душой и мыслями в Ясную Поляну, к нему, оттого ли, что совесть меня мучила, что вмешательство Сергея Ивановича в мою жизнь столько причинило горя и может теперь еще огорчать Льва Николаевича, но что-то изменилось в моем отношении к Сергею Ивановичу, хотя я в душе все-таки бравировала недовольством Льва Николаевича и уступить свою свободу действий и чувств не хочу, пока не чувствую в себе никакой вины. Зубы совсем плохо сделаны, придется переделывать, и целая неделя езды к дантисту прошла даром. Опять досадно и скучно! Завтра концерт чехов, играют Бетховена, квартет Танеева и Гайдна. Очень это весело. 11 октября[113]. Получила письма – Льва Николаевича, Левы и Доры, все о том, что Лев Николаевич не совсем здоров, – и решила ехать в Ясную Поляну сегодня же. Квартетный концерт был удивительно хорош. Бетховена квартет сыграли превосходно; квартет же Танеева был настоящим торжеством музыки. Что за прелестный квартет! Это последнее слово новой музыки; но такой серьезной, сложной, с неожиданными комбинациями гармонии, с богатством мыслей и умением. Я получила полное музыкальное наслаждение. Сергея Ивановича два раза вызвали; аплодировали и ему, и чехам, которые исполнили квартет безукоризненно. Под этим чудным впечатлением уехала я домой, уложилась и за четверть часа приехала на станцию железной дороги. Мне было радостно и в поезде, и утром на Козловской дороге, и весь первый день в Ясной, под музыкальным впечатлением. 20 октября. Прожила в Ясной Поляне с Львом Николаевичем от 12-го до 18-го. Здоровье его за эти дни совершенно поправилось. Он уже 17-го ездил верхом в Ясенки и перестал пить Эмс. Жили мы с ним внизу в двух комнатках; только одеваться и раздеваться я ходила наверх, в свою холодную спальню, и совсем распростудилась и захворала: сначала невралгией в голове, потом страшной невралгической болью в руке и плече, а потом, наконец, гриппом. Трудна и сера была жизнь этой недели в Ясной Поляне. На дворе сыро, пасмурно, темно. В доме пустынно, холодно, грязно. Сама больна, а писала целыми днями, не разгибая спины, так что были минуты, мне хотелось от усталости смеяться, кричать, плакать. Пишет Лев Николаевич путано, неразборчиво, мелко, не дописывает слов, знаков препинания не ставит… Какого напряжения стоит разбирать всю его путаницу с выносками, разными знаками и номерами! При невралгии и насморке это было страшно тяжело. Последние два дня приехала Марья Александровна [Шмидт] и мне немного помогла, так что мы почти всё кончили, что нужно было переписать и исправить. Прислуги не было никого, кроме крестьянского мальчика, почти идиота, который помощник кучера и приходил топить печку и ставить самовар. А иногда я и сама ставила самовар неумело и с досадой, потому что эти принципы Льва Николаевича – делать всё самому – лишали меня возможности больше помогать и переписывать ему же. Комнаты мела тоже я и пыль вытирала и насилу вычистила эти две комнаты, запущенные в мое отсутствие в высшей степени. Обедать и ужинать ходили в благоустроенный, чистый и светлый флигель Доры и Левы. Там сначала было непривычно и чуждо, а под конец очень приятно и хорошо. Левочка-муж был со мной ласков и добр. Трогательно завязывал на больной руке и плече компрессы, благодарил за переписывание и на прощанье поцеловал даже мою руку, чего давно не делал. Был еще тяжелый и неприятный переполох в Ясной Поляне во время моего там пребывания. Сосед, молодой негодяй Бибиков, человек пьяный, безнравственный и глупый, отрезал у нас купленную 33 года тому назад у его отца землю, на которой посадка 30-летняя; позвал землемера, поставил столбы с казенной печатью, вырыл межевые ямы и выкопал канаву. Кроме того, увез наш хворост, срубил две березы и утверждает, что земля продана не была, а его. Приезжал земский начальник, урядник, разговоры, прошения, всякие неприятности; бедный Лев Николаевич и Лева – оба очень расстроились, и потому мне особенно это было неприятно. Дело теперь налажено, но неизвестно еще, как окончится. У нас правосудие плохое. В Москву вернулась 18-го. Пробегала утро по делам, мерила платье, вечером была в 1-м симфоническом концерте. Играли всё Мендельсона: 4-ю симфонию, потом «Сон в летнюю ночь» с хором, потом концерт со скрипачом. Но мне казалось, вяло дирижировал Сафонов. 19-го была свадьба Вани Раевского. Торжественная, грустная, но трогательная по отношению матери и сына. Оба чувствовали всю важность брака и первого как бы разрыва между ними, так как любовь сына разделилась еще на молодую жену. Ее я не поняла еще. Худенькая, болезненная, с робкой улыбкой. Довольно было скучно; очень я приняла к сердцу взволнованное состояние Елены Павловны. Она не могла не вспомнить покойного мужа при таком значительном событии, и мы поговорили об этом и даже плакали. Давно не наряжалась я так, как вчера, и старое тщеславное чувство моей внешности на минуту меня захватило, но слабо. Сергей Иванович упал, повредил ногу и лежит несколько дней. Не вытерпела, забежала к нему на минутку и сама испугалась, мне Анна Ивановна Маслова в симфоническом концерте сказала: «Зайдите непременно к Сергею Ивановичу, он очень вам будет рад». Рад ли действительно? А может быть, совсем обратное. У него сидел Маклаков, и они играли в шахматы; Сергей Иванович был бледен, жалок, как наказанный ребенок. Жаловался, что даже не работается от отсутствия движения и воздуха. Были письма от Тани и Маши. Всё то же тяжелое чувство от дочерей. Саша с новой учительницей учится хорошо и старательно. Бегала сегодня по поручениям Доры и по делу Бибикова к нотариусу. Дора беременна. Она очень нежна, внимательна и добра с Львом Николаевичем и со мной; и так жалка и трогательна своей беременностью и тошнотой. Вечер провела с дядей Костей и с Маклаковым. Пусто и бесполезно, но они лучше многих все-таки. 21 октября. Ходила навестить Сергея Ивановича. Он упал и повредил ногу, которая распухла, и теперь он лежит уже несколько дней, и я не могла не пойти к нему. Как всегда, серьезно, просто и спокойно разговаривали. Он мне рассказывал о сектантах, самосжигателях, я ему рассказывала о декадентских сочинениях, из которых делала выписки для Льва Николаевича в Ясной. Потом говорили о музыке, о Бетховене, и он мне рассказывал кое-что из его биографии и дал читать два тома из жизни Бетховена. Как всегда, осталось от свидания с Сергеем Ивановичем спокойное, удовлетворенное и хорошее чувство. Он очень просил опять зайти; не знаю, решусь ли. Еще ходила к Наташе Ден – не застала ее. Видела ее бедный уголок. Все эти дочери наши уходят в бедную жизнь, чтоб отдаться и взять любимого человека. А жили в больших домах, с большим количеством прислуги, с хорошей пищей… Видно, ничего нет дороже любви. Была и у Елены Павловны Раевской. Она, видно, больно пережила свадьбу сына, но теперь опять подбодрилась. Вечер провела у брата Саши с сестрой Лизой. Разговоры о хозяйстве, наживе, материализм крайний, отсутствие умственных и художественных интересов – ужасающи в моей сестре Лизе. Гости, фрукты, печенья, старательно устроенный чай, гостеприимство Анечки, милейшие девочки, Колокольцевы супруги – и в конце концов бесследно и бесполезно убитый день… Было письмо от Льва Николаевича, холодное и чуждое. Он постарался ласково отнестись ко мне – и не вышло. Ему, должно быть, досадно, что я живу в Москве, а не с ним, в Ясной, где бы с утра до ночи переписывала ему. А я не могу, не могу больше! Я устала, стара, разбита душой и, может быть, уже избалована. Вспомню неделю, проведенную там: грязь на дворе, грязь в тех двух комнатах, где мы теперь жили с Львом Николаевичем. Четыре мышеловки, беспрестанно щелкавшие от пойманных мышей. Мыши, мыши без конца… Холодный, пустой дом, серое небо, дождь мелкий, темнота; переходы из дома в дом к обеду и ужину к Леве, с фонарем по грязи; писание, писание с утра до ночи; дымящие самовары, отсутствие людей, тишина мертвая; ужасно тяжела, сера теперь моя жизнь в Ясной. Здесь лучше, только надо полезнее жить и содержательнее. 22 октября. С утра у зубного врача – опять всё сначала; потом была у тетеньки Шидловской, болтала много и напрасно с Машей Свербеевой. Дядя Костя обедал, потом пошли с ним навестить Сергея Ивановича. Было скучно и совестно, и это наверное в последний раз. Побыли там немножко, пришла туда с развязной шутливостью Маслова, еще стало скучнее и совестнее. Уехала в концерт квартетный. Играли два квинтета Брамса, очень скучно, я даже дремала. На душе тяжело; известие о болезни, очень, по-видимому, тяжелой, Андрюши меня очень расстроило. Думала много о Тане; сегодня с ней что-нибудь было особенное, очень уж много о ней думала. Получила письмо от Марьи Александровны, что Лев Николаевич здоров и бодр, что у него мужики чай пили и проч. Мы легко живем врознь, а прежде этого не было. Но мне не легко без друга, без человека, который бы интересовался моей жизнью, с которым бы можно жить душой вместе. А Лев Николаевич жил со мной вместе телом и любил меня только плотской любовью. Эта сторона стала отживать, и вместе с этим отживает желание жить не разлучаясь. Читала биографию Мендельсона и взяла два тома биография Бетховена. Но что биографии! Кто узнает душу человека? А творит он душой, и искусство живет духовной жизнью своего творца. Жизнь же материальная часто такая – или плохая, или ничтожная. Что интересного в жизни Льва Николаевича? Что интересного в жизни Сергея Ивановича? Их любишь не за них, не за жизнь и внешность их, а за ту опять-таки менту бесконечную, глубокую, из которой вытекает их творчество и которую любишь в них чувствовать и идеализировать. Чувствую себя не нормальной, не уравновешенной. Сегодня так тосковала, что способна бы была убить себя или сделать что-нибудь совсем несуразное, крайнее… 24 октября. Опять у зубного врача. Встала поздно, чувствую себя тоскливо, по-старому, по-осеннему. Точно вокруг меня какие-то нити оборвались, и я одинокая, бесцельная, ничем не связанная, не занятая, никому не нужная… Маклаков привел вечером Плевако, известного адвоката. Как все люди исключительные бывают интересны, так и этот. Видно, он такой человек, которому объяснять ничего не нужно; он чуткий, всё понимающий и серьезный. Голова широкая, лоб шишками выдающийся, сам широкий, некрасивый, но скорее симпатичный, хотя говорят о нем дурно. Вечером начала первую главу повести. Я чувствую, что напишу ее хорошо. Но кому дать на суд? Мне хочется совсем секретно и написать, и напечатать ее. Болит глаз, ложусь спать всякий день около трех часов. От моих ни от кого нет известий, а я всем писала вчера, посылая деньги. Стараюсь не тревожиться ни о ком, потому что слишком много на всех ушло бы тревожных сил. Ни за кого не радостно и не спокойно… 25 октября. Ужасно хочется видеть Льва Николаевича, и весь день по нем тоскую. Часа четыре играла на фортепьяно, чтобы развлечься. Долго сидела у зубного врача, и он меня измучил, и все-таки больно от вставных зубов. Дожила я таки до этой муки, пришлось вставить несколько зубов, а как я этого боялась… Заезжала к Маше Колокольцевой, говорили о Тане и Маше – моих дочерях, и опять растравила я свое сердце. Вечером пришли Померанцев и Игумнов. Игумнов много играл: и свою увертюру, и Скрябина сочинения, и фугу (органную) Баха, и Пабста кое-что. Разыгрывал романсы Сергея Ивановича Танеева и Юши Померанцева. Я сегодня тупа на музыку и вообще сонна. В понедельник хочу ехать к Льву Николаевичу и с ним в Пирогово. 26 октября. Возила Сашу и Соню Колокольцеву в общедоступный концерт памяти Чайковского. Оттуда там же, в Историческом музее, смотрели выставку картин русских художников. Выдающихся нет. Поражает преобладание осенних пейзажей. Осень была действительно прекрасная нынешний год. Лист держался долго, много было солнечных дней, и впечатление осени – золотое. Приехал Сережа. Как всегда, моя сердечная нежность к нему сдерживается какой-то стыдливостью чувства. А всегда хочется его приласкать, сказать ему, как я его люблю, как мне больно его горе. Вечером пришли Гольденвейзер и Наташа Ден с мужем. Гольденвейзер играл превосходно. У него такая изящная, легкая игра: с таким вкусом! «Ноктюрн» Шопена, Рахманинова мелкие вещи, Шуберта Impromptu и проч. Я очень наслаждалась; так много искусства было сегодня, и мне хорошо. 27 октября. Выпал снег, блестит, белый, в саду, на солнце. Но уже нет того молодого подъема жизненной энергии и той простой непосредственной радости от первого снега. Езда по делам, немного игры на фортепьяно и отъезд в Ясную Поляну. 2 ноября. Была в Ясной Поляне у Льва Николаевича. Утром 28-го ехала с Козловки в санях такая бодрая и готовая на любовь, на дело, на помощь Льву Николаевичу. Было ясное солнечное утро: снег блестел, а на небе огромная луна заходила и ясное солнце вставало; красивое, волшебное впечатление утра! А приехав в Ясную, всё сразу не повезло и отбило мне крылья. Лев Николаевич не ласковый, суровый. Потом случилась неприятность: стала я, убирая комнату, заправлять одну из бесчисленных мышеловок, а она захлопнулась и палкой ударила мне в глаз, так что я упала и думала, что ослепну. Вместо переписыванья Льву Николаевичу пришлось 1½ дня лежать с компрессом на глазу. На другой день Лев Николаевич поехал в Тулу, верхом, было 15° мороза, и это очень меня тревожило; я лежала одна в большом каменном доме весь день с закрытыми глазами и с мрачными мыслями о детях своих и об отношении моем к Льву Николаевичу и детям. Несколько раз вставала писать, глядя хоть одним глазом, переписала все-таки понемногу всю 12-ю главу «Об искусстве»; ходила во флигель к Леве и Доре обедать и ужинать, и там мне было хорошо. На другой день мы поехали с Львом Николаевичем в Пирогово, к брату его – Сергею Николаевичу. Но вечером, накануне нашей поездки, случилась между нами неприятная сцена, которая произвела один из тех надрезов в наших отношениях, которые не проходят даром, а еще больше отдаляют друг от друга людей любивших. Что было? Это неуловимо. Собственно ничего. Результат был тот, что я почувствовала опять лед сердца его, который столько раз в жизни заставлял меня содрогаться; почувствовала равнодушие полное ко мне, к детям, к нашей жизни. На вопросы мои, приедет ли он в Москву и когда, он отвечал уклончиво и неопределенно; на желание мое ближе, дружнее быть с ним, помогать ему в деле его писания, переписывать, посещать его, обставляя его и здоровой вегетарианской пищей, и заботой обо всем, он брезгливо отвечал, что ему ничего не нужно, что он наслаждается одиночеством, ничего не просит, переписывать ему тоже не нужно; вообще всячески хотел лишить меня радости думать, что я могу ему быть полезна, уж не говоря приятна. А нам, женщинам, это дороже всего: почувствовать, что мы можем быть полезны или приятны близким людям. Сначала я плакала, потом со мной сделалась истерика, и я дошла до того крайнего предела отчаяния, когда, кроме смерти, ничего не желаешь. А главное, это ледяное отношение Льва Николаевича ко мне и порождает в сердце ту сильную потребность привязаться к кому-нибудь, заместить пустоту, которая остается в сердце от непринятой, отвергнутой нежности к тому, кого законно и просто можно любить. Это большой трагизм, который мужчины не понимают и не признают. Кое-как совершилось примирение, когда я чуть не сошла с ума от напряженного горя и слез. На другой день, уже в Пирогове, я весь день писала и писала для Льва Николаевича. И всё стало нужно: и теплая шапка, которую я догадалась взять, и фрукты, и финики, и мое тело, и мой труд переписыванья – всё это оказалось более чем необходимо. Боже мой! Помоги мне до конца жизни Льва Николаевича исполнять мой долг перед мужем, то есть служить ему терпеливо и кротко. Но не могу я заглушить в себе эту потребность дружеских, спокойно заботливых отношений друг к другу, которые должны бы быть между людьми близкими. И несмотря на ту боль, которую мне сделал Лев Николаевич, я мучилась, что он 35 верст ехал верхом, и боялась его простуды и усталости! Теперь он остался в Пирогове у брата, а я вчера уехала из Пирогова; была в симфоническом концерте; прекрасно было: Чайковского серенада C-dur для струнных инструментов и концерт Шумана. Видела много народу, но Сергея Ивановича не было; у него всё нога болит. С Сашей всё хорошо, только с m-lle Aubert не ладит. Миша сообщил мне, что все двойки получает из extemporale, я рассердилась, то есть скорее взволновалась, упрекала его, а он стал возвышать голос и был неприятен. Очень меня взволновало вчера то, что Сережа был у своей жены, она его вызывала, и видел своего сына маленького. И когда я спросила, что именно было между ним и женой, он сказал: «Всего понемножку», но отклонился от подробностей их свидания. Но мне кажется, он стал спокойнее. Маня кашляет, едет в Cannes, за границу. Здесь в Москве мне спокойнее и лучше, но я сегодня возвращаюсь в Пирогово; послезавтра уедем в Ясную, там я пробуду один день, рождение Доры, и вернусь в четверг, 6-го утром, в Москву, откуда уже не уеду. Хочет Лев Николаевич жить со мною врознь – его дело. Я должна воспитывать Сашу и влиять на Машу; да я и не могу больше жить в Ясной. Прежняя жизнь с детьми была хороша, занята и содержательна; теперь же быть всецело рабой, да еще мало любимой (он никого не любит) Льва Николаевича, без личного труда, без личной жизни и интереса я уже не могу. Устала от жизни! 7 ноября. Планы мои не все сбылись. Я вернулась в Пирогово в понедельник утром, и уехали мы оттуда только вчера, в четверг. Тяжела была жизнь у брата Льва Николаевича. Это 71-летний старик, довольно свежий умом, но деспотичный в семье, страшный мизантроп, много читающий, всем интересующийся, но бранящий весь мир – кроме дворян. Профессора – это с… дети, прохвосты, купцы – разбойники, мошенники; народ – уж про народ и говорить нечего, все бранные слова на народ. Музыкальный мир – это тоже дураки, мерзавцы… Ужасно было с ним тяжело. Живут бедно, едят ужасно; бедные дочери, молчаливые перед деспотом отцом, ищут в их глуши общения с живыми существами. И вот Вера показывает крестьянским ребятам волшебный фонарь, учит крестьянского мальчика по-английски; потом они беседуют с мужиками, шорниками, столярами о религиозных и философских вопросах. Прежде отец на это сердился, а теперь мать (цыганка) ужасно огорчается этому. Кроме того, у этих трех девушек две коровы, лошадь; они сами их кормят, доят и молоко пьют, потому что вегетарианки. Лев Николаевич там продолжал свое писание, а я ему целые дни переписывала. Вечером раз играла им на расстроенном рояле, и все были в восторге: давно никакой музыки не слыхали. Мы хотели уехать во вторник, но шел дождь, была гололедица – и мы остались. На другой день был страшный ветер, я боялась простудить Льва Николаевича, и мы опять остались. Но вчера дошла моя тоска до последних пределов, и мы решили ехать в Ясную. Был опять сильный ветер, Лев Николаевич все 35 верст проехал верхом, бодро и весело, а я ехала в розвальнях и так беспокоилась о нем, как давно не беспокоилась. Так ничтожны мне показались на свете все другие интересы, привязанности, фантазии мои перед страхом простуды, болезни и возможности потерять мужа! Доехали мы в три часа и, слава богу, не простудились. В Ясной Лева и Дора нас ласково встретили, и таким мне показалась Ясная Поляна раем перед Пирогово! Обедали у Левы, а вечером топили у себя печь; Левочка поправил еще 12-ю и 13-ю главы и дал мне вписать поправки в двойной экземпляр. Пили весело вдвоем чай. Сегодня утром шел мягкий, пушистый снег, без ветра; в чистом воздухе слегка морозило. Пили вдвоем кофе, убирали свои комнаты, получили письма от всех почти детей и радовались этому; просматривали газеты, а потом я поехала опять в розвальнях на Ясенковскую станцию и в Москву. С Львом Николаевичем простились дружелюбно, и он благодарил меня даже, что я ему так много помогла, переписывая статью «Об искусстве». Сегодня отправили еще 12-ю и 13-ю главы в Англию к Мооду для перевода. С Львом Николаевичем остались опять Лева и Дора и старый его переписчик, Александр Петрович Иванов, отставной поручик, 19 лет тому назад пришедший просить на бедность и оставшийся тогда еще переписывать Льву Николаевичу статьи после его нравственного переворота. Дорогой в вагоне я всё читала биографию Бетховена, удивительно меня заинтересовавшую. Это один из тех гениев, для которых центр всего мира – это их гений, творчество, а весь остальной мир – это обстановка, принадлежность к гению. Через Бетховена я поняла лучше и эгоизм, и равнодушие ко всему Льва Николаевича. Для него тоже мир есть то, что окружает его гений, его творчество; он берет от всего окружающего только то, что является служебным элементом для его таланта, для его работы. Всё остальное он отбрасывает. От меня, например, он берет мой труд переписыванья, мою заботу о его физической стороне жизни, мое тело… А вся духовная сторона моей жизни ему совсем не интересна и не нужна – и потому он никогда не вникал в нее. Дочери ему тоже служили, и он ими тогда интересовался; а сыновья ему совершенно чужие. И всё это нам больно, а мир преклоняется перед такими людьми… В Москве много дела книжного, банковского – всякого скучного. Саша и Миша мне очень обрадовались, но они плохи: учатся дурно, и Саша продолжает грубить гувернанткам. Сегодня вечером успела еще поиграть немного… 10 ноября. Сегодня вернулась из Твери, куда ездила навестить Андрюшу. Вчера утром выехала. Андрюша встретил меня у ворот, с утра меня ждал и всегда нежно выражает свою радость видеть меня. Он обжегся карболовой кислотой и лежал три недели; теперь всё зажило. Мы провели очень хорошо день вместе. Я работала, он сидел со мной, и мы переговорили о многом интимном и его личном. Жизнь как будто отрезвила немного и развила Андрюшу. Он свеж, не пьет, не ведет беспорядочную жизнь и потому бодр и приятен. По его настоятельной просьбе хлопочу о его прикомандировании в Сумской полк в Москву. Страшно была бы утомительна дорога, если б не биография Бетховена, которую читаю с всё большим увлечением. Жизнь всякого человека интересна, а такого гения тем более! Получила письмо и телеграмму от Тани. Она задержалась в Ялте по случаю нездоровья маленького Андрюши (внука). Приезжает Вера Кузминская, и я ей рада. Получила письмо от Льва Николаевича. Пишет, что совсем кончает «Об искусстве» и хочет браться за новую работу. Еще пишет: «Думал о тебе и понял тебя (?), и мне стало тебя жалко». Во-первых, как он меня понял. Он никогда не трудился понять меня и совсем меня не знает. Когда я его просила указывать мне, что читать, он указывал мне, что ему интересно, а не что может быть интересно и полезно мне. В этом, то есть в чтении, мне много помог покойный князь Урусов, а теперь помогает Сергей Иванович. Когда я чему-нибудь огорчалась – он приписывал это тому, что желудок не в порядке (у меня, такой здоровой); когда я чего-нибудь желала – он или игнорировал, или говорил, что я капризна или не в духе. А теперь он что-то во мне понял и пожалел. Мне оскорбительна жалость, и я не хочу ее. Если нет любви хорошей, настоящей, дружеской и чистой – мне ничего не надо, я окрепла и сама найду радости и смысл жизни. 11 ноября. Была в лицее узнать о Мише и выслушала тяжелые нападки на лень и дурное его поведение. Какая я несчастная, что всю жизнь только слышу, страдая, краснея от стыда, от всех директоров и учителей брань и унижение моим сыновьям. Есть же такие счастливые матери, которые слышат обратное. Дома опять тяжелый разговор с Мишей, и я решила сделать всё возможное, чтоб отдать его совсем в лицей. Он противится, но я постараюсь настоять на своем. Ездила по делам, мокрый снег, ветер. Вечером без пользы, но с интересом разбирала сонаты Бетховена и поиграла. Читаю всё с увлечением биографию этого величайшего гения в музыке. Приехала Вера Кузминская, и мне не так одиноко. Впрочем, я не одинока: целый мир новой жизни во мне, и мне никого и ничего не нужно для развлечения. Я рада видать своих, рада и возвращению Тани и Льва Николаевича, но мало они мне прибавляют для моего внутреннего счастья. Увы! Напротив… 12 ноября. Были с Сашей в консерватории на музыкальном вечере. Не утомительно и приятно было. Отличные пианистки выучиваются там. Директор Сафонов очень был любезен, взял меня под руку в антракте и пригласил к себе в кабинет; представил мне какого-то иностранного профессора музыки Риттера, и пришлось говорить по-немецки. Была у меня т-те Ден, а то никого почти не вижу. Утром была в бане. Никого и не хочется видеть. 13 ноября. Ездила по покупкам Доры, написала ей письмо, взяла у мисс Белый первый урок музыки. Сегодня тоскливо и хочется ласкового дружеского общения с кем-нибудь, кого я люблю. Приехала Вера Толстая; Вера Кузминская несчастна своими дурными отношениями с отцом. Миша ушел в театр, Саша готовит уроки. Пойду наверх, поиграю, всё легче будет, а то мутится дух. Много играла, весь вечер, но без пользы. Что за бесконечное наслаждение в музыке Бетховена! 14 ноября. Целый день, с утра, скучные счеты с артельщиком. Вечером пришел Алексей Маклаков, играли в четыре руки, но он чересчур плох. Пробовали симфонии Мендельсона, Шуберта (прелестная трагическая симфония), увертюры Мендельсона – и всё неудачно очень выходило; даже плакать хотелось от бессилия исполнить порядочно хоть что-нибудь. Приехал Андрюша на два дня. Ему показалось так одиноко и скучно после моего отъезда из Твери, что он приехал, отпросившись у эскадронного командира. Доброе письмо от Льва Николаевича. Вера Кузминская получила письмо от матери, что женится М., которого она любила. Она очень плакала и вообще жалка. С отцом у ней отношения плохие, и вчера она над его письмом плакала. Мороз 10, потом 1½ градусов, и ветер. Я не выходила сегодня. Завтра симфонический… 15 ноября. Целый день музыка, а удовольствия мало. Утром была с Верой и Сашей на репетиции. Очень не хотелось вставать и ехать, но для них это сделала. Днем сама поиграла упражнения. Был Миша Олсуфьев, расспрашивал о Тане и Сухотине. Я сказала, что она ему отказала. Слово за слово, разговорились о ней намеками разными, и он очень взволновался. Думал ли он когда на ней жениться? Верно, думал, но не решился. «Ваши дочери очень страстные, талантливые и содержательные, но на них страшно жениться», – сказал он. Я тоже ужасно взволновалась. Обедали Боратынская и дядя Костя. Вечером у Миши были его друзья, а я ездила в симфонический концерт. «Карнавал» Глазунова, «Гарольд» Берлиоза, Andante Рубинштейна, хорошая певица пела песни Грига и Генделя что-то. В общем, весь концерт был скучный. С Мишей всё неприятна его слабость, а утром он с добротой трогательно раскаивался. Что-тобудет! А как тяжело, как тяжело! То, что Левочка не приезжает, делается и грустно и досадно. Танеева не видаю, он с больной ногой, а я к нему не иду, потому что не хочу огорчать Левочку, хотя часто досадно, что он со мной не живет и радуется на свое одиночество без меня, а мои действия и привязанности стесняет. А на что я ему, если он не со мной? 16 ноября. Опять весь день музыка. С утра занялась счетами и записью, потом играла часа два с половиной и не могла справиться с 7-й инвенцией Баха. После обеда просмотрела симфонии Шуберта и разобрала сонату Бетховена. Потом пришли Гольденвейзер, Дунаев и Варя Нагорнова. Дунаев прочел нам рассказ Чехова, Гольденвейзер играл сонату (Appassionato) Бетховена, прелюдии и ноктюрны Шопена; играл очень хорошо, я люблю его изящную, умную игру, хотя эта же соната, когда я вспомнила, как ее играл Танеев, то это как небо от земли! Ах, это ужасное бессильное желание послушать опять игру этого человека – неужели никогда больше оно не удовлетворится! Когда ушел Гольденвейзер, мы с Варей попробовали сыграть «Трагическую симфонию» Шуберта; и как начали, так уже не оторвались. Играли мы больше вдохновением, а не умением, откуда что бралось. Мы обе были в восторге. Милая, чуткая, талантливая и сочувствующая всему хорошему Варечка. Уехал Андрюша; мне его всегда жалко. Миша был на цыганском концерте. Саша бегала и играла с Соней Колокольцевой. Известий сегодня ни от кого нет. Из дому я не выходила сегодня. Снег, и на точке замерзания. 19 ноября. Брала второй урок музыки у мисс Белый и не могла оторваться от фортепьяно и после урока проиграла еще четыре часа. Ужасно хотелось поиграть с кем-нибудь в четыре руки последнюю неоконченную симфонию Шуберта, но не с кем было. Вера Кузминская в истерическом состоянии была очень жалка. Сережа кашляет и всё покупает какое-то имение со Степой, что мне крайне не нравится. Было письмо от Льва Николаевича; он пишет, что хотя скучает без меня, но ему хочется уединения для работы, так как он стар и жить и писать осталось недолго. Для человечества эти аргументы, может быть, и очень важны, но для меня лично – надо делать большие усилия, чтобы думать, что писание статей важнее моей жизни, моей любви и моего желанья жить с мужем, находить в этом счастье, а не искать его вне этого. Вечером посетила тетеньку Шидловскую, ей за 72 года, и очень с ней скучно; но часто себя представляю в этом возрасте одинокой – и жутко делается. Гололедица, езда по скользкой мостовой мучительна; вчера лил дождь, сегодня всё замерзло и блестит днем на солнце, ночью в белом лунном свете. Сейчас гадала на картах, и два раза мне вышла смерть. И вдруг мне страшно стало умереть, а я так недавно желала смерти. Ну, да будет на всё воля Божья! Немного раньше или позднее, не всё ли равно. 23 ноября. Москва. Хамовнический пер. Начинаю книгу с тяжелого дня. Всё равно на свете больше горя, чем радости. Вчера вечером Андрюша и Миша собрали большое общество мальчиков и пошли караулить привидение в доме Хилковой на Арбате. Под этим предлогом пропадали всю ночь и вернулись домой в 9 часов утра. Всю ночь, до 8 утра, я их ждала с таким волнением, что задыхалась просто. Потом я плакала, сердилась, молилась… Когда они проснулись (в первом часу), я пошла к ним, сделала им выговор, потом разрыдалась, сделалось у меня удушье и спазма в сердце и горле, и весь день я лежала и теперь как разбитая. Мальчики присмирели, особенно Миша; его совесть еще помоложе, почище. От Левы письмо; огорчается, что отец злобно спорит, кричит и горячится. От Тани телеграмма вчера из Севастополя, она едет домой. Что-то она будет делать! Бедная Маша не поправилась и всё слаба и плоха. Получила от нее письмо. Сережа тих и очень приятен своим умом, музыкальной талантливостью и деликатностью. Мороз, снег. Читаю третью часть биографии Бетховена и в восторге от него. Взяла еще один, третий урок музыки и сейчас, от 11 до часу, упражнялась на фортепьяно. 24 ноября. С утра отправилась в лицей к директору по поводу Миши. Опять он требовал полного поступления, опять уговоры Миши, его несогласие – и на всё руки отпадают. Потом в Думе подавала заявление Миши для поступления в вольноопределяющиеся. Потом свезла статью Льва Николаевича в «Русские Ведомости» – перевод со шведского. Вернувшись, переоделась и поехала поздравить именинниц: Дунаеву, Давыдову и Ермолову. Я люблю этот светский блеск, красивые наряды, изобилие цветов, мягкие, учтивые и изысканные внешние формы речи, манер. Как всегда, везде и во все мои возрасты – общее удивление и выражение это мне по поводу моей будто бы необыкновенной моложавости. Истомин особенно был изысканно любезен. Вернувшись, часа ½ играла на фортепьяно. Вечером были Раевский и брат Петя с дочерью. Ночью от 12 до двух опять играла. Мне хочется двигаться вперед, и нет возможности найти время. Сережа играл очень приятно. 10° мороза, луна. Сергей Иванович ни разу у меня не был. Он что-нибудь услышал о ревности Л. Н. и вдруг изменил свои дружеские отношения ко мне на крайне холодные и чуждые. Как грустно и как жаль! А иначе объяснить его холодность и непосещение меня я не могу. Уж не написал ли ему что Л. Н.? 25 ноября. Вернулась из Ялты Таня – и духовно, и телесно поправившаяся. Был Илюша, как всегда – за деньгами. Вечером Сергеенко, Дены, шум, разговор, я очень устала. Пропал день даром: ни игры, ни дел, ни чтения – ничего. Пробегала за покупками, послала часы Андрюше к именинам, послала внукам гостинцы, взяла себе билеты в концерты. Таня говорит, что Л. Н. о жизни в Москве говорил как о самоубийстве. Так как он будто бы для меня приезжает в Москву, то, значит, я его убиваю. Это ужасно! Я написала ему всё это, умоляя его не приезжать. Мое желание сожительства с ним вытекает из моей любви к нему, а он ставит вопрос так, что я его убиваю. Я должна жить тут для воспитания детей, а он мне это всегда ставит в упрек! Ох, как я устала от жизни! 26 ноября. Весь день провела в театрах. Утром возила Сашу, Веру Кузминскую и Женю Берс в театр Корша смотреть «Горе от ума». Играли очень дурно, и было мне скучно. Вечером Таня меня упросила ехать с ней смотреть итальянскую актрису Тину ди Лоренцо. Это красивая, с темпераментом итальянка, но, не зная языка и пьесы («Adrienne Lecouvreur»), не очень было интересно смотреть и слушать. Очень я утомилась, почти не играла сегодня, и теперь хотелось бы дома посидеть. Были брат Петя с дочерью, Дунаев, Сулержицкий… Очень холодно, ветер, у Миши горло покраснело. 27 ноября. Сегодня провела время хорошо. С утра взяла у мисс Белый четвертый урок музыки, ездила к ней по конке на Якиманку; зашла к Русановым, но ее не застала. Вернувшись, читала, то есть перечитывала еще раз 1-ю и 2-ю части биографии Бетховена, потом писала свою повесть, которой очень недовольна, и читала Сенеки «Утешение к Марции». Я люблю это письмо, оно меня утешает. После обеда хотела играть с Мишей сонату Моцарта со скрипкой, но подошел Сережа, и я его посадила. Очень мне было радостно и то, что Миша взял опять в руки скрипку, и просто весело было на них смотреть, на двух братьев, за моим любимым искусством. Миша стал играть хуже, но не совсем разучился. Хоть бы Бог дал, чтобы он опять взялся за музыку. Сколько он узнал бы радости и утешения! О Льве Николаевиче известий нет. Какая-то глухая тоска и забота о нем сидит в моем сердце; но рядом и недоброе чувство, что он добровольно живет врознь с семьей и сложил с себя уже очень откровенно всякое участие и заботу о семейных. Я ему больше писать не буду; не умею я так жить врознь и общаться одними письмами. О Сергее Ивановиче очень скучаю. Не знаю ничего о нем, здоров ли он, не написал ли ещё Л. Н. чего-нибудь. А то непонятно, почему он ни разу у меня не был. Очень много играла на фортепьяно, часа четыре, и это очень успокоительно. Живу Бетховеном всё это время: его мыслями, душой, звуками, и всё больше его люблю и им восхищаюсь сознательно и по-новому как-то. 29 ноября. Вчера получила длинное, доброе и благоразумное письмо от мужа. Я очень старалась проникнуться им, но от него повеяло таким старческим холодом, что мне стало грустно. Я часто забываю, что ему скоро 70 лет и о несоразмерности наших возрастов и степени спокойствия. На тот грех моя наружная и внутренняя моложавость еще больше мне мешает. Для Л. Н. теперь дороже всего спокойствие; а я жду от него порывистого желания приехать, увидать меня и жить вместе. Эти два дня я страшно по нем тосковала и мучительно хотела его видеть. Но опять я это пережила, что-то защелкнулось в сердце и закрылось… Сегодня весь день провела в музыке. Утром ездила с Сашей на репетицию симфонического, а вечером опять в концерт. Играли 9-ю симфонию Бетховена, и я наслаждалась бесконечно. Еще мне доставила удовольствие увертюра Вебера «Оберон». Утром у двери неожиданно встретила С.И. и обрадовалась очень. Он придет завтра завтракать, назвался сам, и я не могу сказать, что рада; это так мало времени, а у меня всегда в душе желание еще когда-нибудь пожить с ним долго, как жили те два лета, и, главное, его послушать! Обедал Стахович Алексей. Опять за Таню страшно: что-то и он, и она не спокойны вместе, а он так красив и так страстно пел сегодня серенаду Дон-Жуана! Перечитываю Сенеку и продолжаю читать биографию Бетховена. Она длинна, а времени мало. 30 ноября. Приходил завтракать С.И., принес с собой добродушное веселье, спокойствие и ласковость ко всем. Наблюдала его по отношению к Тане, но ничего не могла заметить. Была еще Сафонова и ее две девочки у Саши и Соня Колокольцева. Девочки весело катались в саду на коньках. Потом приехал из Ясной Маковицкий и стал ломаным русским языком мне рассказывать, что Л. Н. бодр, много работает и посылает длинную статью в «Северный Вестник». Я ушам своим не верила, я просила его повторить, и он с особенным удовольствием это повторил. Почти три года тому назад, за две недели до смерти Ванечки, была гадкая, страшная ссора у нас с Л. Н. за то, что он тихонько от меня отдал не мне, по моей просьбе, не Стороженко, по его просьбе (в пользу бедных литераторов), а Гуревич в ее журнал этот прекрасный рассказец «Хозяин и работник». Хотя я отстояла тогда и свои права для 14-го тома, и права изданий «Посредника», и мы выпустили этот рассказ одновременно с Гуревич, что ее страшно злило, но вся эта история тогда чуть не стоила мне жизни или рассудка. И вот тогда он мне дал честное слово, чтобы никогда не делать мне больно воспоминанием этой истории, ничего не печатать в «Северном Вестнике». Неужели честное слово, просто обещание ничего для него не значат? Я хотела ему телеграфировать, напомнить о его слове, но раздумала. Пережила сегодня опять всю прошлую историю, всю боль, все страдания. В первую минуту хотела лишить себя жизни, потом решила уехать куда-нибудь, потом проиграла на фортепьяно часов пять, устала, весь день ничего не ела и уснула в гостиной, как спят только в сильном горе или возбуждении – как камень повалилась. Написать, рассказать весь трагизм моей жизни и моих сердечных отношений, моей любви к Л. Н. невозможно, особенно теперь. 10 декабря. Прошло десять дней с тех пор, как я писала свой дневник. Что было? Трудно собрать все события, тем более что всё было тяжелое и многое еще новое и тяжелое открылось мне. Постараюсь всё вспомнить. 2 декабря я была в концерте «Бетховенский вечер». Ауэр и д’Альбер играли четыре сонаты со скрипкой. Наслаждение было полное, и душа моя успокоилась на время. Но на другой день я увидала в газетах объявление «Северного Вестника» о статье Л. Н. Кроме того, Таня со мной поссорилась, упрекая за мое мнимое отношение какое-то к С.И., а я его месяц до того не видала. Я оскорбилась страшно; меня мои домашние всегда умеют сделать без вины виноватой, если я, как делала всю жизнь, не рабски служу и покоряюсь всем требованиям семьи, а изберу какой-нибудь свой путь, как теперь избрала занятие музыкой. И это вина! На другой день получена была телеграмма от Доры и Левы, что они едут, от Л. Н. – ничего. Он не ехал, как он мне после сказал, от ревности к Сергею Ивановичу (какая теперь ревность, в наши-то годы, скорее зависть, что я полюбила еще одно искусство, а не только его, литературное, и посредством человека постороннего, а не его). Я так нетерпеливо ждала Л. Н., так готова была ему писать, служить всячески, любить его, не доставлять ему никакого горя, не видать и Сергея Ивановича, что известие о том, что после месяца разлуки он не едет ко мне да еще печатает статью в «Северном Вестнике», привело меня в состояние крайнего отчаяния. Я уложила вещи и решила ехать куда-нибудь. Когда я села на извозчика, то еще не знала, куда поеду. Приехала на Петербургский вокзал, хотела ехать в Петербург, отнять статью у Гуревич, но опомнилась и поехала к Троице. Вечером, одна, в гостинице, с одной свечой в грязном номере, я сидела как окаменелая и переживала всю горечь упреков равнодушному к моей жизни и любви мужу. Я хотела себя утешить, что в 70 почти лет уже нельзя горячо чувствовать; но зачем же обман и тайные от меня сношения и статьи в «Северном Вестнике»? Я думала, что сойду с ума. Когда я легла и заснула, меня разбудил нянин и Танин голоса и стук в дверь. Таня почему-то догадалась, что я именно поехала к Троице, обеспокоилась и приехала ко мне. Я была очень тронута, но мое отчаяние не изменилось. Таня мне сообщила о приезде Доры и Левы и о том, что Л. Н. приезжает на другой день. И это уж меня не тронуло. Я слишком долго и горячо его ждала, а тогда уж сломалось во мне опять что-то, я стала болезненно равнодушна ко всему. Таня уехала, а я пошла к обедне. Весь день (девять часов) я провела в церкви. Я горячо молилась о том, чтоб не согрешить самоубийством или местью за всю боль, постоянно причиняемую мне мужем; я молилась о смирении, о чуде, которое сделало бы наши отношения до конца правдивыми, любовными, доверчивыми; молилась об исцелении моей больной души. Исповедь моя была перед Богом, так как старец, схимник Федор, так дряхл, что не понимал даже моих слов; он всхлипывал поминутно от нервности и слабости. Что-то было очень таинственное, поэтическое в этом говений; в каменных проходах, кельях, простом народе, бродящих всюду монахах, в молитвах, длинной службе и полном одиночестве среди не знавшей меня толпы молящихся. Вернувшись, вечером читала я долго правила и молитвы по книге, находящейся в гостинице. На другое утро я причащалась в Трапезной церкви. Был царский день (6 декабря), и готовился роскошный для монастыря обед: четыре рыбных блюда, пиво, мед. Посуда – тарелки и кружки оловянные; на столах скатерти, служат послушники в белых фартуках. Потом я, простояв молебен, пошла бродить по лавре. Цыганка нагнала меня на площади: «Любит тебя блондин, да не смеет; ты дама именитая, положение высокое, развитая, образованная, а он не твоей линии… Дай рубль шесть гривен, приворожу; иди за мной, Марью Ивановну все знают, свой дом. Приворожу, будет любить как муж…» Мне стало жутко и хотелось взять у ней приворот. Но когда я вернулась домой, то перекрестилась и поняла, как это глупо и грешно. Вернувшись в номер, я затосковала. Телеграммы, которой я ждала от Тани о приезде Л. Н., всё не было. Поев, я поехала на телеграф, и там были две непосланных телеграммы: одна от Тани, другая длинная, трогательная от Л. Н., который меня звал домой. Я немедленно поехала на поезд. Дома Лев Николаевич встретил меня со слезами на глазах в передней. Мы так и бросились друг к другу. Он согласился (еще в телеграмме упомянув об этом через Таню) не печатать статьи в «Северном Вестнике», а я ему обещала совершенно искренно не видать нарочно С.И., и служить ему, и беречь его, и сделать всё для его счастья и спокойствия. Мы говорили так хорошо, так легко мне было всё ему обещать, я его так сильно и горячо любила и готова любить… А сегодня в его дневнике написано, что я созналась в своей вине в первый раз и что это радостно! Боже мой! Помоги мне перенести это! Опять перед будущими поколениями надо сделать себя мучеником, а меня виноватой! А в чем вина? Л. Н. рассердился, что я с дядей Костей зашла месяц тому назад навестить Сергея Ивановича, лежащего в постели по случаю больной ноги. По этой причине Л. Н. страшно рассердился, не ехал в Москву и считает это виной. Когда я стала ему говорить, что за всю мою чистую, невинную жизнь с ним он может простить меня, что я зашла к больному другу навестить его, да еще со стариком дядей, Л. Н. прослезился и сказал: «Разумеется, это правда, что чистая и прекрасная была твоя жизнь». Но никто не видал слез его умиления, никто не знает нашей жизни, а в дневнике сказано о вине моей! Прости ему Бог его жестокость ко мне и несправедливость. У нас всякий день гости; скучно, суетно. Лева в Москве и не в духе. Вчера были для Левы и Доры в Малом театре. Шел «Джентльмен» князя Сумбатова. Сегодня обедает Бонье, корреспондент французских газет «Temps» и «Debats». Играть на фортепьяно не приходится. Усиленно переписываю для Л. Н., поправляю корректуры и всячески служу ему. Вчера ночью страшная невралгия… 11 декабря. Была Гуревич, плакала и представлялась несчастной перед Таней. Л. Н. к ней не вышел. Статью пока он у нее спросил назад. Что дальше будет! Я утратила всякое доверие к правдивости его после всей этой обманной истории печатания статьи в «Северном Вестнике». Если б не жила под семейным деспотизмом, поехала бы в Петербург на концерт [венгерского дирижера] Никита. Музыка опять оставлена. Сегодня уехали в Ясную Дора и Лева он очень был раздражителен в Москве. Вчера вечером был у Л. Н. немецкий актер Левинский, играл сонату Бетховена («Appassionata») Гольденвейзер, и я вспомнила опять, как неизмеримо лучше играл ее Сергей Иванович. Видела его в концерте Игумнова; по какой-то насмешке судьбы мой билет кресла оказался рядом с его. Я свой купила две недели назад, а ему дал Игумнов в день концерта даровой. Бывают такие совпадения. Л. Н. я этого не сказала, чтоб его не огорчить. А мне было так всё равно! 14 декабря. У Л. Н. болит что-то печень и плохое пищеварение. Боюсь, что он разболеется, как и я болела эти дни. У меня было сильнейшее расстройство печени и желудка. Сегодня страшная метель, и, может быть, нездоровье его к погоде. Вчера и еще день раньше он, купив себе коньки, ходил кататься на коньках и радовался, что совсем не устает. И действительно, он бодр, но со вчерашнего дня на него нашло уныние, не знаю отчего. От Гуревич письмо отчаянное, что Л. Н.берет назад статью; и, верно, он на меня сердится за это. Чтоб не быть виноватой, я всё время прошу Л. Н. делать всё, что ему приятно, обещаю ни во что не вмешиваться, ни за что не упрекать. Он упорно, нахмурясь, молчит. Была сегодня с Верой Кузминской и своей Сашей в опере, «Орфей» Глюка. Очень хорошая опера, грациозная, мелодичная. Всё в ней так чинно, прилично, воздушно: и хоры, и танцы, и декорации. Вчера была в симфоническом. Прелестная симфония (Pastorale) Бетховена, 1-й концерт Чайковского – остальное скучно. В сущности, как я ни храбрюсь, в самой глубине души – скорбь о не совсем, не до конца хороших, дружных отношениях с Л. Н. и беспокойство за его здоровье. Всё сделала и так искренно и горячо желала хороших отношений! Эх, как трудно, всё трудно! Сегодня, когда я уезжала в театр, ко мне с рыданиями пристала какая-то аптекарская жена, прося сначала 600 рублей, потом 400 рублей на поправление дел. Ей еще труднее. А мы всё искушаем Господа Бога нашего… 16 декабря. Вечером страшно болела голова. Были две милые Масловы: Анна и Софья Ивановны. Участливые, добрые, живые. Потом Стахович и Горбунов. Сегодня обедала Лиза Олсуфьева и был Федор Иванович Маслов, приносил Л. Н. виды Кавказа для его повести. Потом Наташа Деи. Бегала по делам и покупкам. У Л. Н. грипп, и он не в духе. Немного играла. Чудесный Rondo в сонате Бетховена. Вчера ездила по светским визитам; везде один разговор: «Что пишет граф?», «Что Вы делаете для того, чтобы всегда оставаться молодой?» и т. д. Моя моложавость сделалась каким-то необходимым разговором со всеми на свете. А на что она мне? На душе, главное, не радостно; Л. Н. не ласков, и, главное, что-то есть в нем невысказанное, что он таит. Я всё на свете бы для него делала, если б он ласково просил меня. А его злобный, молчаливый протест вызывает и во мне протест и желание оградить и создать свой душевный мир, свои занятия и свои отношения. С.И. не вижу и стараюсь о нем не думать. Л.Н. охрип и кашляет. 17 декабря. С утра урок с мисс Велыц на фортепьяно. Потом визит Анненковой и баня. У Льва Николаевича грипп, ему не пишется, он молчаливо угрюм, неприятен и сегодня говорил об отъезде к Маше. Тяжела эта лихорадочная жизнь: если он приезжает, то сердится, что приехал, и всё время опять куда-то стремится. Нет этого дружного, спокойного, семейного положения, которое я так бы любила; нет определенности… В бане удивительное событие: здесь в Москве последнее время много говорили о семье Соловьевых каких-то, у которых умерло на одной неделе трое детей от скарлатины. И вот как раз мне привелось быть рядом в одном отделении с матерью этих детей. Мы разговорились, я мучительно вспоминала и рассказывала о смерти Ванечки и о том, какой выход (религиозный) я искала и отчасти находила в моем горе. Это ее утешало, и потом она спросила, кто я; и когда я сказала, она разрыдалась, бросилась меня целовать, просила меня еще побыть с ней. Милая, красивая и жалкая женщина. Вечером гости: Чичерин, Лиза Олсуфьева, Маша Зубова, Анненкова, Русанова и – Танеев. Его появление меня испугало из-за Льва Николаевича, и первое время было неловко и страшно. За чайным столом обошлось. Конечно, я рада была его видеть, но еще больше была бы рада его слышать. Но он не играл. Видела вчера сон: длинная, узкая зала, в глубине фортепьяно, и С.И. играет свое сочинение. Вглядываюсь, вижу: сидит у него на коленях Ванечка, и я сзади только вижу его кудрявую золотистую головку и белую курточку; он прислонился к левому плечу С.И. И мне так радостно и спокойно на душе и от музыки, и оттого что Ванечка у С.И. Стукнули ставнями, и я проснулась. Мотив музыки так ясно помнился мне и наяву; но недолго удержала я его в памяти. И стало мучительно грустно, что нет Ванечки, что никогда не будет и той музыки, которая успокаивала мое горе, и никогда не заживет горе Л. Н. от его ревности, и навеки испорчены, без всякой вины моей, и отношения с Л. Н., и простые, хорошие отношения с С.И. вследствие этой ревности. Как тяжела все-таки жизнь! Трудна. Рассказал сегодня Лев Николаевич: в Кремле рожала женщина. Роды были трудные, она стала умирать, послали в Чудов монастырь за священником. Пришел с дарами иеромонах. Оказалось, что он был когда-то доктором и увидал, что при помощи щипцов и известной операции можно спасти и мать, и ребенка. Была ночь; он пошел к себе в келью и принес хирургические инструменты. Операция была сделана этим иеромонахом, и роженица и ребенок были спасены. Говорят, что когда дело дошло до митрополита, монаха хотели расстричь, но потом только перевели в другой город и другой монастырь. Соня Мамонова показала мне сегодня фотографический портрет сына двухмесячного Мани и Сережи. Мы оба с Л. Н. очень взволновались. Бедные и сын, и отец. 18 декабря. Поздно встала, ходила пешком в банк по денежным делам детей. Чувствую себя больной и слабой духом и телом. После обеда играла немного, потом читала вслух, сначала брошюрку [Льва Буха] «Жизнь», а потом Лев Николаевич читал мне и Соне Мамоновой вслух разбор новых французских пьес и их содержание. Всё хочется всем выдумать новое, основанное на эффектах и неожиданности, а содержания настоящего мало. Таня была у Голицыных, рисовала, играла на мандолине; Миша дома. Натура бедная у Миши; сидит, тупо раскладывает пасьянс или бренчит всё одно и то же на рояле, какой-нибудь бедный мотив русской песни. Грустно! С Сашей было неприятно по поводу ее грубости m-lle Aubert и плохого французского изложения. Обедали супруги Ден, Сережа Данилевский, вечером зашел Дунаев. 20 декабря. Вчера по покупкам к празднику, и нынче то же. Детям, внукам, невесткам, гувернантке – всем всё надо. С трудом и скукою делаю всё это. Вчера проснулась рыдая. Вижу во сне, что Ванечка вернулся и весело играет с Сашей, а я обрадовалась, бегу к нему. Потом он лег, и я нагнулась и начала его целовать, а он протянул ко мне губы, по привычке. И я говорю ему: «Как тебя давно не было, как хорошо, что ты вернулся». Так всё было реально, так живо, что когда проснулась, рыдала и долго после всё плакала; Л. Н. удивился, а я не могу остановиться и плачу, плачу. Как болит во мне это горе! Говорят, что грех плакать по младенцу; может быть! Лев Николаевич вчера ездил верхом в типографию, где печатается в «Журнале философии и психологии» его статья «Об искусстве». Вчера же он катался на коньках, а вечером мы с ним ходили на телеграф послать телеграмму его переводчику в Англию [Мооду]. Он всё бодрится, а я ему привела лошадь верховую, чего ему очень хотелось. 21 декабря. Да, где оно, людское счастье? Сегодня опять тяжелый, тяжелый день. Получила Таня письмо от Гуревич, всё насчет того, чтоб Л. Н. дал ей статью. Сережа, приехавший сегодня, и Таня напали на меня, что это я не хочу (мне так неприятны эти сношения с «Северным Вестником»), и послали меня к Л. Н. просить, чтоб он оставил свое «Введение» к переводной статье Карпентера. Я пошла, говорю, чтоб он дал эту статью, если ему и всей семье этого так хочется. Я почти просила его согласиться. Но для Л. Н. это лучшее средство для достижения обратного, так как он из духа противоречия всегда сделает противное. Но тут я неосторожно сказала что-то про то, что его отношения к Гуревич так же мне неприятны, как ему мои к Танееву. Я взглянула на него, и мне стало страшно. В последнее время сильно разросшиеся густые брови его нависли на злые глаза, выражение лица дикое, а вместе с тем страдающее и некрасивое; его лицо только тогда хорошо, когда оно участливо-доброе или ласково-страстное. Я часто думаю, что бы он сделал со мной или с собой, если б я действительно хоть чем-нибудь когда-нибудь была виновата? Благодарю Бога, что он меня избавил от случая, греха и соблазна. Себе я не даю никакой цены; Бог спасал. Днем ездила, визиты отдавала; вечером проводила Мишу в деревню, Веру Кузминскую в Киев, Соню Мамонову домой в Калужскую губернию; Таню в светский спектакль, сама с Сашей пошла на танцкласс к Бутеневым. Буднично и скучно. Вернувшись, застала у Льва Николаевича Чичерина. Днем поиграла часок. Л.Н. сегодня утром у нас в саду разметал каток и катался на коньках; потом ездил верхом на Воробьевы горы и дальше. Ему что-то не работается. 25 декабря. Неужели я четыре дня не писала дневник? Многое случилось в эти дни. Третьего дня Лев Николаевич отправился на Николаевский вокзал, хотел перехватить отъезжающих: англичанина Син-Джона и Сулержицкого, которые повезли пожертвованные духоборам деньги. Их не застал, страшно устал, пришел пешком домой, озяб, лег – и когда я вернулась домой, застала его уже больного. Был жар 38 и 5, через час – 39 и 4 и еще через час – 40 и 2. Накануне Л. Н. еще был в бане, и всё вместе – он и захворал. Я сама поехала за доктором, привезла молодого Усова. Л. Н. охотно покорился осмотру, выслушиванию и проч. Предписали Эмс, как всегда, растирание всего тела горячим, горячее на живот. Всё бросилось на кишки, печень и желудок. Всё застужено от чрезмерного потения в работе. Всё сделала, вчера уж было лучше: 38 и 6, сегодня – 37 и 5; Лев Николаевич еще слаб, но уже болезнь уступила. Он ел, я ему в три часа снесла Эмс, а в 3½ – овсяный суп, пюре. Он говорит: «Как ты умна, что догадалась принести мне суп, я ослаб немного». Потом он с нами обедал; нас было мало: мы, старики, Сережа, Таня и Саша. Еще Саша Берс и m-lle Aubert. Но дружно, тихо и хорошо было, и Сережа, бедный, такой грустный это время! Перед обедом дети катались на коньках и смотрели зверей в Зоологическом саду, Л. Н. спал, а я играла, упражняясь усердно. Получили анонимное письмо. Вот копия: Граф Лев Николаевич! Бесспорно, что секта Ваша растет и глубоко пускает корни. Как ни беспочвенна она, но при помощи дьявола и по глупости людей Вам вполне удалось оскорбить Господа нашего Иисуса Христа, который должен быть нами отмщен. Для подпольной борьбы с Вами, подпольными же, мы образовали тайное общество «Вторых крестоносцев», цель которых – убить Вас и всех последователей – вожаков секты Вашей. Сознаем вполне, что дело это не христианское, но да простит Господь и да рассудит нас за гробом! Как ни жаль бывает «своей» руки, но раз заражена она гангреной – приходится ею пожертвовать, жаль и Вас, как брата во Христе, но с уничтожением Вас зло должно ослабнуть! Жребий пал на меня недостойного: я должен убить Вас! Назначаю для Вас этот день: 3 апреля будущего, 1898 года. Делаю это для того, что миссия моя – во имя великого святого и Вы можете приготовиться для перехода в загробную жизнь. Легко, может быть, Вы поставите мне логично вопрос: почему агитация эта только против Вашей секты? Правда, все секты – «мерзость пред Господом!», но законоположники их – жалкие недоумки – не чета, граф, Вам; во-вторых: Вы – враг нашего Царя и Отечества!.. Итак до «3 апреля». Второй крестоносец жребьевой. Жребий 1-й. Декабрь 1897 г. Село Смелое. На печати сургучом ЕС и дворянская корона. Штемпель из Павлограда 20 декабря. Письмо это меня так беспокоит, что я ни минуты не могу его забыть. Думаю о нем сообщить екатеринославскому губернатору и здешнему обер-полицмейстеру Трепову, чтоб приняли какие-нибудь меры. Если захотят, разыщут опасных людей. Лев Николаевич не выразил беспокойства и говорит, что предупредить ничего нельзя и на всё воля Бога. Вечером пришли Колокольцевы, Бутенев, Вера Северцева. У Льва Николаевича 38 и 5, и он слаб. 26 декабря. Проводила утром Таню и Сашу в Гриневку и Никольское. Сережа уехал вчера вечером. Спешили, укладывали ящики. Я послала всё на елку внукам, потом подарки и фрукты Доре и ящик с серебром и шубу своей Маше. Всё это с Таней; и им корзиночку уложила с едой и фруктами на дорогу. Остались мы с Львом Николаевичем вдвоем; тихо и ничего, хорошо. Ему гораздо лучше, утром 36 и 9, вечером 37 и 5; он спросил вечером суп, печеное яблоко, бодрей и веселей. Меня преследует вчерашнее письмо. Весь день провела за фортепьяно. Эта бессловесная музыкальная беседа то с Бетховеном, то с Мендельсоном, Рубинштейном и проч., и проч. даже при моем плохом исполнении доставляет мне огромное удовольствие. Прерывали Митя Олсуфьев, и с ним мы откровенно, просто и дружно беседовали; потом моя холодная, благоразумная и красивая кузина Ольга Северцева и живая (с темпераментом), умная и талантливая Марья Николаевна Муромцева. У ней много недостатков, но мне с ней всегда весело. Получила четыре приглашения себе и детям: к Треповым, к Глебовым, к брату Саше и к Муромцевой с Кони и музыкантами. Она говорила, что зовет и С.И., но я знаю, что он уехал в «Скит» работать. Вечером приходила Анна Левицкая; потом я проявляла и испортила группу, которую вчера сняла у нас в саду. Завтра симфонический, и я радуюсь. 27 декабря. Была в симфоническом, играли все новые вещи для меня: Франка симфонию, Делиба «Le roi s’amuse», Глазунова в первый раз «Стеньку Разина» и проч. Новые вещи меня интересуют, но не радуют. Льву Николаевичу лучше, сегодня он выходил в сад и охотно ел. Трудно его, вегетарианца, кормить больного. Придумываешь усиленно кушанья. Сегодня дала ему на грибном бульоне суп с рисом, спаржу и артишок, кашку на миндальном молоке манную с рублеными орехами и грушу вареную. Был у нас Давыдов Николай Васильевич; я ему говорила об анонимном письме, он один посмотрел на это довольно серьезно. Принимала разные светские визиты: Голицыну, Самарину, Ховриных и т. д. Вечером приятно разговаривала с молодой девушкой, Соней Кашкиной. Приходили Анненкова, Дунаев, Сергеенко, Цингер, Попов; сидели с Л. Н., пока я была в концерте. Л.Н. сегодня рассказывал, что в день, когда ему заболеть, он шел по Пречистенке и на него вскочила вдруг неожиданно серая кошка и, пробежав по пальто, села на плечо. Л. Н., по-видимому, видит в этом дурное предзнаменование. От Маши телеграмма, благодарит за шубу и серебро. Тепло, 2°, мокрый снег. 29 декабря. С утра занималась фотографией. Немного играла, упражнялась. После обеда играли с Львом Николаевичем в четыре руки Шуберта «Трагическую симфонию». Сначала он говорил, что это глупости, мертвое дело – музыка. Потом играл с увлечением, но скоро устал. Он слаб после болезни, всё под ложечкой болит, и похудел он, так мне нынче больно было на него смотреть. Вечером часа на два уезжала в концерт пианиста Габриловича. Играл он, конечно, хорошо, удивительно piano выделывает. Но я всё время вижу его старание и умысел, и потому он меня не увлекал. Никого нет лучше Гофмана и Танеева. Какое томление желать – и, может быть, никогда его больше не услыхать! Вернулись Андрюша и Миша из деревни. Андрюша кашляет и меня тревожит. Вчера мы с Л. Н. ездили к брату Саше: Л. Н. играл в винт, а я слушала, как мне играла одна пианистка. Сыграла она и тот полонез Шопена, который нам играл летом С.И. Так меня всю и перевернуло от воспоминаний его чудесной игры и его милого общества. И всё это кончено – навсегда! Была вчера у Столыпина, старика. У него молодежь разная собирается, и поют «Норму». Живой старик, а ему 76 лет! Думала о том, что Л. Н., находя в церкви много лишнего, суеверного, даже вредного, отверг всю церковь. Так же в музыке, слушая разную чепуху, встречающуюся в последнее время у новых музыкантов, он отверг всю музыку. Это большая ошибка. Как десятками лет отбросили всё лишнее, весь музыкальный сор, и остались настоящие таланты, так и из теперешней музыки новой отбросят всё лишнее и останутся единицы; в числе их будет наверное Танеев.1898
1 января. Вчера встретили Новый год – Лев Николаевич, Андрюша, Миша, Митя Дьяков, два мальчика Данилевские и я. Случилось, что Данилевская заболела, и, вместо того чтоб у них была встреча Нового года, пришлось мальчикам быть у нас. Очень было приятно, дружно, тихо и хорошо. Мы пили русское донское шампанское, Лев Николаевич – чай с миндальным молоком. Сегодня с утра играла и стерегла Мишу, чтоб он учился. Потом ездила к старой тетеньке Вере Александровне, болтала с ней и кузинами своими; еще была у Истоминых. Обедали вдвоем с Львом Николаевичем. Он всё не может справиться здоровьем, мало ел, только суп грибной с рисом и манную кашку на миндальном молоке, и пил кофе. Он вял и скучен, потому что не привык быть болен и слаб. Как ему трудна будет дальнейшая слабость и потеря сил! Как ему хочется еще – и жизни, и бодрости. А скоро 70 лет, в нынешнем уже году в августе, то есть через полгода. Он всё читает один, в своем кабинете наверху, пишет немного писем; сегодня ходил к больному обожающему его Русанову. На диване, в его кабинете, лежит черный пудель, недавно полученный Таней в подарок от графини Зубовой. Этого пуделя он и гулять брал. Завтра приезжает наша Маша посоветоваться с доктором. Таня и Саша всё еще в деревне; завтра они поедут, вероятно, в Ясную Поляну к Леве и Доре. Мне тоже хочется съездить в Ясную. Как я ее люблю, и как много хорошего я там пережила! 3 января. Вчера с утра приехали: Стасов, скульптор Гинцбург, молодой художник и Верещагин (плохой писатель). Стасов, пользуясь своими 74 годами, бросился меня целовать, приговаривая: «Какая вы розовая и какая стройная!» Я сконфузилась и не знала, как от него отделаться. Пошли наверх, в гостиную, разговаривали о статье Льва Николаевича «Об искусстве». Стасов говорил, что Л. Н. всё вверх дном поставил. Я это и без Стасова знала, ведь он на то и бил! Была неприятная короткая стычка у нас с Л. Н. по поводу моего упрека, что публика должна записаться на «Журнал философии и психологии» на два года, чтоб прочесть статью Л. Н., помещаемую в книге ноябрь – декабрь и в книге февраль – март; а что если б его вещи печатала я при его Полном собрании сочинений, то продавала бы за 50 копеек и все могли бы читать. Л. Н. начал при всех кричать: «Я не даю! Я всем даю!.. Мне упрекают с тех пор, как я всё даром отдаю!» А ничего он мне не дает: «Хозяина и работника» тайком послал в «Северный Вестник»; тоже тайком теперь послал свое «Введение», которое вернул, и статью об искусстве старательно охранял от меня – бог с ним! Он прав, его произведения – его неотъемлемая собственность; но не кричи уж на меня. Приехала вчера вечером Маша с Колей. Она всецело отдалась мужу, и для нее мы уже мало существуем; да и она для нас не очень много. Я рада была ее видеть; жаль, что она так худа; рада, что она живет любовью, это большое счастье! Я тоже жила долго этой простой, без рассуждений и критики, любовью. Мне жаль, что я прозрела и разочаровалась во многом. Лучше я бы осталась слепа и глупо любящая до конца моей жизни. То, что я старалась принимать от мужа за любовь, была чувственность, которая то падала, обращаясь в суровую, брюзгливую строгость, то поднималась с требованиями, ревностью, но и нежностью. Теперь мне хотелось бы тихой, доброй дружбы; хотелось бы путешествия с тихим, ласковым другом, участия, спокойствия… Вечером была в опере «Садко». Красивая, занимательная опера, музыка местами хорошая, талантливая. Автора безумно вызывали, овации были большие. Мне было приятно, но опять-таки лучше бы и музыку слушать, если б рядом со мной, как у многих, был тихий, добрый друг – муж. Езжу и принимаю визиты без конца и очень этим тягощусь… Вечер. Обедали у нас Стасов, Касаткин, Гинцбург и Матэ – один скульптор, другой гравер. После обеда приехала Муромцева в желтом атласном платье и цветах, но в нетрезвом виде, и на меня навела ужас, как всегда, когда я вижу людей не в своем виде. Позднее приехали Римский-Корсаков с женой, а Муромцева уехала. Были разговоры об искусстве, очень горячие и громкие. Стасов молчал, Л. Н. кричал, а Римский-Корсаков горячился, отстаивая красоту в искусстве и развитие для понимания его. Всё это написано в статье Л. Н. Мы никто не соглашались с ним в том, что он отрицал и красоту, и известное развитие для понимания искусства. Корсаковы несколько раз поминали Сергея Ивановича и с таким же уважением и любовью, как и все к нему относятся, кроме моего свирепого мужа. Как он сегодня шумел в разговоре! Я всегда боюсь, что он кого-нибудь оскорбит резкостью. Устала от целого дня общения с людьми… Мальчики танцуют у Лугининых. 5 января. Вчера была на танцевальном утре в доме Щербатова, где собралось всё так называемое общество Москвы. Поехала для Саши, которая утром вернулась с Таней от братьев из деревни, и посмотреть, как танцуют мои сыновья. Очень было веселое утро и такое стройное, ничего не оскорбляло. Вечером поздно поехала на вечер к Муромцевой, чтоб ее не обидеть, и там меня очень почетно принимали; были пенье, музыка, и это было приятно. Но в этом хаосе общественной жизни я совсем одуреваю. Кроме того, больны все три дочери: у Маши страшная головная боль с истерическими припадками, у Саши нарыв в ухе был, очень болел и лопнул, у Тани флюс, лихорадочное состояние и мысли о Сухотине, который завтра приезжает. Лев Николаевич опять здоров, гуляет и со мной ласков. Сегодня ходила пешком на ученическую выставку, ужасно плоха и только некоторые пейзажи недурны и напоминают лето, лес и воду. Обедал у нас сегодня Репин и провел весь день до вечера. И, кроме него, было много гостей. 6 января. Ездила на Патриаршие пруды кататься на коньках и много каталась с Маклаковыми и Наташей Колокольцевой. Оттепель и шел дождь. Очень весело и здорово это катанье на коньках. Вечером читала, сидела с Сашей и слушала музыку неизвестного юноши Поля из Киева, который играл Льву Николаевичу и нам свои сочинения и очень талантливо. Л. Н. невесел, потому что ему всё еще не работается. Он тоже катался на коньках в каком-то приюте малолетних детей; это уже не в первый раз. С утра плакала, вспомнив живого Ванечку, а к вечеру опять взяла тоска по многому, чего хочется в жизни и чего нет и никогда не будет… Л. Н. всё читает материалы кавказской жизни, природы, всего, что касается Кавказа[114]. 8 января. Вчера обедал у нас Репин, всё просил Льва Николаевича задать ему тему для картины. Он говорил, что хотел бы свои последние силы в жизни употребить на хорошее произведение искусства, чтоб стоило того работать. Лев Николаевич еще ничего ему не посоветовал, но думает. Самому ему не работается. Погода ужасная: ветер страшнейший, везде вода – больше, чем весной бывает в Москве; 3° тепла и темнота. Вчера прочла отзыв хвалебный Кашкина об опере «Садко», которая мне страшно нравится, и так захотелось поехать! Л. Н. меня уговаривал с добротой такой, чтоб я ехала, что я еще больше почувствовала себя виноватой от своего легкомыслия. Если б я не нашла билета, то даже обрадовалась бы. Но надо же такой случай: мой билет был последний в кассе. Это был 3-й ряд кресел, а мне хотелось балкон. Пошла наверх, попросила кого-нибудь мне обменять: внизу слишком громко, а у меня ухо болит. Кто-то меня окликнул: это была учительница Саши Кашкина, милая девушка. Она послала брата вниз, а меня посадила между собой и матерью. В антракте еще меня окликнула Маслова. Она была тут же, в балконе бельэтажа, но дальше меня, с кузиной и с Сергеем Ивановичем. Я так и обмерла, вспомнив доброе уговаривание Л. Н. Со мной судьба всегда играет такие шутки. В театре 3000 человек; я страшно близорука, никого не вижу в двух шагах; увидать с партера сидящих во втором ряду балкона – нет возможности, и я все-таки очутилась там, где могла видеть Сергея Ивановича. Когда мы искали свои шубы, он со мной сказал два слова, что кончил симфонию свою для оркестра и что на днях приедет. Вернувшись домой, я хотела сказать Л. Н., что видела Сергея Ивановича, и никак не могла. Когда я вошла к нему, мне показалось лицо его такое худое, грустное; мне хотелось броситься к нему и сказать, что я не могу никого любить больше него, что я всё на свете готова сделать, чтоб он был спокоен и счастлив; но это было бы дико, и потом, кто поручился бы, что он, как Маша, не думал бы дурное про меня, подумал бы, что я что-нибудь знала, подстроила, сговорилась… Больна Саша; у ней нарыв в ухе, и очень мне жаль юную подружку моей теперешней жизни. Таню по-старому горячо люблю, жалею и слежу с болью за ее сердечной борьбой. Андрюша уехал в Тверь, Миша в лицее. Л. Н. сейчас хотел проехаться верхом, но лошадь хромает, и он ушел пешком. 10 января. Была с Марусей Маклаковой на периодической выставке картин, и хотя мало хороших, но я люблю искусство. Кстати об искусстве: вчера Алексей Стахович, адъютант великого князя Сергея Александровича, рассказывал, что читали у великого князя статью Льва Николаевича «Об искусстве» и говорили с соболезнованием, как «жаль, что это вышло из-под гениального пера Льва Толстого». Еще говорили о нашей семье, и великий князь, встретивший меня у Глебовой в среду, сказал Стаховичу, что был поражен моей необыкновенной моложавостью. Ятак к этому привыкла и так дешева эта похвала, что я уж ей не придаю никакой цены. Если б я хоть что-нибудь была больше, чем моложавая жена Льва Толстого, как я была бы рада! Говорю в смысле духовных качеств. Л.Н. спокоен, здоров, но всё не может работать. Мы дружны, и просты наши отношения, как давно не были. Я так рада! Но надолго ли? 13 января. Вчера именины Тани. Готовили с утра вечер. Таня начала звать к себе гостей, я продолжала. Это долг светским отношениям. Днем разбираю картон, в утренней кофточке, растрепанная, ничего не слышу, вдруг передо мной Сергей Иванович и Юша Померанцев. Я так взволновалась, вся вспыхнула и ничего не могла сказать. Не велела никого принимать, а их пустили почему-то. Сидели почти час, говорили о «Садко», о Римском-Корсакове и др. Когда ушел Сергей Иванович, какое-то мучительно тоскливое чувство, что я, чтоб успокоить Л. Н., должна ненавидеть этого человека или по крайней мере относиться к нему как к чужому совсем – а это невозможно. Вечер был с пением Муромцевой-Климентовой, Стаховича, с игрой Игумнова и Гольденвейзера, с освещением, угощением, ужином, генералом, княгинями, барышнями, и было не весело, но и не скучно. Трудно было. Л. Н. играл в винт со Столыпиным, братом Сашей и др. Сегодня уехали Маша и Коля. 14 января. Лев Николаевич стал бодрей эти два дня. Саша, слава богу, выздоровела и начала ученье. Миша сегодня тоже занимался и уехал в Малый театр смотреть пьесу «Борцы» [Модеста] Чайковского. Живу старательно, но часто с глубоким отчаянием в душе… Помоги, Господи! 16 января. Таня собирается в Петербург. Я намекнула было, что мне хотелось бы съездить на представления опер Вагнера в Петербург, но Лев Николаевич излил на меня за это такой злобный поток упреков, так язвительно говорил о моем сумасшествии касательно любви к музыке, о моей неспособности, глупости и т. д., что мне теперь и охоту отбило что-либо желать. Весь день провела за счетами с артельщиком, очень внимательно привела в порядок свои книжные, детские и домашние дела, но очень устала и голова болит. Вечером поздно пошла прогуляться с Львом Николаевичем, проводили домой Марусю Маклакову, и с нами были Степа-брат и Дунаев. Приехали Сережа и Илюша. Поздно вечером тяжелый разговор с Львом Николаевичем. Он всё более и более делается тяжел своими подозрениями, ревностью и деспотизмом. Его сердит каждый мой самостоятельный шаг, каждое мое самое невинное удовольствие, каждый час, проведенный за фортепьяно. Сегодня наша Таня и Маруся Маклакова пересматривали фотографии разных мужчин и переговаривались, за кого бы они пошли замуж. Когда дошли до портрета Льва Николаевича – обе закричали: «Ни за что, ни за что!» Да, трудно очень жить под деспотизмом вообще, а под ревнивым – ужасно! 17 января. До поздней ночи меня пилил Л. Н., говоря, что просит отпустить его в деревню, что он мне не нужен, что жизнь в Москве для него убийство, и всё в этом роде. Слово отпустить не имеет значения, я его держать не могу. Если я желала, чтоб он приехал в Москву, то потому, что мне естественно и радостно жить с мужем, которого я привыкла любить, о котором привыкла заботиться. Чтоб он не мучился ревностью – я всё сделала и все-таки не заслужила его доверия. Если б он уехал в деревню, то еще больше бы мучился; уехать всем нам – как же быть с Мишей и Сашей, не учить их? Думаешь, думаешь… А равнодушие и бездействие Льва Николаевича в воспитании детей всегда мне тяжело, и я ему ставлю это в упрек. Сколько отцов не только воспитывают сами детей, но еще и кормят их своим трудом, как мой отец. А Л. Н. считает, что даже жить с семьей для него убийство. Ходила утром по делам в банк и за покупками. Ветер страшный, 6° мороза. Приехал Илюша на собачью выставку и за деньгами; тут Сережа. Степа-брат уехал, приехала к нам Соня Мамонова. Сегодня в банке, дожидаясь, читала газету, и до слез меня огорчает дело убийства рабочих взрывом газа на Макеевских шахтах в Харьковской губернии. Описание похорон, горе родных, убитые лошади, искалеченные люди – всё это ужасно! Убиты те, кто без света, без радости, в вечной работе вели тяжелую трудовую жизнь под землей! А рядом пишут и кричат о деле Дрейфуса в Париже! Как оно мне показалось ничтожно в сравнении с русской катастрофой! 18 января. Лев Николаевич чистил снег и поливал каток в саду и написал много писем. Он очень молчалив, необщителен и, верно, обидев меня, в письмах жалуется друзьям на меня же. 20 января. Вчера Саша утром собирала складчину для маленького сына отошедшего от нас лакея Ивана. Этого мальчика Леню обварили самоваром, и он лежит в больнице. Как вышло удивительно третьего дня. Сыновья мои ушли в театр, Сережа смотрел «Садко» в театре Солодовникова. Напал на меня страх, что сгорит театр, и я говорю Льву Николаевичу, что предчувствую пожар. И действительно, в ту ночь, когда разошлась публика, сгорел театр и обрушилась крыша. Сегодня ездила с Сашей покупать ей башмаки и корсет. Потом разметала снег в саду на катке; Лев Николаевич присоединился ко мне, и мы вместе мели снег, а потом он стал кататься на коньках, а я села играть и упражнялась часа полтора. Вечером было большое удовольствие. Мария Николаевна Муромцева привезла нам молодого пианиста Габриловича, и он нам играл целый вечер превосходно: балладу Шопена, ноктюрн его же, Impromptu Шуберта, Rondo Бетховена. Пришли Миша Олсуфьев, Маруся Маклакова. Лев Николаевич очень наслаждался музыкой и благодарил этого веселого, добродушного и талантливого двадцатилетнего мальчика. Прочли с Соней Мамоновой, которая гостит у нас, разбор статьи Л. Н. «Об искусстве». Все критики сдержанно отзываются об этой статье. 21 января. Хотела и начала читать корректуру нового издания «Детства и отрочества», и оказалось, что не тем шрифтом набрано, и я отослала в типографию и велела набирать вновь. Вечером разучивала усердно сонату Бетховена. Потом устала, пошла наверх ко Льву Николаевичу, а у него фабричный, солдат и еще какой-то темный. Скууу-чно мне стало от этой вечной стены различных посетителей (да еще таких) между мной и мужем. Весь день идут у нас с Соней Мамоновой и Львом Николаевичем разговоры о деревенской газете для народа. Цель газеты – дать интересное чтение народу. События вроде крушения поездов, столкновения пароходов, несчастий в шахтах, приезд китайских, абиссинских и других заморских гостей; описания метеорологические, агрономические, исторические; сведения о царе и царской фамилии, краткое описание праздников и фельетоны – легкое чтение. Лев Николаевич так увлекся этой мыслью, что выписал Сытина (издателя народных книг и картин), чтоб поговорить о материальной стороне дела. Главное, Л. Н. меня хочет вовлечь в эту газету. Я очень сочувствую мысли, но с ним я бы не могла вести дело, мы слишком разных направлений, а своей непрактичностью Л. Н. испортил бы мне всё дело. Не как редактора, а только как сотрудника по беллетристике я взяла бы себе Льва Николаевича. Устала, тоскливо, иду спать и жить душою и мыслями, той жизнью, которой не живу в действительности. Я сплю мало, но зато думаю, думаю, вспоминаю, даже еще о будущем думаю и чего-то жду от него. Сегодня Миша выдержал греческий экзамен полугодовой. 22 января. Играла на фортепьяно целое утро, нервна до последней крайности, не спала всю прошлую ночь и лежала с открытыми глазами в темноте, боясь разбудить и потревожить мужа. Сижу я сегодня за фортепьяно и вдруг подумала, что Л. Н. может умереть, что его обещали убить, и расплакалась… Как ни строг он со мной, еще много у меня в сердце любви к нему. Вечером была в концерте – квартет венских профессоров консерватории. Л.Н. утром гулял с Таниным черным пуделем по саду: каток его растаял. Потом он получил письмо от дамы из Воронежской губернии о том, что там голод и она просит помощи и совета. Л. Н. написал письмо в «Русские Ведомости» о голоде, но вряд ли напечатают. Вечером он был у больного Русанова. Приходил Попов, он едет к Бирюкову и везет ему кое-что от Л. Н. Бирюков из Бауска едет в Англию. Туда же вчера уехала Винер, бывшая сожительница князя Хилкова, тоже сосланного[115]. 26 января. Все эти дни я была больна. Сначала была сильная невралгия в правой стороне головы, потом сильный жар, потом горло. Ездил доктор, молодой Усов, боялся дифтерита, но, по исследованиям, его не оказалось. Удивительные эти молодые доктора: Малютин лечил Сашу – денег не взял, и Усов не взял. Я им послала сочинения Л. Н. с его подписью. Таня всё в Петербурге, и Л. Н. очень трогательно мне смазывал горло, так старательно и неловко. Он испугался моей болезни и вдруг стал такой унылый и старенький эти дни. Как мы все странно любим! Вот он, например, спокоен, счастлив, когда я тупо, тихо, скучливо сижу дома и работаю или читаю. Если же я оживлена, предпринимаю что-нибудь, общаюсь с кем-нибудь – он приходит в беспокойство, а потом сердится и начинает ко мне дурно относиться. А мне иногда так трудно вечно подавлять все горячие порывы моего живого, впечатлительного характера! Вчера я лежала в постели, а к Л. Н. приехали опять три молоканина самарских просить писем рекомендательных в Петербург. Едут хлопотать опять об отнятых у них правительством детях, которых отдали в монастыри. Бедные дети и матери! И что за варварское средство для обращения в православную веру! Это уж никого не убедит, а напротив. Сегодня приехала моя сестра Лиза из Петербурга, привозила и читала свои статьи о тарифе, о финансах, о крестьянской общине. Ведь придет же в голову женщине заниматься такими вопросами! А она вся ушла в финансы России и постоянно общается с министром Витте. Л. Н. и Дунаев нашли многое очень умным, особенно о тарифе, недавно введенном в России и уже оказавшемся совершенно негодным. Сегодня меня звали на музыкальный вечер к Муромцевой, и я не могла ехать. Пропустила симфонический в субботу, жалею об увертюре «Эгмонт» Бетховена. Уступила билет Сереже и рада, что ему было приятно. Вчера в постели и сегодня читала корректуру «Детства», которое меня всякий раз приводит в умиление. Спина болит, ослабела, и внутренняя тоска сосет, не переставая. Сейчас Л. Н. пришел и говорит: «Пришел посидеть с тобой». Он мне показал две семифунтовые гири, которыми хочет делать гимнастику и которые купил сегодня. Он очень вял и всё повторяет: «Точно мне 70 лет». А ему и так в августе, то есть через полгода, будет 70 лет. Днем он катался на коньках, разметал снег. Но ему умственно не работается, а это его больше всего огорчает. 27 января. День читала корректуру, вечером гости: Цуриков, Боборыкин-старик, бывший орловский губернатор, профессор Грот, Сулержицкий, Горбунов и проч. Очень я утомилась, еще больная, и не могла участвовать ни в разговорах и ни в чем. Л. Н. катался немного на коньках и поправлял корректуры «Искусства». 28 января. Насилу встала, так дурно себя чувствую: и тошно, и всё тело ломит, и голова болит. Все-таки много работала над корректурами и делами детей; вчера и сегодня делала выписки из общей расходной книги в каждую отдельную книгу: Андрюши, Миши и Левы. Была у меня милая Мария Евгеньевна Леонтьева, и мы с ней близко и откровенно разговаривали об очень серьезных жизненных вопросах. Сергей Иванович присылал узнать о моем здоровье свою милую старушку няню, Пелагею Васильевну. Л.Н. опять слишком усиленно разметал снег на катке и катался на коньках. Упражнения гирями тоже начались. Всё вместе это сделало то, что опять заболела у него печень, он наелся чечевицы и овсянки не вовремя, а совсем потом не обедал. Сейчас я посылала за Эмсом и дала ему выпить, что он охотно исполнил. Сидит, читает; я теперь читаю «Desastre» Поля Маргерита и его брата. Кажется, это времен Франко-прусской войны. Приехала ко Льву Николаевичу дама, Коган, и шел разговор о высоких вопросах человеческого назначения и счастия и о путях к нему. Переписку и поправку работ (пока незначительных) производит теперь Сулержицкий, умный, способный и свободный юноша, когда-то учившийся живописи с Таней в школе на Мясницкой. Л. Н. очень доволен его работой. 29 января. Вернулась Таня из Петербурга. Она ездила для своих изданий картин и очень приятно провела время. Была у Победоносцева по поводу отнятых у молокан Самарской губернии детей. Победоносцев сказал, что местный архиерей перестарался, и прибавил, что напишет об этом самарскому губернатору и надеется, что дело это уладится. Какая хитрость! Он притворился, что не знал, что Таня – дочь Льва Николаевича, и когда она уже сошла с лестницы, он ее спросил: «Вы дочь Льва Николаевича?» Она говорит: «Да». – «Так вы знаменитая Татьяна Львовна?» Таня ему на это сказала: «Вот то, что я знаменитая, я не знала». Приехал опять брат Степа с больной, глухой и жалкой женой. Их дело покупки именья в Минской губернии с Сережей свершилось. Вопрос, выгодно ли. Обедал у нас Стахович. Лев Николаевич весь день поправлял корректуру статьи «Что такое искусство?». Сейчас вечер, он ходил с черным пуделем гулять, а теперь ест овсянку на воде и пьет чай. Весь день метель, три градуса мороза до пяти. Мне всё нездоровится, спина болит. Часа два играла на фортепьяно, только разбирала. Разобрала много вальсов, ноктюрнов и прелюдий Шопена. Но как плохо! Сколько надо труда, чтоб хоть порядочно играть, а я так плохо играю и так тихо двигаюсь. 30 января. Сегодня я должна себе признаться, что влияние, воздействие на меня Сергея Ивановича несомненно. Сегодня он был у меня, мы мало сидели одни, тут был брат Стена и сын мой Сережа; но когда ушел Сергей Иванович, я почувствовала такое успокоение нерв, такую тихую радость, которых давно не испытывала. Дурно ли это? Ведь мы говорили только о музыке, о его сочинениях, о ключах альта, сопрано и тенора. Он толковал мне и Сереже различие этих ключей. Потом мы говорили об успокоении совести, когда строго относишься к своим поступкам; о том, как особенно тяжело бывает после смерти близкого человека всё то, в чем был виноват перед ним. Его ласковые, участливые расспросы о моей недавней болезни, о детях, о том, чем я была занята всё это время, – всё это было так просто, так спокойно и ласково, что прямо дало мне лишнее счастье. Как жаль, что ревность Льва Николаевича не допускает нашей дружбы, дружбы и Л. Н., и всей семьи с этим прекрасным, идеальным человеком. Сережа был очень мил с Сергеем Ивановичем, дружелюбен и прост. Сережа его хвалит и любил бы, если б не отец. О себе он рассказывал, что поправляет оперу, задумал новый квартет, послал симфонию в Петербург, где ее будут играть 18-го или 20 марта. Как бы я поехала! Была жена Степы; ее глухота очень тяжела. Переписывала для Льва Николаевича новые поправки в статью «Об искусстве», это заняло часа три. Потом обедала у нас Маруся Маклакова, читала мне корректуру «Детства». Получили «Родник» со статьей Левы «Яша Поляков» («Воспоминания детства»). Мне очень трогательно читать эти воспоминания с точки зрения детей моих: многое напоминает мне в его сочинении из той моей святой, трудовой жизни среди детей и служения мужу, которой я жила всю молодость. Но вернуть своей молодости я бы не хотела. Как много грусти в ней, как много трагизма в той самоотверженной, безличной жизни, полной напряжения, усилия и любви, с полным отсутствием чьей-нибудь заботы о моей личной жизни, о моих молодых радостях, об отдыхе хоть каком-нибудь!.. Не говорю уже о духовном развитии или эстетических радостях… 31 января. Выехала в первый раз после болезни. Внесла за Илюшу 1000 рублей в Дворянский банк, получила проценты, вносила платы по разным местам. Скучные, но необходимые дела. Приехал Андрюша, опять разговоры о деньгах, о том, что ему еще и еще их нужно. Когда будет та счастливая минута, когда я отделаюсь от денежных мытарств моих детей! Думала, раздел меня оградит от них; раздел-то и погубил моих детей. Л.Н. поправлял всё утро корректуры «Искусства», потом усиленно чистил навалившийся снег с катка и, надев коньки, катался. Вечером он теперь охотно сидит с гостями, иногда уходит к себе почитать и отдохнуть. 1 февраля. Дурно спала, поздно встала, поправляла корректуру и вписывала в счетные книги вчерашние дела. Преодолела свою лень и поехала на каток, где каталась Саша моя и Андрюша с Мишей, на Патриаршие пруды. Застала там всех и много знакомых. Потом приехали и мои старшие: Сережа и Таня. С большим удовольствием катались на коньках. Лучше всего было кататься с Юшей Померанцевым. Какой хороший, веселый, открытый и талантливый этот Юша! Я очень его люблю и вижу в нем хорошие свойства для будущего его. Дети мои сначала конфузились, что я на коньках, особенно мальчики; но видя, как я незаметно и легко катаюсь, кажется, успокоились, и Андрюша даже прошелся со мной один круг. Катанье меня все-таки утомило, и я спала после обеда, чего никогда не делаю. Проснувшись, застала гостей: Бутенева, Маслова, художника Касаткина, Боратынскую. Очень хорошо беседовали о славянофилах, об искусстве, о сектантах и Таниной поездке в Петербург. У Льва Николаевича опять болел желудок и печень, он думает – от яблок, а я уверена, что от вчерашней слишком усиленной работы – чистки снега. Он даже не обедал. Вижу со страданием, что он худеет; когда он спит, лежит такой весь маленький на постели и кости выдаются резко на плечах и спине. Лицо у него эти дни свежее, и он бодр и силен в движениях, но худ. Очень стараюсь его питать получше, но трудно: вчера заказывала ему и спаржу, и суп легкий пюре, а все-таки сегодня ему нехорошо. Душевно я стараюсь ничем его не расстроить, ни в чем ему не противоречу и никуда не хожу. Говоря об искусстве, Л. Н. сегодня вспоминал разные произведения, которые он считает настоящими, например, «Наймичку» Шевченко, романы Виктора Гюго, рисунки Крамского, как проходит полк и молодая женщина, ребенок и кормилица смотрят в окно; потом Сурикова рисунок, как спят в Сибири каторжники, а старик сидит – к рассказу Л. Н. «Бог правду видит». Еще вспоминал, не помню чей рассказ (тоже Гюго), о том, как жена рыбака родила двойню и умерла, а другая рыбачка, у которой пять человек детей, взяла этих детей, а когда ее муж вернулся, она с робостью рассказывает о смерти матери и рождении двойни, а муж говорит: «Что ж, надо взять». И жена отдергивает занавес и показывает ему детей, уже взятых ею. И многое еще было упомянуто и пересужено. Несмотря на нездоровье, Л. Н. все-таки покатался в саду на коньках и погулял немного с Дунаевым. Мне скучно без музыки, но что делать! 2 февраля. Вчера поздно легли, и я не спала почти всю ночь. Давно не была я так высоко религиозно настроена. В душе моей пробудилось и какой-то широкой полосой прошло чувство, которое было после смерти Ванечки. Как будто приподняла занавес и взглянула серьезно на тот свет, то есть на то бестелесное, чисто духовное состояние, при котором всё земное делается ничтожно. И это настроение привело меня к молитве, а молитва – к успокоению. Утром читала корректуру, потом пошла навестить Офросимову (Столыпину) и узнала, что она благополучно родила сына еще 31 января. Потом пошла к своей старой тетеньке Шидловской, и с ней посидела. Обедали молодые Маклаковы. Вечером Таня, Саша и Маруся поехали в «Садко». Я было села поиграть, но приехал Андрюша, мне стало жаль его, и мы вдвоем посидели и хорошо побеседовали. Позднее, когда он, бедный, опять уехал в Тверь, в полк, я все-таки часа полтора поиграла. Л. Н. днем занимался, вечером читал письма духоборов и книгу о Мэри Урусовой, написанную ее матерью[116]. Потом он писал письма и очень радовался одиночеству. Получила письмо от Маши и Левы. Холодно, ветер, 12° мороза. 3 февраля. Сегодня именины няни, и мы с ней избегали встретиться, чтоб не расплакаться, как прошлые два года, при воспоминании о Ванечке, который так горячо старался справить, как он выражался, нянины именины, просил купить ей чашку, платочек, сладостей. Весь день крепилась я от горя, душившего меня, и ни с кем об этом не говорила, только вечером села заиграть свою душевную боль теми музыкальными пьесами, которыми заиграл и усыпил мне горе дорогой за всё это мне человек. Ко Льву Николаевичу вечером собралась его компания. Были Горбунов, Попов, Меньшиков из Петербурга и еще какие-то два новых: один – друг Буланже, другой – не знаю. Молчаливые совершенно люди. Разговоров интересных не было; говорили об искусстве, вспоминали разные содержательные картины. У Л. Н. насморк. Он спохватился утром в корректурах «Искусства», что ему что-то там пропустили; пошел сначала к Гроту, потом в редакцию «Журнала философии и психологии» и восстановил пропуск. 4 февраля. Взяла урок у мисс Белый, много играла, вечером был Меньшиков. Я заснула в гостиной, ушла и легла. 5 февраля. Поехала в концерт консерваторских учеников. Опоздала, к сожалению, не зная, что начало в 8 часов. Просидела весь концерт рядом с Сергеем Ивановичем, и я люблю его разъяснения и комментарии на всякую почти музыкальную вещь. Подвезла его, и он веселился наивно, что лошадь шибко бежит. Дома вдруг стало страшно, точно я скрываю что-то преступное. А мне так жаль стало Сергея Ивановича: в плохом пальто, ветер, холод; и так естественно было его подвезти. Притом он с палочкой, хромой. Завтра он с Гольденвейзером будет нам играть в четыре руки свою симфонию и «Орестею». 6 февраля. Натянутый и довольно тяжелый вечер. Сергей Иванович и Гольденвейзер играли в четыре руки симфоническую увертюру «Орестеи», сочинение Танеева. Слушали все наши со снисходительным равнодушием. Было неловко, никто не похвалил: спасибо Льву Николаевичу, что он со своей обычной благовоспитанностью подошел и сказал, что тема ему нравится. Взволнованы и довольны были только Анна Ивановна Маслова и я. Мы слышали «Орестею» и слышали увертюру в оркестре. Фортепьяно нам было только напоминанием. Л.Н. видела сегодня мало. Он читал, ходил к Гроту, носил корректуры «Искусства», писал много писем, а вечер провел с нами. Он бодр опять, но что-то есть в нем сдержанное и скрытое. Не знаю, куда он девал тетрадь своего последнего дневника, и боюсь, что отослал Черткову. Боюсь и спросить его. Боже мой! Боже мой! Прожили всю жизнь вместе; всю любовь, всю молодость – всё я отдала Л. Н. Результат нашей жизни, что я боюсь его! Боюсь, не быв ни в чем перед ним виноватой! И когда я стараюсь анализировать это чувство боязни, то поскорей прекращаю этот анализ. С годами и развитием я слишком хорошо поняла многое. Уже то, что он в дневниках своих последовательно и умно чернил меня, короткими ехидными штрихами очерчивая одни только мои слабые стороны, доказывает, как умно он себе делает венец мученика, а мне – бич Ксантиппы. Господи! Ты нас один рассудишь! 7 февраля. Читали с Марусей Маклаковой весь почти день корректуры «Отрочества» и «Что такое искусство?». Лев Николаевич всё занят корректурами «Искусства». Сережа много играл вечером и иногда очень хорошо. Отчаянная метель весь день. 8 февраля. Опять Л. Н. жалуется на нездоровье. У него от самой шеи болит спина, и тошнит его весь день. Какую он пищу употребляет – это ужасно! Сегодня ел грибы соленые, грибы маринованные, два раза вареные фрукты сухие – всё это производит брожение в желудке, а питанья никакого, и он худеет. Вечером попросил мяты и немного выпил. При этом уныние на него находит. Сегодня он говорил, что жизнь его приходит к концу, что машина испортилась, что пора; а вместе с тем я вижу, что отношение его к смерти очень враждебное; он мне сегодня напомнил немного свою тетку, Пелагею Ильиничну Юшкову, умершую у нас в доме. Она тоже не хотела умирать и враждебно, ожесточенно отнеслась к смерти, когда поняла, что она пришла. Л. Н. это не высказывал, но уныние, отсутствие интереса ко всему и ко всем показывают, что мысль о смерти и ему мрачна. Весь день он не выходил, спал днем у себя в кабинете, поправлял корректуры, читал. Сейчас вечер, у него сидит Грот, принес опять корректуры «Искусства». Л. Н. всё мечтал поиграть в винт, и вот его всё тошнит, и он так и не мог играть еще. Заглянула к Л. Н. сегодня вечером; сидят совсем чуждые мне люди: крестьянин, фабричный, еще какой-то темный. Это та стена, которая стала последние годы между мной и мужем. Послушала их разговоры. Один фабричный наивно спрашивает: «А что, Лев Николаевич, вы примерно думаете о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа?» Миша мой исчез на весь день, и я очень недовольна его отлучками. Но ему, восемнадцатилетнему малому, скучно с фабричными, со стариками и без молодежи. Тяжеловесная и надутая Саша и слишком молода, и не интересна ему как товарка. Это не то, что была живая, участливая и умная Таня. 9 февраля. Сегодня Степа-брат разговаривал с Львом Николаевичем и Сережей. Я вошла – они замолчали. Я спрашиваю, о чем говорили. Они замялись… Да, бедная, бедная я! Ему всегда мешало во мне именно то, что я любила всё изящное, любила чистоту во всем – и внешнем, и внутреннем. Всё это ему было не нужно. Ему нужна была женщина пассивная, здоровая, бессловесная и без воли. И теперь моя музыка его мучит, мои цветы в комнате он осуждает, мою любовь ко всякому искусству, к чтению биографии Бетховена или философии Сенеки осмеивает… Ну, прожила жизнь, нечего поднимать в сердце всё наболелое. 12 февраля. Два дня не писала. Много трудилась эти дни над корректурами статьи «Что такое искусство?». Вписывала переводы и поправки; кончила совсем корректуры «Детства и отрочества». Третьего дня вечером Л. Н. ходил к Русановым, а ко мне пришли его племянницы Лиза Оболенская и Варя Нагорнова, а художник Касаткин принес великолепные рисунки: иллюстрации Евангелия французского художника Тиссо. Мы все и Таня разглядывали эти интересные рисунки, очень оригинальные, замечательные в этнографическом отношении и полные фантазии. Вчера ходила пешком на Кузнецкий мост, вернувшись, вижу, что Л. Н. катается в саду на коньках. Я поскорей надела коньки и пошла с ним кататься. Но после Патриарших прудов в нашем саду все-таки тесно и невесело кататься. Л. Н. катается очень уверенно и хорошо; он стал опять бодрей и веселей дня три. Еду я вчера в концерт и ясно-ясно стала себе представлять то бедствие народное от неурожаев и бесхлебицы, о котором со всех сторон уже говорят усиленно. Всё мне ярко представилось, точно я видела только что всё это – детей, просящих есть, а есть нечего, матерей, страдающих от вида голодных детей, а самих тоже голодных, – и ужас на меня напал, какое-то бессильное отчаяние… Ничего не заставляет меня так страдать, как мысль о голоде детей. Вероятно оттого, что когда я кормила грудью детей своих, эта мысль, что ребенок голоден, у меня наболела, и мне теперь жалко не своих уж детей, а всех детей на свете. Сегодня с утра большая неприятность с Мишей. Он не ночевал дома, я ему выговаривала, он стал отвечать, я рассердилась; потом он вышел, стал свистать что-то. Я совсем расстроилась, расплакалась, говорю ему: «Мать плачет, а ты свистишь, где же твое сердце?» Он смутился и раскаялся. Чтоб успокоить нервы и сердце, села играть «Патетическую сонату» Бетховена. Проиграла часа полтора, учила другую сонату; вошел Л. Н., я ему стала о Мише говорить, но его это не интересовало, а он принес мне работу – вносить поправки в статье «Что такое искусство?» из одного экземпляра в другой. Это взяло часа два. Он пошел снести в типографию эти корректурные листы, а я стала с Верочкой устраивать комнату Доре и Леве. После обеда немного поиграла; приехали Лева и Дора. Разговаривали, сидели вместе, приходил Грот, говорили о статье; она никому не нравится. Меня возмутило сегодня в этой статье осуждение Бетховена. Я недавно, читая его биографию, еще выше поставила и полюбила этого гения. Но моя любовь всегда немедленно будила ненависть во Льве Николаевиче, даже к умершим. Помню, что, когда я читала и восхищалась Сенекой, он сейчас же сказал, что это был напыщенный, глупый римлянин, любивший красивые фразы. Надо скрывать все свои чувства. Бедная Таня что-то невесела; ездила с Сашей кататься на коньках, но не ободрилась. Сережа уехал к Олсуфьевым, и мне без него скучно, я очень его люблю. Получила ласковое письмо от Андрюши. Написала Маше вчера; сегодня ее рождение, ей 27 лет. И она у меня пятая! Никак не могу чувствовать себя старой. Всё осталось молодо: и впечатлительность, и рвение к труду, и способность любви, и огорчения, и страстность к музыке, и веселье катанья на коньках или вечера. И так же легка моя походка и здорово тело, только лицо постарело… 13 февраля. Вечер весь занималась корректурами и вносила поправки и переводы в статью «Искусство». Вчера я разрешила Л. Н. послать Гуревич в «Северный Вестник» предисловие к переводу Сережи Карпентера о значении науки. Разрешила я потому, что хочу после «Искусства» в 15-й том напечатать это рассуждение о науке; оно как раз по смыслу будет продолжением статьи. Л. Н. очень обрадовался моему согласию. Вечером он писал много писем. Второй вечер пьет соду, наевшись сухих блинов. Бедный! По принципу он не ест ни масла, ни икры. Это очень красиво – его воздержание, но если есть соблазн – то это хуже. 14 февраля. Суета Масленицы. Ездила покупать всё к вечеру, потом ездили кататься на коньках: Таня, Саша, Лева, я и Дора – только присутствовать, так как она беременна. Обедали в семье своей, все в таком хорошем, добродушном настроении, что было приятно. Л. Н. всё работает над корректурами статьи «Искусство». Вечером он пошел навестить купца, старого, семидесятидвухлетнего своего последователя, который болен раком печени[117]. Купец этот жаловался Л. Н., что скучно жить с домашними, что и жена, и сын доскам (то есть образам) молятся. Вечером собралось очень много детей; сначала все были вялы, потом играли в разные игры, шарады, пели хором, делали разные штуки гимнастические; некоторые мальчики сели играть в винт. Среди вечера приехали в домино и масках неизвестные люди (потом узнали, что это незнакомые нам Калачевы и Устиновы). Ничего из этого, как всегда, не вышло. Очень жалею, что не могу доставить какое-нибудь удовольствие Леве и Доре. Мое настроение и моя внутренняя жизнь всё та же: всё то же всплывающее, вечное горе о Ванечке; еду вчера Новинским бульваром, и вдруг предстал в моем воспоминании тот страшный день, когда мы вдвоем с Л. Н. везли гробик Вани по этой же дороге… И всегда при этом я молюсь, чтоб Бог мне помог очистить и возвысить свою душу до моей кончины, чтоб соединиться с моими умершими младенцами… И всё та же любовь во мне к музыке, которая одна поддерживает во мне душевное равновесие и помогает жить. И всё те же сердечные привязанности к некоторым людям, которые способствуют моей вере в хорошие качества людей и в ту помощь, которую они оказывают своими высокими душевными качествами. Вечер окончился тем, что Гольденвейзер сыграл ноктюрн Шопена, этюд Листа и скерцо Шопена. 15 февраля. С утра валит снег, пасмурно; в доме тишина; Андрюша мне рассказывал ужасные вещи о разврате и падших женщинах. Очень грустно, что это может его интересовать. Л. Н. опять сидел за корректурами. Таня грустна, Саше нездоровится. Просидела день за хозяйственными делами, выписывала семена, что требует всегда много соображения и внимания. Никуда не выходила. Пыталась играть, но все мешали. Приезжала Глебова с Павлом Стаховичем. Не сужу теперь никого и прошу только Бога: «Даждь мне видети прегрешения мои и не осуждати брата моего». Обедали Вера Соллогуб и Лева Сухотин; Андрюша, Миша были дома, было семейно и хорошо. Вечером всё писала, пришли девочки Бельские и Бутеневы, отец с дочерью. Л. Н. с ним и девочками играл в воланы; он здоров и весел. Разговаривали о «Декабристах», Л. Н., когда хотел о них писать, много читал, помнит и рассказывал всем нам. Сережа вернулся от Олсуфьевых; бедный Андрюша уехал в Тверь. Как ему не хотелось! Когда играли в воланы, я опять с тоской вспоминала Ванечку. Как странно, чем меньше музыки – тем больше тоски по Ванечке, чем больше музыки – тем меньше тоски. Музыка Сергея Ивановича совсем уничтожает тоску. Совсем как весы с гирями: куда их переложишь, туда и перетянет. 16 февраля. Понедельник первой недели поста. Люблю я это время; люблю настроение деловой тишины и религиозного спокойствия. Любила и от близости весны – теперь утратила это чувство. Что мне весна! Она не прибавит, а убавит мое счастье своим беспокойным исканием и желанием счастья, которого нет и уж не будет. Перешивала утром платье Саши, потом играла на фортепьяно часа два с половиной; перед обедом пошла к Соне Философовой, с ней беседовала о детях, внуках, о горестях семейных. Когда от нее вышла, захотелось движенья, воздуха, одиночества, свободы – и я ушла ходить. Опоздала к обеду; на меня добродушно напали, все уже сидели за столом, и я поспешно съела свой постный обед. Буду поститься весь пост, бог даст. После обеда всё разглядывала картинки журнала, присланного Л. Н. из Филадельфии. Разговаривали о покупках имений. Потом я взяла переписывать для посылки в Англию конец статьи об искусстве и прописала часа два. Л.Н. читал вечером «Разбойников» Шиллера и восхищался ими. На столе у него видела сегодня черную клеенчатую тетрадь, в которой, я знаю, начаты беллетристические рассказы. 17 февраля. Удалось утром опять поиграть часа два с лишком. Потом купила седло подарить завтра Леве к именинам, куплю еще Льву Николаевичу мед, финики, чернослив особенный, груши и соленые грибы. Он любит иметь на окне запасы и есть финики и плоды просто с хлебом, когда голоден. Сегодня он много писал, не знаю что, он не говорит. Потом катался на коньках с сыном Левой. Обедали весело и дружно. Вечером сидел Дунаев, я вышивала, так как дела никакого нельзя делать, когда какие бы то ни были гости. А гостей мне сегодня навязали всяких. Был какой-то Аристов к Л. Н. Лев Николаевич ушел в баню, пропадал с Сергеенко два часа, а я должна была выслушивать от этого господина Аристова бесконечные рассказы об орошении полей, разведении рыбы, о его семейных делах, давать ему совет о том, выдавать ли ему замуж свою двадцатидвухлетнюю дочь за богатого пятидесятилетнего старика. Странный вопрос совершенно чужой ему женщине, как я! Потом Сергеенко мне рассказывал, как он хочет напечатать книгу о Льве Николаевиче со всевозможными воспроизведениями его портретов, его семьи, жизни и т. д. Это неприятно при нашей еще жизни. 18 февраля. Именины Льва Николаевича и Левы. Л. Н. не признает празднеств вообще, тем более именин. Леве я подарила очень хорошее английское седло от Циммермана. Весь день просидела за работой: сначала перешивала и чинила серую фланелевую блузу Льва Николаевича; потом вышивала по белому сукну полосу, мою давнишнюю красивую, глупую работу. Когда всё гости приходят, то лучше всего при этом шить, а то очень утомительно. Обедали семейно; пришел дядя Костя Иславин, пришли племянницы Льва Николаевича – Лиза Оболенская и Варя Нагорнова. Сережа, Таня, Лева с Дорой, Миша и Саша – много детей собралось, и я люблю, когда празднуются семейные праздники. Пили донским шампанским за здоровье именинников. Но впечатление дня – пустота. Л.Н. ходил с корректурами «Искусства» в редакцию, потом поправлял предисловие к Карпентеру для «Северного Вестника». Вчера вечером меня поразил разговор Л. Н. о женском вопросе. Он и вчера, и всегда против свободы и так называемой равноправности женщины; вчера же он вдруг высказал, что у женщины, каким бы делом она ни занималась – учительством, медициной, искусством – у ней одна цель: половая любовь. Как она ее добьется, так все ее занятия летят прахом. Я возмутилась страшно таким мнением и стала упрекать Льву Николаевичу за его этот вечный циничный, столько заставивший меня страдать взгляд на женщин. Я ему сказала, что он потому так смотрел на женщин, что до 34 лет не знал близко ни одной порядочной женщины. И то отсутствие дружбы, симпатии душ, а не тел, то равнодушное отношение к моей духовной и внутренней жизни, которое так мучает и огорчает меня до сих пор, которое так сильно обнажилось и уяснилось мне с годами, – то и испортило мне жизнь и заставило разочароваться и меньше любить теперь моего мужа. 19 февраля. Весь день провел у нас Сергеенко; он пишет с Таней драму, а главное, составляет биографический сборник о Льве Николаевиче и всё выспрашивает. Сегодня Л. Н. ему чертил план дома, который был в Ясной Поляне, в котором родился и рос Л. Н. и который он же продал за карточный долг помещику Горохову в селе Долгом. Дом этот и теперь там стоит, полуразвалившийся, и Сергеенко едет туда с фотографом снять этот дом и поместить в сборник. Когда Л. Н. чертил план дома, у него было такое умиленное, хорошее лицо. Он вспоминал: тут была детская, тут жила Прасковья Саввишна, тут был большой отцовский кабинет, большая зала, комната холостых, официантская, диванная и т. д. Большой был дом. Сергеенко меня допрашивал, что бы могло быть приятно Льву Николаевичу ко дню его рождения в нынешнем году, к 28 августа. Он думал купить этот дом, свезти его опять в Ясную и поставить на прежнее место в том виде, в каком он был. Или устроить приют для младенцев, у которых матери уходят на работы… Так ничего и не выдумали, а, по-видимому, есть где-то деньги на это. Л.Н. старательно прячет свой дневник. Всегда прежде я или догадывалась куда или находила его. Теперь совсем не могу найти и ума не приложу, куда он его кладет. 20 февраля. Третий день метель наводит уныние. Занятия наши всё те же: Лев Николаевич усердно переправляет 20-ю главу «Искусства», а я всё играю на фортепьяно. Миша в лицее говеет, а я ни разу не была в церкви на этой неделе, и мне это неприятно. У Л. Н. были два посетителя – мужики, и что он с ними находит говорить! Сейчас 12 часов ночи, а он хотел нести корректуру к Гроту, на Новинский бульвар; насилу уговорили его остаться. 21 февраля. Утром урок музыки с мисс Белый. Потом еще играла. Всё метель. Пошла гулять, часа полтора ходила. Л. Н. всё за корректурой 20-й главы. Сегодня он ездил с Анночкой, внучкой, в Румянцевский музей, показывал ей картины и этнографический отдел, восковые куклы в русских костюмах по губерниям. Вечером толпа народа: мальчики к Мише, дети к Саше и Анночке; Сулержицкий пел, какой-то консерваторский Сац играл на виолончели, Нагорнов – на фортепьяно. Были минуты музыкально приятные, но я очень устала. 22 февраля. Ходила к Русанову больному и говорили о Л. Н., о вегетарианстве, о Черткове, которого не одобряли Русановы, говоря, что он ненормальный человек, что на него находят припадки сумасшествия, проявление которого – подозрительность, многословие, деспотизм, суетливость. И вообще в нем мало доброты. Еще ходила к Философовой. Все опять обедали у нас, были блины; до обеда за полчаса я вернулась, мне говорят, что тут граф Олсуфьев и Сергей Иванович Танеев. Я очень обрадовалась, побежала наверх. Они оба сидели с Таней, которая лежала на кушетке. Сергей Иванович мне принес свое сочинение «Восход солнца» на слова Тютчева для четырех голосов и сыграл мне это. Прекрасно сочиненное произведение, разделяющееся на два настроения: ожидание солнца и его ликующее появление. Мы мало виделись и мало говорили. Наши беседы с ним опять будут в те одинокие вечера, когда я живу с Мишей и даже Сашей, но без Льва Николаевича и без Тани. Таня вчера уже наговорила мне много злого по поводу посещения Сергея Ивановича. В чем могут мешать людям дружеские, симпатичные отношения! 23 февраля. День смерти Ванечки. Три года прошло. Как встала – пошла в церковь, молилась, думала об умерших младенцах, родителях, друзьях. Служили для меня панихиду. Потом пошли навестить Машу, жену повара. Она сегодня в родильном приюте родила мальчика. Потом пошла к Жиляевой, бедной курской помещице, у которой сын необыкновенно способный к музыке ученик Сергея Ивановича. Ее не застала, а хотела узнать, как ей живется. Купила цветов, поставила вокруг портрета Ванечки. Купила няне меду и баранок. Вернувшись, застала Л. Н. расчищающим снег с катка в саду. Потом он катался на коньках и так устал, что проспал весь наш обед и обедал один. Он кончил корректуры и больше «Искусством» заниматься не будет. Хочет новую работу начать; впрочем, начатого очень много, какой-то будет конец этих начал! Вечером Л. Н. играл в карты, в винт, с графом Олсуфьевым, с моим братом Сашей и Соней Философовой. Соню и Анночку я проводила сегодня домой. Приезжал из Тулы на один день Сережа. На душе весь день грустно, грустно. Подхожу к церкви сегодня, и вдруг птицы так запели, согревшись на солнце где-то под крышей и около дверей церкви. И солнце яркое, веселое, уже весеннее, несмотря на мороз. Так и вспомнились слова Лермонтова: «И равнодушная природа красою вечною сиять!..»[118]. Именно равнодушная, несмотря ни на какие человеческие чувства, несмотря на наши спутанные, измученные, но далеко не равнодушные сердца. 24 февраля. Опять Лев Николаевич жалуется на желудок; изжога, голова болит, вялость. Сегодня за обедом я с ужасом смотрела, как он ел: сначала грузди соленые, слепившиеся оттого, что замерзли; потом четыре гречневых больших гренка с супом, квас кислый, хлеб черный. И всё это в большом количестве. Я ем теперь с ним одну пищу, то есть всё постное по случаю Великого поста, и всё время у меня дурное пищеварение, а я ем вдвое меньше. Каково же ему, 69-летнему старику, есть эту не питательную, дующую его пищу! Было письмо от Сергея Николаевича, которое и Л. Н., и нас расстроило. Вера, его дочь, кажется, больна чахоткой. Еще одна жертва принципов Л. Н.! Она недоедала, слабела; непосильно трудилась в школе, уча мальчиков, перекрикивала свой голос, рассказывая ребятам волшебный фонарь; и вот и она, и наша Маша погибают от болезни и слабости, от вегетарианства и переутомления. Я всегда предупреждала их, особенно Машу, что нет у них сил вынести болезнь, если она придет. Так и вышло. Л.Н. читал о Кавказе, ему хочется писать кавказскую повесть, но нет энергии и сил. Да хорошо ли у него на душе? Только и слышишь о его последователях: того сослали, тот болен, тот ослабел. Сегодня узнали, что Син-Джона из Тифлиса выслали на родину. Разбирала сегодня «Восход солнца», хор на слова Тютчева, музыка Танеева. Очень хорошо, торжественно и передает мысль в два момента различного настроения. 25 февраля. Л. Н. катался на коньках и писал много писем: к Бирюкову, к брату, к крестьянину и проч. Утром был у меня длинный урок музыки с мисс Велып. Весь вечер корректировала 15-й том, «Что такое искусство?». Пропустит ли мне цензура? Прочла шесть печатных листов и очень устала. Сулержицкий интересно рассказывал о кругосветном своем путешествии. Пили чай семейно и тихо: Л. Н., Миша, Саша, Таня и я, еще Сулержицкий. 26 февраля. Получила утром «Русский листок», в котором корреспондент, проникнувший на днях к Льву Николаевичу, описывает свой с ним разговор, и оченьнеприятное впечатление на меня произвело, что там говорится, как Победоносцев по просьбе Тани обещал устроить дело молокан. Только не сказано, какое именно дело. Тоже напечатано мнение Л. Н. о Золя, Дрейфусе и всей этой истории. Я начала рассказывать (Л.Н.) о концерте; он перебил меня неприятным образом, говоря, что это всё вздор или что-то в этом роде. Я замолчала. Потом он мне сказал, что у него был Грот и они вдвоем провели вечер очень приятно. 27 февраля. Страшно болит рука, жила распухла как шишка; даже крепилась, чтоб не плакать. Играл Игумнов вечером баркаролу Шопена и фантазию его же, и полонез Листа, и вариации на Шуберта. Прекрасно он стал играть и сам поумнел, какой хороший малый. Много ездила по делам и покупкам: заказывала ящики в Румянцевский музей, чтоб убрать еще туда дневники, рукописи и письма Льва Николаевича. Видела его сегодня мало. Вечером у него были гости: Горбунов, доктор Буткевич и еще один, занимающийся немного делами «Посредника». 1 марта. Третьего дня ночью мы с Таней раздевались уже к ночлегу, прислуга вся спала, как вдруг продолжительно и зловеще прозвонил электрический звонок. Таня пошла к наружной двери, отперла – и потом надолго затихла. Я ее окликнула, она тихонько вошла в мою спальню и подала мне телеграмму. «Наша Лиза скончалась. Олсуфьевы». Впечатление этого известия я никогда не забуду. Тяжелое горе, что я никогда больше не увижу это светлое, милое создание, этого дорогого друга всей семьи нашей, боль за горе родителей, просто ужас перед тем, куда, зачем исчезла эта полезная во всех отношениях, дорогая всем девушка, – всё это годами будет подниматься в воспоминаниях и болезненно отзываться. Таня и Сережа уехали вчера туда. Подробностей еще не знаем: умерла Лиза Олсуфьева скарлатиной, как и мой Ванечка. Я много плакала, и слезы и теперь готовы в горле и в глазах. Таня не плакала, она как-то окаменела, и Сережа притих и, сидя час за фортепьяно вчера, перебирал тихо клавиши, а лицо такое грустное, грустное… Да, что такое смерть? Куда-то уходим мы все и расплываемся опять в вечность всё по той же воле, по которой побыли и здесь, на земле. Лев Николаевич тоже огорчен. И странно, что по инерции течет всё так же наша жизнь. Вечером ездила на лекцию петербургского профессора Докучаева о сложных вопросах простоты строения земли, о законе притяжения и отталкивания и о вытекающей из этого закона борьбы, любви и т. д. Вернувшись, застала у нас всю семью Бутеневых, Писарева с женой, Софью Философову, Касаткина и князя Накашидзе, высланного с Кавказа за сношения с духоборами. Болтали до ночи; но всё это люди чрезвычайно порядочные и приятные; я им была рада. Л.Н. расчищал каток в саду с Иваном, потом катался немного и перед обедом ездил верхом. Вечером спал и сидел охотно с гостями. Писал письма и опять переправил кое-что и прибавил в свою статью «Что такое искусство?», по моему уже изданию. 4 марта. Все эти дни горевала и плакала по Лизе. Была в клинике; профессор Левшин со своими ассистентами смотрел посредством лучей Рентгена, нет ли у меня в руке, которая очень болит, иголки. Но не нашли, а нашли аневризм артерии и сделали перевязку, хотят делать разрез. Профессор Докучаев ездил со мной и сидел у нас вечер. Ненормальный и нездоровый умственно человек, сегодня приходил рассматривать мои фотографии и просил ему дать. Была и на панихиде по Лизе, в церкви, где собрались ее московские родные и друзья. Вечером вчера нервы до того расстроились, что не могла больше дома сидеть и поехала к милым старичкам, то есть старушкам Масловым. Там видела Сергея Ивановича, но короткое время. Он очень непривлекательно ел колбасу, разговаривать не пришлось с ним, и он скоро ушел. Что он меня избегает, это, я думаю, несомненно. Но по какой причине? В концерте «Реквиема» Верди у него был билет внизу, а он ушел на хоры… Может быть, потому, что был весь высший свет, а он его избегает. Вечером проявляла фотографию Льва Николаевича на коньках. Вышло плохо. Неприятное известие о статье «Об искусстве». Светская цензура пропустила, а телеграмма из Петербурга, чтоб представить в духовную. Значит, статья, то есть вторая ее часть, навсегда потоплена. Досадно! И я ее уже набрала и корректировала, и всё напрасно. Напечатают за границей. 7 марта. Л. Н. вял и придирчив. Ему не работается, его очень утомляют посетители, самые ненужные часто, и на мои просьбы не принимать, а иметь свои часы досуга, он с упорством отказывается; у него есть любопытство, которое заставляет его принимать всех, кто бы ни пришел, а кроме того, вечное упрямство, чувство противоречия, протеста мне. Сегодня мне стало ясно, что все сочинения Л. Н. последних лет есть сплошное противоречие, сплошной протест. Если он протестует всему человечеству, всему существующему порядку, то как же ему не протестовать мне, слабой женщине? На концерте Гольденвейзера видела Сергея Ивановича. Сегодня была от него записочка, просил статью Л. Н., вторую часть, оставить ему на прочтение с М[одестом] Чайковским, к которому он на днях едет в Клин. Сегодня утром был неприятный разговор с Л. Н. Он хочет делать все прибавки в свою статью, а я боюсь, что к прибавкам придерется цензура и опять остановит книгу, а я хочу печатать 30 тысяч экземпляров. Слово за слово, упрекали друг друга; я упрекала за то, что лишена свободы, что он меня не пускает в Петербург; он упрекал, что продаю его книги; а я на это говорила, что не я пользуюсь деньгами, а больше всего его дети, которых он забросил, не воспитал и не приучил к работе. Еще я говорила, что его верховую лошадь, его спаржу и фрукты, его благотворительность, велосипеды и проч. – всё это я ему доставляю на эти же деньги, а сама меньше всех их трачу… Но я бы ему этого не сказала, если б он не кричал, что я забываюсь, что он может запретить мне продавать книги. Я сказала: «Очень буду рада, запрети, и я уйду на себя работать, в классные дамы, корректорши и т. д.». Я люблю труд и не люблю свою жизнь, поставленную всю не по моему вкусу, а по инерции и по тому, как ее поставила семья – муж и дети. Снимала Л. Н. верхом и потом занималась фотографией всячески. Кроила и слаживала платья Саше. Сегодня с Соней Философовой ездила навестить старого дядю Костю. Статья Л. Н. «Что такое искусство?» из духовной цензуры, говорят, вернулась. Кое-что вычеркнули, но пропустили. С Л. Н. дальше не ссорились, а напротив, устыдились и примирились. 8 марта. За чаем Л. Н., Сережа, Степа и я говорили о страхе смерти, отчасти по поводу статьи Токарского «Страх смерти», отчасти по поводу смерти Лизы Олсуфьевой. Л. Н. говорил, что существуют четыре рода страха смерти: страх перед страданиями, страх перед мучениями ада, страх потери радостей жизни и страх перед уничтожением. У меня этих страхов мало: боюсь немного страданий, а главное, страшна яма, крышка гроба, мрак… Я люблю свет, чистоту, красоту. Могила же – мрак, грязь, земля и безобразие трупа. Л.Н. ездил верхом к Гроту и к нам на Патриаршие пруды. Читает кавказские книги, а пишет ли – не знаю, боюсь спросить. Статью пропустили, только вырезали два листка. С. Трубецкой хлопотал и негодует на низменность, интриги и взяточничество почти попов, духовных цензоров. Сегодня таяло, на точке замерзания. В душе моей происходит борьба: страстное желание ехать в Петербург на Вагнера и другие концерты и боязнь огорчить Льва Николаевича и взять на свою совесть это огорчение. Ночью я плакала от того тяжелого положения несвободы, которое меня тяготит всё больше и больше. Фактически я, конечно, свободна: у меня деньги, лошади, платья – всё есть; уложилась, села и поехала. Я свободна читать корректуры, покупать яблоки Л. Н., шить платья Саше и блузы мужу, фотографировать его же во всех видах, заказывать обед, вести дела всей семьи; свободна есть, спать, молчать и покоряться. Но я не свободна думать по-своему, любить то и тех, кого и что избрала сама, идти и ехать, где мне интересно и умственно хорошо; не свободна заниматься музыкой, не свободна изгнать из моего дома тех бесчисленных, ненужных, скучных и часто очень дурных людей, а принимать хороших, талантливых, умных и интересных. Нам в доме не нужны подобные люди, с ними надо считаться и стать на равную ногу; а у нас любят порабощать и поучать… И мне не весело, а трудно жить… И не то я слово употребила: весело, этого мне не надо, мне нужно жить содержательно, спокойно, а живу я нервно, трудно и малосодержательно. 9 марта. День сорока мучеников, в детстве моем и детей моих в этот день Трифоновна, наша старая кухарка в доме отца, и Николай, повар в Ясной Поляне, к утру пекли вкусных сдобных жаворонков с черными коринками[119] вместо глаз и с поджаристыми клювиками. И в этом была поэзия. А потом прилетали и живые жаворонки; садились на проталинках, по бурым бугоркам и поднимались к небу со своими серебристыми, нежными песнями. Я любила весну в деревне. Но тогда весна всегда приносила эти радостные, беспричинные надежды на что-то впереди… Теперь же она приносит грустные воспоминания и бессильные желания невозможного… Ах, старость не радость! Вечером мне Л. Н. дал переписывать свой рассказ «Хаджи-Мурат» из кавказской жизни, и я была очень, очень рада, писала усердно, несмотря на боль в правой руке; но мне помешал Сергеенко; потом пришли Дунаев, дядя Костя, приехал брат Степа, Сережа. Много говорили о делах государства, о покупке флота за 90 миллионов. Сергеенко рассказывал, что флот заказан японцами англичанам за 130 миллионов, но японцы не могли уплатить в срок, так как деньги эти получались от Китайско-русского банка, не выдавшего деньги вовремя. Время контракта было пропущено, и русское правительство предложило 90 миллионов и купило у англичан готовый флот. Л.Н. ездил вечером верхом к мисс Шанкс переводить на английский язык письмо, написанное им в Америку кому-то. Вообще, он много писал писем и тяготился ими. 10 марта. Не спала совсем ночь. К утру часа два заснула и встала поздно. Ах, эти ночи, с ужасающей ясностью обнажающие душевное состояние! Я измучилась совсем. Днем опять попадаешь в жизненный водоворот и в нем не опоминаешься. И потом опять ночь без сна и мысли, и муки… Переписывала с большим удовольствием повесть Л. Н. «Хаджи-Мурат». Я думаю, что это будет очень хорошо: эпическое произведение, надеюсь, без задора и полемики тайной. Больная рука правая очень устала, и я решилась вечером ехать в концерт камерной музыки. Играли два трио Бетховена и одну сонату со скрипкой. Очень было приятно, совсем не утомительно. Со мной была Маруся Маклакова. Вернувшись домой, застала Сергеенко, профессора Преображенского, Сулержицкого, Накашидзе, а Лев Николаевич имел вид очень усталый. Он сегодня опять письма писал, читал и просмотрел корректуры «Искусства» в моем издании. Он спокоен и здоров. 14 марта. Не вспомню, что было. Помню опять длинные, бессонные ночи. Одну ночь я всю просидела до часов утра и переписывала для Л. Н. «Хаджи-Мурата» с большим удовольствием. Дни все эти или сидела дома, за работой, за корректурой, или ездила по покупкам летних вещей. Л. Н., не переставая, пишет разные письма, которыми очень тяготится, и читает много, особенно кавказские сборники, доставленные ему Масловым. Три вечера мною были проведены так разнообразно, что при кажущейся ровной моей семейной жизни удивляешься, как значительно переживаешь свою внутреннюю жизнь. Л. Н. давно не был так нежен и добр ко мне. На другой же день тон его немедленно изменился. Я была страшно занята корректурами своего 15-го тома, работала весь день и не усмотрела его настроения. Вечером продолжала с малыми отдыхами свой труд (надо было прочесть 12 печатных листов), и, зная, что всё равно бессонницы не дадут мне спать, я просила мужа ложиться без меня, сама разделась, надела халат и туфли и обещалась войти тихонько, когда кончу корректуры. Напал на Л. Н. каприз – ложись спать, да и только. Работа у меня срочная, утром надо посылать в типографию; я не послушалась, продолжала работать. Он вскочил с постели, надел халат, ушел наверх, к себе в кабинет. Я продолжаю читать, не зная, что он ушел. Через полчаса приходит и начинает на меня кричать, что я его мучаю, что он хочет спать, а я ему не даю, что голова у него болит. Я всё сидела, слушала, терпела, наконец, не дочитав последнего листа, пошла в спальню (я сидела рядом в столовой) и легла. Но тут нервы не вынесли. И усиленная работа, и неприятности, главное, несправедливость моего мужа ко мне – всё это вызвало такое отчаяние в моей и так больной душе, что я вдруг почувствовала спазматическую боль в сердце и груди, едва, уже в темноте, успела выговорить «умираю», и меня начало душить, сердцебиение усилилось, чувство страха, остановки жизни, спазма в сердце – всё это было ужасно. Такого удушья еще у меня никогда не было. Холодная вода к сердцу, старание овладеть собой помогли мне сократить этот припадок. Лев Николаевич растерялся, потом начал сам дрожать и всхлипывать… Спали дурно, оба устали… И зачем, за что всё это! Господи, помоги мне до конца беречь мужа и терпеть… На другое утро я же пошла к нему и выразила ему сожаление о случившемся. Он извинился как будто, мир установился. Надолго ли? Вчера приходил С.И. Как сразу успокоительно и хорошо подействовало на меня его присутствие. Добрый, спокойный, уравновешенный и высоко талантливый человек. Он сыграл свою прекрасную симфонию и спросил Льва Николаевича его мнения о ней. Л. Н. отнесся серьезно и с уважением и стал излагать свои впечатления. А именно, что и в этой симфонии, и во всей новой музыке нет ни в чем последовательности: ни в мелодии, ни в ритме, ни даже в гармонии. Только что начнешь следить за мелодией – она обрывается; только что усвоишь себе ритм – он перебрасывается на другой. Чувствуешь неудовлетворенность всё время; между тем в настоящем художественном произведении чувствуешь, что иначе оно не могло быть, что одно вытекает из другого, и думаешь, что «я сам точно так бы это сделал». Сергей Иванович слушал внимательно и с уважением, но его все-таки, кажется, огорчило, что его симфония не понравилась Л. Н. Сегодня он едет в Петербург, его симфонию будут там играть уже в оркестре. Вчера утром, после нашей ночной неприятности, встала разбитая, и вдруг Л. Н. мне вводит Мишу, внука. Я очень обрадовалась этому чистому, свежему элементу – этому здоровому, милому, умному ребенку. Весь день вчера с ним провозилась: возила его в Зоологический сад, в игрушечные лавки, в кондитерскую, в Кремль. Он всему радовался, но ничему не удивлялся. Так что вчерашний день мне весь был от Бога наградой за ночную неприятность от мужа. 17 марта. Вчера переписывала письмо Льва Николаевича «О помощи духоборам», желающим выселиться за границу. Л.Н. думает, что «Петербургские Ведомости» его напечатают, а я уверена, что нет. Помощь двоякая: найти им место для выселения и собрать для этого денег. Их 10 тысяч человек; сколько же нужно денег? Вечером был знаменитый скульптор Антокольский. Говорили об искусстве: Л. Н. – из своей статьи; Антокольский говорил, что лучшая задача искусства – изобразить душу человеческую. Держу все корректуры 15-го тома, сегодня еще не принесли; скоро кончу. Опять переписывала письмо Л. Н., он его всё перемарал. Езжу по делам и платьям к лету уже. С Л. Н. очень дружно и хорошо. Надолго ли? Собираюсь в Петербург на несколько дней послушать Вагнера и симфонию Сергея Ивановича Танеева. Ее будут играть в первый раз 21-го, и это его первая симфония. Приехал Андрюша. Илья и маленький внук Миша уехали еще третьего дня вечером, и мне очень грустно было расставаться с Мишей, но не надо привязываться больше к детям, их слишком больно терять, если они умирают. Л.Н. сегодня говорит: «Мне 32 года, я отлично спал и голова свежа». Жаль, что он свои духовные силы тратит на разные письма. А вдохновения настоящего на писанье нет как нет! Старость мешает, вероятно. Всё суровая зима. Сегодня с утра было 10° мороза, ветер, холод, несмотря на солнце. 18 марта. Всё было хорошо, жили дружно. Сегодня читаю корректуру «Предисловия» Льва Николаевича к «Современной науке» Карпентера и вдруг вижу, что всё не то, всё изменено. Я очень удивилась и обиделась. Когда ее набирали в «Северном Вестнике», я просила Л. Н. дать мне последние корректуры, чтоб я могла дать в набор 15-й части статью в окончательном виде. Теперь я его упрекнула довольно спокойно, что он меня обманул; он ужасно рассердился. Эти неприятности бьют по старым ранам, и делается невыносимо. Скрыл он от меня последнюю корректуру, чтобы соблюсти выгоду «Северного Вестника» и не задержать его выхода. Внесение поправок в мой экземпляр всё бы один-то день взяло. Вечером много гостей: Бельская с дочерью, Толиверова с дочерью, Маклаков с сестрой, Варя Нагорнова, Горбунов. Толиверова, издательница «Игрушечки», хочет издавать журнал «Женское дело», и поднялся разговор о женском вопросе. Л. Н. говорил, что, прежде чем говорить о неравенстве женщины и ее угнетенности, надо поставить вопрос о неравенстве людей вообще. Потом говорил, что если женщина сама ставит себе этот вопрос, то в этом есть что-то нескромное, не женственное и потому наглое. Я думаю, что он прав. Не свобода нам, женщинам, нужна, а помощь. Главное – помощь в воспитанно сыновей, во влиянии на них, чтоб они были поставлены на правильный путь жизни, уменья работать, быть мужественными, независимыми и честными. Одна мать не может воспитывать сыновей, и оттого так плохо молодое поколение, что плохи отцы, ленивы на дело воспитания и охотнее бросаются на всякое другое дело, отвиливая от самого важного – воспитания будущих поколений, долженствующих продолжать дела всего человечества и идти вперед. 2 апреля. Две недели прошло с тех пор, как я писала дневник! Отчего теперь жизнь идет так быстро и почти бессознательно – как сон? Если б я была более нормальна, я жила бы сознательнее и содержательнее. И потом, со временем, оглянувшись назад, как это всегда бывает, я пойму всё прошедшее, оценю его и буду (опять как это всегда бывает) сожалеть и о прошлом, и о неумении им пользоваться. И вся жизнь, за редкими исключениями, проходит в желаниях и сожалениях. Завтра день, назначенный в анонимном письме для убийства Льва Николаевича. Конечно, я неспокойна, но и не вполне верю, что это может случиться. Приехали духоборы к Л. Н., два рослых, сильных духом и телом мужика. Мы их посылали в Петербург к князю Ухтомскому и Суворину, чтоб эти два редактора сильных газет им что-нибудь посоветовали и помогли. Они обещали, но вряд ли что сделают. Л.Н. им пишет прошение на имя государя, чтоб их выпустили переселиться за границу, всех – изгнанных, призывных и заключенных духоборов. Всё это мне страшно, как бы нас не выслали тоже! Духоборы эти теперь сидят у Л. Н., и там же молодой фабричный Булахов, которого посылают с прошением и 300 рублями денег к сосланному вожаку духоборов Веригину. Была четыре дня в Петербурге. С осени запала у меня мысль поехать слушать симфонию Танеева, которую он мне несколько раз играл на фортепьяно, – в оркестре. Мне казалось, что она будет великолепна. Кроме того, я давно мечтала услыхать Вагнера, а в Петербурге как раз его давала немецкая приезжая опера. Сначала меня Л. Н. не пускал; этот протест вызвал тоску, бессонные ночи и апатию. Потом меня охотно отпустили, и я не получила от этой поездки никакого удовольствия. Дождь лил, не переставая; симфония Танеева была сыграна и дирижирована Глазуновым отвратительно; Вагнера я не слыхала; здоровье расстроилось; жизнь у сестры Берс с ее дурным отношением к мужу, к прислуге и с ее односторонним интересом к направлению финансов в России – всё это было скучно, неудачно, и я так счастлива была вернуться домой к Л. Н., к моей, свободной по духу нашего дома, жизни, что теперь нескоро нападет на меня желание уехать. Всякий вечер нас кто-нибудь посещает: то был профессор Стороженко, много рассказывавший об иностранной литературе и новостях по этой части; тут же был молодой Цингер, умный и живой. Потом вечер сидели Грот, Сергеенко (не доверяю я этому человеку почему-то), Екатерина Федоровна Юнге, о которой Л. Н. говорит словами Анатоля Франса: «Великая и ужасная некрасивость». Но она талантливая, живая и умная женщина. Еще был молодой князь Урусов, Сережа, сын того, который умер и которого я так любила. Гольденвейзер был, играл чудесную сонату Шопена с «Похоронным маршем», прелюдии и ноктюрны. Сегодня с утра полотеры, чистка замков, шум, посетители, духоборы. Сулержицкий, на солнце в саду ребята играют в пыжи; Саша с детьми Фридманов поет, бренчит танцы на фортепьяно. Л. Н. с духоборами беседует и пишет длинное прошение государю. Я его переписала. Все эти дни обшиваю Л. Н. Заметила ему гладью платки, сшила новую блузу, буду шить теперь панталоны. Мои знакомые меня спрашивают, почему я потухла, стала молчалива, тиха и грустна. Я им ответила: «Посмотрите на моего мужа, зато он бодр, весел и доволен». Сегодня вышел 15-й том «Об искусстве» из цензуры, и я написала объявления в газеты. 3 апреля. Ну, день почти прошел, уже одиннадцатый час ночи. Никаких покушений на жизнь Л. Н. не было. Утром шила ему панталоны, кроила их и тачала на машине. Потом Л. Н. собрался гулять, я пошла с ним, чтоб не тревожиться дома. Заходили к старому генералу Боборыкину, он пошел с нами и измучил меня разговорами при грохоте пролеток и тихой ходьбе. Потом в редакцию «Русских Ведомостей», потом калоши покупали, потом на Остоженку к Русановым. Я измучилась, устала и домой уже доехала на извозчике. Когда я хожу с Л. Н., то всегда, и зимой, и летом, и всю жизнь, мучаюсь. Он никакого не имеет отношения к своим спутникам: если задержишься на минутку, он все-таки бежит, приходится догонять, он не ждет, спешишь, задохнешься – просто наказанье. Охраняли его еще Сергеенко, Сулержицкий, потом приехал вечером Меньшиков из Петербурга; пришли братья Горбуновы, Накашидзе, Дунаев. Очень утомительна эта постоянная толпа людей. Так весь день и ушел на разговоры и на эту толпу. Ох, как я устала нервно: то духоборы были, вчера уехали, то этот страх за убийство Льва Николаевича. А тут еще крик молодежи весь вечер за игрой в карты, в винт. Вся жизнь идет не по моему вкусу. Жизнь и интересы Л. Н. настолько особенные, личные его, что детей не касаются; не могут же они интересоваться сектантами-духоборами, или отрицанием искусства, или рассуждениями о непротивлении. Им нужна их личная жизнь, по их инициативе. Не имея руководителя в отце, не имея идеалов, посильных им, они создают свою разнузданную жизнь с игрой в карты, с пустотой и развлечениями, вместо серьезного дела или искусства. У меня не хватает ни сил, ни уменья создать им жизнь лучше, да и возможно ли с всё отрицающим отцом! 5 апреля. Светлое Христово воскресение. Когда-то это был значительный, радостный день. В нынешнем году у меня не было ровно никакого настроения. Вчера вечером сидела молча, шила; Л. Н. читал, Саша ушла с Марусей Маклаковой к заутрене в приют, Таня тоже работала, и всё я думала о том, что прежде, в молодости, жизнь делилась на периоды с перерывами какого-нибудь значительного, или казавшегося таким, события: вот праздники, а вот переезд в Ясную, или – что важнее – ребенок родился, или еще что. Теперь всё расплылось в неуловимом, скоро несущемся времени – и ничто не стало значительно, а как-то всё равно, лишь бы не было неприятностей и горя. Очень трудно и волнительно жилось последние три года, после смерти моего ангела, милого Ванечки. Сегодня с утра неприятности с Мишей и Андрюшей. Они требовали денег после того, как я им подарила по 15 рублей. Я сердилась, потом плакала. Миша раскаялся, Андрюша же как ни в чем не бывало, с глупым видом, в новом сюртуке, делал визиты. Ночью они ходили компанией на площадь слушать звон и смотреть на ход вокруг соборов. Как они безумно прожигают жизнь, не останавливаясь мыслями ни на чем и не ставя себе никаких нравственных вопросов! Когда они меня расстроили, я пошла к Л. Н. и спросила его со слезами и отчаянием о каком-нибудь совете, как мне быть с сыновьями, требующими денег и грубящими мне. И как всегда, проповедуя на весь мир какие-то истины, он ни слова не умеет сказать семье и помочь жене. Была у Колокольцевых, а потом весь вечер переписывала повесть Льва Николаевича «Хаджи-Мурат». Страниц 20 и даже больше написала. Л. Н. всё зябнет и жалуется на недомогание, однако прокатился на Мишином велосипеде, когда все уехали из дома. 6 апреля. Посвятила свой день детям. Ходила на балаганы с Сашей, Верочкой (горничной), двумя детьми Литвиновыми и Колокольцевыми. И марионеток смотрели, и театр, и с гор катались, и на каруселях. После обеда катали яйца, и дети остались все очень довольны. Больна Таня, жар и флюс. От Маши письмо. Мальчики визиты делали. Я играла после обеда в четыре руки с Нагорновой квартет Танеева, и чем больше вникаешь в его музыку, тем больше любишь ее и его за благородную, глубокую душу. Л.Н. ездил до обеда на велосипеде, утром писал о войне, вечером ездил верхом к умирающему купцу Братнину. Ему и любопытно видеть, как умирают люди, самому не далеко, а кроме того, приятно и утешить умирающего участием. 7 апреля. Был Кони, завтра обедает. Моросит дождь, стало теплей. Письмо интересное от Меньшикова. Пишет, что правительство озабочено духоборами, но имя Льва Николаевича в связи с духоборами всех приводит в крайнее раздражение. Полиция прислала в редакцию «Русских Ведомостей» бумагу с запретом принимать деньги для духоборов на имя Льва Николаевича. А сегодня все-таки оттуда принесли 300 рублей. Л. Н. очень добр и хорош, а мое сердце неспокойно и нерадостно. 9 апреля. Вчера был счастливый, радостный день. Утром встала рано, поехала с Сашей на репетицию концерта Никита. Увертюра «Фрейшютца» была исполнена с таким совершенством, что я просто плакала от эмоции. С репетиции шли пешком: Сергей Иванович, Гольденвейзер, Конюс, Игумнов, Саша, я, Преображенский. Болтали весело, выглянуло солнце, так было хорошо под впечатлением музыки и с радостными людьми, с весенней погодой! Обедали у нас Кони, Анатолий Федорович, профессор Грот, Саша, брат, Ден с женой, мисс Белый. Кони превосходно рассказывал то об умершем Горбунове, известном рассказчике, повторял его комические рассказы, то случаи из судебной практики; рассказывал статистику самоубийств, говорил, что большинство падает на вдовцов и вдов, на весенние месяцы, на северных жителей… Вечером опять с Сашей, с Марусей Маклаковой ездили в концерт Никита. Огромное я получила наслаждение. Л. Н. провел день с гостями; утром работать не хотел, писал письма, ездил на велосипеде и верхом. Умер тот старик купец Брашнин, к которому он всё ходил, и сегодня Лев Николаевич говорит, что любопытно узнать о его последних часах. Всё время ему было именно любопытно видеть это умирание старика. Сегодня Л. Н. говорит, что доктор Рахманов очень интересовался его повестью («Воскресение»), о которой он с ним давно говорил, и вот он ему дал ее читать, а потом сам перечел и подумал, что если б ее напечатать всюду, то можно бы 100 тысяч рублей выручить для духоборов и их переселения. Но что он только подумал так, а в сущности нельзя этого сделать. Я всё время молчала. Право его, а не мое, хотя странно было бы для всякой семьи, что после 36 лет нашей совместной жизни мы должны толковать о правах. Дети его будут нуждаться, работать он их не научил; а я не пропаду. Да и не то мне теперь нужно. Не деньги дают мне теперь счастье, о, конечно, не деньги! 10 апреля. Если б мне жить так, как Лев Николаевич, я бы с ума сошла. Утром он пишет, значит, утомляется умственно, а вечером, не переставая, разговаривает или, вернее, проповедует, так как слушатели его речей приходят большей частью посоветоваться или поучиться. Сегодня после обеда было человек тринадцать. Двое фабричных, три молодых школьных учителя, дама, занимающаяся сбытом русских кустарных произведений в Англии, доктор, корреспондент «Курьера», Сергеенко, Дунаев и проч. Приехал сегодня Сережа, сидит за фортепьяно и что-то сочиняет. Таня больна: флюс еще не прошел и живот болит. Андрюша уехал вчера. Весь день дождь идет. Ездила опять за дешевыми товарами, купила мебельной материи. Дома занималась делами, счетами, банковыми соображениями, отчетностью по попечительству и опеке над детьми, писала письма и т. д. Ни музыки, ни повести сегодня не трогала. Минутами в душе поднималась та знакомая эти последние года боль, от которой вряд ли я выздоровею. Была Варечка. 15 апреля. Эти дни полны внешних событий: 11-го была очень хорошая лекция Кони об Одоевском. При этом он рассказывал посторонние вещи, всё умно, кстати, тонко и правдиво. Вечером были у нас гости: профессор Преображенский нас фотографировал при магнии и читал целую лекцию о световых и цветовых иллюзиях. Я была утомлена и сонна, что редко со мной бывает. Днем еще была с Сашей на передвижной выставке; картин выдающихся нет, хороши последние пейзажи Шишкина, а бедность сюжетов и содержания – поразительные. Вчера провела два с половиной часа на выставке петербургских художников, и там же огромная картина Семирадского: мученица, привязанная к быку, цирк, Нерон и т. д. Эту выставку смотрела с большим интересом. Огромное разнообразие пейзажей, переносивших меня то в Италию, то в Крым, то на Днепр, то на остров Капри или в восточные дикие страны, или в русскую или малороссийскую деревню, или на Кавказ. Всё это чрезвычайно интересно, особенно мне, никогда не путешествовавшей. Написаны картины хорошо, старательно, почти все, но не все талантливо. «Христианка Цирцея в цирке Нерона» – громадная картина в большую стену. О ней говорят разно и осторожно. По-моему, очень красиво, ярко, всё размещение лиц и распределение цветов и положений – гармонично, умно; но всё холодно; не жалко растерзанной христианки, не жалко быка с прекрасной головой; не досадно на Нерона, не чувствуешь впечатления на публику. Но выставка вообще доставила мне большое наслаждение. Сегодня ездила по делам: отдала вещи в починку, переделку, переплет и т. д. Вечером был у нас князь Трубецкой, скульптор, живущий, родившийся и воспитавшийся в Италии. Удивительный человек: необыкновенно талантливый, но совершенно первобытный. Ничего не читал, даже «Войны и мира» не знает, нигде не учился, наивный, грубоватый и весь поглощенный своим искусством. Завтра придет лепить Льва Николаевича и будет у нас обедать. Был Сергей Иванович, и так с ним просто, по-будничному, хорошо и спокойно. Говорил он с Сережей в моей комнате о переводе музыкального сочинения; Сережа его расспрашивал кое о чем. Л.Н. объявил сегодня, что послезавтра уезжает к Илюше в деревню, что ему в городе жить тяжело, а у него есть 1400 рублей, которые он хочет раздать нуждающимся. Всё это правильно, но мне так показалось грустно и одиноко жить одной с плохой Сашей и Мишей, которого никогда дома нет, что я просто расплакалась и умоляла Льва Николаевича не уезжать еще от меня, а пожить со мной хоть еще недельку. Если б он знал, как я слаба душой, как я всячески боюсь себя; боюсь и самоубийства, и отчаяния, и желания развлечь себя – я всего боюсь, себя боюсь больше всего… Не знаю, послушает ли он мою просьбу. Мне и при нем часто кажется так безрассветно, трудно жить на свете, так многое в семье, в отношениях с Л. Н. наболело, так я устала от вечной борьбы, от напряженного труда в делах, в доме, в воспитании детей, в изданиях книг, в управлении детскими имениями, в уходе за мужем и соблюдении семейного равновесия… Всё это совсем незаметно для постороннего глаза, а для измученного сердца моего всё это так заметно! Ведь разве не тяжело такое положение: Л. Н. мне постоянно внушает, что живет в Москве для меня, а ему это мученье! Значит, я его мучаю. А в Ясной Поляне он гораздо мрачней, ему все-таки самому жизнь в городе интересна и развлекательна и только иногда его утомляет. 16 апреля. Льва Николаевича лепил сегодня приезжий из Италии, итальянский подданный князь Трубецкой. Он, кажется, считается хорошим скульптором. Пока ничего не видно, бюст начат очень большого размера. Л. Н. опять стал со мной добр, и мы в хороших отношениях. Вчера вечером я была в очень нервном состоянии, почти ненормальном. 18 апреля. Приезжал Лева, вдруг продал дом через какого-то комиссионера и меня не предупредил. Мне стала страшна перемена, стали страшны хлопоты, жаль дома, и я его оставила за собой, сама теперь остаюсь почти без денег, с долгами за издание. Дом мне достается очень дорого, за 58 тысяч почти. Опять Трубецкой лепит Льва Николаевича, и теперь я вижу, что необыкновенно талантливо. 19 апреля. Сделали Тане очень болезненную операцию в носу, выдернули зуб и через отверстие сверлили нос и выпустили гной. Ей очень больно, она побледнела, ослабела, и очень ее жаль, хочется ее погладить, пожалеть, поцеловать, и ничего этого не делаешь, а только грустишь. Отказала сегодня m-lle Aubert и уже взяла другую гувернантку Саше, которая присмирела. Льва Николаевича всё лепит Трубецкой, и очень хорош бюст: величественный, характерный и верный. Приезжал Савва Морозов, болезненный купец[120], кончивший курс в университете и желающий жить получше. Он дал для голодных крестьян Льву Николаевичу 1000 рублей. Мы едем с Л. Н. в среду к Илье в Гриневку, где Л. Н. будет жить и помогать крестьянам в тамошнем околотке. 20 апреля. Опять вынужденная суета жизни. Покупка дома – прямо почти насилие надо мной; я видела, как Льву Николаевичу и детям было жаль дома, и он, никогда не высказывающий своего мнения, на этот раз прямо советовал мне его купить и даже сказал: «Жаль его продать». А мне дом и дорог, и невыгоден. Я здесь потеряла двух детей и не очень-то была счастлива эти последние годы моей жизни. Лучшее счастье в Ясной, первую половину моей замужней жизни. Весь день провела по банкам, продавая бумаги и переводя деньги свои на Леву. Большое внимание нужно было, чтоб не продешевить бумаги и ничего не потерять. Дома к обеду опять пропасть народу: Преображенский, Трубецкой, Бутенев, Соня Мамонова, Миша Кузминский; вечером княжны Трубецкие, Колокольцевы и Сухотин. Л.Н. писал письмо о войне – ответ какому-то итальянцу. Не идет у него художественное произведение, трудно уж ему; притом он так привык проповедовать, что не может без этого жить. После обеда он позирует для скульптора Трубецкого. Бюст художественно задуман и превосходно начат, но, к сожалению, Л. Н. спешит уехать и бюст останется неоконченным. Мы уезжаем послезавтра; я вернусь в Москву, а Л. Н. переедет потом в Ясную. Всё холодно. 21 апреля. Собирались завтра ехать с Л. Н. в Гриневку и Никольское к сыновьям, я так радовалась этой поездке, и весне, и внукам. Но поездку опять отложили до вечера, так как бюст еще не совсем окончен и жаль не дать его кончить, очень хорош. Поворот головы, характер всей фигуры, глаза – всё это выразительно и прекрасно задумано, хотя та неоконченность, которой радуется скульптор, меня беспокоит. Лев Николаевич спешит особенно потому, что у него 2000 рублей благотворительных денег, которыми он хочет помочь крестьянам в той местности, где хуже всего бедствие. Утром была у нотариуса и в банке; вернувшись, укладывала свои и мужнины вещи. Закупила вегетарианской провизии, хлеба и проч. Вечером пришел Сергей Иванович, были очень интересные и даже оживленные разговоры между ним и Л. Н. Тоже участвовал Трубецкой. Говорили об искусстве, о делах консерватории, о краткости жизни и уменье так распоряжаться временем, чтоб каждая минута была употреблена значительно: для пользы, для дела, людей; прибавляю от себя – и для счастья. Мне так радостно было видеть, что Л. Н. перестал враждебно относиться к этому прекрасному человеку. Теперь он занят печатанием разных дел, касающихся любимой им консерватории, нападает на неправильное отношение к делам консерватории директора ее, Сафонова, и, не ссорясь ни с кем и не боясь никого, служит только делу со своей честной и необычайно справедливой точки зрения. Потом пришел Маклаков, и мы с ним философствовали о счастье. Вчера с Соней Мамоновой и сегодня с Маклаковым пришли к одному и тому же: счастье случайно и его мало; надо брать его, когда оно есть, благодарить судьбу за те малые мгновения этого счастья, не искать вернуть его, не скорбеть о нем, жить дальше, вперед; и даже в будничной жизни с ее невзгодами находить удовлетворение, которое вполне возможно, если совесть спокойна, если живешь для дела, для людей, не делаешь ничего стыдного или безнравственного, не принужден раскаиваться. Еще есть счастье – это самосовершенствование, это движение к религиозному и нравственному идеалу. Но я не люблю заглядывать в себя, люблю людей и не люблю себя, и потому мне это тяжело. Был Бартенев, принес мне книгу, письма моего прадеда, графа Завадовского, которого он мне очень хвалит. Интересный этот ходячий архив – Петр Иваныч Бартенев. Всех на свете знает; знает все родословные, все придворные интриги всех русских царствований, все гербы, родство, именья и т. д. 29 апреля. 23-го Трубецкой кончил бюст Льва Николаевича. Он очень хорош. Вечером мы выехали в Гриневку. Нас провожали: Дунаев, Маслов, моя Саша и Соня Колокольцева. Ехали мы в I-м классе; очень было тесно везде. Дорогой вечером разогревала Л. Н. овсянку, которую взяла с собой совсем сваренную. Он захотел сам возиться, схватил горячую крышку кастрюли и обжег три пальца. Я предложила воды, чтоб облегчить боль, он упрямо отказал. Тогда я молча все-таки принесла кружечку воды, и когда он опустил в нее пальцы, ему сразу стало легче. Все-таки ночь от этого спал плохо. В Гриневке нас встретили верхами сыновья Илья и Андрюша и пешком внуки – Анночка и Миша. Очень было весело их видеть и приехать в деревню. Л. Н. тотчас же приступил к делу: стал объезжать деревни и исследовать, где голод. Хуже всего в Никольском, и еще к Мценскому уезду. Хлеб едят раз в день и то не досыта. Скотина или продана, или съедена, или страшно худа. Болезней нет. Л. Н. устраивает столовые. Посылали в Орел Андрюшу узнавать цены хлеба. Много гуляли в Гриневке; я читала с Аиночкой по-французски, шила мальчикам, смотрела за всеми четырьмя детьми, красила, рисовала с ними; присматривала за тем, чтоб плохой повар не слишком дурно готовил Льву Николаевичу. Но хозяйство у Ильи и Сони очень скудно и плохо; мне всё равно, но я боюсь, что желудок Льва Николаевича не вынесет плохой пищи и он захворает. Илья мне не понравился дома. Детьми совсем не занимается; с народом не добр; ничего серьезного не делает, любит только лошадей. Соня же с народом добра, лечит их, хлопочет, чтоб их прокормить, дает муки и крупы детям и бабам. Были у Сережи-сына в Никольском. Сережа всё жалок, очень. Много музыкой занимается и сочинил прекрасный романс, который спела Соня очень мило своим молодым, симпатичным голосом. Расположение духа Л. Н. было не радостно. Что-то унылое, подавленное и недоговоренное было в наших отношениях, и это меня очень огорчало. Более внимательной и кроткой, как я была с Л. Н. всё последнее время, нельзя быть. И так жаль мне было его оставлять в Гриневке. Но, может быть, лучше на время расстаться! Заезжала я в Ясную Поляну и пришла после Гринев – ки в восторг от природы и местности яснополянской. Бегала по саду, в лес, рвала медунчики в Чепыже, сажала деревца в саду и цветы на грядки; убрала в доме, приготовляла комнату для приезда Льва Николаевича. 28-го, вчера, был там первый гром и куковала кукушка. Деревья чуть зеленеют; везде веселая, напряженная работа; сеют огород, окапывают яблони, чистят сады. Дора и Лева дружны и счастливы. Она – прекрасная женщина, уравновешенная и культурная. Тоже копаются в своем, вновь разведенном, садике, красят дом, готовятся к ее родам и к приезду родителей. Сегодня утром вернулась в Москву и… грустно тут. Приехал Сергей Николаевич с дочерью Машей. Левочка будет жалеть, что не видал брата. 1 мая. Вчера не писала, бессодержательна жизнь. Сегодня с утра пришел гимназист 1-й гимназии Веселкин и принес собранные его товарищами 18 рублей 50 копеек. Трогательны до слез эти пожертвования в пользу голодающих юными душами или бедными людьми. Потом вдова Братнина принесла 203 рубля, а еще прислала мне из Цюриха одна Коптева 200 рублей. Всё это перешлю Льву Николаевичу. Сегодня получила письмо от Сони, которая меня извещает о том, что Л. Н. здоров, продолжает обходить и объезжать нуждающихся и бодр; но от него я еще не получила ни слова. Всё мое горячее к нему отношение опять начинает остывать; я ему два письма написала, полные такой искренней любви к нему и желания этого духовного сближения; а он мне ни слова! В саду сегодня вечером пили чай, собралось много гостей: Колокольцевы, Маклаковы, Аристов, Дунаев, наши Оболенские и Толстые, Горбуновы, Бутенев, Саша Берс, Марья Александровна Шмидт и Сергей Иванович Танеев. Молодежь бегала по саду, визжали, гнилушки светящиеся там нашли; разговор о любви и хохот Маруси и Сергея Ивановича. Всё это томительно, шумно, ничтожно. Невольно думала о серьезной жизни в Гриневке с воспитанием детей, помощью голодным, посевами, хозяйством и т. д. Потом в Ясной с весенними работами, спокойной, величественной весенней природой и интересом рождения нового ребенка у Доры. Уехала сегодня m-lle Aubert, ее жалко, но не очень, такая она была бедная, бессодержательная натура! 3 мая. Была в Петровско-Разумовском, видела маленького сына Мани и Сережи и очень взволновалась. Очень милое выражение глаз у этого ребеночка. В Петровско-Разумовском застала пикник светских знакомых, и Саша огорчилась, что ее не позвали. Мы гуляли по саду и лесу. Обедали у старой тетеньки Шидловской, ей 77 лет, и она очень бодра. Вечер у Колокольцевых. Какой трагизм в материнстве! Эта нежность к маленьким (как я видела сегодня в Мане к ее сыну), потом это напряженное внимание и уход, чтоб вырастить здоровых детей; потом старание образовать их, горе, волнение, когда видишь их лень и пустое, бездельное будущее; и потом отчуждение, упреки, грубость со стороны детей и какое-то отчаяние, что вся жизнь, вся молодость, все труды напрасны. Получаю часто письма от Л. Н. Он по крайней мере теперь хоть несколько сот голодных прокормит. А то грех ему непростительный, что детей своих забросил. 5 мая. Получила сегодня два письма от Л. Н. Он бодр и здоров, слава богу. Пишет, что открыл восемь столовых и что денег больше нет. Всегда мне казалось, что если одного, двух прокормить – и то хорошо, а не только несколько сот человек. А сегодня показалось так ничтожно девять столовых перед миллионами бедняков. Пожертвований мы не вызывали, Л. Н. уже не по силам много работать; а если б вызвать – денег нам дали бы много. 9 мая. Сегодня Соня Мамонова просила написать Сергею Ивановичу, чтоб он пришел вечером с ней повидаться. И он пришел, и наконец я дождалась этого счастья – он играл. СонатуБетховена (Quasi una fantasia) и ноктюрн Шопена. Какое было счастье его слушать, и как он играл! Я знаю, что он играл для меня, и была ему так благодарна! Но зачем опять тревожить заснувшее на время к этим страшным впечатлениям сердце? Больно слишком… Написала письмо Льву Николаевичу и о нем болезненно думала. То наслаждение, которое я получаю от игры Сергея Ивановича, доставляет страдание моему мужу. И это мучительно думать. Почему нельзя всего помирить, со всеми быть счастливой, любящей; от всякого брать ту долю радости, которую он может дать. Приехал Сережа; играл Сергею Ивановичу свой романс и потом играл с ним в шахматы. 10 мая. Утром читала корректуры, потом ходила за билетами в театр и к Дунаевым искать помощницу Льву Николаевичу на дело помощи голодающим. Предлагают Страхова, это было бы хорошо. Прочла сегодня письмо Черткова к Л. Н., желая узнать об умирающем Шкарване[121]. Всё письмо ненатуральное, всё те же рассуждения о борьбе с плотью, о деньгах и грехе их иметь, а вместе с тем он всюду задолжал, а у Тани просит взаймы 10 тысяч рублей. Всё фальшь, фальшь, а я ее-то и не терплю. И кто из нас не борется со страстями? Да еще как борются! Иногда чувствуешь, что последние силы ушли на эту борьбу и больше их негде взять. Да и какие у них страсти! Все они какие-то прямолинейные, скучные… А есть страсти, молчи, а не кричи о них вечно. Вечером были в театре с Сережей, Андрюшей и Сашей. Давали «Вольного стрелка» в пользу голодающих консерваторские ученики. Я сидела во втором ряду кресел, там же, где Сергей Иванович. 19 мая. Ясная Поляна. Много было движенья всякого эти дни: укладывалась, перевозила весь дом и Сашу с новой гувернанткой m-lle Kothing, швейцаркой. Переехали все 15 мая, мы с Сашей приехали в Ясную 16-го утром, в пустой яснополянский дом. Второй год я так приезжаю! В тот же день прибыли лошади, корова, рояль, все ящики, мы усиленно разбирались и убирались; обедали и ужинали в доме Доры и Левы, которые были очень приветливы. 17-го утром я уже уехала к Льву Николаевичу в Гриневку и так радовалась увидеть его, и детей, и внуков! Но мои горячие порывы всегда обдаются холодной водой. У Льва Николаевича сидел какой-то сектант, которому он читал свою статью; мой приезд помешал чтению, и Л. Н. было немного досадно, хотя он очень старался это скрыть. Я ушла в сад с миленькими внуками, Мишей и Андрюшей, и мы долго гуляли, бродили всюду, и я им рассказывала многое о цветах, яблонях, насекомых и просто из жизни – истории. Часа три я с ними наслаждалась. Когда после обеда я опять вошла к Льву Николаевичу, опять сектант сидел у него и говорил ему длинные стихи духовного содержания, которые составлены для пения сектантами; и опять Л. Н. с досадой уж просто меня выпроводил. Я ушла и заплакала: три недели почти мы не виделись; ни о нашей жизни в Москве, ни о детях, ни об экзаменах Миши, ни о Тане – ни о ком ему дела нет. Когда Л. Н. увидал, что я огорчилась, он пошел меня искать, начал смущенно оправдываться. В Гриневке идет горячая жизнь, и мне жаль было, что я не могу в ней участвовать. Открыто двадцать столовых, кроме того, идет раздача муки; весь день народ с мешками на подводах; то привозят купленное: муку, картофель, пшено, то получают недельную выдачу и развозят по столовым. При мне картофель привезли и складывали для народных столовых. Соня, жена Ильи, усердно работает, хотя Л. Н. ее упрекает в бестолковости иногда. Взял он у меня еще сотню рублей, это уже четвертая, и я больше своих денег дать не могу. Эти сто рублей передали Сереже для помощи в Никольском. С начальством идет какая-то глупая путаница: орловский губернатор Трубников выдал Илье официальную бумагу с позволением открыть столовые и даже выразил благодарность за них. Земский же начальник запрещает их открывать, говоря, что у него тайное предписание не допускать открытия столовых, а арестовать и выслать всех, кто вздумает жить среди народа и помогать ему. Каково правительство! И кто кого обманывает? Сегодня вернулась в Ясную, побывав часа четыре в Туле для всяких дел; скучно и утомительно ужасно! Саша жила одна с гувернанткой, и мне сегодня было жаль ее. Вечер пили все вместе чай на террасе, потом ходили встречать родителей Доры, которые приехали не тогда, а позднее, к ночи. Л.Н. был в Гриневке не совсем здоров, у него болят верхние спинные позвонки и изжога. Сегодня ему было получше. Он очень занят развитием мускулов, делает гимнастику с гирями, ходил в пруд купаться и мылся на берегу; ест плохую пищу и мало, а потом жалуется, пугается, стонет, закутается в ваточный халат и говорит о смерти, которой не желает и боится. Стало ясно и холодно, особенно по ночам. Яркая луна на чистом небе, опять сухо и пыль. Опять плохой урожай будет! Телеграмма от Тани, она приедет завтра. Миша продолжает выдерживать экзамены, благодарю Бога! Послезавтра поеду к нему. 20 мая. Ясная Поляна. Какой блеск, какая красота весны! Ясные, солнечные дни, лунные ночи, пышное, необыкновенное нынешний год цветение сирени, особенно белой; осыпающийся цвет яблонь, соловьи – всё это опьяняет, восхищает, и ловишь эти мимолетные впечатления красоты весенней природы, и бесконечно жаль их. Приехали вчера добродушные Вестерлунды, родители Доры. Как она им рада, милая девочка с ее брюшком, домашними хлопотами, заботами об их комфорте. Приехала сегодня утром моя Таня, что-то бледная и вялая; и всё у ней разговоры о любви, о желании иметь детей, о трудности выносить девичество; трудности, о которой особенно ей наговорила Вера Толстая, которая вся возбуждена и готова на всякую любовь и, главное, на деторождение. Бедные девушки, они не знали в молодости, что их ждало в зрелости. Сегодня рождение Левы, ему 29 лет. Мы у него обедали, пили шампанское, и Дора радовалась и всё украсила цветами. Еду завтра в Тулу по делам противного Бибикова, который затеял отрезать у нас землю; а вечером еду в Москву. Сегодня отправила повара с провизией к Льву Николаевичу; написала ему длинное письмо. Завтра отправляю Сашу с гувернанткой к сестре Лизе, а то ей не с кем тут оставаться, Таня уезжает 22-го к отцу в Гриневку. С Таней мне просто, хорошо. Мы друг друга до конца знаем, понимаем и несомненно любим. Передо мной портрет Льва Николаевича с таким выразительным взглядом, который всё меня к себе притягивает. И, глядя на него, я вспоминаю его упреки, его поцелуи, но не могу припомнить искренне-ласковых слов, дружелюбно-доверчивого отношения… Были ли они когда?.. У меня был порою страстный любовник или строгий судья в лице моего мужа, но у меня никогда не было друга – да и теперь нет, менее чем когда-либо. Ах, как соловьи поют! Ходили сегодня с Сашей гулять по лесам; набрали немного грибов в посадке, ландыши еще так чудесно цветут в Чепыже. Люблю я ландыши, такой благородный цветок. Какая тихая лунная ночь! И опять стало жарко днем и тепло ночью. Перечла жизнь и учение Сократа и с новой стороны поняла его. Все великие люди схожи: гениальность есть уродство, убожество, потому что она исключительна. В гениальных людях нет гармонии, и потому они мучают своей неуравновешенностью. 22 мая. Приехала утром в Москву. 25 мая. Троицын день. Миша уехал к Мартыновым. Экзамены выдерживает с натяжкой. Ездила с няней на могилки Алеши и Ванечки в Никольское. Посадили цветы, обложили дерном, прочла я «Отче наш» и попросила в душе моих младенцев молить Бога о моей грешной и больной душе. Ясный, веселый день, праздничный народ. Ходила с девочкой в ближайший женский монастырь, болтала с монахинями. Одна из них – влюбленная в Христа с самой юности и помешана на том, чтоб остаться в полном смысле слова Христовой, а не чьей-нибудь, невестой. Чисто разведенный садик, близость деревни и дач, народ – никакого настроения не чувствовалось. Вернулись поздно вечером в Москву. 26, 27, 28, 29-го в Москве; корректуры, одиночество, грусть. Раз вечером на этих днях играю в угловой комнате, и так мне захотелось видеть и послушать Сергея Ивановича, и через несколько времени вижу в окне три фигуры, не узнаю сначала, потом узнала и не удивилась. Это были Маслов, Танеев и Померанцев. Маслов ушел раньше; потом Померанцев играл мне, потом и Сергей Иванович стал играть: играл свои романсы, свой квартет в четыре руки с Юшей. 29-го он опять пришел ко мне вечером вместе с Гольденвейзером, но просидел очень мало и какой-то взволнованный торопливо ушел. 30 мая. Акт в консерватории. Жаркий, солнечный день. Соната Шумана, концерт Сен-Санса и несколько маленьких вещей, прекрасно сыгранных ученицами консерватории – Фридман, Бесси и Гедике-учеником, – мне доставили большое удовольствие. Не было ни одного человека, кто бы меня ни приветствовал словами «Какая вы сегодня молодая», или «Какая свеженькая», или «На вас смотреть – станет весело, легко, свежо…» Это сделало больше всего мое новое, светлое бледно-лиловое кисейное платье. Но разговоры о моложавости моей и приветствия ласковые публики мне всегда, к стыду моему, приятны. Сафонов заставил меня, умоляя, присутствовать на каком-то заседании: у него не хватало членов музыкальных. Я ничего не поняла из его отчетов, что-то подписывала, и мне было совестно. Приезжаю домой, выхожу на балкон, вижу – сидит на лавочке в саду Сергей Иванович и читает газету. Я страшно обрадовалась. Для нас с Мишей был накрыт в саду обед; поставили третий прибор. Как мы весело, хорошо обедали. Всем есть хотелось; а в саду было так уютно, свежо! После обеда втроем, то есть с Мишей, ходили по саду. Сергей Иванович рассказывал о Кавказе. Миша уезжал на другой день на Кавказ и интересовался рассказами. Потом Миша уехал, мы остались вдвоем: пили вместе чай; Сергей Иванович мне сыграл вариации, написанные его учеником, Колей Жиляевым. Потом мы сидели и разговаривали так, как разговаривают люди, до конца доверяющие друг другу: серьезно, искренно, без застенчивости, без глупых шуточек; говорили только о том, что действительно нас интересует обоих. Ни разу не было неловко или скучно. Какой был вечер! Последний в Москве, а может быть, и в моей жизни. В девять часов он стал собираться уходить, и я не стала его удерживать. Он, прощаясь, только тихо и грустно сказал: «Когда-нибудь надо уходить». Я ничего не ответила, мне хотелось плакать. Я проводила его до двери и ушла в сад. Потом я всё уложила, убрала, заперла, и мы в 12 часов ночи уехали в Ясную. 31 мая. Утром тяжелый приезд в Ясную. Ни Тани, ни Льва Николаевича, и три телеграммы – он болен, лежит у Левицких! Он обещал никуда не ездить, а съехаться со мной в Ясной и вместо этого уехал с Соней (невесткой) в коляске странствовать по соседям и будто бы изучать положение страны в смысле голода и будущего урожая. Были они у Цуриковых, у Афремовых и у Левицких, где Л. Н. уже слег в жару, с дизентерией. I июня. Лев Николаевич не приехал; проплакав весь день, я поехала больная с Марьей Александровной Шмидт сначала через Козловку в Тулу, потом Сызрано-Вяземской дорогой до Карасей. Там рано утром наняла ямщика и поехала к Левицким. Лев Николаевич плох, всё дизентерия, слабость, ехать домой немыслимо. 2, 3, 4, 5 июня. У Левицких. Прекрасная семья, занятая, либеральная в хорошем смысле, особенно он, умный, твердый человек. Трудный уход и забота за больным Л. Н. в чужом доме, со сложной вегетарианской пищей. Посылала за доктором, давали висмут с опием, компрессы. Скучно, холодно, тоскливо и досадно. Лев Николаевич поехал уже больной. Что за легкомыслие, и как не совестно в чужом доме дать столько забот с непривычными для посторонних, сложными требованиями миндального молока, сухариков, овсянки, покупного хлеба и проч. 6 июня. Вернулись в Ясную, я очень кашляю, слаба, измучена и устала от трудного ухода за Львом Николаевичем. Ночевали у Ершовых, которых не было дома. Ужасное событие! Тулубьева, рожденная Ершова, молодая женщина, от тоски бросилась в воду и утопилась. Я позавидовала ее храбрости. Жить очень, очень трудно. 8 июня. Родился сын у Доры в 12 часов 45 минут. Как она, бедная, страдала, как умоляла отца о чем-то, горловым, молодым голосом, громко болтая по-шведски. Лева был очень с ней нежен, бодрил ее, а она так хорошо, любовно к нему относилась, прижималась, как будто прося разделить ее страдания. И он разделял, и так нормально, хорошо родился этот маленький Лев. II июня. Поставила рояль в мастерской Тани. Играла сегодня часа три и плакала ужасно от бессилия, желания послушать еще когда-нибудь музыку Сергея Ивановича. Ведь были же эти два счастливых лета! Зато после какого страшного несчастия – смерти Ванечки – послано мне было это утешение! Благодарю тебя, Господи, и за то. Приехали Маша с Колей и Илья с Мишей, внуком. Мы с ним гуляли вдвоем по Черте, рвали ночные фиалки, говорили о разлуке с няней, о гнездышке, которое мы берегли с Ванечкой – сначала с яичками, потом с птичками. Очень было тихо, хорошо на душе, особенно после моих слез и моего отчаяния. Ужинали у нас Вестерлунд и Лева, и стол был длинный, что я люблю, привыкла так. Мечтаю ехать к сестре Тане и заехать к Масловым. Удастся ли? Когда Федор Иванович со мной прощался в Москве, он меня очень звал и за что-то горячо благодарил. Люблю я эту семью, утешающую, твердую, добрую и ласковую. Все они безбрачные, но при тихой поверхности, наверно, не без внутренних тревог и волнений прожита жизнь всякого из них. Как мне хотелось бы в их тихую пристань, где Сергей Иванович, наверно, мне поиграл бы и где мы с ним опять побеседовали бы о самых серьезных и задушевных вопросах жизни и смерти. Л.Н. всё не поправляется от болезни. Он вял, соплив и притих совсем, не проявляя ни радости, ни горя, ни злобы, ни любви. Эта последняя болезнь точно испугала его, и он, точно увидав возможность умереть, ужаснулся этого. Вопрос о голоде, столовых, пожертвованиях как будто вдруг перестал его интересовать. Вестерлунд нашел увеличенную печень и велел Л. Н. пить воду Виши очень горячую по утрам. 12 июня. Поздно встала; играла упражнения внимательно и вижу, что очень отстала. Ходила с внуком Мишей в елочки и в Чепыж, мы набрали грибов, рыжиков и березовых. Тишина лесная, цветы, ясное небо, солнце – всё это как хорошо! Потом опять играла. После обеда посидели с Мишей на вышке, а потом ездили в кабриолете с Сашей к столяру и на могилки моих младенцев, тетушек и родителей Л. Н., рвали во ржи васильки; дорогой смеялись, болтали, шутили с детьми. Вечером Л. Н., на балконе сидя, задавал нам задачи и вспоминал свою любимую о косцах. Вот она. Было два луга: большой и малый. Пришли косцы на большой луг, косили все полдня. На вторую половину дня отправили половину косцов на малый луг. К концу дня большой луг был весь скошен, а на малом лугу осталось работы на одного человека на один день. Сколько было косцов? 8 человек… косцов скосили большой луг; 3/8 косили малый, то есть 2/8 косцов и 1/8, то есть один человек. Если один человек составляет 1/8, то всех было восемь человек. Это одна из любимых задач Льва Николаевича, и он ее всем задает. Думала сегодня: отчего женщины не бывают гениальны? Нет ни писателей, ни живописцев, ни музыкальных композиторов. Оттого, что вся страсть, все способности энергической женщины уходят на семью, на любовь, на мужа, а главное – на детей. Все прочие способности атрофируются, не развиваются, остаются в зачатке. Когда деторождение и воспитание кончается, то просыпаются художественные потребности, но всё уже опоздало, ничего нельзя в себе развить. Девушки часто развивают в себе духовные и художественные способности и силы; но это развитие остается единично, не может идти дальше, в следующие поколения, потому что девушки не дают потомства. Бывают часто гениальные люди от старых, развитых раньше матерей, и Лев Николаевич один из таких. Его мать была не молода, когда родила его да и когда выходила замуж. 13 июня. Опять как будто судьба позволила жить и радоваться, если только сердце мое больное способно еще на радость. Но, слава богу, все здоровы и дружны, Лев Николаевич сегодня ездил верхом в Ясенки; и он рад, что поздоровел и что и ему еще Бог позволил жить, и жить даже бодро. Только что начинаю устраиваться, убирать дом, устанавливать мебель, гулять. Сегодня с внуком Мишей ходили в посадку, рвали цветы, грибы, ягоды; много о Ванечке с ним говорили; я ему рассказывала о его жизни и плакала. Потом я опять гуляла с Вестерлундами, Левой и Илюшей. С Илюшей тихо и хорошо разговаривали о его делах и переезде на зиму к теще. Очень он, бедный, запутался в делах хозяйственных и денежных. Чудесный был ясный вечер; пропасть везде цветов, делали букеты на завтра. Завтра крестят маленького внука Льва. 14 июня. День провела со всеми своими детьми: в час дня крестили маленького Льва. Дора очень волновалась, а деды – шведы – ужасались дикости русских крестин. Обедали все у нас, на воздухе, очень торжественно, с букетами и фруктами на столе, с шампанским и прекрасной солнечной погодой. Потом все играли в теннис, и Л. Н. тоже; он не унывает; здоровье его, слава богу, совсем поправилось. Вечером уехали и Маша с Колей и Илья с Мишей, которого мне ужасно было жаль отпускать. Но чувство, что он не мой, что любить его – только горе, что воспитывать его буду не я – всё это заставляет меня бояться этой привязанности, и я удаляюсь от Миши умышленно. Играла сегодня три часа подряд, разучивала полонез Шопена As-dur, трудно, но какое это чудесное произведение! Позднее приехала Надя Фере, очень приятно пела. Прочла рассказ сына Левы в «Новом времени» «Прелюдия Шопена». У него не большой талант, а маленький, искренно и наивно. Кончила день с Л. Н. слишком молодо. 17 июня. Опять всё трудно и грустно! Вспомнила невольно когда-то сказанные французским философом: «Я жалею вас, сударыня, у вас даже нет времени быть счастливой». Опять и вчера, и сегодня припарки, компрессы, ухаживанье за больным Львом Николаевичем… Он после своей дизентерии не был воздержан, ел много и жадно; ездил, вопреки запрету докторов, на велосипеде, купался, слишком утомлялся верховой ездой, и вчера у него начались страшные боли в желудке, упорная, мучительная рвота, а сегодня жар, 38 и 2 было вечером, весь день он ровно ничего не ел, стонет вот уже сутки и очень нетерпелив. От упрямства и невоздержания он сокращает свою жизнь и заедает мой век. На этот раз мне стало досадно; только что с напряженным вниманием я старательно выходила его от дизентерии, и опять он слег. Сама я тоже больна, слишком утомляюсь и огорчаюсь. У меня кашель, болит под ложечкой. Л.Н. в постели принимал каких-то супругов из Воронежа, приехавших, как к духовному врачу, с ним о чем-то советоваться. Это его утомило. Вчера, до заболевания Льва Николаевича, с Сашей в первый раз купались и жалели, что мало кто пользуется такой чудесной купальней и вообще нашей яснополянской удобной летней жизнью. Разговорились с ней и, смеясь, решили, что когда будем жить по своей воле, то у нас будет много, много всякого народу, которые будут жизнью наслаждаться вокруг нас, а мы на них будем радоваться. 18 июня. Рожденье Саши, ей 14 лет. Невыносимо жаркий день, 40° тепла было на солнце в два часа дня. Л. Н. всё нездоров, изжога, жар до 38 и 3 был сегодня. К вечеру стало лучше, температура пала до 37 и 5, и он ел сегодня два раза овсянку и пил кофе. Сбегали с Сашей бодро на Воронку купаться. Такой был красивый, тихий вечер, что я не переставая любовалась природой, небом и луной. Вернувшись, застала Льва Николаевича, диктующего Тане статью газетную, которую, впрочем, раздумали посылать. Дело вот в чем: приехали в Ясную шесть человек гимназисток и гимназистов, привезли 100 рублей для нуждающихся крестьян. Л. Н. послал их к священнику, попечителю здешних мест, и священник указал на особенно бедных. Гимназисты купили в Ясенках муки, которую и выдавали беднейшим. Явились становой и урядник и строго запретили купцу в Ясенках выдавать муку мужикам по запискам от нас или гимназистов. Просто безобразие! Не смей никто в России милостыню подать бедным – становой не велит. Мы с Таней глубоко возмущались, и обе охотно бы поехали прямо к царю или его матери и предостерегли бы их от того возмущения, которое может подняться в народе от озлобления к подобным мерам. Приехали девочки Толстые и Марья Александровна [Шмидт]. 20 июня. Лев Николаевич всё болен. Жар небольшой, 37 и 8, но всё жжет его, и он худеет и слабеет. Боли в животе только при движении или нажимании. Вчера на ночь долго растирала ему живот камфарным маслом, потом положили компресс с камфарным спиртом. На ночь дала висмут с содой и морфием. Ел он сегодня овсянку, рисовую кашу на миндальном пополам с простым молоком (обманом) и яйцо, которое, после трех дней, уговорил его съесть доктор Вестерлунд. Был исправник по поводу приезда из Харькова гимназистов и гимназисток для какой-то помощи народу и работы в народе. Все без видов, а сегодня приехали две еще девочки с той же целью, из которых одной 13 лет. Их всех выслали, а я упрекала исправнику резко, что он запретил купцу в Колпне отпускать по запискам муку народу. А записки выданы по указанию священника беднейшим жителям наших мест, и мука уплачена. Еще приехал из Англии Абрикосов и рассказывал о Черткове и всех тамошних русских немало нового и интересного. Ходили купаться с Таней и Сашей. Жара страшная, сухая гроза, тучи, молнии, дождя нет, страшная засуха. Урывками эти дни поиграла немного в мастерской, на дворне. Очень сегодня затосковала о Льве Николаевиче. Думаю, если он и поправится от этой болезни, то ему скоро 70 лет; и все-таки он долго прожить не может, и вдруг я останусь одна, без него на свете. Такая вдруг беспомощность мне показалась во мне, такое ужасающее одиночество, что я чуть не разрыдалась. Как ни трудно мне подчас с Л. Н., но все-таки он меня одну любил, он был мне опорой и защитой, хотя бы даже и от детей. А тогда? Трудно, грустно мне будет ужасно! Дай Бог ему пожить подольше, и мне без него или не жить совсем, или как можно меньше. Прочла четыре листа корректур, глаза слабеют. 21 июня. Со всеми болезнями и горестями напутала в издании 15-го тома дорогого девятого издания и очень этим взволновалась; не знаю еще, как выпутаюсь. Слишком много должна вмещать моя голова, и всё идет хорошо, пока всё благополучно. «И на старуху бывает проруха», говорит пословица; и вот у меня «проруха», а всё от болезней Льва Николаевича и разъездов по разным местам, где он жил, куда ездил и где болел. Посылала за Надей Ивановой, читала с ней корректуры. Часа три играла на фортепьяно. Льву Николаевичу получше, со всяким днем температура ниже, сегодня 37 и 3, но он очень жалуется на слабость и был сегодня не в духе, на всё сердился. Начал есть в виде лекарства, по совету Вестерлунда, по яйцу в день, и ему это неприятно, но слабость и немощь тоже неприятны. Вечером ходили все купаться. Возвращалась я одна, сумерками, лесом, и так вдруг затосковала душа о Ванечке, о сестре Тане, о многом утраченном в жизни, об утраченном и испорченном в моем собственном сердце, о том, что еще друг – моя дочь Таня – уйдет от меня, порвет со мной ту сильную, тридцатичетырехлетнюю любовную связь, которая была между нами. И вдруг рыдания поднялись в моей груди и горле, я стала громко стонать среди леса, одна; думаю, птицы, и те перепугались от моих воплей и слез. Самые больные – это одинокие слезы и страдания, о которых никто никогда не узнает. Потом мне стало страшно, я всё слышала в лесу чьи-то еще другие стоны. Это умершие чьи-нибудь души мне вторили или отсутствующие. Приезжал Дунаев и с ним Дитерихс, брат Гали Чертковой, только что оставивший военную службу по убеждениям. Затмение луны, на которое я смотрю в окно… Уже стало меньше… 22 июня. Весь день у крыльца бабы с просьбами: муки, денег, хлеба поесть просто, чайку, лекарства и т. д. Стараюсь терпеливо удовлетворить просящих, но очень утомляюсь. Помощи ни в чем, ниоткуда. Бегаю весь день к Л. Н. вниз, бегаю по делам – и к вечеру совсем без ног. Растирала Л. Н. живот, а в это же время мечтала о море, и скалах, и горах в Норвегии, куда звал нас уезжающий завтра Вестерлунд. 26 июня. Вчера провела тяжелый очень вечер. Наш сосед, юный Бибиков, оттяпал у нас купленную у его отца землю; теперь приходится защищаться, началось судебное дело. Вчера нужно было собрать окольных свидетелей, и собрали только из Телятинок, деревни Бибикова, нашего якобы врага. По всему видно, что свидетели, судья, землемер – все подкуплены и угощены были вчера Бибиковым. Допрос тоже производили мошеннически. Сначала я горячилась, а потом просто пришла в недоумение: суд, допрос, присяга – и всё одно мошенничество. Просидела из любопытства до самой ночи в избе старосты. К концу допроса двенадцати крестьян все как будто стали сконфужены и смиреннее: и судья, и крестьяне. Слишком очевидна наша правота. Писала прошение в тульскую чертежную, прося о восстановлении границ нашей земли, а то крестьяне ежегодно забирают больше и больше ее. Л.Н. всё мне не нравится своим здоровьем. Сегодня у него желудок расстроился опять, и что-то он зяб вечером. Притом слабость еще большая. Лева-сын тоже раздражителен и нервен, и писательство его такое же нервное. Я хотела бы для него больше спокойствия, жизнерадостности, меньше самоуверенности и душевной суеты. Дора с младенцем Львом очень трогательны и милы. Радостно было вчера то, что когда меня не было дома и поднялся ветер с ужасной грозой, Л. Н. очень тревожился обо мне, не ужинал, просил послать пролетку и теплое платье. Вот когда его не будет, не будет ничьей обо мне заботы, и это очень тяжело. Уж и гроза была! Со всех четырех сторон молнии, ветер пролетку воротил, когда мы ехали из Телятинок домой, и вдали зловещее зарево пожара. Много пожаров и много погорелых ходят к нам за помощью. Тихая какая ночь, и луна светит в открытое окно. Я люблю это ночное одиночество с моими мыслями и в душевном общении с умершими и отсутствующими любимыми существами. 27 июня. Грозовая несносная атмосфера; все мы от жары и наэлектризованного воздуха совсем расслабли. У Л. Н. опять ноет под ложечкой. Боже мой! Помоги мне не роптать и нести свои обязанности до конца достойно и терпеливо. Делала ему сегодня ванну, сама всё приготовила, положила градусник, потом чай приготовила в зале, и он очень ободрился. Хотелось мне очень ехать к Сереже, на денек; завтра его рождение, но не решаюсь оставить мужа. Пыталась сфотографировать внука, но не удалось, он заснул, потом гроза помешала. Учила инвенции Баха, но всего один час удалось играть. Больные бабы, дела, работа; написала по просьбе Л. Н. одно письмо крестьянину. Маруся Маклакова уехала с Илюшей. Купались в белом густом тумане вечером с Сашей и Марусей. Вестерлунд говорил, что я очень избаловала мужа. Сегодня меня поразило в записной книге Л. Н., что он пишет о женщинах. «Если женщина не христианка – она страшный зверь». Вывод из того, что я всю свою личную жизнь отдала ему в жертву, подавила в себе все желания – хотя бы к сыну съездить, как сегодня, и так всю жизнь. А муж мой везде видит зверство. Зверство настоящее в тех мужчинах, которые ради своего эгоизма поглощают всецело жизни жен, детей, друзей – всех, кто попадаются на пути их жизни. 28 июня. Приехал с Кавказа Миша, восхищенный своей поездкой, природой величественной Кавказа, радушием жителей, весельем, которое и ему, и Андрюше там доставляли. С ним приехал Саша Берс, возмужавший и подурневший. Миша и Лева уехали к Сереже, к его рожденью. Жизнь моя идет всё так же мучительно скучно. Льва Николаевича я почти не вижу, он всё один в своем кабинете, пишет без конца письма во все стороны и ткет усердно паутину своей будущей славы, так как эти письма будут составлять огромные тома. Я на днях читала его письмо к сектанту и ужаснулась фальши тона. Дневник он пишет уже неохотно, знает, что я могу его прочесть, а письма разлетаются по всему миру, а дома копируются дочерями. Он очень осунулся, похудел и присмирел. Нашел, что доктор Вестерлунд – и мужик немецкий, и буржуазен, и туп, и отстал на 30 лет в медицине; а не видел он доброты этого доктора, его самоотверженную жизнь на пользу человечества, его желание помочь каждой бабе, каждому встречному; его заботу о жене, о дочери, его бескорыстность. 29 июня. Льву Николаевичу равномерно, потихоньку, но лучше. Сегодня он гулял, принес букет васильков. Пишет всё письма целыми днями. 1 июля. Приехала Анненкова, были сегодня в Овсянникове. Там сидели у Марьи Александровны и потом у Горбуновых. У Марьи Александровны над ее постелью висит большой портрет Льва Николаевича. Я ее люблю за ее пылкую природу. Анненкова спокойная и добрая по природе. Сегодня не купалась, играла полчаса, написала шесть писем, из которых одно Сергею Ивановичу с запросом, куда ему послать книгу, и английский перевод «Что такое искусство?», о котором Л. Н. меня просил. Лев Николаевич сегодня первый день совсем хорошо себя чувствует, спал хорошо и что-то усердно писал. Своей жизнью я очень недовольна: проходят дни в болтовне (в сущности для меня скучной), в мелких делах раздачи лекарств, денег, забот о еде, хозяйстве, дел по книгам и имениям – без мысли, без чтения, без искусства, без настоящего дела, которое могло бы иметь благотворные последствия… Приехали к Мише Лев Бобринский и Бутенев, в коляске, тройкой: один как будто много выпил, другой курил толстые сигары, и Льву Николаевичу это было и жалко и смешно. Приехал несимпатичный еврей Левенфельд, написавший и продолжающий писать вторую часть биографии Льва Николаевича. Видеть очень хотела бы сына Сережу; Таня на время от нас ушла сердцем, но и она вернется. Мои двое старших детей – мои любимые. Они друзья моей всей почти замужней жизни и моей молодости. 2 июля. Читали драму Тани: очень умно, но безжизненно, ни в кого не веришь и никого в этой драме не любишь[122]. Вечером разговоры с Левенфельдом. Он мне рассказывал об «Этическом обществе» в Берлине. Полный атеизм, забота о материальном благосостоянии людей. Забота эта хороша бы была, если б получила широкое, всемирное распространение, но почему при этом им помешала вера в Бога? Без мысли о Боге я бы утратила всякую способность что-либо понять и что-либо любить. Мне нужна эта идея Бога и вечности. 4 июля. Третьего дня просидела до трех часов ночи и писала с удовольствием свою повесть «Песня без слов». Вчера часа три играла на фортепьяно, сегодня тоже. Вспомнила сегодня о романсах Танеева, потому что Саша по дороге в купальню их всё напевала, я взяла их разбирать. Лев Николаевич ходил сегодня на завод с Дунаевым за шесть верст и обратно. Как живо он восстановил свои силы и здоровье! Непростительно тоскую и везде слышу запах трупа, и это мучительно. Только музыка меня спасает от тоски и от запаха этого. 5 июля. Прекрасная прогулка с Л. Н., Дунаевым, Анненковой и тремя барышнями чужими по Горелой Поляне, Засекой, под мост на шоссе, опять Засекой, Козловкой и домой. Ясный, красивый вечер. Всё больна Таня, и всё сердце болит, пойдешь, сидишь с ней и думаешь: «Неужели скоро мы расстанемся навсегда?» 6 июля. Дождь, холод; Таня всё лежит от болей в животе. Прошлась по саду, нарвала для Тани чудесный букет. Поиграла часа два с половиной, но плохо. Весь день поправляла корректуры. Много мне беготни и мелких, скучных дел: документы надо посылать в управу; жалованье людям, грибы, малину покупать; больных лечить; нищим подавать; обед и ужин заказывать; с Дорой и внуком посидеть; работы девушкам раздать; переписать бы следовало эти дни Льву Николаевичу, а тут пропасть корректур. За Таней походить, а она упрямится лекарство принимать. 12 июля. Уехала из дому по гостям. Первое – заехала к дочери Маше и измучилась душой, глядя на нее. Сгорбленная, слабая, худая, как скелет, нервная, с всегда готовыми слезами. Жизнь крайне бедная, еда отвратительная. 13 июля. Рано утром приехала в Селище, к Масловым. Федор Иванович меня встретил на станции, вся семья была вставши и встречала меня, и Сергей Иванович тоже. Прелестные места, брянские леса, ключи, речка Навля, всё это широко, красиво, особенно сосновые с дубом леса. Ходила всюду с Анной Ивановной. Вечером читали «О голоде», прекрасную статью Льва Николаевича, всем очень понравившуюся. Сергей Иванович исполнил мою мечту, сыграл мне любимый полонез Шопена, да еще два раза. Два же раза он сыграл Шуберта «Morgenstandchen» и что-то Генделя. Какое было наслаждение его слушать! Сам он у Масловых мне не понравился: какая-то и внешняя, и внутренняя распущенность в привычной с детства обстановке людей, уже состарившихся, и природы приглядевшейся. На другой день, 14-го, ездили все в лес, фотографировали меня в дупле одной из вековых лип, вечером занимались с Анной Ивановной фотографией и рано разошлись. 15 июля. С утра рано все встали, Анна Ивановна проводила меня в карете до станции Навля, и вечером поздно меня встретила в Киеве сестра Таня. Ночевали с ней в городе, утром на извозчике приехали в Китаев. 16 июля. Ласковый прием у Кузминских; хорошенькая, благоустроенная дачка, милые мальчики, радушный хозяин Саша и любимая, горячо, глубоко любимая сестра Таня. При виде Митеньки сердце больно перевернулось: это был друг, ровесник и первый товарищ детства покойного Ванечки. И Митя уже большой, десятилетний мальчик, а Ванечки нет! Ходила гулять в Китаевский лес: вековые сосны, дубы старые, горы, монастыри… Ходили с Сашей, Верой, Митей и Володька мальчик. Купались в пруду монастырском, пили чай, лазили по горам. Хорошо быть в гостях, всё ново, забот никаких… 17, 18, 19, 20 июля. Жила все дни у Кузминских. Был пикник с дачниками; ходили все в народный театр в Китаеве. Купались в Днепре. 20-го были с сестрой Таней в самом Киеве, смотрели Владимирский собор. Лучшая там картина «Воскрешение Лазаря» Сведомского. Картины Васнецова – особенно крещение Владимира и крещение народа – ниже всякой критики. Вообще отсутствие изящества форм поражает всюду. Например, ноги Евы в раю, когда ее соблазняет змий, – это что-то ужасное. Прелестно место, где стоит памятник Владимиру, и вид на Днепр вниз очень хорош. Вообще памятники древние, например, Богдану Хмельницкому в Киеве же, насколько лучше новых, каков, например, безобразный памятник Пирогову на Девичьем поле. Еще ходила в пещеры. Я на этот раз решилась и вдруг заробела, когда мы прошли несколько этого безвоздушного, темного, подземельного пространства, откуда не было уже возможности поворота и которое освещалось только теми свечами, которые были в наших руках. И пришло мне в голову, что дьявол мне заграждает путь, а монах, водивший нас, в то же время мне сказал: «Чего вы, матушка, заробели, тут жили люди, а вы пройти боитесь. Вот церковь, молитесь». И я стала машинально креститься и стала твердить слова молитвы, и действительно страх вдруг совсем прошел, и я уже шла с интересом. Поразительны круглые окошечки в замуравленные пещерные комнатки, куда добровольно замуравливали себя святые люди, которым пищу подавали в эти окошечки раз в день и которые и умерли в этих затворах – живых могилах. Семья сестры моей, Кузминской, произвела на меня самое отрадное впечатление. Позавидовала я одному, что отец так заботится о сыновьях и вместе с тем так с ними дружен. Вот уж исполняют поговорку: служба службой, дружба дружбой. Кроме того, обоюдная заботливость у супругов тоже очень трогательна. Из Киева я уговорила сестру Таню ехать со мной в Ясную, и это была мне огромная радость. 22, 23, 24, 25 июля. Утром рано 22-го приехали с Таней в Тулу: дождь шел, свежо, лошади не высланы. Взяли извозчика, приехали – и тут начались неприятности: целый ряд неприятностей от Л. Н., что я заехала к Масловым и видела там Сергея Ивановича. А между тем, уезжая, я спросила его: если ему неприятно, то я не заеду. Я, прощаясь, нагнулась к нему, сонному, поцеловала его и просто, откровенно сделала ему этот вопрос. А он не просто, зло и не откровенно в первый еще раз сказал: «Отчего же, разумеется, заезжай», а второй раз сказал: «Это твое дело». У преддверья пещер в Киеве, на стене, написана огромная картина, изображающая сорок мытарств, через которые перешла душа умершей святой Феодоры. Изображены вперемежку группа двух ангелов с душой Феодоры в виде девочки в белом одеянии с группой дьяволов во всех возможных безобразных позах. И дьяволы эти – изображают сорок грехов, подписанных по-славянски под этими группами чертей. Так вот Л. Н. все эти сорок грехов, наверно, приписал мне в эти три-четыре дня, которые он меня бранил. Наверху этой картины изображена уже одна душа, то есть одна девочка в белом одеянии, упавшая ниц на ступенях возвышения, на котором изображен Христос, сидящий с апостолами. Далее врата рая – и, наконец, самый рай в виде сада. Целая поэма, очень интересная, воображаю, для народа особенно. Потом стало у нас тише. Я старалась не отравить сестре ее пребывания в Ясной. Мы с ней много разговаривали, и она меня осуждала за мое пристрастие и к Сергею Ивановичу, и к музыке, и за то, что огорчаю мужа. Трудно мне покорить свою душу требованиям мужа, но надо стараться. 28 июля. Свезла в Ясенки сестру Таню. Она уехала в Киев, кажется довольной своим пребыванием в Ясной. Мы, если можно, стали еще дружней. Я осиротела – а прильнуть не к кому. Ходила одна по лесу, купалась и плакала. К ночи опять начались разговоры о ревности и опять крик, брань, упреки. Нервы не вынесли, какой-то держащий в мозгу равновесие клапан соскочил, и я потеряла самообладание. Со мной сделался страшный нервный припадок, я вся тряслась, рыдала, заговаривалась, пугалась. Не помню хорошенько, что со мной было, но кончилось какой-то окоченелостью. 29, 30 июля. Пролежала полтора суток в постели, без еды, без света, в темной комнате, без мысли, без чувства, без любви и ненависти, испытала могильную тишину, безжизненность и мрачность. Ко мне заходили все, но я никого не любила, ни о чем не жалела, ничего не желала, кроме смерти. Сейчас толкнула стол, и на пол упал портрет Льва Николаевича. Так-то я этим дневником свергаю его с пьедестала, который он всю жизнь старательно себе воздвигал. 31 июля. Лев Николаевич уехал верхом за 35 верст в Пирогово к брату Сергею Николаевичу. 1, 2 августа. Чувствую радость одиночества и комфорта жизни с каким-то небывалым еще ощущением. 3 августа. Вчера и третьего дня усиленно переписывала повесть Л. Н. «Отец Сергий», высокого стиля художественное произведение, еще не оконченное, но хорошо задуманное. Тут есть мысль из «Жития святых», как один святой искал Бога и нашел его в самоотверженном труде и работе, в самой заурядной, но смиренной женщине. Так и здесь, отец Сергий, гордый, прошедший все перипетии жизни монах, нашел Бога в Пашеньке, уже старой женщине, знакомой еще в детстве и ведущей трудовую для семьи жизнь на старости лет. Есть и фальшь в этой повести: это конец – в Сибири. Надеюсь, что так не останется. Очень уж всё хорошо задумано и построено. Писала вчера с половины второго до пяти часов утра, ночь всю пропереписывала, стало светло, и голова кружилась, но я всё кончила, и Л. Н., приехав, может работать над этой повестью. Он хочет сразу написать и напечатать три повести: «Хаджи-Мурат», «Воскресение» и «Отец Сергий», и всё это как можно дороже продать в России и за границей, и весь сбор денежный отдать на переселение духоборов. Это обидно для нас, для его семьи, лучше бы Илюше-сыну и Маше помог; они очень бедствуют. Кстати, два духобора сюда приехали, и я их должна скрывать в павильоне, и мне это крайне неприятно. Ветер, сухо, ясно и красиво. Сидела у Доры, вникала в маленького Льва, внука. 5 августа. Вчера переписывала статью Л. Н. Всё то же отрицание всего на свете, и под предлогом христианских чувств – полный социализм. Сегодня с утра была в Туле: столько было дела в чертежной, у нотариуса, искала учителя Мише, покупки, дела в банке и управе. Я так устала, что шаталась. Мечтала дома отдохнуть, и вдруг толпы гостей: Сергеенко, две барышни Дитерихс, сестра Лиза с дочерью и гувернанткой, Звегинцева с дочерью Волхонской и князем Черкасским, мальчики – ужинали неожиданно все, и я заробела. Еще приехал Гольденвейзер и играл вечером Шопена, и поднялись во мне опять все музыкальные чувства, то прекрасное настроение и возбуждение, которым я жила эти два года. Шум, крик, безумие молодого веселья. Очень устала. А Л. Н. весел, тоже возбужден и радуется и гостям, и балалайке Миши Кузминского, и болтовне княгини Волхонской, и всему, что составляет развлечение жизни. 11 августа. Третий день больна: и все члены ломит, и голова болит, и желудок, и грудь заложило. Не сплю совсем и не ем ничего. Вчера среди дня встала с постели, мне совестно было валяться больной без дела, и через силу почти переписала всю статью Льву Николаевичу. Он же работает над «Воскресением» – ненавистной мне повестью. Может быть, он ее исправит. Тут Горбунов, Гольденвейзер, приехал Орлов-Давыдов, которого Л. Н. ждал; я сидела на балконе, хотела воздухом подышать, но страшно слаба; а Л. Н. вдруг уходит спать и мне оставляет на полтора часа гостя. Я сказала, что пойду лягу, а графа пусть Л. Н. проводит к молодежи. и действительно, у меня сил нет болтать с гостями, которых я вижу в первый раз и которые приезжают не ко мне, а к писателю Льву Толстому. Неприятное известие о том, что цензура арестовала последний, только что напечатанный мною том дорогого издания. Без хлопот не обойдется. Написала в Петербург Соловьеву, главному цензору. 19 августа. Пролежала в постели больная до вчерашнего дня, и то едва встала. Был сильный жар, боли в животе. Всё это время смутно пролетало в памяти. Очень все ласково за мной ходили, постоянно были со мной, предупреждали все мои желания, жалели меня. Был день, когда я думала, что умираю, но была этому рада. Но вот встала и опять в водовороте жизни с ее требованиями, заботами, горем и трудностью разрешения неразрешимых вопросов. Читаю интересную книгу [Метерлинка] «Пробуждение души». Прочла еще книгу Анатоля Франса «La fille de Clementine». Я не скучала болезнью, хорошо было сосредоточенное одиночество, много мыслей и отсутствие забот материальных. Чудесная, ясная погода, лунные ночи, пропасть цветов; вообще хорошо бы, если б не люди и их злоба, пороки, соблазны, ревность, лень и т. д. До умиления радовалась сегодня красоте природы и погоды и жалела, что слаба и не могу ни купаться, ни гулять, ни радоваться активно. Приехал Меньшиков. Миша увлечен фотографией, чему я очень рада. Андрюша писал отказ выдуманной кавказской невесте и очень этим озабочен. Таня у Олсуфьевых и в Москве. Л. Н. ездил верхом в Засеку и хотел узнать о мясоедовских погорелых, но его не пропустили через полотно железной дороги по случаю проезда государя, бывшего в Москве на открытии памятника Александру II. Играла с Сашей в четыре руки симфонию Гайдна, очень плохо она разбирает. Поправляла статью немецкую Левенфельда о его вторичной поездке в Ясную Поляну икопировала Мишины фотографии. Болит под ложкой. 21 августа. Стараюсь после болезни войти в жизнь, но ничто не интересует. Готовимся к 28-му, не знаю, сколько будет гостей, и это хуже всего. Поиграла сегодня немного на фортепьяно, и знакомое, столь любимое мною успокоение нерв и души так хорошо вспоминалось, и вспомнилось всё то, что дала мне музыка эти года. Красота лета, лунных ночей, цветов – всё это грустно действует своим неудержимо быстрым течением и несомненным ходом к осени, холоду и зиме. Гулять еще не в силах, купаться нельзя. Маленький внук Лев захворал свинкой, был Руднев. Андрюша гриппом болен, Миша увлечен фотографией. Меньшиков прожил несколько дней, но разговоров мало от него было интересных на этот раз. Сегодня он Маше говорил, что не одобряет того, что Л. Н. начал усиленно выпрашивать у богачей деньги для помощи духоборам. А я вообще никогда не могла понять, как можно жить, писать и говорить всегда так противоречиво, как это делает Л. Н. Третьего дня ему лошадь наступила на ногу. Как он испугался вечером боли, как охал, не спал, растирал, клал компрессы, смотрел температуру – видно, очень испугался, а вышло ровно ничего, он уже опять бодро бегает и ездит верхом. 22 августа. Мое рождение, мне 54 года. Таня, Маша и Саша сделали мне подарки: Таня и Саша свои работы, что приятно, а Маша купила столик, что неприятно, я знаю, что у ней денег нет, и мне жаль, что она их тратит на ненужные мне вещи. Но, может быть, чувства ее была хорошие. Она плоха всё: то голова, то под ложечкой болит, то еще что… Прислушивается к своему телу, просто неврастения. Тут Зося и Маня Стахович, милые, живые девушки. Приехала утром Вера Кузминская, потом к вечеру моя золовка, Мария Николаевна. Обедали у нас Дора и Лева, и рождение вышло довольно торжественно. Когда все ушли гулять к Фере в Судаково, я пошла подстричь молодые плодовые деревья, потом часа два поиграла, одна, в мастерской. Л. Н. вечером был очень оживлен и блестящ, рассказывая всем, как бы задавая всякому темы для повестей. Тепло, ясно. Миша нас фотографировал, и меня с большим букетом. 24 августа. Ветер, дождь, холод, все дома, много было разговоров. Всех интересует объявленное русским царем желание всемирного разоружения и мира. Л. Н. даже получил из Америки от «Word» запрос о его мнении и отвечал, что это пока слова, а прежде надо уничтожить подати, воинскую повинность и многое другое. А я думаю, что надо воспитать несколько поколений с отвращением к войне, чтоб она исчезла. Приезжал мюнхенский профессор, румяный, коренастый немец. Приехал от духоборов Сулержицкий и едет в Англию за сведениями, а те, то есть духоборы, 7000 человек, ждут в Батуме на берегу моря решения. И от кого же? От Черткова – куда им ехать. Всё это легкомысленно, страшно и нехорошо. Л.Н. много беседовал с немцем. Он пишет свое «Воскресение», и ему переписывает очень кстати явившийся Александр Петрович. Я очень озабочена приближающимся днем рожденья Льва Николаевича, боюсь множества народа и хлопот. Волнует меня и мой переезд в Москву: мне жаль нарушить жизнь тихую в Ясной и страшно за танеевские истории. 26, 27 августа. В Туле с золовкой Марьей Николаевной весь день. Покупки провизии, сенников, посуды и т. д. для приезда. Приехали опять духоборы; всё чего-то ждут извне, каких-то милостей царя по их прошению, а вместе с тем помощи от Льва Николаевича. Выходит всё это очень странно и бессмысленно, ибо помощь одного исключает помощь, участие другого. Как прошел день 28 августа 1898 года. Льву Николаевичу минуло 70 лет. С утра, еще в постели, я поздравила его, и он имел вид именинника. Собралась вся семья с женами и детьми, отсутствовала только жена Сережи Маня с сыном, да меньшие мальчики Ильи – Андрюша и Илюша. Приехали и гости: Потапенко, Сергеенко, князь Волхонский, Михаил Стахович, Миташа Оболенский, князь Ухтомский, Муромцева с Гольденвейзером и проч., и проч. Обедали около сорока человек; Преображенский начал было пить белым вином за здоровье Льва Николаевича и говорил неловкую речь, которую все замолчали умышленно. Пить за Л. Н. нельзя, он проповедует общество трезвости. Потом кто-то предложил тост за меня. И вдруг веселое, единодушное, даже ласковое и шумное питье за мое здоровье привело меня в такое волнение, что даже сердце забилось. Обед был веселый и сохранил вполне семейный характер, чего мы и желали. Утром Л. Н. писал «Воскресение» и был очень доволен своей работой того дня. «Знаешь, – сказал он мне, когда я к нему вошла, – ведь он на ней не женится, и я сегодня всё кончил, то есть решил, что и так хорошо!» Я ему сказала: «Разумеется, не женится. Я тебе это давно говорила; если б он женился, это была бы фальшь». Получено было около ста телеграмм от самых разнообразных лиц. Вечером взошло солнце, и мы все, с детьми, внуками и гостями, пошли гулять. Потом Муромцева много пела, но была неприятно возбуждена. Гольденвейзер играл очень плохо. К ужину еще подъехали гости, но продолжало быть семейно, просто и благодушно. Очень умен, прост и приятен был князь Ухтомский. Говорил, что статья «О голоде» Льва Николаевича очень понравилась молодому государю, но когда Ухтомский спросил, можно ли ее напечатать в «Петербургских ведомостях», то государь сказал: «Нет, лучше не печатать, а то нам с тобой достанется». Странно, что декларация государя о мире связана в понятиях иностранцев с именем Льва Николаевича, и находят влияние его мыслей на государя. А вместе с тем это несправедливо, вряд ли государь думал или читал что-либо Льва Николаевича о войне; просто совпадение. День 28-го кончили опять с пением хора и поодиночке. Устали все очень, и хлопот о ночлеге и еде было немало… 29 августа. Все перепились и перессорились. Погода дождливая: здесь еще сыновья, внуки, Ухтомский и еще кое-кто. Миша поехал в Москву на переэкзаменовку. 30 августа. Получила утром умное и милое письмо от Сергея Ивановича, показала его Льву Николаевичу, который нашел то же. Сергей Иванович писал, что можно не быть последователем Л. Н., но, прочтя его сочинения, приходишь в тревожное состояние, и мысли Л. Н. постепенно, незаметно входят в человека и уже остаются в нем. Через час после письма приехал и сам Сергей Иванович. Гости почти все уехали накануне, сыновья и Соня тоже. Вечером, поспав немного, Сергей Иванович сыграл партию в шахматы с Л. Н., а потом сел играть на фортепьяно. И играл же он в этот вечер! Лучше, содержательнее, умнее, серьезнее, полнее – играть невозможно. И Л. Н., и Машенька (не говорю про себя) пришли тоже в восторг. Играл Сергей Иванович Шумана «Davidsbündler» (кажется), сонату Бетховена ор. 30, потом Шопена мазурку, потом баркаролу и «Pres d’un Ruisseau» Рубинштейна, арию Аренского. Лев Николаевич говорил, что такое исполнение есть высшее, последнее слово в музыке; лучше играть нельзя, как играл Сергей Иванович. Я на другой день, 31-го, заболела и слегла в жару. Сергей Иванович утром уехал, я посмотрела термометр, у меня 38 и 4. Как трогательно испугался Лев Николаевич моей болезни! Милый, дорогой мой старик! Кто может больше любить меня, кому я так нужна, как ему! Я до слез была тронута и, лежа в постели, молила Бога продлить его, дорогую мне, жизнь. Проболев весь день, я не могла ехать, как думала, в Москву к Мише и по делам. 1 сентября. Мне лучше. Чудесный, теплый день; богатство садовых цветов, ярких, душистых… Опять я жизнерадостна сегодня, опять люблю людей, природу, солнце. Умиляюсь душой перед той нежной любовью, которую мне выказали, радуюсь своему выздоровлению. Взяла фотографический аппарат и бегала всюду, снимая и природу, и внуков, и Л. Н. с сестрой, и лес, и купальную дорогу – и всю милую яснополянскую природу… Вечером живо уложилась, набрала поручений, взяла Сашины букеты и поехала в Москву. Л. Н. и Саша проводили меня в катках на Козловку. Я нервна до слез и устала. Простилась трогательно с Левочкой и уехала с няней. Ночью в наше купе случайно зашел Сережа. Он вернулся в Ясную переговорить с отцом и едет в Англию по делам духоборов, так как по переписке дело их переселения не двигается, и мы не знаем, насколько Чертков серьезно и умело ведет дело; да и денег мало. Кстати о деньгах. Левочка тихонько от меня вел переговоры с Марксом (издателем «Нивы») о своей повести. Маркс предложил по нотариальному условию, чтоб исключительно иметь право на повесть, 1600 рублей за лист. Когда я это услыхала, то сказала, что Льву Николаевичу нельзя этого делать, раз он напечатал, что отказывается от всяких прав. Но на этот раз продается в пользу духоборов, и потому Л. Н. думает, что это хорошо, а я говорила, что дурно. И вот теперь, вдруг, в день моего отъезда, Л. Н. согласился и Маркс дает без условий ограничения прав 500 рублей за лист, на что Л. Н., кажется, и согласится. 2 сентября. Приехала с няней утром в Москву. Дома темно, мрачно, дождь шел, уныние на душе… Разобралась, наняла извозчика, поехала по покупкам. Тряслась, тряслась… ох! Но вечером осветили дом, везде цветы у меня, всё чисто убрала, пианино взяла. Пришел Миша – переэкзаменовка кончилась успешно, он ходит в седьмой класс, но о чем-то умалчивает. Вечером стало веселей. Пришел Саша Берс, Данилевский, дядя Костя, Юша Померанцев, Сергей Иванович – стало совсем весело. Поразил меня Сергей Иванович одной вещью. Говорит мне, что когда я была летом у Масловых, то его глубоко обидела, посмеявшись, что у него обувь на велосипеде некрасивая, в белых чулках, сказала, что он шута из себя изображает. 3 сентября. Опять покупки, дела… Был Сережа, уехал в Англию… Всё дождь перепадает. Никого не было. И Миша, и я – мы ездили в баню. 4 сентября. Весь день провела в халате, со счетами, с артельщиком, проверяя продажу книг и вписывая всё по разным счетным книгам; даже не гуляла. Но пришел дядя Костя обедать и помешал кончить, что очень досадно, так как я от этого не уеду завтра, вероятно, в Ясную, еще выехать надо будет кое-куда. Вечером пришли скучнейшие, чуждые совсем супруги Накашидзе, было досадно, потому что пришел Сергей Иванович, и, благодаря этим чужим да крикливому Дунаеву, нам с Сергеем Ивановичем не пришлось даже поговорить, мы перекинулись только несколькими фразами, нам одним понятными, и, кроме того, он указал мне в арии Баха, которую я теперь разучиваю, затрудняющие меня трудности. Эту арию очень любит Л. Н., и я хотела бы ее выучить, чтоб ему ее получше сыграть. Раскинула сегодня карты, гадая на себя. И мне вышла смерть трефового короля. Я ужаснулась, и мне вдруг так захотелось к Левочке, опять быть с ним, не терять ни минуты жизни с ним, дать ему побольше счастья; а между тем, когда ушел Сергей Иванович, мне стало грустно, что я долго его не увижу. И вот, измученной внутренним разладом, мне захотелось немедленно бежать куда-нибудь, чтоб лишить себя жизни. Я долго стояла в своей комнате со страшной борьбой… Если б кто мог в такие минуты заглянуть и понять, что делается в душе человека… Но постепенно страдание перешло в молитву, я долго молилась, вызывая в себе лучшие мысли – и стало легче. Из дому нет писем, и мне грустно. 5 сентября. Была у тетеньки; у Веры Мещериновой умирает пятилетний ребенок от дизентерии. Вера Северцева шьет приданое и выходит замуж за Истомина (тип Молчалина). Опять дела весь день и покупки. Миша уехал к Грузинским. Вечером пришла Маруся Маклакова, умная, живая. Мы вместе весело делали запись продажи книг, спешили безумно, потом я поехала на поезд и – опоздала. Ночью вернулась, холод, ветер, насилу дозвонилась и легла. 6 сентября. Утром кое-что исправила во вчерашних ошибках расчета с артельщиком и уехала скорым. Дома хорошо, ласково, спокойно душой, привычно – и я счастлива быть дома. Заставляю себя постоянно молиться, надеюсь в слабостях моих на помощь божью. Приехало много Оболенских: Лиза и ее трое детей. 7 сентября. Лев Николаевич здоров, бодр и, кажется, спокоен. Я очень его люблю, мне хорошо с ним, и я охотно не поехала бы совсем в Москву. Там тревожно, и нет сил на эту тревогу. 11 сентября. Вот уже сколько дней прошло, и очень было хорошо эти дни: семейно, весело, хотя бездельно. Стахович оживляет всех: все девочки от него в восторге. Сестра Мария Николаевна очень приятна, дружественна, участлива и весела. Я очень ее люблю. Третьего дня вечером они вдвоем с Л. Н. вспоминали детство, и так весело. Машенька рассказывала, как раз они ехали все в Пирогово, а Левочка – тогда мальчик лет 15 – бежал, чтоб всех удивить, пять верст за каретой; лошади бежали рысью, и Левочка не отставал. Когда остановили карету, он так дышал, что Машенька расплакалась. В другой раз он хотел удивить барышень: в Казанской губернии в селе Паново, именье дяди Юшкова, бросился одетый в пруд, но, не доплыв до берега, попробовал дно, дна не оказалось, он стал тонуть, бабы убирали сено и граблями его спасли. А то его заперли на Плющихе, в Щербачевом доме, в наказанье. Ему было двенадцать лет, и он выпрыгнул в окно со второго этажа. Прислуга внизу увидала, его подняли, положили в постель, и он сутки проспал. Да, удивить, удивить всех… и всю жизнь так было. И удивил весь мир так, как никто! Уехали Оболенские; у Л. Н. грипп, по ночам лихорадит. Была Марья Александровна и священник тюремный из Тулы. Ветер, сыро. Стахович всякий день возит конфеты, груши, персики, сливы. Это неприятно, но молодежи вкусно. Эти дни занималась фотографией, и слишком упорно. Живу жизнью семьи, а на дне сердца что-то гложет: сожаление о чем-то, желание музыки, безумное, болезненное. 12 сентября. В доме совершенный разгром. Лакей влюбился в портниху Сашу и женится на ней; Верочка, шестнадцатилетний младенец, выходит замуж 18-го числа за приказчика. Повар уходит, кухарку свезли в больницу, Илья и няня в Москве. Никогда так не было. А гости без перерыва всё приезжают и гостят. Сегодня приехали еще Маслов и Дунаев. Л.Н. читал вечером повесть, над которой он теперь работает, – «Воскресение». Я раньше ее слышала, он говорил, что переделал ее, но всё то же. Он читал нам ее три года тому назад, в лето после смерти Ванечки. И тогда, как теперь, меня поразила красота побочных эпизодов, деталей и фальшь самого романа, отношения Нехлюдова к сидящей в остроге проститутке, отношения автора к ней; какая-то сентиментальная игра в натянутые, неестественные чувства, которых не бывает. 13 сентября. Дождь весь день и гости. Приезжал англичанин, mr. Right, кажется, и Иванова, глупая старая дева, верящая в спиритизм. Эти гости – страшная повинность и тяжесть, налагаемая на семью, особенно на меня. Интересно мне было только одно, что они были в Англии у Черткова и у всей этой сосланной колонии русских и нашли, что жизнь их страшно тяжелая, что с ними оставаться долго невозможно, так тяжела нравственная атмосфера их отношений между собой и их жизни вообще. Л. Н. это от меня тщательно скрывал, но я это всегда чувствовала… Уехал Маслов; гуляли по дождю, который безнадежно льет и льет. Пошла было поиграть, но страшный стук в окно меня испугал: это Лев Николаевич пришел меня звать слушать чтение конца его повести. Мне жаль было оставлять игру, жаль было расстаться с арией Баха, которую я изучала и в красоту которой вникала, но я пошла. Странное влияние музыки, даже когда я сама играю: вдруг начинает мне всё уясняться, находит на меня тишина счастливая, делается спокойное, ясное отношение ко всем тревогам жизни. Совсем не то впечатление производит на меня чтение повести Л. Н. Меня всё тревожит, всё дергает, со всем приводит в разлад… Я мучаюсь и тем, что Л. Н., семидесятилетний старик, с особенным вкусом, смакуя, как гастроном вкусную еду, описывает сцены прелюбодеяния горничной с офицером. Я знаю, он сам подробно мне о том рассказывал, что в этой сцене описывает свою связь с горничной своей сестры в Пирогове. Я видела потом эту Гашу, теперь уже почти семидесятилетнюю старуху, он сам мне ее указал, к моему глубокому отчаянию и отвращению. Мучаюсь я и тем, что герой, Нехлюдов, описан как переходящий от падения к подъему нравственному, и вижу в нем самого Льва Николаевича, который, собственно, сам про себя это думает, но который все эти подъемы очень хорошо описывал в книгах, но никогда не проводил в жизни. И описывая и рассказывая людям эти свои прекрасные чувства, он сам над собой расчувствовался, а жил по-старому, любя и сладкую пищу, и велосипед, и верховую лошадь, и плотскую любовь… Вообще в повести этой – как я и прежде думала – гениальные описания и подробности и крайне фальшивое, кисло-фальшивое положение героя и героини. Повесть привела меня в тяжелое настроение. Я вдруг решила, что уеду в Москву, что любить и это дело моего мужа я не могу; что между нами всё меньше и меньше общего… Он заметил мое настроение и начал мне упрекать, что я ничего не люблю того, что он любит, чем он занят. Я ему на это ответила, что я люблю его искусство, что повесть его «Отец Сергий» меня привела в восторг, что я интересовалась и «Хаджи-Муратом», высоко ценила «Хозяина и работника», плакала всякий раз над «Детством», но что «Воскресение» мне противно. – Да вот и дело мое духоборов ты не любишь… – упрекнул он. – Я не могу найти в своем сердце сожаление к людям, которые, отказываясь от воинской повинности, этим заставляют на их место идти в солдаты обедневших мужиков да еще требуют миллиона денег для перевоза их из России… Делу помощи голодающим в 1891 и 1892 году да и теперь я сочувствовала, помогала, работала сама и давала деньги. И теперь, если кому помогать деньгами, то только своим смиренным, умирающим с голоду мужикам, а не гордым революционерам – духоборам. «Мне очень грустно, что мы во всем не вместе», – говорил Л. Н. А мне-то! Я исстрадалась от этого разъединения. Но вся жизнь Льва Николаевича – для чуждых мне людей и целей, а вся моя жизнь – для семьи. Не могу я вместить в свою голову и сердце, что эту повесть, после того как Л. Н. отказался от авторских прав, напечатав об этом в газете, теперь почему-то надо за огромную цену продать в «Ниву» Марксу и отдать эти деньги не внукам, у которых белого хлеба нет, и не бедствующим детям, а совершенно чуждым духоборам, которых я никак не могу полюбить больше своих детей. Но зато всему миру будет известно участие Толстого в помощи духоборам, и газеты, и история будут об этом писать. А внуки и дети черного хлеба поедят! 15 сентября. Вчера мне стало так грустно, что у нас с Л. Н. нехорошие отношения были накануне, и так он на этот раз кротко перенес мои суждения о повести и мои упреки о продаже ее, что я по какому-то внутреннему, сердечному толчку пошла к нему вниз, в кабинет, и выразила ему сожаление о резких словах моих и желание быть вместе, быть дружными. И мы оба расплакались, и оба почувствовали, что, несмотря ни на какие внешние разъединения, внутренне мы были все эти тридцать шесть лет связаны любовью, а это дороже всего. Сегодня укладывалась, собираюсь завтра в Москву; очень волнуюсь о Мише. Пробегала сегодня часа три по лесу, собирала мелкие рыжички в еловой посадке, рвала цветы, умилялась красотой природы, неба, солнца. Погода прояснилась. 17 сентября, Москва. Вчера вечером приехала в Москву. Сегодня ездила утром купить провизии, потом по визитам, а вечером собрались мальчики, Мишины товарищи, а ко мне Наташа Ден, мисс Белый, Гольденвейзер, Дунаев с женой, Маклаковы, дядя Костя и Сергей Иванович. Юша Померанцев мне говорил, что он играл сегодня часа три, чтоб мне вечером играть. Маруся его просила, он долго отказывался, но потом сыграл «Davidsbündler» Шумана. Но мальчики рядом играли в карты, их крик раздражал Сергея Ивановича, и он это выразил с досадой. «Я пряду к вам как-нибудь и поиграю вам одной, – сказал он мне. – Мне это приятней». Я поблагодарила его и теперь жду этого счастья. 18 сентября. Весь день покупки, исполнение поручений, вечером была Елена Павловна Раевская. 19 сентября. Сидела в трех банках, платила за Илью, выручила деньги, которые положила пять лет тому назад на имя Ванечки. Милый, ему не нужны теперь ни деньги и ничего земного! Когда-то я перейду в это блаженное состояние! Письмо от Машеньки: она пишет, что Левочка был грустен в день моих именин. Это потому, что он знал, что Сергей Иванович будет играть, и опять ревновал меня. А что же может быть невиннее, чище этого эстетического наслаждения – слышать такую удивительную музыку. Сама играла сегодня до трех часов ночи. Миша уехал в Ясную Поляну. Разговор три часа подряд с Сергеенко. Раскаиваюсь в лишних словах. 20 сентября. Была с утра в Петровско-Разумовском у Мани и восхищалась сыном Сережи – тоже Сережей. Что за симпатичный, милый ребенок: деликатный, веселый, умный. Я для него чужая, а он обошелся со мною так, точно давно знал и любил меня, а ему только год. Лаская мать, он сейчас же так же ручками ласкал меня, чтоб не обидеть. Давая яблоко няне в рот, он сейчас же пихал это яблоко и мне в рот. Совсем как Ванечка, который, разнося конфеты, никогда не обносил лакеев и вообще прислугу, а всех угощал подряд. И всех ровно ласкал и любил. Вернувшись, узнала, что приходил Сергей Иванович, и мне было жаль, что я его не видала. Вечером заходил Гольденвейзер. Играла три часа. 22 сентября. Приезжали Илья и Андрюша приготовить меня к приему Ольги Дитерихс, которой Андрюша сделал предложение. Взяла сегодня гувернантку Саше, пожилую даму, мать трех дочерей. Возилась с практическими делами, часа три поиграла. Сделала ошибку: сама завезла книги Сергею Ивановичу. Очень раскаиваюсь, но эти дни я опять ошалела: не сплю до четырех часов ночи, запах трупа, тоска одиночества душевного, суета жизни, искание за что-нибудь уцепиться, как спасение от этой тоски. Писала письмо Тане – и плакала. Разговаривала с Андрюшей – и плакала. Говорила с Мишей об упадке его духа, поощряла его – и опять мне было тяжело. И захотелось откуда-нибудь участия, совета, мнения. Я передала книги в руки Сергею Ивановичу, сообщила ему о свадьбе Андрюши и по этому поводу услыхала от него столько спокойной мудрости, что сразу стало легче. С Андрюшей проболтали до трех часов ночи. 23 сентября. Свадебный день, тридцать шесть лет я замужем за Львом Николаевичем, и мы сегодня врознь. Грустно, что вообще мы не настолько вместе, как бы я того желала. И сколько с моей стороны было попыток этого душевного единения! Связь между нами прочная, но не на том основана, на чем бы я хотела. Я не жалуюсь, хорошо и то, что он так заботлив обо мне, так ревниво меня охраняет, так боится потерять меня. И напрасно. Кого бы и как бы я ни любила, никого на свете я не могла бы даже сравнить с моим мужем. Слишком большое место он всю мою жизнь занимал в моем сердце. 27 сентября. Живу в Москве. Пришли дядя Костя, Маруся, Дьяков, Мещерский и Сергей Иванович. Мы с ним прошлись по саду, и я его спрашивала во многом совета. Дорогой друг он! Серьезно, обдуманно относился он к моим вопросам и сомнениям, говорил, что советует делать, утешал меня. После завтрака он играл сонату Бетховена, Andante из концерта Чайковского. Играл безумно хорошо, особенно последнее. И его посещение с советами, участием и музыкой дало мне надолго силу жить, бодрость духа и спокойствие души. Вечером я была на свадьбе Веры Северцевой и испытала дурное чувство тщеславия. Все меня ставили и сажали на первое место, все хвалили мой наряд и мою моложавую наружность. Венчали Веру в церкви дома губернатора: были и великий князь Сергей, и великая княгиня Елизавета Федоровна. Вера была проста, серьезна и трогательна. Ей хочется всем внушить, что она будет счастлива за Истоминым. 28 сентября. Ясная Поляна. Вернулась в Ясную Поляну, домой. Как было мрачно ехать темнотой, по таявшему снегу, по тяжелой дороге, свернув с шоссе к церкви. Я ехала из Ясенок. На душе тяготила забота об оставленном в плохом настроении и упадке духа Мише. Но зато как весело было войти в освещенный веселый яснополянский дом, полный любимыми и любящими людьми. Первое – пошла в кабинет Левочки, и мы бросились друг к другу, как во времена молодости, и несколько раз поцеловались, и глаза Л. Н. светились такой радостью и любовью, как давно не было. Потом Варю Нагорнову я рада была видеть, и Машенька еще не уезжала в монастырь, и Миша Стахович был опять. Он привез из Орла обратно Льва Николаевича, который ездил туда посмотреть тюрьму для своей повести. Вечером сидели за работами, чтением и беседой. Было семейно, весело, дружно. 3 октября. Вчера вечером с отцом и сыном – двумя Львами – играла симфонии Бетховена и Шуберта. Снимала фотографию маленького внука Льва. От Миши письмо, хандрит, кутит, просится в Ясную опомниться – я позволяю приехать, но поможет ли это? Таня с Верой Кузминской уехала в Москву дать ответ Сухотину. Думаю о ней непрерывно, страдаю и боюсь. Какой-то будет этот ответ? Л. Н. погружен в работу, всё отделывает «Воскресение» и послал переводить за границу несколько глав. Сегодня он всё беседовал со странником, высланным за стачки, сидевшим в остроге четыре месяца. Л. Н. так впился в его рассказы. 5 октября. Были известия о Тане. Она отказала будто бы Сухотину, но оба плакали; и няня пишет и Миша говорит, что она и теперь тоскует и плачет. Приехал Миша: затосковал, закутил в Москве, приехал в семью, в деревню опомниться. Были интересные французы: т-г и т-те de Gersy. Социалисты крайние, поджигатели стачек в Париже, люди не религиозные, но очень пылкие, дружные друг с другом; настоящие французы по живости, темпераменту, способности жить всецело для своей цели и вне себя. Приезжали еще из редакции «Нива» торговаться с Л. Н. за его повесть «Воскресение». Л. Н. просит 1000 рублей за печатный лист и без ограждения прав собственности издателя. Но до сих пор редакция «Нивы» еще на это не согласна. Л. Н. вошел в прежнюю колею: опять пишет художественное произведение и опять хочет за него больше денег. Сегодня и чужие французы прослезились и дали рубль. 6 октября. С утра разговор с Мишей о его беспорядочной жизни за последнее время, его раскаяние и желание сделаться лучше и вести более порядочную жизнь. Трогательно то, что он искал спасения в семье, в деревне, то есть на природе – и как будто нашел его. Приехал художник Пастернак; его вызвал Л. Н. для иллюстраций к «Воскресению», которые хочет сделать для французской «Illustration», кажется. Живой, умный и образованный человек этот Пастернак. Опять приезжал управляющий «Нивы». Писали и переписывали условия, торговались – и ничем не кончили. Льву Николаевичу хотелось взять 20 тысяч рублей. Но двадцати печатных листов не выйдет, другое же еще ничего не готово, так и отложили писать условие еще на неделю. Когда шли эти переговоры внизу, я сидела наверху и переписывала это самое «Воскресение»; мне хотелось облегчить Маше труд переписки, ей Л. Н. дает слишком много работы. И вот Л. Н. несколько раз всходил наверх и начинал разговор о своей продаже. Я всё молчала. Наконец высказала опять свое мнение. Когда я была еще девочкой, Л. Н., проиграв на китайском бильярде 1000 рублей, пришел и рассказал нам об этом, прибавив, что запродал Каткову «Казаков» и получил эти деньги. И я горько расплакалась. И всегда, когда шли денежные переговоры за сочинения Л. Н., когда я уже была замужем, меня глубоко огорчала эта торговля души человеческой, близкой мне и создавшей гениальные произведения, ценящиеся на рубли и копейки. И теперь осталось то же. Продажа книг не так тяжела. Тут большая публика, охотно покупающая любимого автора или не покупающая. А в журналах – эксплуататор-редактор весь свой интерес видит в наибольшем приобретении денег посредством любимого писателя. Весь день метель. Насыпало много снегу. Вечером читал нам Л. Н. рассказ Чехова «О любви». Очень талантливо, тонко описан самый обыденный случай любви постороннего человека к молодой замужней женщине, человека, ставшего другом всего дома: мужа, детей, прислуги. А между тем любовь между ними растет без слов, без связи и высказывается при разлуке тем, что они бросаются друг другу в объятия, плачут, целуются и – расстаются. Сколько такой молчаливой страсти, трагически-мучительных чувств любви проходят между честными людьми, не высказываясь никогда. А эти чувства самые сильные! 17 октября. С воскресенья вечера, то есть с 11-го, мы с Сашей в Москве. Она серьезно и хорошо принялась за учение, ведет себя хорошо. Дай бог, чтоб так продолжалось. За Мишей следить очень тяжело. Постоянное напряжение и страх, что он сделает что-нибудь дурное. Я чувствую, что он считается с моим беспокойством о нем, чувствую ответственность, неумение, и все это утомительно для души. Живу в постоянных занятиях: то овес продаю по образцу, то дом убираю, то книжные дела, работа. Переписываю дневники Льва Николаевича, и это большое терзание для души. Два дня живу музыкой. Опять охватило меня это пьянство, и оно меня чарует. Вчера утром – репетиция. Вечером Маклаковы и дядя Костя увлекли меня в духовный концерт. Прелестна была музыка к молитве «Верую во единого Бога». Сегодня опять утром репетиция, ездила с дядей Костей. Антракт из оперы «Орестея» Танеева безумно хорош. Из дому внешние известия хорошие; о внутренней же жизни Левочки-мужа и Тани очень тревожусь и интересуюсь. Муж меня удаляется потому, что продал в «Ниву» за 12 тысяч рублей в пользу духоборов свою повесть «Воскресение». Я эту торговлю не одобряю, и он это знает, а сам не одобряет моей музыки. Грустно! Всё стало врознь. Кто виноват? 20 октября. Приехал Сережа-сын, хочет покупать имение. Я очень ему рада и люблю его. Играл Грига прелестно. Получила хорошее письмо от Л. Н., хотела ему писать, но голова болит, как-то застыла от напряжения всех нерв. Миша стал лучше; говорили с ним о внутренней борьбе и совершенствовании, я ему упрекала, что он не стремится к этому, а он сказал: «Почем ты знаешь?» – и слезы были в голосе. Он еще не безнадежен. Вчера Сергеенко, сегодня опять он с дочкой. Звал меня гулять, звал в театр… Похоже, чтоб я с ним пошла! И скучно, и несимпатичен он. Напала на меня настоящая осенняя тоска. Работаю страшно над собой, но чувствую, что скоро так или иначе погибну. Что-то назрело в сердце мучительное и безвыходное… Была у меня на днях княгиня Цертелева, рожденная Лавровская, певица. Она потеряла единственного двадцатидвухлетнего сына, и мы много говорили о безысходности горя. Сколько горя на свете! Я утешала ее, как могла, а у самой в душе тоже все дверки заперты – бейся о стены, пока разобьешься. Тепло, серо, сыро. 22 октября. Когда что-нибудь созреет, то и отваливается. Созрела тоска – и вчера отвалилась. Написала письмо Льву Николаевичу нехорошее; сегодня получила от Левы, он пишет, что у папа голова болит и он очень утомлен заботами о духоборах и писанием повести. И к чему эти духоборы! Как неестественно. Сегодня на фотографии вгляделась в Л. Н., в его худые, старческие руки, которые я так часто целовала и которые меня столько раз ласкали, и так стало по нем грустно, захотелось от него именно старческой ласки, а не любовной. Вчера пришли дядя Костя, Маруся, Сергей Иванович. Прекрасно провели вечер: читали стихи Тютчева; восхищаясь им, Сергей Иванович был нежен, вдохновлен и предложил сочинить романс на какое-нибудь стихотворение. Выбрали всё неудачно, наконец наугад Маруся открыла стихи «О, не тревожь меня укорой справедливой…», и Сергей Иванович сейчас же сочинил, написал и сыграл романс на эти слова. Талантливый человек. Рассказ Померанцева о том, что на Арбатской площади солдат не отдал чести пьяному офицеру, а офицер шашкой зарубил тут же солдата до смерти. Какое безобразие и зверство! 23 октября. Вечером три часа играла, четыре часа переписывала дневник Льва Николаевича. Копию в Ясную, оригинал в Румянцевский музей. Разговор о Л. Н. Сережа говорит: «Отдайте права издания сочинений папа». Я говорю: «Зачем? Награждать богатых издателей? Это ложь». 26 октября. Утром приехала в Ясную, через Козловку. Дождь, слякоть, всё серо; озябла, промокла. Дома все спят. Вошла к Л. Н. Комната темная; он вскочил, начал меня целовать. По утрам писал усердно свою повесть «Воскресение»; говорит, что последние дни не мог работать, всё думал обо мне и утро моего приезда видел меня во сне. Изредка приходил ко мне, улыбался и целовал меня. Таня и Вера очень милы и веселы. Таня деятельна, смешлива и шаловлива, как по-старому – привлекательно и радостно. Обманывали они [экономку] Дунечку тем, что спрятали всё из кладовой в шкап, а она, приехав из Тулы, думала, что всё украли, хотела идти к гадалке. Помучив ее, открыли с хохотом шкап и показали и варенье, и хлеб, и всё прочее. А то селедку принесли из Левиного дома и опять с хохотом стали ее есть. Вообще настроение в Ясной хорошее, и мне было весело, и хорошо, и беззаботно. 27 октября. Л. Н. ездил навестить Марью Александровну Шмидт в Овсянникове, я гуляла с Дорой по купальной дороге, потом одна, в саду. Сделала кое-какие распоряжения. Мороз, ветер; не веселая и не тихая погода. Обедали у Левы. Вечером читали вульгарную повесть Сергеенки «Дэзи», и когда нас коробило от разных невозможных по тону мест, то мы страшно хохотали. Л. Н. играл с Левой в шахматы и тоже смеялся. Ночь плохо спали, холодно; у Л. Н. насморк. Мы дружны, просты друг с другом. Я много расспрашивала о «Воскресении» и одобрила перемены конца и других мест. Фальши всё меньше. Переписываю дневники Л. Н. и не люблю его, какой он был. Разврат без раскаяния; нелюбовь к людям; тщеславие. 28 октября. Нежно и дружно простились сегодня утром с Л. Н., Таней, Верой, Левой. Морозно, ветрено. Кучер Андриан дорогой в Ясенки рассказывал ужасную историю об убийстве четырех людей на Косой (Рудаковой) Горе. Всё испортилось от близости от нас этого завода Бельгийской компании. Ехала скучно, читала Максимова о ссыльных каторжных, их переезде, жизни и проч. Мрачное впечатление! 30 октября, Москва. Суета: Сережа приехал с Цуриковым, Сулержицкий приехал от духоборов с Кавказа, интересно рассказывал; Андрюша уехал в Петербург. Миша страшно ленив, апатичен и учиться, очевидно, не хочет. Сережа его сегодня хорошо, по-отечески, уговаривал заниматься и опомниться. Вечером пришла Маруся Маклакова. Чувствую пустоту жизни, а весь день занята чем-то неотложным. Читала «О влиянии музыки на человека и животное». 31 октября. Утром немного играла, потом ездила, вечером была с Сашей в квартетном концерте. Трио Чайковского – прелесть, но играл какой-то Кваст плохо. Получила от Маши и Льва Николаевича ласковые письма. Разговаривала очень хорошо с Цуриковым об отношениях супругов, когда их убеждения не во всем одинаковы; пришли к тому, что и так можно хорошо прожить жизнь вместе. Сережа и Цуриков уехали. Сережа собирается с Сулержицким на Кавказ помочь духоборам подняться ехать в Канаду. Видела мельком Сергея Ивановича неожиданно в концерте. Мы едва поздоровались, и он даже не совсем учтиво продолжал свой разговор с каким-то стариком. 6 ноября. Всё время два интереса: болезненная, напряженная забота о Мише и устройство вечера в честь Толстого. Л. Н. прислал отрывок из прекрасно задуманной повести «История матери». Сюжет тот, что мать восьми детей, прекрасная, нежная, заботливая, остается одинока к старости и живет при монастыре с горьким, непризнанным, драматическим сознанием, что вся жизнь убита на детей, и не только ей нет счастья от них, но и сами они несчастливы. Вечер устраивает «Общество народных развлечений» под председательством Кирпичникова, а помощница его, Погожева, была сегодня у меня. Завтра везу отрывок в цензуру; просили и еще будут просить Сергея Ивановича играть. Он мне говорил: «Если б я мог Льву Николаевичу этим доставить удовольствие, то потратил бы на это время и силы. Но для кого я буду играть и что можно сыграть, кроме “Крейцеровой сонаты”»… В воскресенье он и Лавровская приедут меня потешать музыкой вечером, и я ужасно радуюсь этому. Шью, чиню белье, крою; сшила себе юбку черную шелковую, перешила Саше кое-что, играла много, но два дня совсем не касалась. Сегодня получала деньги детей, платила зубному врачу за Андрюшины зубы, купила Саше на ротонду, купила растения, а свои пересаживала в новые горшки. Были Сафонова, Сулержицкий, поехавший в Ясную, Алексей Митрофаныч, Погожева и умная Маргарита Алексеевна Сабашникова, с ней было приятнее всего. Здоровье лучше, на душе спокойнее. 8 ноября. Начинаю еще одну, пятую, книгу дневников. Неужели я проживу столько, чтоб закончить эту толстую книгу? И при каких обстоятельствах кончу я ее? Вчера день не писала. Была в симфоническом, довольно скучном концерте, оттуда шли пешком при звездном небе втроем: Маруся, я и Сергей Иванович. Теперь время, когда сыплются с неба звездные дожди. Мы хотели с Марусей в бинокли смотреть, Сергей Иванович случайно к нам присоединился. Но звезды мерцали неподвижно, небо только точно всё колыхалось. Вернувшись домой, я долго стояла в саду и, в первый раз увидав небо в бинокль, поразилась этим величественным зрелищем бесчисленных звезд. Сегодня с утра ездила к брату и за билетами в театр. Потом приготовила всё к вечеру. Вечером пришел Сергей Иванович, приехали Лавровская, брат с женой и еще кое-кто, и я весь вечер наслаждалась музыкой. Лавровская пела романсы Сергея Ивановича – из них некоторые прелестные, особенно один: «Бьется сердце непокорное»… Столько страсти, столько силы, полноты содержания! Потом Сергей Иванович сыграл сонату Бетховена. Финал был исполнен до того своеобразно и совершенно, что лучше нельзя. Да, это огромная власть у людей – такой музыкальный дар! В начале вечера я прочла всем отрывок, присланный мне Львом Николаевичем для его вечера. Отрывок прекрасный, художественный, доставивший всем огромное наслаждение. Все сказали, что я хорошо читала, и мне это доставило удовольствие. Какое сегодня было прелестное, теплое утро! Я ехала вдоль бульваров: яркое солнце, зеленая трава, темно-голубое небо. Полная иллюзия весны! Но только иллюзия; день, два – и смерть всей природе; всё покроется снегом. Такая старческая «Последняя любовь» в стихотворениях Тютчева. Так же сильно молодо вспыхнет ярким солнцем эта последняя любовь и должна замереть перед снегом седины, беззубого рта, морщин, бессилия и т. п. Не приветствую тебя, старость! Вчера в симфоническом было крайне неприятно: когда я стала просить Сафонова отпустить Гржимали (первую скрипку), чтобы он сыграл на нашем вечере «Крейцерову сонату», он схватил мои обе руки, начал их прижимать к своей груди, говоря, что «для вас всё на свете сделаю», но Гржимали отпустил только от уроков, а я с негодованием отняла руки, отлично поняв, что Сафонов хотел перед присутствующими показать свою (несуществующую) интимность с графиней Толстой, женой знаменитого человека. Теперь буду его опасаться и избегать. Была у Погожевой; она занята народными школами, развлеченьями для народа, чтением, чайными и т. д. Хорошая, полезная женщина. 9 ноября. Я помню, как когда-то думала и говорила, что есть у человека старческий возраст, в котором стоишь между двух дорог и колеблешься: идти нравственно в гору, то есть к совершенствованию, или под гору, то есть к слабости, к попущению себя. И вот я чувствую, что иду по последнему пути, и мне и страшно, и грустно. Мне хочется развлекаться, хочется наряжаться; в душе не весело, удовлетворения нет, а всё стремишься к какому-то удовлетворению и счастью. Получила письмо от мужа, доброе, ласковое, и совестно мне чего-то стало, хотя я, слава богу, ни в чем не виновата перед ним, разве только в легкомыслии. 10 ноября. Миша пришел к обеду сердитый и неприятно придрался, что нет свежего калача. Вечером мы были с ним в театре, давали «Царь Федор Иоаннович» Алексея Константиновича Толстого. Играли хорошо, хотя был шарж на всем, перехитрили желание реализма, кричали, суетились на сцене. Был Сергей Иванович. Много пришлось говорить с ним сегодня вечером, и никогда я больше не убедилась, как сегодня, что он человек совершенно неподвижный, безжизненный, бесстрастный. Не в смысле брани, а прямо, констатируя то, что есть, про него можно сказать, что он только «жирный музыкант», как Л. Н. его часто называл в припадке ревности – и больше ничего. Внешняя доброта его – это внутреннее равнодушие ко всему миру, исключая звуки, сочинение музыки и слушание ее. 11 ноября. Пришел Миша поздно домой, а я сидела, шила и всё ждала его. Он пришел с таким трогательным и, кажется, искренним раскаянием, целовал меня, умолял не плакать, а я уж не могла остановить накипевших страданий. Сама я тоже плоха. Боюсь мании траты денег, боюсь глупости наряжания себя – и всё это теперь составляет тот мой грех, от которого не могу удержаться. 13 ноября. Вчера обедали у меня Соня Философова, Раевская, дядя Костя, Гольденвейзер. Прочли статью Хомякова о предисловии Л. Н. к сочинениям Мопассана, и там же упоминается статья «Об искусстве». Слово католицизм, вставленное ввиду цензуры вместо церковность., очевидно, сбило Хомякова, и он не понял общего характера статьи Льва Николаевича. Записываю позднее. Выехали 13-го в Ясную Поляну: Маруся, Саша, Миша и я. Очень все радовались этой поездке, всю дорогу смеялись. Приехали на Козлову Засеку с почтовым в 11 часов вечера, ехали при луне по страшной грязи, и дождь моросил, и туман белый. Но хорошо в деревне и очень хорошо в Ясной Поляне. Застали всех здоровыми, ласковыми. Маша, кажется, ничего. Доктора говорят, что могло движение ребенка вовсе не быть, а еще будет, а она себе вообразила движение или просто соврала и себе, и нам. Она очень весела и бодра, и такая беленькая, нежная и хорошенькая. Л. Н. был со мной очень нежен и страстен, на что я не могла ему ответить. 14 ноября. Говорили много с Левочкой-мужем о Мише, обо мне, о работе Л. Н. Он говорит, что со времен «Войны и мира» не был в таком художественном настроении, и очень доволен своей работой над «Воскресением». Ездил верхом в Ясенки, бодр, крепок телом и очень приятен духом, и всё это оттого, что работает над свойственным его натуре художественным трудом. 15 ноября. Весь день жила с природой. Дождь угомонился, грязь страшная, но тихо, тепло; гуляли с Верой Кузминской в еловой посадке; чудо, как хорошо в этих молодых, зеленых елочках. Вечером, то есть после обеда, ходили все гулять далеко: вышли Чепыжем, в елки опять, кругом посадки и купальной дорогой домой. Пришли темно, пили чай у Левы, любовались внуком, прелестный мальчик. Вечером читали вслух «Сахалин» Чехова. Ужасные подробности телесного наказания! Маша расплакалась, у меня всё сердце надорвалось. Кончили день опять дружно, ласково. 16 ноября. Проснулась в горьких слезах. Страшно не хотелось возвращаться в Москву, главное, расставаться с Л. Н. Мы на этот раз трогательно, до конца искренно встретились и провели эти дни так дружно, участливо друг к другу, даже любовно. Уезжать от Тани тоже было жаль, я ее очень люблю; да и Ясную Поляну, тихую, привычную, красивую Ясную Поляну жаль было оставлять. Л.Н. удивился, что я плачу, иначал меня ласкать и сам прослезился и обещал приехать сюда в Москву 1 декабря. Мне очень этого хочется, но это будет дурно – вызывать сюда его, отрывать от успешных занятий, от той помощи, которую ему оказывают дочери, переписывая ему, и Александр Петрович, так хорошо помогающий ему своей перепиской. Постараюсь не быть эгоисткой и оставить Л. Н. в Ясной. Но мне показалось, что и ему хочется – скорее нужно в город для каких-то сведений к его повести. Выехали скорым поездом, ехали с Сашей и Марусей сначала уныло, грустно, потом легче. В Москве Миша встретил, но тотчас же начал собираться куда-то. Я очень огорчилась. Еще больше огорчилась я, когда он вернулся в третьем часу ночи, и мне пришлось опять делать ему выговор и чувствовать, что всё напрасно, что все мои жертвы – жизнь в Москве, уговаривание и увещевание Миши, призыв к труду, к лучшей, более нравственной жизни – всё это напрасно, всё это он не хочет принять во внимание. Приехав, ждала его, чинила белье и грустила. 17 ноября. С утра сажала с Марусей и Иваном привезенные из Ясной Поляны березки и липы. Посадили всего около семидесяти деревцев, подстригали акации, рубили сушь, мели дорожки и расчищали место для катка. Тепло и тихо, дождя нет, солнце на минуту выглянуло, птицы щебетали. Очень хорошо и в саду, лучше, чем если б его не было. 18 ноября. Вчера ночью Миша опять не вернулся домой до трех часов; я его ждала, слушала, не спала потом всю ночь, мучаясь о нем. Утром отправилась к директору лицея, просила взять Мишу в полный пансион. «Мы сильно рискуем», – ответил он мне, подразумевая, что Миша тогда вовсе уйдет. Миша вернулся пристыженный, говорил, что я права во всем, что он забывает совместить в себе мысль о моем беспокойстве с его опаздыванием и сиденьем у товарищей. Вечером вдруг приносит мне три груши. Сергеенко выпытывает изо всех сил для биографии Л. Н., а я всё молчу. Событие дня – письмо Льва Николаевича ко мне. Привезла Вера Толстая. Умиленное, полное любви письмо. А у меня умиленье прошло, поддерживать его – больно. Вперед, вперед в жизни – и поскорее к концу. Ничего больше не даст жизнь. Листья опадают, старость – лучше уж скорее конец. 19 ноября. Утром Пастернак привез из Ясной хорошие вести и доброе письмо от Л. Н. Но ему не пишется, и он вял. Уж не мой ли приезд ему повредил? Весь день сидела дома. Часа три играла, потом написала три письма: Льву Николаевичу, Степе-брату и Андрюше. Много шила, переделывала рукава на меховой кофточке Саши. Миша пришел в хорошее настроение, получил еще 5 из греческого и 5 из Закона Божьего. Был у Барановых. Саша тоже мила. Поправила на время своих детей, и легче на душе, точно дело сделала. Немного переписывала дневник Л. Н. Вообще я в спокойном и будничном духе. 22 ноября. Если стоны души можно передать дневнику, то могу только стонать и стонать. Миша совсем погибает. Раскаяния его минутные. Третьего дня опять пропадал всю ночь до седьмого часа утра у цыган, вчера посидел дома, сегодня опять пропал. Где он, с кем он – ничего не могу дознаться. Всякий день новые товарищи, какие-то дикие, неизвестные. Делала скучные необходимые визиты. Играла, писала. Маруся с Сашей пошли к Масловым; я не пошла, хотя знала, что там Сергей Иванович. Велела им ехать, а не идти, а они пришли и привели с собой Сергея Ивановича. Я очень рассердилась на Марусю; потом Сергей Иванович играл свой квартет, ноктюрн Шопена. Он успокаивал мой гнев, был ласков, добр со всеми – добродушно весел. Но и он не успокоил моего страдающего о Мише сердца. Недаром я плакала, уезжая из Ясной Поляны. Как мне не хотелось расставаться с Л. Н., как нужна была его помощь, защита от жизни, от самой себя!.. 24 ноября. Поздравляла именинниц: Ермолову, Давыдовых, Дунаеву, посетила Наташу Ден, родившую сына и заболевшую после родов. У Ермоловой тщеславно веселилась и тем приветливым приемом, который мне все делали, и красотой цветов, нарядов, изящных форм светской жизни и общества. Разговаривала с великой княгиней Елизаветой Федоровной, этой красивой, милой и приветливой женщиной. 25 ноября. Таскалась всё утро по дождю по Москве. Тоска, безумное, бесцельное нервное шлянье по грязи без цели, но тоска – ох! – невыносимая. Вечером легла и заснула. Встала, пришла Саша: «Ты больна, мама?» Я говорю: нет. Она бросилась меня целовать. «Если б ты знала, какая ты хорошенькая, розовая после сна». Неужели я еще хорошенькая? Или это любовь ее видит красоту в любимой матери? Вечером театр: «Моцарт и Сальери» и «Орфей». Был Сергей Иванович с нами, Маруся, Саша, и Гольденвейзер, Бутенев. Еще в ложах были знакомые. Сначала было интересно и весело, но ужасное пение в «Орфее» навело опять скуку, и я насилу досидела. 27 ноября. Письма из дому: от Льва Николаевича – он все-таки собирается сюда, в Москву, 1 декабря; потом от Тани. Мое к ней пропало, так досадно! А я отговаривала в нем Л. Н. ехать в Москву. Мне ужасно думать, что он будет страдать от городской жизни: посетители, шум, уличная суета, отсутствие досуга, природы, дочерей и их помощи – всё это ему ужасно. А мои интересы воспитания детей, музыка, мои знакомые, мои выезды, хотя и редкие, в концерты и театр – всё это прекратить мне трудно, а его раздражает. Переписывать же ему его переправляемые им без конца писания я уже и по зрению, и по приливам крови к голове – не могу, как прежде, и это тоже его будет сердить и огорчать, а в Ясной пишут дочери, Александр Петрович и Коля Оболенский. Еду в Ясную отговаривать его или привезти самой, если он будет настаивать ехать. Была утром Погожева, объявила, что вечер Толстовский разрешен, но не упоминать, что он в честь Толстого, не позволят читать о Толстом, а только из его произведений, и прочие грубые и глупые оговорки. Вечером пришел Танеев. Мы пили чай: Саша, Миша и я. Как я ему обрадовалась! Больше всего люблю, когда он так придет просто, и только для меня. Сочинил сегодня для двух хоров прекрасную, содержательную вещь на слова Тютчева и пришел мне ее сыграть и напеть. Потом сыграл Andante из своей симфонии. Сидели, тихо разговаривали, прочли статью критическую музыкальную. Как всегда с ним просто, спокойно, содержательно проведешь время. 28 ноября. Узнала в квартетном концерте о смерти Насти Сафоновой, семнадцатилетней старшей дочери, ужасно это меня поразило. Играл Гольденвейзер «Трио» Рахманинова, потом чудесный квинтет Моцарта с кларнетом. Много знакомых, Сергей Иванович. Письмо открытое о приезде Льва Николаевича 1-го. Мы с Сашей обрадовались ужасно и даже прыгали и кружились вместе. 29 ноября. С утра у Сафоновых. Одна дочь лежит мертвая, другая, Саша, опасно больна. Четыре доктора ничего не понимают. Похоже на воспаление брюшины. Привезла им Флерова. Приехал из Петербурга отец, отчаяние тупое, без слез – матери. Ужасное впечатление! Саша с Марусей на выставке. Вечером играла много, девочки в зале кривлялись всячески, особенно Маруся, и были бешено веселы. Уехала в первом часу в Ясную Поляну. 30 ноября. Ясная Поляна. Таня охрипши и легкий жар. Маша всё неопределенна, но спокойна и здорова на вид. Л. Н. ездил третьего дня в Пирогово (35 верст) верхом и верхом же на другой день вернулся, и оттого устал и вял. Обещав приехать в Москву 1 декабря, он теперь как будто отвиливает от этого приезда. А я так приготовилась к радости привезти его в Москву и пожить с ним. Привезла и хлеба отрубного, и фиников, и спирт – всё для дороги; велела в Москве приготовить комнату, обед, фрукты, хотела сама ему уложить вещи, устроить ему переезд в Москву как можно незаметнее. К вечеру уже было решено, что он не едет; я плакала, и голова у меня разболелась, так что совсем слегла. Не то больно, что ему не хочется в Москву, – я это вполне понимаю и предлагала ему не ехать до Рождества, – а больно, что он пишет: «Нынче получили твое письмо к Тане (в котором я предлагаю ему не ехать в Москву). Я непременно приеду 1-го курьерским и радуюсь мысли быть с тобой». И после такого письма, когда все мои чувства давно сдержанного ожидания его приезда вдруг вылились навстречу радости его видеть и пожить с ним, тогда он опять отказывается ехать. 1 декабря. Я опять в Москве. Не спала всю ночь от тяжелого сомнения. «1-го приеду в Москву», – писал мне Л. Н. Сегодня 1-е, я еду со скорым и думаю: неужели он не уложится утром и не поедет со мной? Сердце билось, всю меня бросало в жар, и утром он встал, пошел вниз и ни слова мне не сказал. Я встала около 10 часов, узнаю, что не укладывается и не едет. Слезы меня так и душат. Одеваюсь, велю запрягать – он ни слова. Поднимается суета: Марья Александровна, Таня, Л. Н. – зачем я еду? Как зачем?! Да я так и собиралась, и лошади за нами выедут, и дети и внуки ждут в Москве. Рыданья меня душат неудержимо. Беру свои мешочки, иду пешком, велю лошадям меня догонять, боюсь всех расстроить своим видом, не хочу дать Льву Николаевичу удовлетворения в том, чего он каждый год добивается, то есть вида моего горя от его нежелания жить со мной в Москве. Но это делается невозможно: именно это-то его отношение жестокое и приводит меня в отчаяние. Вижу, с лошадьми и Лев Николаевич в полушубке. «Не езди, погоди». Возвращаемся домой. Он начинает мне мораль читать противным тоном, а меня рыданья душат. Посидели полчаса, во мне происходила адская боль и борьба с отчаянием. Таня пришла. «Я понимаю, что вам больно», – говорит она. Наконец уехала, простившись со всеми и прося меня простить. Никогда во всю жизнь я не забуду этого переезда до Ясенок. Какой был ветер ужасный! Перегнувшись пополам, я так рыдала всю дорогу, что голова треснуть точно хотела. И как они все меня пустили в таком виде! Одно меня удержало от того, что я не легла под поезд, – это то, что меня не похоронили бы возле Ванечки, а это моя idee fixe. В вагоне все пассажиры на меня узрились – так я плакала всю дорогу, потом задремала. Ничего я весь день во рту не имела. Домой приехала – унылая встреча детей и внуков, и опять я плакала. Получила телеграмму от Л. Н.: «Как доехала Соня, приеду завтра». 2 декабря. Вечером получила от Льва Николаевича письмо: он просит прощенья за свою якобы невольную жестокость, за недоразумение, за свое утомление и другие разные причины, почему он не поехал и так меня измучил. Потом он и сам приехал… У меня невралгия правого виска, у меня болит вся внутренность, я не спала всю ночь, всё во мне застыло, оцепенело как-то. Ни злобы, ни радости, ни любви, ни энергии жизни – ничего нет. Всё хочется плакать, и жаль мне даже своей свободы, своего здоровья и своих друзей, которых теперь, если и придется видать, то не так, как когда я одна и когда они мне всецело принадлежат. Один день страданий убил во мне всё! Стараюсь исполнять свой долг. Буду ухаживать за Л. Н., буду ему переписывать, буду служить его плотской любви – в другую я уж не верю, а эта – вот-вот и ей конец. И что тогда?! Терпенье, вера, добрые люди. 4 декабря. Вчера пролежала больная весь день. Не вынес организм неприятностей. Всё перевернулось внутри: желчь поднялась, желудок расстроился, висок невралгией болел, тошнота. Так день из жизни вон. Сегодня с утра ездила на похороны Саши Сафоновой. Бедная пятнадцатилетняя девочка, талантливая, горячая, умерла в страшных страданиях через три дня после умершей сестры, тоже девочки на семнадцатом году. На мать мучительно было смотреть. Осталось еще шестеро детей, но эти были старшие. Дома уныло. Л. Н. недоброжелателен, своя жизнь с детьми, занятиями, музыкой, моими друзьями – вся остановилась; при жизни же Л. Н., кроме тупой переписки и тяжелого, гнетущего весь дом настроения, ничего пока нет. 5 декабря. Всё то же уныние, даже дети – внуки не развлекают. Заболел Миша – инфлюэнца; но всё страшно после девочек Сафоновых, и в докторов совсем перестаешь верить, их было так много там. Приехал от Сережи духобор спрашивать совета у Л. Н., не ехать ли партии духоборов вместо Канады в Канзас, откуда прислан человек их звать туда. Л. Н. отсоветовал менять намерение и ехать все-таки в Канаду. Был неприятный разговор: Соне (невестке) хотелось музыку хорошую послушать. Я предложила позвать Лавровскую, Гольденвейзера, Танеева и устроить дома музыкальный вечер. Мы с Соней робко сказали Льву Николаевичу, что нам музыки хочется. Он сделал сердитое лицо, сказал: «Ну, так я уйду из дому». Я говорю: «Сохрани Бог тебя так изгонять, лучше не надо и музыки». Он говорит: «Нет, это еще хуже, точно я мешаю». Слово за слово, вышло очень тяжело, но о музыке, конечно, и думать нечего. 6 декабря. Ездили с Соней, Сашей и внуками в театр: «Майская ночь» Римского-Корсакова. Не выдержан характер музыки: то лиризм, то речитативы, то русский или, вернее, малороссийский трепак, и ничто ничем не связано, и мало красивых мелодий. То, что интересует в новой музыке, сложность гармонии, как у Танеева, – этого нет, а что восхищает — богатство мелодий, тоже нет. В общем, было скучно. Да и пустота в голове, не выздоровела еще я от душевного потрясения. 10 декабря. Отношения с Л. Н. стали лучше, но я уж не верю в их чистоту и прочность. Переписываю следующие главы «Воскресения». Глаза болят, досугу совсем нет, а я всё переписываю. Ездила в банк с Андрюшей, передала ему все его дела и деньги. Подарила шубу, 2000 рублей денег и заказала дюжину серебра для его невесты. За все мои хлопоты и подарки не только он мне спасибо не сказал, но вид имел недовольный. 12 декабря. Переписывала весь день. Вечер – квартетный концерт. Прелестно квартет Шумана. Слепота, жутко. 13 декабря. Пригласила Лавровскую петь, Танеева играть и близких друзей слушать: Раевскую, Колокольцевых, дядю Костю, брата с женой, Масловых и проч. Играл Сергей Иванович прелестно, аккомпанировал тоже. Лавровская пела много и хорошо. Было бы очень приятно, даже весело, если б не чувствовался во Льве Николаевиче злобный протест всему задуманному мною развлечению. 14 декабря. Писала, переписывая Льву Николаевичу, 7 часов, не сходя с места; отвечала на его письма. Голова закружилась. Приехал Николай Николаевич Ге. Лев Николаевич не весел и не приятен. Жалуется на боль в пояснице. Миша огорчает: все вечера и ночи пропадает по балам, день до трех спит, в лицее не был. 15 декабря. Весь день с артельщиком счеты и контроль книжной продажи. В пять – с Сашей крестили мальчика Ден с волосиками густыми. Потом посетители, баня. Вечером Л. Н. нам читал вслух Джерома перевод – плохо. Полная оттепель. 16 декабря. Опять с утра счеты с артельщиком. Привела в большой порядок все практические дела, ответила письма, все книги счетные учла. Приехала Варя Нагорнова, я ей очень рада; Ге тут, добрый, умный неудачник. Опять Л. Н. читал нам Джерома вслух и так хохотал сам, как я давно не видала его смеющимся. 19 декабря. Приехали с вечера в театре Корша, который должен был считаться вечером чествования семидесятилетия Толстого. Жалкий, неудачный вечер! Плохое пение, плохое чтение, плохая музыка и отвратительные живые картины, в которых ни правды, ни красоты, ни художества – ничего. Почему-то делали страшные овации Михайловскому; потом начали кричать Толстого, потом послать телеграмму… Всё это пошло, казенно, настоящего крика сердца толпы не чувствовалось. А сам Л. Н. уехал сегодня один в Ясную Поляну с почтовым поездом. Утром он занимался, потом в час поел овсяный суп, попил кофе и уехал, прося только Николая Ге проводить его. Он заезжал на Мясницкую по просьбе Трубецкого, чтоб мастер из Италии, бронзовщик, мог поправить по натуре кое-что в бюсте Льва Николаевича. Была утром на репетиции симфонического, а вечером прослушала опять весь концерт, кроме симфонии Бородина. Видела Сергея Ивановича, у нас с ним дружно, просто и доверчиво. Это лучшие отношения с людьми. Приехали Илюша и Андрюша. Андрюша огорченный такой. Летом на Кавказе он легкомысленно сделал княжне Гуриели предложение, а потом письменно отказался от него. Княжна эта стрелялась, теперь ее родные заступились за нее, и Андрюша боится дуэли или убийства. Всё только горе с ними! Миша уехал в Орел и оттуда к Илье и в Ясную. Княжна эта умерла[123]. 20 декабря. Узнала, что участвующие во вчерашнем так называемом Толстовском вечере и Илья-сын с ними поехали в Эрмитаж ужинать, то есть пьянствовать – и это чтят Толстого! Безобразие возмутительное! Ездила сегодня с Сашей в консерваторский концерт памяти Рубинштейна: вещей хороших исполнили мало; хороша, драматична ария из «Ифигении» Глюка. Шли славно домой пешком с Сашей, и Сергеем Ивановичем, бодро, весело, болтали, смеялись. Мягкий мокрый снежок, всё бело, луна сквозь облака… как хорошо было! Я упала, но ничего… Дома волнительные разговоры о том, что стрелялась княжна Гуриели. 23 декабря. Выехали с Сашей и Сонечкой в Ясную Поляну. Илья тоже ехал с нами. Дорогой тесно, Илюша юродствовал, шутил, всех смешил. В Ясенках Таня и Лева. Досада с уехавшим багажом; у Левы тяжелый и для него, и для окружающих его характер, и он этого не замечает. Ехали по воде; оттепель и мало снегу. Дома Маша, худая, слабая, жалкая до слез. Коля при ней тоже жалкий. Таня бодрится, но не забыла еще своей несчастной любви и оттого тоже несчастная. Л. Н. на этот раз тоже жалкий, потому что нездоров. Болит у него поясница, и лихорадит его слегка. Приехала я бодрая, счастливая тем, что спокойно проживу в Ясной Поляне, в семье, без душевных тревог, без увлечений музыкой, не одиноко – приехала с радостным чувством, что буду со Львом Николаевичем, но так все угнетены, что сразу стало грустно. 24 декабря. Ясная Поляна. Встала рано, опять растирала спину и поясницу Л. Н., дала ему пить Эмс; и опять моя близость его волновала. Погода плохая, ветер, сыро, хотя 3° мороза. Л. Н. бодрей и мог опять немного заниматься, а те дни ничего не писал, совсем ослабел и завял. Без меня ему не пишется, он легко заболевает, плохо спит и дряхлеет. Сегодня он другой человек, и я ему это сказала, и он с улыбкой согласился. Мне здесь хорошо, только все мои не бодры; боюсь, что на всех и против общей кислоты духа – одной моей бодрости не хватит. Ходила в тот дом к Доре и Леве и наслаждалась миленьким, симпатичным шестимесячным внуком Левушкой. Ходила по саду с сентиментальным, как всегда, чувством к Ясной Поляне, к воспоминаниям молодости и последних годов и с молитвенным настроением. Последнее время я слаба духом, не готова ни к какому горю, ни к какому несчастью. В душе размягченность и жалость ко всем и всякому, виноватость и неспособность к протесту, к терпению, к спокойствию и, главное, отсутствие религиозного настроения. Слишком переполнена душа чем-то другим. Таня, Лева, Саша и Соня Колокольцева ходили кататься на коньках. Весь пруд замерз без снега, и я жалею, что не взяла из Москвы свои коньки. 25 декабря. Рождество. С утра все были в праздничном настроении: готовили подарки, раскладывали привезенные из Москвы угощения. Лучший момент дня был моя прогулка по лесам, особенно хорошо в молодой елочной посадке. Три градуса мороза, тишина, и минутами выглядывало наконец пропавшее за всю осень солнце. Всё покрыто выпавшим за ночь свежим, чистым снежком, молодые елочки, зеленые и тоже слегка запушенные снегом, на горизонте черная, широкая полоса замерзшего на зиму старого леса Засеки; и всё тихо, строго, неподвижно, серьезно. Я глубоко наслаждалась; лучше всего – в природе и в искусстве. Как хорошо это знает Сергей Иванович. А в семье, на людях, столько ненужного раздражения, столько наболелого, злого… Обедали семейно, хорошо, весело. Марья Александровна приехала. К пяти часам у Доры и Левы была елка, чай, угощение. Бедная Дора устала, но ей, девятнадцатилетней, почти девочке, необходим праздник, и ей было всё удачно и весело. Маленький внук Левушка пугался и удивлялся. Славный, симпатичный ребеночек. К восьми часам стало грустно: у Л. Н. поднялась температура до 38, и это всякий вечер было раньше, но только до 37 и 7, а сегодня хуже. Все приуныли. 26 декабря. Всю ночь у Л. Н. был жар. Он так вскрикивал, стонал и возился, что я ни одного часа не могла спать. Дуняшка говорит: «Ведь они очень уж нежны, не то что вы». Действительно, трудно встретить более нетерпеливого и эгоистичного больного. А главное – упрямого. Вчера ревень не принял, сегодня принял в 11 часов. Теперь хинин от его лихорадки на полный желудок принимать нельзя, и вот опять на сутки затянется – и всё из упрямства, нежелания послушаться меня и вовремя принять слабительное. Пришел какой-то тульский мастеровой, принес удивительную картину крестьянина-иконописца. Картина аршина в полтора, карандашом, изображает сидящего в середине Льва Николаевича; налево школа, дети; за ними ангел, выше – Христос на облаках, ангелы и дальше еще мудрецы: Сократ, Конфуций, Будда и проч. Направо церковь и перед ней виселица с повешенными. На первом плане архиереи, священники, тут же дальше на заднем плане военные пешком и верхом. Типы разных народностей, читающих книги, на самом первом плане почему-то турок в чалме читает большую книгу. Л. Н. не похож лицом, но похож общим типом. Сидит, поджав ногу. Тяжелые рассказы о яснополянских мужиках: брат обокрал брата, вдова убила незаконного своего ребенка, отец просунул в тесную щель клети своего малолетнего сына и велел ему красть и подавать себе вещи; в нашей библиотеке разбили рамы, и ребята таскали книги. Всё досадно, всё больно. О, власть тьмы! Слегка морозит. Тихо, спокойно, если б не люди и их пороки. Как я стала любить тишину, тихих людей, тихие отношения с ними! Читаю чудесную книгу о буддизме под заглавием «The Soul of a people». Какие прекрасные истины и простые встречаются в буддизме! Их как будто и сам знаешь, но напоминание о них, лаконизм в выражении – всё это восхищает душу. Я только что писала, что люблю тишину, и вспомнила подчеркнутые в этой книге слова: «…the greatest good for your heart is to learn that beyond all this turmoil and fret is the great Peace»[124]. Письмо от Сережи, прекрасно описывающее отъезд духоборов из Батума, с Сулержицким. 2000 человек уехали, и Сережа теперь тоже отъехал (была телеграмма) с духоборами, все в Канаду. Страшно мне за Сережу, но хорошо его дело – красиво, достойно, интересно. Какое безумное это дело правительства – выпустить такое прекрасное население с окраины России! И прекрасный, нравственно воспитанный народ, без ругани, без преступлений. Отъезд их имел характер чего-то страшного и торжественного, как пишет Сережа. Запели гимны, пароход отчалил – и что ожидает это население, поехавшее на двадцатипятисуточный переезд в неизвестные места, без языка, без лишних денег… Удивительная стойкость. Но вера ли это, в смысле религии? Много, много гуляла; тишина и неподвижность в природе поразительные; легкий мороз, мало снегу, так что везде пройти по лесу можно, не только по полям. Прекрасно! Приезжали вечером гости: Стаховичи Зося и Павлик и Софья Николаевна Глебова. Льву Николаевичу лучше, стало всем веселее. 27 декабря. Утром гуляла, сидела с внуком Левушкой, немного переписывала дневники Л. Н. Выехали в пять в Гриневку к Илье: Таня, Саша, Соня Колокольцева и я. В Гриневке Миша худой, какой-то неспокойный и неясный. С Соней и Ильей хорошо, благодушно. Дети, кроме Анночки, спали. 28 декабря. С утра все устраивали елку, дарили подарки, три внука здоровые, белокурые малыши – весело пока на них смотреть. Ходили много гулять, снег молодой, ночью выпавший, блестел по бесконечным полям на ярком солнце; тихо, чисто, хорошо. Ушла далеко одна и думала обо всем том, что и кого люблю. На душе тоже чисто, спокойно и хорошо. Вечером гости, великолепная елка (я всё привезла из Москвы), соседи, дворовые, крестьяне. Песни, пляски, ряженые; нелепое представление «Царя Максимилиана и непокорного сына Адольфа». Саша и Анночка нарядились и под масками плясали. Саша толста, неграциозна, скучно на нее смотреть. Хорошо у Ильи то, что пускают в дом всех, веселись кто хочет. Еды нанесли пропасть – ешь целый день и пей все гости. На ночлег принесли сена в контору и полушубков на пол, и все полегли спать. Гостеприимно, беспорядочно, добродушно и широко живут, но я бы так не могла. 29 декабря. Чудесный день, густо покрыты все деревья и вся природа инеем, всё бело, небо и земля слились в одно белое царство. Много гуляла одна, дети на салазках катались с гор. У Ильи один настоящий интерес в жизни, главный, это лошади и собаки, и это очень грустно. Уехали в шесть часов, увезли Анночку. В Ясную ехать было жутко от Ясенок; я отвыкла от зимней деревенской дороги; а из Гриневки до станции немного плутали и приехали опять к дому. В Ясной хорошо. Л. Н. здоров и страстен. 30 декабря. Метель с утра. Маша бедненькая бледна, худа и тиха; такая на вид нежная, и я в душе умилялась на нее и любила ее очень, глядя на нее. Булыгин кричит о чем-то с Колечкой Ге, что надо детей увезти воспитывать в Швейцарию; они народили незаконных детей, не крестили их, обоим около сорока лет, теперь не знают, как быть с детьми. 31 декабря. Последний день года. Какой-то будет этот новый год! С утра у Маши схватки. Ждем мучительно разрешения ее мертвым ребенком или выкидыша. Десятый час вечера; тут акушерка, и ищем доктора Руднева. В доме тихо, и все в мучительном ожидании. Без пяти минут двенадцать Маша разрешилась недоношенным четырехмесячным сыном. Все повеселели, встретили Новый год всей семьей, которая налицо, благодушно, спокойно. Прощай, старый год, давший мне много горя, но и радостей немало. Привет тем, кто мне их дал.1899
1 января. Недовольна я началом года. Встали поздно; поехала с детьми: Сашей, Соней Колокольцевой и внуками Анночкой и Мишей на розвальнях в лес с фотографией. Очень было хорошо в лесу и весело с детьми. Снимались, смеялись; сломалась оглобля, сильная Саша ее привязывала. Вернулись к обеду. Вечером пошли к Доре и Леве чай пить, там елку опять зажгли. Дома дети и прислуга обоих домов нарядились и плясали, сначала под плясовую на рояле, потом под две гармонии. Я ушла посидеть к Маше, потом проявляла фотографии. Шила блузу Льву Николаевичу. К ужину собрались все; после играли в рублик, и Лев Николаевич, и все до одного принимали участие. Всё это весело, но душа иного просит и по другому тоскует – и это больно и жаль. Опять оттепель, два градуса тепла, вода, лужи и ветер. Был Волхонский, женатый на Звегинцевой. Маша благополучна, слава богу. Лев Николаевич плохо работает. Он всю жизнь всякое настроение объясняет физическими причинами и в себе, и во мне, и во всех. 4 января. Вечером опять гости: Черкасских трое, Волхонских двое, Болдыревы – Мэри бесконечно мила. Гармонии, пляска, хор песен неудачный… Скука! В мои года и с моими требованиями духовными всё это тяжело. Жаждешь серьезных отношений с людьми, серьезной музыки – а уж никак не гармоний, которые я всегда ненавидела. Противная старая княгиня Черкасская, старая грешница, не хотящая стариться. Разбудили с ней Машу, и у ней сделалась истерика. Ужасно досадно и жалко, я косвенно виновата, зашумела вместе с этой старой каргой. Лев Николаевич опять был в хорошем духе в смысле работы. 5 января. Днем фотографией занималась, написала длинное письмо Сереже, о котором скучаю. Он теперь должен быть в Атлантическом океане. 6 января. Уехала с Соней Колокольцевой в Москву. Дома хорошо, тихо. Ласковая няня, привычное одиночество со своим дорогим внутренним миром, воспоминания тихих, дружеских бесед по вечерам. 7 января. Весь день делала покупки, дела в Москве. В ночь уехала в Тулу. Читала вечером «Начала жизни» Меньшикова о значении детских жизней. 8 января. С утра в Туле одна, в номере «Петербургской гостиницы». Уныло, и волновалась грустно о женитьбе Андрюши [на Ольге Дитерихс]. Читала присланную Льву Николаевичу французскую брошюру об Огюсте Конте. Приехали сыновья: худенький Лева, напущенно веселый Илья, взволнованный Андрюша и совершенно дикий Миша, не получивший мундира, ищущий фрака, бестолковый, шумный и эгоистичный. Благословляли мы с Ильей тут же в номере. Андрюша – как во сне, растроганный, но не понимающий сам, почему женится и как будет потом. Ольгу не пойму еще. Свадьба всегда страшна, таинственна и трогательна. Мне хотелось всё время плакать. Обед у Кунов, проводы на вокзале, все подпившие. Лев Николаевич в полушубке приехал верхом на тульский вокзал. Публика окружила нас: Толстой и свадьба, очень любопытно для всякого. Провожали до Ясенок; ехали оттуда с Таней в пролетке. Немного мело, снегу мало, лунно. Дома у Маши головная боль, уныло. Милая Дора, худой и любимый Лева, вялый Коля, Колечка Те, смелая Маруся. Но ничего, хорошо. Приехали с нами Дитерихсы. Лев Николаевич стал любить свою знаменитость. На вокзале он смотрел на публику с удовольствием, я это заметила. Он здоров, но что-то холодно с ним. 9 января. Ясная Поляна. Весь день укладка в Ясной Поляне, уборка дома. Сидела с Левушкой во флигеле, очень люблю я этого крошку. Тепло: тает и дождь. Снег почти сошел. У Льва Николаевича болит поясница, растирала ему вечером усиленно. Всё идет та же работа над «Воскресением». Маше лучше, пробовала вставать. 10 января. Приехали скорым в Москву. Опять теснота в вагонах. Ехали: Лев Николаевич, я, Саша, Таня, Маруся Маклакова. Села к нам миленькая Мэри Болдырева. Очень дружно с Львом Николаевичем, просто, как я люблю, без страха с моей стороны, без всяких придирок и задних мыслей с его стороны. Если б всегда так было! В Москву он поехал, по-видимому, легко и даже охотно. Читала дорогой комедию Зудермана «Тихий уголок». Нездоровится всё время. Утомила меня дорога, укладка, раскладка, уборка дома, забота обо всех – да и вообще вся жизнь последнего времени была лихорадочная и утомительная. 11 января. Совсем расхворалась. Грипп, грудь всё жжет, голова болит. У Льва Николаевича всё болит поясница. Мы всё так же дружны и спокойны. 12 января. Именины Тани. С 12 часов дня всё гости, скучные, неинтересные. Шоколад, болтовня, бесконечное количество мальчиков-студентов, товарищей Миши и т. д. Здоровье всё хуже. Ждала весь день Сергея Ивановича – он не был; говорят, что он в Клину, занят с Модестом Чайковским постановкой балета «Спящая красавица». Вечером Маша Колокольцева, Лиза Оболенская и пианист Игумнов, приехавший из Тифлиса. Он играл «Тарантеллу» и «Ноктюрн» Шопена, балладу Рубинштейна, Andante из сонаты Шуберта, Мендельсона что-то, но так вяло, что я не узнала его игры. Или я так была нездорова, что не могла слушать. Льва Николаевича мало видела сегодня. Он много писал писем и занимался своим писанием. Всё жалуется на поясницу, и я опять растирала его. 13 января. Миша приехал, рассказывал, как вчера в Эрмитаже и у Яра пьяные студенты, судейские, старики и всякий народ, празднующий Татьянин день (праздник университета), плясали двести человек трепака. Как не совестно! Половину дня пролежала. 14 января. Льву Николаевичу хорошо, и он пишет с утра, пьет чай и спокоен. Явился Александр Петрович и опять переписывает ему. Я рада, а то мне было бы слишком теперь трудно. Прекрасно провели вечер. Лев Николаевич читал нам вслух два рассказа Чехова: «Душечку» и другой, забыла заглавие – о самоубийце, очерк скорей*. Пришел Игумнов (пианист) и отлично играл, всё больше Шопена: баркаролу, балладу, ноктюрн, мазурку. Лучше всего исполнена была прекрасная баркарола. Второй рассказ – «По делам службы». 15 января. Вечером пришли: Модест Чайковский, две англичанки, Накашидзе, Гольденвейзер, Померанцев, Танеев. Он долго о чем-то говорил с Львом Николаевичем, так и не знаю о чем. Потом Лев Николаевич опять прочел отлично всем «Душечку» Чехова, и все очень смеялись. С Сергеем Ивановичем не пришлось говорить, да и не то, когда много народу. Лев Николаевич относился к нему хорошо, слава богу. 16 января. Телеграмма от Сулержицкого, что он с духоборами благополучно прибыл в Канаду, страна им понравилась и их очень хорошо там приняли. Теперь Сережа наш должен прибыть туда через шесть дней. Жду его телеграммы с нетерпением, постоянно о нем думаю и даже гадаю. Была сегодня с Чайковским на репетиции балета. Премилая музыка, великолепно поставлено, но я устарела для балета, мне стало скучно, и я уехала. 17 января. У Льва Николаевича был Мясоедов и смотритель тюремного замка в Бутырках, который дал ему очень много указаний по технической части тюремного дела, заключенных, их жизни и проч. – всё это для «Воскресения». 18 января. Вчера написала число, сегодня не стоит писать дневник. Вечером гости: Болдыревы, Гольденвейзер, Накашидзе и один интересный – Борис Николаевич Чичерин. Он нам читал свою статью о напрасно обвиненных двух стариках-хлыстах в его местности. Еще к Льву Николаевичу приходил массажист в 8 часов вечера, и Л. Н. совестно как будто. Опять приходил тюремный смотритель для сведений по тюрьме, пересыльных и проч. 19 января. С утра дела: вносила за Илью деньги в банк, уплатила кое-что. Лев Николаевич бодр и разговаривает с тюремным надзирателем. Голова болит. 20 января. Всю ночь не спала. Утром радостное известие – телеграмма от Сережи из Канады, что он благополучно прибыл с духоборами на место, что умерло трое на корабле, один родился и появилась оспа, вследствие чего карантин. Была на периодической выставке картин: Трубецкого скульптурные вещи очень талантливы. Премии за декадентские картины меня возмутили. Прекрасные есть пейзажи, и два женских портрета хороши: Морозовой и Муромцевой. Еще цветы полевые прелестны. У Льва Николаевича были темные: Никифоров, Кутелева, акушерка, бывшая на голоде, какой-то Зонов, Ушаков… 21 января. Была на бельгийской выставке. Всё как-то холодно, ничего не забирает, мало чувства, мало красок, мало страсти. Я стала любить пейзажи. Люблю иностранные выставки потому, что точно съезжу в ту страну, откуда картины: видишь костюмы, дома, нравы, работы, игры – не говорю уже о видах. Сегодня меня поразил замок Валъзен на скале. Вечером был Танеев и играл. Это для меня высшее счастье теперь. Превосходно он сыграл фугу Баха, полонез Шопена; потом Rondo Бетховена, два вальса Шопена, Impromptu. Лев Николаевич ездил сегодня до обеда верхом, я очень беспокоилась, что он долго не возвращался. Вечером третий раз приходил массажист и делает ему массаж поясницы. 22 января. Сделала сегодня семь визитов, а вечером опять гости и гости. Страшно утомлена. Заходила к Сергею Ивановичу поблагодарить за вчерашнее удовольствие и узнать о его пальцах, которые он вчера сильно повредил, играя нам. Анненковы, молчаливый Ростовцев, милый Давыдов, жалкая Боратынская, студент Сухотин, Бутенев-отец; а вообще висок болит невыносимо, и потому скучно, и я вяла, и тоска страшная на душе. От Андрюши доброе письмо, и Ольга приписывает… Пока они тихо счастливы. Что-то будет дальше! С Львом Николаевичем весь день не приходится общаться. С утра он пишет, потом гуляет, вечером уходил к Мише в лицей, потом гости, как стена, нас вечно разъединяют, и это скучно. Миша скучает, не спит в лицее, и я боюсь, что он там не удержится. 23 января. Тихо, уединенно проведенный день. И всё успела: и почитать «Смерть и бессмертие в представлении греков», и поработать, и часа четыре на фортепьяно поиграть, и с Львом Николаевичем посидеть, даже переписать ему немного с корректур поправленных. Весь вечер ни души не было, прелесть как хорошо! Таня возила Сашу на вечер танцевальный, и Миша ездил – Миша Мамонов, трогательный, умный мальчик; я люблю детей, сама не доросла до взрослых, и дети благодарные, незлобивые и любопытно-участливо смотрят на мир. Соня Мамонова гостит у нас, ее прекрасный характер и воспитание очень приятны. 24 января. 10° мороза, ясно. Утром неудачные визиты, вечером толпа гостей: Нарышкины, Ермолова, княгиня Голицына, граф Соллогуб, Стахович, Олсуфьев, мальчики, Свербеева и проч. – 30 человек всего. Я лежала от невралгии, и Таня меня подняла и позвала к гостям. Как-то, как будто нечаянно, но очевидно Таня и устроила этот вечер с Соней Мамоновой. Лев Николаевич всё время присутствовал, читал дамам вслух Чехова, разговаривал оживленно со всеми. Потом Гольденвейзер играл сонату Моцарта и кое-что Шопена. Легли поздно, Миша меня позвал разговаривать о том, в силах ли он будет выдержать жизнь в лицейском пансионе. Я уверена, что он уйдет. 25 января. Весь день просидела дома, но всё посетители мешали делать что-либо. Пришли братья Олсуфьевы, читали «Воскресение», пили чай. Потом обедал Стахович. Он что-то мрачен. Таня ездила с Треповой смотреть «Чайку» Чехова. Болтала с девочками Толстыми, играла днем одна, вечером с Сашей, потом с Таней с фисгармонией. Были Чичерин и Страхов. Льву Николаевичу опять делали массаж; заехал доктор Усов его навестить. Пояснице легче, сам Л. Н. суетился очень, чтоб послать к своему «Воскресению» эпиграфы из Евангелия, и просил меня написать об этом Марксу, в редакцию «Нивы». Ветер, мороз, костры на улице. Сегодня, сидя за обедом, упрекала себя, что не умею быть вполне счастлива. Был сегодня горячий разговор. Лев Николаевич говорил, что дорого иметь принципы и совершенствоваться духовно, а поступки при этом могут быть слабые, вытекающие из страстей людских. А я говорила, что если можно при принципах грешить и падать нравственно, то на что мне их ставить вперед. Лучше без принципов иметь правильное внутреннее чувство, направляющее всегда волю в сторону того, что хорошо. Лев Николаевич отвечал, что совершенствование духовное само приведет человека к хорошей жизни. А я говорила, что пока он себя совершенствует, он двадцать раз и больше поступит дурно. Лучше сразу знать, что хорошо, что дурно, и не грешить, не дожидаясь какого-то особенного совершенствования. Только очень порочным людям нужен этот долгий путь, а кто не порочен, тому легче, проще просто не падать и не грешить. Второй час ночи. Лев Николаевич зачем-то сейчас посылал к Маклакову и велел разогреть себе поесть. Сколько он всегда суеты вносит в жизнь и сам того не замечает. 26 января. Переписывала поправленные корректуры «Воскресения» для Льва Николаевича, и мне был противен умышленный цинизм в описании православной службы. Например, как «священник протянул народу золоченое изображение креста, на котором вместо виселицы был казнен Иисус Христос». Причастие он называет окрошкой в чашке. Всё это задор, цинизм, грубое дразнение тех, кто в это верит, и мне это противно. Немного почитала, немного переписывала дневники. Гостей никого не было, такое счастье! 29 января. Те дни не помню: делали визиты с Таней, немного играла, тоска и забота обо всех отсутствующих детях. Сегодня кроила, шила, очень устала. Думала о Сереже-сыне и вспомнила, как он сочинил и играл мне свой романс «Мы встретились вновь после долгой разлуки…». Знаю я, что он свое душевное состояние выразил и выплакал в этом романсе. Он неловок, но глубок в своих чувствах, во всех своих способностях. Он не умел воспользоваться своими качествами. Мы, женщины, особенно его жена, любим иногда и с мужьями играть в роман. Сентиментально погулять, пойти куда-нибудь, просто даже быть ласкаемыми духовно. Но этого от Толстых не дождешься. Сколько раз, когда сама чувствуешь прилив душевной нежности к мужу, – если, сохрани бог, ему это выразить, то он даст такой брезгливый отпор, что и стыдно, и грустно станет за свое чувство. И сам ласкает только тогда, когда в нем проснется нежность – но не та, увы! Утром была на репетиции, нашла удовольствие в пении Лавровской Баха. Она поет хорошо, и так мне по настроению было ее серьезное, немного мрачное пение, в пустой зале; никто и ничто не нарушало моего молчаливого одиночества. Вечером Лев Николаевич пошел с Дунаевым в баню, а я пошла к Масловым и часок посидела с Варварой Ивановной и Юлией Афанасьевной. Это мои две любимицы в их семье, участливые, добрые и умные. 30 января. С утра всё шила: сначала кушак кучеру, потом себе юбку шелковую на машине. У Льва Николаевича был старик Солдатенков, привез ему денег 5000 рублей серебром для духоборов. Мне очень не нравится это выпрашивание денег у богатых людей после того, как Л. Н. написал отрицательную статью о деньгах, считая их злом и отрекаясь от них. Это всё равно что теперь, из духа противоречия, он бранит музыку, а Чайковский говорил мне, что есть письмо Льва Николаевича к Петру Ильичу Чайковскому, в котором он пишет, что признает музыку высшим искусством и дает ей в мире искусства первое место. Я часто про себя думаю: как не стыдно Льву Николаевичу всю жизнь проводить в крайних противоречиях. Всё идейно, всё с целью. Главная же цель – всё описать. И, может быть, он и прав, всякому свой путь и свое дело. Была на днях в лицее, говорила с директором. Этот прекрасный человек (Георгиевский) относится к Мише лучше отца. Миша в хорошем настроении, но из пансиона опять вышел, приходящим, но принялся учиться. 12° мороза, ясно, красиво, иней в саду на деревьях. Вечером завезла Мишу Мамонова в лицей и довольно неохотно поехала в симфонический концерт. Впечатление же и удовольствие от него было неожиданно очень большое. Это было пятисотое симфоническое собрание, играли то же, что в первом, при открытии этих симфонических концертов под управлением Николая Рубинштейна. Четвертая симфония Бетховена и кантата Баха меня всю охватили и привели в восторг. С радостью я почувствовала, что, помимо всяких соображений, всяких человеческих влияний и отношений, музыка сама по себе, девственно и чисто, доставляет мне духовное наслаждение. 31 января. С утра гости. Савва Морозов с женой приезжал; Лев Николаевич продолжает, к моему неудовольствию, выпрашивать деньги духоборам у богатых купцов. 1 февраля. Лев Николаевич жалуется на поясницу, вопреки приказанию доктора он ездил опять верхом к Русанову и повредил больной орган. Обедали Юнге, дядя Костя. Вечером пришли Дунаев, Алмазов, студент Струменский, и опять все разговоры о разоружении, о том, искренен ли был государь, говоря о мире, о марксизме, о музыке. Я не скучала, говорили интересно и без раздражения. Екатерина Федоровна Юнге – умная, талантливая, всем интересующаяся женщина. 2 февраля. Днем каталась на коньках с Сашей, Марусей и знакомыми. Как мне было легко и весело кататься! Обедали без Льва Николаевича, он теперь всегда опаздывает и обедает один. После обеда я села шить, позвала Льва Николаевича со мной посидеть, он сказал, что пойдет к себе читать. Мне почему-то стало ужасно грустно, и я заплакала. В сущности никто так не одинок, как я. С утра одна, обедаю одна, вечером одна. Поневоле будешь уходить в концерт и общаться с людьми, которые хоть поговорят серьезно и участливо со мной. Почувствовал ли Л. Н. мое огорченное сердце, не знаю, но он скоро сошел ко мне, у меня сидела Анненкова. Чудесный концерт чехов. Устраиваю трио у себя в воскресенье и приглашала нынче музыкантов. 3 февраля. Много ходила без толку, с тревогой в душе. К обеду радость – получено письмо от Сережи из Канады. У них на пароходе оказалась оспа;духоборов с Сережей ссадили на 19 дней на маленький остров, и карантин теперь. О себе мало он пишет; видно, устал, утомлен от роли переводчика, от морской болезни, заботы и проч. Вечером экстренное симфоническое; знаменитый и крайне противный пианист Падеревский. Был Сергей Иванович. Дома у Льва Николаевича был молодой Русанов, делал массаж, потом – чужой Матвеев и Бутенев. Прочла Микулич (Веселитской) «Встречу со знаменитостью», воспоминания ее о Достоевском, и очень хорошо. 4 февраля. С утра суета: заехала милая Маня Стахович, потом пришла с фотографией Маслова, снимала картинки евангельского содержания, которые нам принес Бутенев, какого-то князя Гагарина иллюстрации Евангелия, очень хорошая. Потом долго возилась с испорченным аппаратом, снимала Анну Ивановну; тепло, вода 4° тепла, мы снимали в саду, на воздухе. Пришла Маруся, переписывала Льву Николаевичу. Миша дома, говорил о тошноте, в лицей не пошел. Обедали Анненкова и Сергеенко. Поехала вечером опять чехов слушать. Прекрасно играли, но хорош был только квартет Бетховена. Встретились с Сергеем Ивановичем, где шубы снимают. Неприятный разговор о том, что вчера вечером он шел, потом ехал с Муромцевой, и рассказ об этом с каким-то глупым смехом. Меня взорвало: какое мне до этого дело! Я очень была строга и брезглива с ним, и он это понял, сконфузился и ушел. А что-то екнуло в сердце, и это досадно, досадно на себя. Дома застала Льва Николаевича стоящим у стола чайного, длинного, в зале накрытого, и вокруг приехавших из Самарской губернии молокан. Дунаев, Анненкова, Горбунов, Накашидзе, еще крестьянин какой-то – все пили чай, и Лев Николаевич что-то толковал им о Евангелии Иоанна. Не понимаю религиозных разговоров; они нарушают мое высокое, не выразимое никакими словами отношение к Богу. Как нет определенного понятия о вечности, о беспредельности, о будущей жизни – этого не расскажешь никакими словами, так нет и слов для выражения моего отношения, моих чувств к отвлеченному, неопределимому беспредельному божеству и вечной моей жизни в Боге. А церковь, обряды, образа – всё это мне не мешает; это то, среди чего я с детства привычна вращаться, когда душа моя настроена к Богу, и мне бывает хорошо и в церкви, и во время говенья, и я люблю маленький образок Иверской Божьей матери, который всегда висит над моей кроватью и которым тетенька Татьяна Александровна благословила Льва Николаевича, когда он ехал на войну. Молокане ночуют у нас, и мне неприятно. 5 февраля. Скучнейший концерт Падеревского, утром визиты, фотография Анны Ивановны Масловой. Разговор интересный с Сафоновым и Скрябиным о музыке. Мучительная тоска весь день: не могу примириться с тем разрывом, который я сама устроила с Сергеем Ивановичем. Не спала всю ночь. 7—27 февраля. Двадцать дней я не писала дневника, и, как всегда это бывает, тут-то и было много событий, впечатлений и значительных минут. 7-го утром получила из Киева от Веры Кузминской телеграмму: «Воспаление легких, мама плоха». В понедельник утром я уехала в Киев. А в воскресенье Гольденвейзер, Алмазов и Сац играли трио № 3 Бетховена, сонату Грига; молодая Вера Алмазова пела, были Веселитская, Анненкова и вообще гости, что было крайне тяжело. В Киеве застала сестру Таню с ползучим воспалением обоих легких, слабую, с воспаленным лицом, красивую, страдающую и обрадованную мне. Описывать ее болезнь, мое влияние духовное на нее, мой ужас потерять лучшего друга и мое открытие неожиданное – что такое смерть. Всего этого я не буду. Верно описать свои чувства и мысли можно только непосредственно, и это написано в моих письмах. Вернулась я в Москву 19-го. Заезжала в Ясную Поляну заглянуть в Левино симпатичное гнездышко с Дорой и Левушкой и взглянуть на Ясную Поляну, всегда мне дорогую и красивую. В Москве застала всех здоровыми. Лев Николаевич сейчас же до слез огорчил меня, сказав: «Вот хорошо, ты приехала, я теперь поеду к Олсуфьевым». Усталая и измученная киевской поездкой, я не удержалась и расплакалась: «А я-то радовалась пожить с тобой теперь спокойно!» Он испугался моим слезам и стал говорить, что ему, разумеется, тоже радостно быть со мной, что он не уедет, и пока не уехал. Таня-дочь жалка мне до боли. Всё спринцует свой нос через пробитое отверстие выдернутых зубов. Это угнетает ее дух; а и так она всё тоскует по Сухотину и не может отделаться от чувства к нему. Целый ряд несчастий не больших, но отравляющих жизнь. От Сережи интересные письма о жизни с духоборами в карантине. Еще их не пустили в Канаду. Живет у нас художник, ничтожный французик, совершенно бесполезный; пустили его жить без меня. Фамилия его Сине. Видела Сергея Ивановича у Масловых случайно. С ним опять дружно и хорошо. 10 марта. И опять давно не писала. 28 февраля я заболела инфлюэнцей, слегла в постель и пролежала восемь дней. Болезнь осложнилась воспалением верхушки левого легкого. Что было интересного – кажется, ничего. В три часа ночи раз Левочка побежал сам за доктором Усовым. У меня был очень сильный жар, и я задыхалась. Мне приятно было, что Левочка испугался и дорожит мною. Саша была неловко заботлива и нежна. Маруся Маклакова ловко, решительно и самоотверженно ходила за мной и ночевала две ночи. Лев Николаевич ежедневно ездит на Мясницкую в мастерскую Трубецкого, который одновременно лепит его и верхом на чужой лошади, и маленькую статуэтку. Это утомительно, и я удивляюсь, что он соглашается позировать. По утрам всё пишет свое «Воскресение». Он здоров и бодр; всё так же упрямо и молча ест свой завтрак один, в два часа, и обед тоже один, около 6½ часов и даже в 7. Мы его никогда не видим, повар улавливает моменты, когда графу кушать подать, и люди никогда не знают покоя и досуга. Приходили сегодня три барышни, желающие ехать помогать лично голодающим в Самарской губернии, и Лев Николаевич им дал письмо к Пругавину. Была из Виннипега телеграмма от Сережи, просящего денег для духоборов. А Лев Николаевич пожертвованные деньги послал уже Черткову для переселения кипрских духоборов, тоже в Канаду. Мои все симпатии на стороне голодных русских и казанских татар, умирающих от цинги, голода, пухнущих и страдающих; им бы надо побольше помощи, а не духоборам, которые сами себе сделали трудной жизнь. 11 марта – 21 июня. 11 марта обморок в симфоническом концерте. Слегла до 8 апреля. И потом всё ложилась и была долго слаба. Собственно, здорова я и не была с самого приезда из Киева. 21 июня. Три почти месяца не писала дневника. Я не жила это время, я болела душой и телом. Доктора говорили про ослабление деятельности сердца; пульс иногда был в минуту 48, я угасала и чувствовала тихую радость от этого медленного ухождения из жизни. Много было любви, участия ко мне всей семьи, и друзей, и знакомых во время моей болезни. Но я не умерла: Бог велел еще жить. Для чего?.. Посмотрим. Вспоминаю, что было значительного во все эти три месяца. Да ничего особенного. Сережа благополучно вернулся из Канады, и это была радость. Было чудесных три концерта под управлением Никита – и это было огромное удовольствие. 14 мая Лев Николаевич переехал в деревню, то есть поехал с Таней в Пирогово, а 19-го – в Ясную. Я с Сашей переехала в Ясную Поляну 18 мая. 20 мая уехала в Вену бедная Таня с Марусей; в Вене ей делали операцию, она очень страдала, а я о ней вдвое. 30 мая уехали Лева с Дорой и Левушкой в Швецию. Живем в Ясной с Андрюшей и его женой Ольгой; с Сашей, мисс Вельш и Коленькой Те, который непрерывно переписывает для Льва Николаевича «Воскресение»; и Мишей с его учителем, студентом-мальчиком по фамилии Архангельский. Заезжали из Москвы Сергей Иванович и Лавровская. Сергей Иванович играл мою любимую сонату Бетховена d-moll и ноктюрн Шопена с шестью диезами – всё подобрал мое любимое – и еще кое-что; а на другой день – свой новый квартет, и интересно его растолковывал сыну моему Сереже. Только и было радости. А потом заболел Лев Николаевич желудком, очень страдал целый день 14 июня и до сих пор не справится. Холодное, дождливое лето. Лев Николаевич очень однообразно живет, работая по утрам над «Воскресением», посылая готовое Марксу в «Ниву», поправляя то корректуры, то рукопись. Он пьет Эмс, худ, тих и постарел в нынешнем году. Отношения наши очень хорошие: тихие, участливые друг к другу, без упреков, без придирок – если б всегда они были таковы! Хотя иногда мне грустна некоторая чуждость и безучастие. Вчера было мне тяжелое впечатление от следующего события: Лев Николаевич отдал одному самоучке крестьянину переплетать книги. В одной из них оказалось забытое письмо. Смотрю, на конверте синем рукою Л. Н. написано что-то, а конверт запечатан. Читаю и ужасаюсь: он пишет на конверте ко мне, что решил лишить себя жизни, потому что видит, что я его не люблю, что я люблю другого, что он этого пережить не может… Я хотела открыть конверт и прочесть письмо, он его силой вырвал у меня из рук и разорвал в мелкие куски. Оказалось, что он ревновал меня к Т… до такого безумия, что хотел убить себя. Бедный, милый! Разве я могла любить кого-нибудь больше него? И сколько я пережила этой безумной ревности в своей жизни! Сколького я лишилась из-за нее! И отношений с лучшими людьми, и путешествий, и развития, и всего, что интересно, дорого и содержательно. Третьего дня опять был обморок. Жду и приветствую тебя, смерть – не чувствую в ней никакого предела. Жду ее как смену одного момента вечности на другой; и этот другой любопытен, как сказал мне мой друг. Душа моя изболела от раздвоения. В ней столько накопилось тоски, раскаяния и желания любви и жизни другой, что выдержать долго такое напряжение трудно. «Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне». Жарко, сегодня купалась в первый раз. 26 июня. Еще одно предостережение. Вчера несколько раз меня душило, и к вечеру и ночи такой сделался припадок задушения, что с трудом выносила страдания. Главное, жутко и независимо от тебя бурные явления икоты, зевоты, давишься, хватаешь воздух – а дыханья нет и нет. Потом прошло. Причин было довольно: письмо о самоубийстве Льва Николаевича и Миша третьего дня вечером излил целый поток упреков за несонуестеие ему и непонимание его. Всё, что у меня было любви материнской, энергии, уменья – всё я употребила и ничего не сделала. Видно, я не сумела, а не не хотела. И то, что я не умела воспитать детей (вышедши замуж девочкой и запертая на 18 лет в деревне), меня часто мучает. Вчера, играя «Вариации» Бетховена, я вспомнила, как Андрюша на днях полушутя сказал: «Мама, поучи меня музыке, опять подзатыльнички будешь давать…» И мне стало невыносимо грустно. Теперь, если б у меня были дети, я не могла бы их пальцем тронуть, так я умиляюсь детьми; а молодая я преследовала цель, дети были ленивы и упрямы, с ними трудно было, а так хотелось всему и побольше их научить, а дела всякого много, время идет даром, всё это волновало, и я теряла терпенье и шлепала их, хоть слегка – мать вреда и боли большой никогда не причинит; но всё же они это только и помнят, и мне захотелось вдруг сказать: «Простите меня, мои дети, я жалею, что хлопала вас по вашим нежным детским затылочкам; теперь я не могла бы этого делать, да поздно!» Собираюсь сегодня к старшим сыновьям и к внукам. Если в дороге умру – опять приветствую тебя, смерть, я совсем готова к ней. А что-то меня заткнуло, дыханья нет совсем, и жутко физически. Лев Николаевич запнулся на месте суда в Сенате в своем «Воскресении» и очень желал бы кого-нибудь расспросить о заседаниях в Сенате, шутя всем говорит: «Найдите мне сенатора». Его точно нет: он живет один, весь в своем деле. Гуляет один, сидит один, приходит в половине обеда или ужина только поесть и опять исчезает. Видно всё время, что работает мысль; и это его стало очень утомлять. Он переработал, и я ему советовала сделать перерыв. Хотя его желудочное здоровье лучше, но он очень похудел, одряхлел и ослаб за эту болезнь. Вчера он в первый раз купался. 4 октября. Рожденье Тани, она поехала вчера в Москву, куда поехал и Сухотин, и опять она хочет решить окончательно: выйти или не выйти за него замуж. Бедная! Прожила до 35 лет, блестящая, умная, любимая всеми, талантливая, веселая – и не нашла счастья. Очень она стала жалка: худа, бледна, нервна. В Вене лечение ее не принесло, по-моему, никаких результатов. Всё опять приходится промывать через зубное отверстие в нос и лоб, и общее состояние плохо. Живут у нас уже более двух недель внуки Ильичи, и мы на них радуемся и умиляемся. Была два раза в Москве; в первый раз учитывала с Николаем Те артельщика, прокравшегося в 6000 рублях. Во второй раз хлопотала об определении Миши в Сумской полк. Была у великого князя Сергея Александровича, просила принять Мишу сверх вакансий. Он был изысканно вежлив и любезен, и, несмотря на незаконность этого зачисления, Мишу приняли. С артельщиком учет был нравственно очень тяжел. Надо было поступить и по-христиански, и по справедливости, и не подорвав хороших и вместе авторитетных отношений. И Бог помог мне в этом. Видела часто Сергея Ивановича. Наши отношения доверчивой дружбы, кажется, твердо установились. Лев Николаевич же ревновать перестал. Какие романы в наши годы?! Смешно. Думала зимовать в Ясной, если б Мишу не приняли в полк, стоящий в Москве; теперь же не решаюсь его покинуть и опять буду там. Лев Николаевич говорит, что ему всё равно, где жить. Надеюсь, что он искренен. Его жизнь всё так же однообразна: утром пишет, в два обедает, потом спит, гуляет или верхом ездит, вечером читает. Здоровье его лучше. 11 октября. Еще прошло несколько занятых, однообразных дней в Ясной Поляне. Было одно письмо от Тани: пишет, что спокойна и счастлива, сознавая, что отдает себя в хорошие руки. Значит, она решилась выйти замуж за Сухотина. Третьего дня вечером Лев Николаевич ушел гулять, не сказав мне ни куда, ни как. Я думала, что он уехал верхом, а эти дни у него кашель и насморк. Поднялась буря со снегом и дождем; рвало крыши, деревья, дрожали рамы, мрак, луна еще не взошла – его всё нет. Вышла я на крыльцо, стояла на террасе, всё ждала его с такой спазмой в горле и замиранием сердца, как в молодые годы, когда, бывало, часами в болезненной агонии беспокойства ждешь его с охоты. Наконец он вернулся, усталый, потный, с прогулки дальней. По грязи идти было тяжело, он устал, но храбрился. Я тут разразилась и слезами, и упреками, что он себя не бережет, что мог бы мне сказать, когда ушел и куда ушел. И на все мои слова горячие и любящие он с иронией говорил: «Ну, что ж, что я ушел, я не мальчик, чтоб тебе сказываться». – «Да ведь ты нездоров». – «Так мне от воздуха только лучше будет». – «Да ведь дождь, снег, буря…» – «И всегда бывает и дождь, и ветер…» Мне стало и больно и досадно. Столько любви и заботы я даю ему, и такой холод в его душе! Живу так: утром работа, письма. От 12 до 2 позирую для моего портрета, который очень грубо и плохо пишет Игумнова. После обеда гуляю или копирую фотографии; учу Сашу по-немецки через день. Потом играю, и вечером переписываем с Ольгой ежедневно для Льва Николаевича «Воскресение». Вчера играли с Ольгой в четыре руки 5-ю и 8-ю симфонии Бетховена. Что за красота, богатство звуков! Я была вполне счастлива и спокойна после музыки. Осень грязная, холодная. Собираюсь в Москву. 31 декабря. Последний день грустного года! Что-то принесет новый? 14 ноября вышла замуж наша Таня за Михаила Сергеевича Сухотина. Надо было этого ожидать. Так и чувствовалось, что она всё исчерпала и отжила свою девичью жизнь. Событие это вызвало в нас, родителях, такую сердечную боль, какой мы не испытывали со смерти Ванечки. Всё наружное спокойствие Льва Николаевича исчезло; прощаясь с Таней, когда она, сама измученная и огорченная, в простом сереньком платье и шляпе, пошла наверх, перед тем как идти в церковь, – Лев Николаевич так рыдал, как будто прощался со всем, что у него было самого дорогого в жизни. Мы с ним в церковь не пошли, но и вместе не могли быть. Проводив Таню, я пошла в ее опустевшую комнатку и так рыдала, пришла в такое отчаяние, в каком не была со смерти Ванечки. Гостей никого почти не было: свои дети, кроме Левы и Маши, его дети – два сына, и еще кое-кто. Так как не нашли спального помещения в вагонах, то нельзя было Тане и Сухотину уехать в тот же день за границу, и Таня осталась еще сутки в родительском доме, а Сухотин уехал ночевать к сестре. На другой день мы их проводили в Вену, оттуда они переехали теперь в Рим. Счастлива ли она? Не пойму я из ее и длинных писем. Они больше описательные. Лев Николаевич горевал и плакал по Тане ужасно и наконец заболел 21 ноября сильнейшими болями в желудке и печени, пульс упал на двое суток, температура была 35 и 5. Давали возбуждающие средства, вино, кофе и кофеин обманом сыпали в кофе, гофманские капли и проч. Лечил милый, симпатичный Павел Сергеич Усов, лечивший и меня прошлой весной. Описывать, как мы ходили за Львом Николаевичем, каких нравственных и физических трудов это мне стоило, – теперь всего не опишешь. Трудно было нравственно. Избалованный лестью и восхищением всего мира, он принимал мои почти непосильные труды только за должное… Теперь уже почти шесть недель прошло, и Льву Николаевичу лучше, но вряд ли он вполне оправится. Остались атония кишок, больная печень и сильный катар желудка. Лечили его: Эмс, порошок Цериа, шипучий порошок Боткина, кофеин, вино. Потом Киссинген Ракоччи. Да еще я забыла: вначале три дня он пил Карлсбад, и дали раз (с большим трудом и слезами я добилась, чтоб он выпил) горькую воду Франц-Иосиф. Во всё время болезни Льва Николаевича большим отвлечением от горя служило мне рисование. Я никогда раньше не училась и не рисовала акварелью, а тут, по просьбе сына Ильи, скопировала ему с рисунков Сверчкова двух лошадей: Холстомер в молодости и Холстомер в старости. Вышло настолько удачно, что все меня преувеличенно хвалили, а я радовалась этому. Душевно я много перестрадала. В первый раз в жизни я ясно себе представила, что могу лишиться мужа и остаться совсем одинока на свете. И это доставило мне мучительную боль сердца. Если постоянно об этом думать, можно опять самой заболеть. Живут у нас Миша с Колей и Андрюша с Ольгой, которая беременна на пятом месяце и только что похоронила отца. И с этой стороны одно горе: Андрюша грубо, деспотично и придирчиво обращается с милой, умной и кроткой Ольгой. Я не могу видеть ее страданий и ее несчастья; постоянно браню и упрекаю его, а он похож более на сумасшедшего, чем на нормального человека. У него тоже больная печень, и эта бедная женщина много еще пострадает от этой наследственно-несчастной больной печени; Лев Николаевич тоже ею страдал, а от него и я. Тяжела вообще жизнь! Где счастье? Где спокойствие? Где радость? В мире детей, куда я только что заглянула, съездив к внукам в Гриневку, где делала елку, где вникала в этот милый, серьезный мир детей, которые невольно заставляют верить в жизнь, в ее важность и значительность. Да еще в тихой, чистой природе, с которой опять пожила три дня, любуясь бесконечными белыми полями и блестящим на ярком солнце инеем, покрывшим леса и сады. Живу изо дня в день; цели нет, нет и серьезности отношения к жизни, от которой страшно устала. Пишу длинный роман, и меня это интересует. Стараюсь, если не услаждать, то не отравлять жизнь окружающих меня, вносить мир и любовь среди семьи и людей. Слепнут и болят глаза. И в этом и во всем: да будет воля Твоя! Конец 1899 года.1900
5 ноября. Почти год не писала дневника. Пересчитывать события года не буду. Самым тяжелым было ослабление зрения. Сделался в левом глазу разрыв жилки и, как говорил глазной профессор, внутреннее кровоизлияние, почти микроскопическое. У меня постоянно перед левым глазом черное кольцо, ломота в глазу и зрение отуманивается. Случилось это 27 мая, и затем запрещение чтения, писания, работы и всякого напряжения. Тяжелые полгода бездействия, бесцельного лечения, отсутствие купанья, света, умственной жизни… Играла мало, хозяйничала мучительно и много. Сажала яблони и деревья, смотрела со страданием на вечную борьбу за существование с народом, на их воровство и распущенность, на наше несправедливое, богатое существование и требование работы в дождь, холод, слякоть не только от взрослых, но и от детей за 15, иногда 10 копеек в день. Переехала с Сашей в Москву 20 октября, бодрая, готовая на всё хорошее, на общение с людьми, на радость видать любимых людей и друзей. Теперь опять упала духом. Лев Николаевич уехал из Ясной Поляны к дочери Тане в Кочеты 18 октября и вернулся от нее в Москву уже 3 ноября, конечно, больной. Дороги все замерзли после месяца дождя и слякоти, и езда сделалась невозможно тряской. Он шел пешком к станции, заблудившись, по незнакомой дороге, четыре часа подряд, потный, потом сел на тряскую долгушу и так доехал до станции. Теперь опять боли в животе, усиленное растирание его и прочее. И только и радости от его приезда. Он мрачен, мнителен, работать не мог всё время с тех пор, как мы расстались. А до нашей разлуки как он был бодр, весел, энергичен, с какой радостью писал свою драму «Труп»[125] и вообще работал. Когда я встретила его на железной дороге, он на меня пристально посмотрел, а потом сказал: «Как ты хороша, я не ожидал, что ты так хороша!» Вчера и сегодня приводил в порядок свои бумаги и книги. Приходили его друзья: Горбунов, Накашидзе, Буланже, Дунаев и проч. Затевают журнал с бездарными писаками вроде Черткова и Бирюкова, а Льва Николаевича будут тянуть за душу. Была у Миши в новом его именье, и как-то жалко мне его было, так он по-детски робко и неумело начинает жизнь. Была летом у Тани, осенью у Андрюши. Все начинают новые жизни. Сегодня с Сашей и Мишей Сухотиным были на репетиции «Ледяного дома» Корещенки. Была Варвара Ивановна Маслова, Маклаковы, Сергей Иванович и проч. С Сергеем Ивановичем что-то новое. Видимся редко, а встречаемся – как будто не расставались. На душе всю осень тоскливо, ни снегу, ни солнца, ни радости жизни – точно спишь тяжелым сном. К чему-то проснешься – к новым ли радостям, к смерти или опять тяжелое горе разбудит унылую душу? Посмотрим… Вечером готовила клистир с касторовым маслом и желтком для Льва Николаевича, пока он, разговорившись, внушая Гольденвейзеру, подобострастно слушавшему его, что в Европе высшие власти стали беззастенчиво смелы и наглы в своих распоряжениях и действиях. 6 ноября. Встала рано, поехала в Крутицкие казармы хлопотать, по просьбе и слезам матери, о солдате Камолове, чтоб его оставили в Москве. Подъехала к большому зданию, на дворе рекруты молодые, их жены, матери – толпа людей. Спрашиваю у солдата, где воинский начальник. «Вон идет», – показал мне солдат. И действительно, идут двое. Если б я две минуты опоздала, ничего бы нельзя сделать, а тут я передала просьбу, которую приняли очень любезно, и поехала хлопотать о гонораре автору за «Плоды просвещения». Эти деньги всегда шли или на голодающих, или на пожары народные. Теперь туда же пойдут. Получила 1040 рублей за несколько лет. Приехала домой усталая, села за счеты по изданиям. Помешали Елена Павловна Раевская, гимназист Окулов, просящий купить билеты на спектакль, племянник – офицер Берс, потом Варя Нагорнова, которой я очень обрадовалась, так и бросила свои дела. Вечером пришел Дунаев, Лев Николаевич сошел к нам вниз, посидел, поговорил. С Варей сыграли 2-ю симфонию Бетховена, Larghetto — прелесть! Когда я вышла в столовую, Александр Петрович, переписчик Льва Николаевича, стоит пьяный и бранится возле двери столовой. Я начала его тихо уговаривать, чтоб он шел спать, но он еще больше бранился, так что пришлось более энергично усмирять его. Это такое для меня нравственное страдание! Вообще вид пьяных пугал меня с детства, и до сих пор хочется всегда плакать, глядя на них. Лев Николаевич их выносит легко, а в молодости, я помню, он потешался, глядя на пьяные выходки спившегося старого монаха дворянина Воейкова, и заставлял его прыгать, болтать вздор, выделывать разные штучки, над которыми смеялся. И вот всё впечатление бетховенской симфонии потонуло во впечатлении пьяного Александра Петровича. 12 ноября. Утром пошла в приют [для беспризорных детей], где я попечительницей, вникала сегодня особенно в типы детей, собранных кое-где на улицах, в кабаках, детей, случайно родившихся от погибших девушек, от пьяниц, с врожденным идиотизмом, припадками, пороками, истеричных, ненормальных… И пришло мне в голову, что не так прекрасно то дело, в котором я участвую. Нужно ли было спасать и оберегать жизни, которые в будущем ничего не обещают? А по уставу приюта мы должны их держать только до двенадцати лет. Вернулась домой, невралгия замучила – то в одном месте, то в другом. Села учить 5-ю сонату Бетховена, помешал Глебов, дочь которого выходит замуж за Мишу. Потом Лавровская. Говорят, что она глупа, а я в ней вижу много хорошего, сердечного и артистического. Приехал Сережа, сидит целыми днями, углубившись в шахматные задачи. Странно! Вечером с Сашей на «Плоды просвещения» в Малый театр. Не люблю комизма, не умею смеяться – это мой недостаток. Вернувшись, застала дома Игумнова, он играл, к сожалению, без меня, и милого доктора Усова, игравшего в шахматы с Львом Николаевичем. Идет мокрый и обильный снег. Наконец! Третьего дня, 10-го, был Сергей Иванович и играл свою симфонию в четыре руки с Гольденвейзером. 9-го были с Сашей, Варей Нагорновой и Мишей Сухотиным в концерте Тоньо и Ауэра. Сегодня Лев Николаевич рассказывал, как он по случаю дурной дороги, уезжая от Тани из Кочетов, пошел пешком на станцию и заблудился, не зная дорог. Увидал мужиков и попросил его проводить, они боялись волков и не пошли, один согласился проводить до большой дороги, на которой нагнали уж его ехавшие на станцию Свербеевы и Сухотин. Но все-таки проплутал он часа четыре и вернулся в Москву совсем больной и разбитый. Кроме того, прищемил палец в вагоне и до сих пор ходит в клинику на перевязку, ноготь сошел, и писать не мог три недели. 13 ноября. Приехала Таня с мужем, была у Снегирева, который нашел ее беременность вполне благополучной. Лев Николаевич, увидав Таню, до того обрадовался, что точно не верил своим глазам и всё приговаривал: «Приехала? Вот удивительно!» Лев Николаевич, Михаил Сергеевич, Миша и Сережа уехали вечером в баню. Сидели с Таней, она стала чужда, вся ушла в материальные заботы о сухотинской семье. Она сама нынче сказала: «Я стала совершенная Марфа». Были еще молодые Маклаковы: Маша и Николай. Вечером Лев Николаевич играл в шахматы с Михаилом Сергеевичем. А Сережа даже жалок: с утра молча сидит перед шахматной доской с серьезным лицом, решает задачи, и так до ночи. У меня на душе всё тоскливо, а в теле невралгические боли. Жить трудно, и очень: тот внутренний огонь, который мог бы еще подогревать жизнь, тот ее и пожирает, потому что приходится душить прорывающееся наружу пламя. Лев Николаевич сегодня опять начал писать, первый день, что он мог работать. Пожил со мной, с моей о нем заботой и сразу и поздоровел, и умственно просветлел. 15 ноября. Нездоровится, насморк, ломота, голова болит. Сижу дома третий день. Сегодня часа три играла: этюды Мендельсона, сонату Бетховена. Были гости весь день: Писаревы, Раевский и Цингер, Нарышкины, брат с сестрой, Бутенев с дочерью, Маруся, Петровские, Дунаев, Буланже, Страхов, Горбунов… Тяжелая сутолока при больной голове; забота о еде, разговоры. Таню вижу мало, она вся в муже. Лев Николаевич не совсем здоров, живот болит и не обедал. И он, и я – мрачны. Он боится и недоволен, когда я вижу Сергея Ивановича, а я скучаю без него и без его музыки и не хочу огорчать Льва Николаевича, но не могу и не скучать. Всё это грустно и непоправимо. 20 ноября. Вчера гости: один – с острова Явы, говорит по-французски[126], другой – с Мыса Доброй Надежды, говорит по-английски. Рассказывал первый интересное: в столице Явы – электрическая конка, опера, высшие учебные заведения, а в провинции есть людоеды и настоящие идолопоклонники. Начитался этот малаец философских сочинений Льва Николаевича и приехал нарочно, чтоб его видеть и поговорить с ним. Дом весь полон: приехала невестка Соня с двумя мальчиками, Андрюшей и Мишей, живет Таня с мужем и пасынком; Юлия Ивановна Игумнова, Сережа, Миша. Вчера происходило два романа: Миша с Линой, которая вчера в первый раз провела у нас в доме весь день, милая, серьезная девушка; и Саша, влюбленная в Юшу Нарышкина. К чему это поведет – совершенно неизвестно. Я люблю, когда вокруг меня идет жизнь горячая, живая; но я уже не могу участвовать в ней, как прежде. Своя, кипучая, вечно сердечная жизнь во всех ее проявлениях и в отношениях и к семье, и к посторонним лицам сожгла всё мое сердце, и оно устало. Навестила вчера больную Марусю, потолклась дома, послушала игру Гольденвейзера с удовольствием, но легла с пустой душой, и всё еще нездоровится. Лев Николаевич тоже кашляет, и у него насморк; по вечерам увлекается шахматной игрой и целыми часами играет то с Михаилом Сергеевичем, то с Сережей, с Гольденвейзером и проч. 21 ноября. Утро, как всегда, суетливое. Была у Глебовых, Лина славная, милая. Вечером Соня уехала с внуками на «Руслана и Людмилу», я учила этюды Шопена и Мендельсона. Потом приехала Мартынова, пришли Гольденвейзер и Танеев. Играли в четыре руки «Симфонию» Моцарта. Жаль, что Сергей Иванович не играл один. Лев Николаевич был очень разговорчив и хорош с Сергеем Ивановичем, и я радовалась. Люблю их обоих. 22 ноября. Копировала фотографии, мерила платья, много ходила пешком. Зашла к Сергею Ивановичу посмотреть гимнастические приспособления. Он мне сыграл свои два вновь оконченные сочинения для хора. Сразу не разобралась в них, как всегда: один – на слова Тютчева, другой – на слова «Звезды» Хомякова. Как всегда, впечатление его interieur’a такое хорошее: сидит ученик, Жиляев, сосредоточенный, занятый корректурами нот, нянюшка спит в полутемной своей комнатке, и вышел ко мне ласковый, серьезный, спокойный Сергей Иванович. Поговорили спокойно-серьезно; всем так просто и ласково поинтересовался: и Таней, и Львом Николаевичем, которого нашел грустным и похудевшим, и нашей жизнью суетливой, тревожащей меня и расстраивавшей мои нервы. Вечером были Суворин с Оболенским, доктор Рахманов, которого Сухотины берут к себе в деревню. Говорил Суворин с Львом Николаевичем о том, как увеличилось число читающей публики и какой большой спрос на книги. Приехала поздно Соня, болтали с Таней, Жюли (Игумновой) и Соней и легли около двух часов ночи. 23 ноября. Уехала сегодня Таня с мужем обратно домой, в деревню, с намерением приехать рожать в Москве. Расстались мы с ней, во всяком случае, до конца января, и если б не апатия, то разлука с ней слишком была бы опять болезненна. Уезжают и Сережа, и Миша, и завтра Соня с внуками. И опять апатия такая, что никого не жаль, никому я особенно не рада, а вместе с тем постоянное чувство чего-то безвозвратно потерянного, беспомощное, плаксивое состояние души, пустота, бесцельность существования и отсутствие близкого друга, отсутствие любви, заботы. С трудом выпытываю и догадываюсь я, чем живет мой муж. Он не рассказывает мне больше никогда ни своих писаний, ни своих мыслей, он всё меньше и меньше участвует в моей жизни. 24 ноября. Сегодня с утра суета опять: Соня с внуками уезжала; приехал шумный мой брат Степа; Сережа меня упрекает, что я отказываюсь ехать к нотариусу именно нынче. Потом сошел Лев Николаевич усталый вниз завтракать, пришел тоже шумный Сулержицкий, приехал Буренин. Говорили о театре, о современной литературе; хотелось вслушаться, но гул голосов вокруг мешал. Потом досада с дурно сшитым платьем; визиты к именинницам Екатеринам. У родных Свербеевых и их окружающих благодушно, но пусто. Вечером была у больной Маруси, а Лев Николаевич ходил на музыкальный вечер в дом сумасшедших[127]. Мне часто его жалко: ему как будто хочется иногда и музыки, и развлечения, а блуза и принципы мешают идти в концерт, театр или еще куда. Позднее сидели дома, пили чай: Лев Николаевич, два моих брата, Сережа и я. Говорили о концерте в пользу приюта, я хотела бы сама прочесть отрывок из неизданных сочинений Льва Николаевича, но мои домашние против. 27 ноября. Опять была больна: лежала весь день 25-го, вчера до трех часов лежала, едва встала, едва ходила, ни мысли, ни желаний, тоска… Вечером князь Ширинский-Шихматов, секретарь «Нового времени» Снесерев, Дунаев, еще кто-то. Говорили о собаках-лайках, о пожаре «Мюра и Мерилиза»[128], скучно! Лев Николаевич днем ходил к Чичерину, еще не оправившемуся от ожогов после пожара, бывшего в его доме, в имении Караул. Уехал Сережа. Сегодня мне немного легче, весь день считалась с артельщиком, контролировала его продажу книг, принимала отчеты по всему. Он хотел меня обмануть на 1000 рублей, но я вовремя это усмотрела. Помогали мне Марья Васильевна и Жюли. Лев Николаевич всё читает книги, посылаемые ему со всего мира, сам ничего не пишет, жалуется на вялость. Вечером ездил с Дунаевым в баню на своей лошади; приехав, ужинал один, как всегда, с большим аппетитом; он весел, бодр духом – отчасти оттого, что так тиха и безжизненна я. Он не любит и всегда боится моего оживления. Сегодня лежу еще в постели, слышу, гудит ветер и вдруг пропел петух. И ярко возникло в воспоминанье утро Светлого Христова воскресенья в Ясной Поляне; я взглянула в окно, стоит петух красный на куче соломы и поет. Я открыла форточку, вдали благовестили, и тогда никто у нас в доме не отрицал церкви, никто не бранил и не осуждал православия, как вчера Лев Николаевич осуждал его, говоря с Ширинским-Шихматовым. Церковь – это та идея, которая хранит божество, призывая к содействию всех верующих. 30 ноября. С утра ездила покупать внукам фуфайки, башмачки, шерсть на одеяла, Доре и Вареньке платья, дешевку-посуду. Крою второй день белье и всё детское приданое Таниному будущему ребенку, и не весело, а страшно, и работа надоела. Был секретарь приюта, что-то не ладится приют. Вчера мальчика привезли – не взяли по младости. Была сегодня в квартетном: всё Бетховен. У Льва Николаевича были гости. С князем Цертелевым он играл в шахматы, потом все его друзья: Дунаев, Буланже, Горбунов, студент Русанов, художник Михайлов; Лев Николаевич им читал вслух статью крестьянина Новикова [ «Голос крестьянина»]. Он что-то слаб и говорит: «Надоело мне мое тело, пора от него избавиться». Нашлась пропадавшая собака Белка, и все радуются. 3 декабря. Ничего не было особенного. Была в пятницу, 1-го, на репетиции концерта Зилоти (дирижером), Шаляпина и Рахманинова; видела там Сергея Ивановича, какого-то странного, насмешливого и недоброго. Вчера был концерт, интересный по программе: увертюра «Ромео и Джульетта» Чайковского, его же элегия, концерт Рахманинова новый, исполненный автором на рояле, «Сон на Волге» Аренского и прелестное пение Шаляпина, хотя песен выбор плохой. Было жарко и скучно на хорах. Лев Николаевич эти два дня немного бодрей, играл в шахматы с Гольденвейзером, который потом поиграл Шопена хорошо, но безжизненно. Был Зилоти, не играл, но интересно говорили с ним о дирижерстве, о музыке вообще, о музыке Рахманинова и Танеева, которого он, как и я, высоко ценит, как композитора и ученого (музыкально). Хлопочу с приютом, но безуспешно. Была сегодня в приюте, и мне так стало жаль этих детей, в первый раз с тех пор, как я попечительницей. Хотелось бы сделать концерт, чтоб добыть денег, да трудно, опоздала, да и дело непривычное. Была у Стрекаловой, говорила с княжной Ливен о ее вчерашнем концерте, всё допрашивала. Была у бедной, потухающей к этой земной жизни Раевской, у Масловых, у Лавровской. Не играла почти, не работала, не читала. Беспокоюсь о Сереже; его выбрали гласным [Московской думы], он хотел приехать 1-го, и вот его нет. Был Миша и уехал к Илье на охоту за лосями. 4 декабря. Лев Николаевич сегодня говорит, что стал пробуждаться к работе и чувствует себя лучше. Он шутя говорил, что из него выдыхается Лузин и он умнеет. А Пузин – из дворян, барышник лошадьми, молодой неуч, живущий у Сухотиных. Лев Николаевич занимал это комнату и спал на его постели, когда гостил у Сухотиных, и потом говорил, что душа Пузина вошла в него и что он не может работать и поглупел, как Пузин. Сегодня же это прошло. А просто пожил Лев Николаевич в привычной обстановке, с моими заботами, и ему стало опять хорошо и духом и телом. Поздравляла именинниц Варвар: сидела долго у Масловых – благодушно, ласково, интеллигентно, просто. Шоколад, угощение, гости. Пришел Сергей Иванович и сразу внес оживление. Потом поехали к Сафоновой: купчихи, наряды, поп, ненатуральный тон. А она сама проста и симпатична. Потом поехали к моей милой Варечке Нагорновой. Низменная среда, она, как алмаз, светится, жара, шум, теснота и старательные разговоры со стороны родственников жены ее сына. Вечером поучила этюд Шопена, поиграла упражнения. Приехала Лина Глебова с матерью, Шаховской с разговорами о женском вопросе и малаец с англичанином. Очень озабочена концертом для приюта. 5 и 6 декабря. Лев Николаевич пишет письмо государю с просьбой дать возможность женам духоборов, выселившихся с прочими в Канаду, соединиться с мужьями, сосланными в Якутск за отказ от воинской повинности. Он опять уныл, худ, весу в нем осталось только 4 пуда 13 фунтов, а какой был мощный человек! Отдавала необходимые визиты, рассылала приглашения на заседание в моем приюте и просьбы об уплате членских взносов. Если б было веселей на душе, энергичнее хлопотала бы о концерте, а руки так и отпадают. 6-го собралась молодежь к Саше, и я им прочла отрывок повести, которую Лев Николаевич мне дал для концерта в пользу приюта. Большое было наслаждение читать, очень художественно, хотя мотивы повторялись много раз[129]. Болтала слишком с молодым Волхонским и раскаялась в этом. 7 декабря. Позвали Льва Николаевича к Глебовым слушать концерт двадцати трех балалаечников под управлением Андреева. Тут же в их оркестре жалейки, гусли, волынки. Прекрасно выходило, особенно русские песни; потом «Warum?» Шумана. Лев Николаевич изъявил желание послушать, и это было устроено для него. Милые дети Трубецкие. Вечером Маслова, Дунаев, Усов. Вышла маленькая неприятность с Львом Николаевичем. Мы собрались провести праздники у Илюши, близко от Москвы, а Лев Николаевич заявил желание ехать в Пирогово к Маше и брату. К Илье близко к Москве, я могла бы ухаживать, беречь Льва Николаевича. В Пирогове же – трущоба: Сергей Николаевич, этот деспот и гордец, страдает ужасно. Льву Николаевичу его жалко, он будет страдать, глядя на брата; кроме того, утомление дороги, плохая пища, жизнь опять врознь со мной, без моих забот – всё это меня огорчило, и я ему высказала, что он мне все праздники отравит, если уедет, что я не могу да и совсем не желаю ехать в Пирогово, которое не люблю, а хочу ехать к внукам, к Илье, Андрюше, Леве. Лев Николаевич упорно и холодно молчал. Это новая, убийственная манера. А я проплакала до четырех часов ночи, стараясь его не будить. 8 декабря. Ездила исполнять поручения детей и в баню. Кучер на Кузнецком мосту круто повернул лошадь, опрокинул сани, сам слетел с козел и меня вывалил. Самое бойкое место: конки звенят, летят экипажи, толпа собралась вокруг меня. Ушибла локоть, ногу и спину, но, кажется, ничего. Льва Николаевича это взволновало, и я была рада. Шила ему на больной палец лайковые пальцы, принесла наверх, он взял, притянул меня к себе и поцеловал с улыбкой. Как редко он теперь ласков! Но и на том спасибо. Вечером гости: Гагарина, Гаяринова, Горбунов, Семенов – крестьянин-писатель, Мартынова. Лев Николаевич затеял разговор с Софьей Михайловной о детях вообще. Она их любит и идеализирует, а Лев Николаевич говорит, что и дети, и женщины – эгоисты и людей самоотверженных встретишь только среди мужчин. Мы, женщины, говорили, что только среди женщин есть самоотверженные, и спорили дурно. 10 декабря. Заседание в приюте, лестное для меня: все члены мне говорили, что я душа их общества, что со мной весело работать, что во всех них я возбуждаю энергию своим горячим отношением к делу. А мне веселей всего было то, что когда показывали детей жене нашего благодетеля приютского – Цветкова, то самые маленькие вскакивали ко мне на руки и обнимали меня за шею и ласкали. Значит, я симпатична детям, и это мне дороже всего. Вечером концерт. Играли антракт «Орестеи» Танеева, вещь превосходная, играл оркестр Литвинова плохо. Собинов пел романс Юши Померанцева, посвященный мне. Делала весь концерт справки о том, когда свободна зала Собрания, узнавала цены, условия и прочее. Была в деловом настроении, хочу устроить благотворительный концерт в пользу своего приюта, но не знаю, удастся ли. Домой ехала с Сергеем Ивановичем опять случайно, мы встретились на лестнице, и я его умоляла играть в моем концерте, но он отказывался и был, как всегда, эгоистичен, логичен и вполне прав в своих доводах. «Я сочиняю теперь и играть не могу. Чтоб играть, надо два месяца учить вещь; детей ваших приютских мне совсем не жаль, а я должен убить два месяца времени, чтоб сыграть четверть часа». Вполне прав, а жаль, что никто не соглашается играть и петь. Дома застала Глебову с дочерью, Лазурского, Гольденвейзера. Приехали сегодня добрый Илья со своими прибауточками вечными, ребячливый Миша с граммофоном, забавившим всех: противно-гнусящее повторение звуков. Приехал и Сережа, прекрасно сыграл вещь Грига и очень весь приятен. Лев Николаевич, к ужасу моему, видимо, стал стареть и слабеть; жалуется на желудок опять, устает от прогулок и уныл иногда просто физически. Пропасть поручений от Тани, свои дела и вообще суета жизни. Завтра надо ехать в Ясную, не хочется и трудно; тоже всё болит: рука, нога, спина. 17 декабря. Вчера вечером вернулась из Ясной Поляны и страшно утомилась душой и телом. Застала внука Левушку в жару, Дору – беспокойную и тоже нездоровую; Лева при мне уехал в Петербург, где купил дом, и очень грустно было видеть беспокойство матери над день и ночь стонущим и жалующимся ребенком. Два дня уплачивала за прежние поденные работы, вписывала в книгу, проверяла счета. Потом ходила по хозяйству. Везде борьба с народом, воровство, столь справедливое со стороны бедствующего народа, а неприятно. Особенно досадно было, что грумонтские мужики срубили березы на берегу пруда, где мы так часто делали пикники, пили чай и удили рыбу. Жалко было мужика, выдергавшего яблони у риги, он просил прощенья, а уже дело без меня передано уряднику. Пробыла у Доры почти четыре дня, нянчила детей, но тяжело мне переживать свои старые впечатленья на внуках. Из Ясной поехала к Марии Александровне в Овсянниково и оттуда в Таптыково, на лошадях 20 верст, к Ольге. Морозный вечер, красный закат солнца,резко очерченная половина луны, бесконечное снежное пространство, иней, всё молчаливо, строго, холодно в природе, а к ночи свирепый мороз в 24°. Я очень озябла, было мрачно и одиноко на душе. Марья Александровна после болезни как будто тяготится своей трудовой жизнью. Молодой Абрикосов живет аскетом, непонятно зачем и для чего именно тут, в чужой деревне, без цели, без дела, работая какой-то рундук для мужика за деньги, когда у его отца кондитерские, богатое именье в Крыму и роскошь. В Таптыкове застала Ольгу одну, Андрюша на волчьей охоте. Сидит, как птичка в клетке, одна с девочкой своей. Мне жаль ее стало. Ночевала, уехала на другой день; мороз всё 24°. Вагоны холодные, лежала, думала – и всё не весело. Дома, в Хамовниках, застала Льва Николаевича, играющего с Сухотиным в шахматы, худого, нездорового на вид, и мне стало еще грустнее, и так жаль его. Сухотин уехал сегодня за границу с доктором и сыном, Таню оставил в деревне с его детьми. 23 декабря. Прошло еще несколько тяжелых, напряженных дней. Болезнь Левушки оказалась туберкулезным воспалением мозга. Теперь он умирает, и еще одно милое существо, к которому я привязалась душой, уйдет из этой жизни. и этот ребенок по своему тонкому моральному складу был не для этого мира, как и мой Ванечка. Лев Николаевич всё осаждаем людьми. Вчера приехали пятнадцать американок и два американца смотреть знаменитого Толстого. Я их не видала, не до них было. Еще приезжали молокане-сектанты, желающие переселиться в Канаду, по примеру духоборов, и обратились за советами к Льву Николаевичу. Эти толпы людей очень утомляют его, и он рад бывает, когда приедут люди своего круга, как Бутенев, или когда кто-нибудь играет с ним в шахматы, как сегодня сын Илья и Маклаков. Илья привез маленького внука Мишу, и мне это было приятно. Была Анна Ивановна и говорила мне, что Сергей Иванович во вторник, после урока, собирался ко мне, но проискал книгу так долго, что опоздал и не мог прийти. Как это похоже на него! Умирает еще Софья Алексеевна Философова, и Соня к ней уехала. Как стало жутко, как страшно всего! Смерть, горе, страданья со всех сторон!1901
6 января. Кончила старый и начала новый год в большом горе. В день Рождества, 25 декабря, получила известие о смерти Левушки, скончавшегося накануне, в 9 часов вечера. Несмотря на нездоровье, я тотчас же уложила наскоро вещи и уехала в Ясную. Проводил меня Илья. Приехала вечером, Дора бросилась в мои объятья со страшным рыданьем, Лева – худой, нервный, обвиняющий и себя, и жену, и всех за смерть сына. Виноваты, что простудили, что шубка плоха, что не усмотрели болезненность и нежное сложение Левушки. И это обвинение – самое тяжелое в их горе. Но горе ужасное! Все мои душевные страдания при смерти Ванечки поднялись со дна души мучительно и за себя и за молодых родителей, детей моих. Помочь я им не могла; приезжал ее отец. Вестерлунд, немного помог снять с совести Левы тяжесть обвинения. Присутствовала всё время милая Марья Александровна [Шмидт]. Хоронить приезжал Андрюша. Опять эта отверзтая яма, восковое личико, окруженное гиацинтами и ландышами, это спокойствие смерти и безумное горе остающихся. Потом известие, что Таня родила мертвую девочку. Это так и ошеломило меня. В день похорон Левушки я уехала вечером к Тане. Проводил меня Андрюша. И тут обманутая мечта Тани быть матерью, ее горе, болезнь, отсутствие мужа – опять болело сердце. Таня и храбрилась, и занималась детьми, и читала, и вязала, и болтала. Но видела я в глазах ее боль и отчаяние, что нет ни мужа, ни ребенка. Пасынки ее, особенно Наташа, очень с ней добры, но она мне сказала: «Глядя на мертвую девочку, я только понюхала, что такое материнское чувство, и ужаснулась перед его силой». Вернулась в Москву 3 января; Саша, Л. Н. и все мне очень обрадовались, и мне дома стало хорошо, спокойно. Мишину свадьбу с Линой Глебовой объявили; она его безумно любит. Сегодня я ездила к Глебовым на благословение; было трогательно, и мне хотелось плакать. Лина сияет счастьем. Эти дни был тут Стасов, умный, интересный старик, но в больших дозах утомительный. Вчера вечером играл Гольденвейзер, и музыка опять на меня действует успокоительно и хорошо. Лев Николаевич жалуется на нытье под ложкой и боль печени. Он ест мало, не вовремя, много лежит, сонлив и вял, но беречься не умеет, ел сегодня капусту цветную, и ему стало хуже. Пишет письма разным лицам и не работает. Отправила Сашу с Марусей Маклаковой к Доре и Леве в Ясную и к Ольге на денек. Сегодня вечером приехал Илья. Пили чай и беседовали: три сына – Сережа, Илья и Андрюша – и я. Илья тоскует по жене, которая в Ялте с больной матерью. Судили меня строго, но потом начали ласкать. Сережа, как всегда, сдержан и справедлив, Илья вдается в крайности, Андрюша сентиментален и нежен. Писал своей жене, жалея, что не проведет с ней свадебный день, 8-го. Были сегодня Дунаева, монахиня Виппер, Черногубов по поводу биографии Фета. 8 января. Весь день провела в хлопотах: была в банке, клала деньги, полученные от Стасюлевича. Бедный старик сам разбирается в делах, после того как его обокрал Слиозберг и запутал все дела его «склада»[130]. Заказывала увеличенный портрет Левушки. Саша и Маруся вернулись сегодня от Левы с Дорой и от Ольги, сделав всем удовольствие своим посещением. Была в бане, ездила за покупками и отдала чистить платье к свадьбе Миши. Вечером разбирала письма Л. Н. ко мне, дала переписывать Марье Васильевне под моим надзором. Сама ответила Стасову, Стасюлевичу, написала управляющему и Соне Мамоновой. Потом проявляла фотографии Саши и мои, сделанные сегодня утром. Были Михайлов и Дунаев. Л.Н. болен, то зябнет, то живот болит, уныл и скучен ужасно. Умирать ему не хочется, и когда он себе это представит, то видно, как это его ужасно огорчает и пугает. 10 января. Не весело и не бодро живется. У Л. Н. печень болезненна, и он очень угнетен духом. Теперь он дряхл и слаб, и мне жалко его. Ездила в Румянцевский музей, взяла неизданную комедию «Нигилист, или Зараженное семейство», хотела ее дать прочесть в моем благотворительном концерте. Просмотрели кое-что вечером с Анной Александровной Горяйновой, и, кажется, ничего не выберется цельного и интересного для чтения. Решили в пятницу всё перечитать вслух. Обедала у нас Лина Глебова, вечером все Льва Николаевича близкие: Буланже, Горбунов, Дунаев, Михайлов. Приехал Колечка Ге, постаревший, точно облез весь, похудел. Читала смешную статью Дорошевича в восьмом номере «России». Действующие лица там: Расход, Наличность, Доходная статья, Сибирская дорога и Китаец. Изображена сценка их обоюдных отношений. Л.Н. везде ищет веселого и смешного. Сегодня говорили о пьесе «Соломенная шляпка», где все смеются, и ему захотелось ее посмотреть. Зрение слабеет, и грустно стало жить без чтения, без всякой умственной работы. Вчера много играла, но и это утомляет зрение. 14 января. Л. Н. худеет и слабеет нынешний год очевидно, и это меня сильно огорчает, ничего не хочется делать, всё не важно, не нужно. Так я сжилась с заботой о нем, что если этого не будет, то я не найдусь в жизни, тем более с ослабевшим зрением. Днем сегодня заседание в приюте. Как много слов сказал Писарев, как громко, самоуверенно! Посмотрим, каковы будут его действия. А главного – денег совсем почти нет, кормить детей нечем, разговоры же идут об образовании уличных нищих. Теплая, мокрая зима дурно действует на здоровье людей: все вялы, грустны. Приехал Андрюша на собачью выставку, приехал Миша из Ясной, куда едет после свадьбы. 19 января. Эти дни – забота о здоровье Льва Николаевича. Он три дня принимал хинин, и, по-видимому, ему легче, только ноги болят по вечерам. Умственно он совсем завял, и это гнетет его. Не могли пройти бесследно все горести семейные. Хлопоты о свадьбе Миши, шитье мешочков, печатанье приглашений, заботы о житейском, молодом. Сами они, Миша и Лина, некрасиво млеют друг возле друга. Вчера весь день провела в искусстве: утром плохая выставка русских художников в Историческом музее, в сумерках прекрасная панорама «Голгофа» [Яна] Стыки. Хорошо то, что художник не пренебрег ни одной фигурой, ни одной деталью. Всё обдуманно, всё – тщательно обработано. Вечером квартетное. Играли квинтет Аренского, бодрая, мелодичная музыка. Моцарта Divertimento — превосходно. Менее мне понравился квартет Шумана. На концерт в пользу приюта окончательно решилась и взяла залу на 17 марта, и вчера в канцелярии попечителя мне лично дали разрешение на чтение начала повести Льва Николаевича «Кто прав?». Робею, что плохо удастся весь вечер. Занята разбором и перепиской моих писем к Л. Н. за всю жизнь, что могла собрать. Какая трогательная история моей любви к Левочке и моя материнская жизнь в этих письмах! В одном удивительно характерно мое оплакивание жизни духовной и умственной, для которой я боялась проснуться, чтоб не упустить обязанностей жены, матери и хозяйки. Письмо писано под впечатлениями музыки (мелодий Шуберта), которой занималась тогда сестра Л. Н. Машенька, заката солнца и религиозных размышлений. 21 января. Живу – точно вихрем меня несет. С утра дела, записки, потом много визитов, сегодня всех принимала. Писала много писем: Стасову, [Варваре Николаевне] Рутцен, брату Степе и проч. Льву Николаевичу получше, был Усов, нашел его положение хорошим. Слякоть, оттепель, грязь, и это скучно. Вечером гости: Тимирязев, Анненковы, Маклаков, Гольденвейзер. Я вяла и чего-то жду. 28 января. Целая неделя приготовлений к свадьбе Миши, визиты, шитье мешочков для конфет, покупки, платья и проч. Сегодня известие от Маши бедной, что ребенок опять в ней умер и она лежит со схватками, грустная, огорченная обманутой надеждой, как и Таня. Мне всё время плакать хочется и ужасно, ужасно жаль бедных моих девочек, изморенных вегетарианством и принципами отца. Он, конечно, не мог предвидеть и знать того, что они истощаются пищей настолько, что не в состоянии будут питать в утробе своих детей. Но он становился вразрез с моими советами, с моим материнским инстинктом, который никогда не обманывает, если мать любящая. Сам Л. Н. эти дни бодрей, лучше себя чувствует. Вчера он вечером ходил к Мартыновым, где был вечер и танцевала наша Саша. Я не поехала туда: ничего не радует и ничего не хочется, так со всех сторон много горя. 31 января. Сегодня обвенчали Мишу с Ликой. Была очень пышная, великосветская свадьба. Великий князь Сергей Александрович нарочно приехал из Петербурга на один день для этой свадьбы. Чудовские певчие, наряды, цветы, прекрасные молитвы за новобрачных. Тщеславие, блеск и бессознательное вступление в совместную жизнь двух молодых влюбленных существ. Мне уже не бывает ни от чего весело. Я, к сожалению, знаю жизнь со всеми ее осложнениями, и мне жаль моего юного, милого Мишу, бесповоротно вступившего на новое поприще. Но, слава богу, с женой своего уровня, да еще такой любящей. Из церкви поехали к Глебовым, там великий князь был особенно любезен со мной, и мне неприятно сознавать, что это льстило моему самолюбию так же, как льстили разговоры при выходе из церкви: «А это мать жениха». – «Какая сама-то еще красавица!..» Миша был радостен, и Лина тоже. Провожали мы их на железную дорогу. Все шаферы, молодежь, любившая Мишу. Навезли цветов, конфет, пили шампанское, кричали «ура!». Я рада, что молодые поехали в Ясную Поляну, где Дуняша им всё готовит и где Лева с Дорой их встретят. И погода хорошая. 10° мороза и наконец ясные дни. Скучала сегодня, что дочерей не было. Из нашей родни один представитель приехал из Киева – Миша Кузминский. Л.Н. всю свадьбу просидел дома и в четыре часа пошел проститься с Мишей и Линой. Вечером у него были сектанты из Дубовки и разные темные. Читали вслух сочинение крестьянина Новикова о нуждах народа. 12 февраля. Еще ряд событий: сегодня тяжелое известие о рождении мертвого мальчика у Маши Оболенской, дочери моей. Бедная, жалкая! Положение здоровья ее удовлетворительно. Ездили с Таней в Ясную. Милая моя, добрая, участливая Таня. Она хотела непременно навестить Дору и Леву после их горя. Они немного повеселели, особенно она, любят, берегут друг друга. Приезжали в Ясную и Марья Александровна, и Ольга – она одинока душой. Да кто из нас не одинок! Сегодня испытываю это чувство очень сильно сама. Дети всегда так рады меня осудить и напасть на меня. Таня осуждала за беспорядок в доме, Миша, уезжая с Линой за границу, – за мою суету во время путешествий. И ничего они не видят: какой же порядок, когда вечно живут и гостят в доме разные лица, за собой влекущие каждый еще ряд посетителей? Живут и Миша Сухотин, и Колечка Те, и Юлия Ивановна Игумнова, и сама Таня. С утра до ночи толчется всякий народ. И работаю я одна на всех и за всех. Веду все дела одна, без мужа, без сыновей, делаю мужское дело и веду хозяйство дома, воспитание детей, отношения с ними и людьми – тоже одна. Глаза слепнут, душа тоскует, а требованья, требованья без конца… Готовлю в пользу приюта концерт. Много неудач. Дал Л. Н. плохой отрывок для чтения, Михаил Александрович [Стахович] взялся прочесть. Но и он, и Михаил Сергеевич Сухотин, и Таня, и я – мы все нашли отрывок бедным для прочтения в большой зале собрания перед многочисленной публикой. Я попросила дать другой, хотя бы из «Хаджи-Мурата» или «Отца Сергия». Л. Н. стал сердиться, отказывать, потом стал мягче и обещал. Все эти дни он мрачен, потому что слаб и боится смерти ужасно. На днях спрашивал у Янжула, боится ли тот смерти[131]. Был у нас 9-го числа музыкальный вечер. Играл Сергей Иванович свою «Орестею», пела Муромцева арию Клитемнестры с хором своих учениц. Пели еще Мельгунова и Хренникова. Всем было хорошо и весело в этот вечер, но Л. Н. очень старался придать всему отрицательный и насмешливый характер, и дети мои заражались, как всегда, его недоброжелательством ко мне и моим гостям. Когда все порядочные люди разъехались и Л. Н. уже надел халат и шел спать, в зале остались студенты, кое-какие барышни и Климентова-Муромцева. Стали все (выпив за ужином) петь песни русские, цыганские, фабричные. Гиканье, подплясыванье, дикость… Я ушла вниз, а Л. Н. сел в уголок, начал их всех поощрять и одобрять и долго сидел. 15 февраля. Проводила сейчас Таню в Рим с ее семьей. Давно я не плакала при разлуке с детьми: беспрестанно встречаешь и провожаешь их куда-нибудь. А сегодня, при этом ярком солнце на закате, так светло озаряющем весь наш сад и седую, оплешивевшую, грустную голову Льва Николаевича, сидящего у окна и провожавшего печальными глазами Таню, которая два раза возвращалась к нему, чтоб поцеловать его и проститься с ним, – всё сердце мое истерзалось, и я и теперь пишу и плачу. Видно, горе нужно для того, чтоб делать нас лучше. Даже небольшое горе разлуки сегодня сделало так, что отпала от моего сердца всякая досада на людей, тем более близких, всякая злоба, и захотелось, чтоб всем было хорошо, чтоб все были счастливы и добры. Особенно жаль мне всё это время Л. Н. Страх ли смерти, нездоровье или что-нибудь затаенное мучает его; но я не помню в нем такого настроения, постоянного недовольства и убитости какой-то. 16 февраля. Больна Саша горлом. Был доктор Ильин, есть налет, сильный жар, но нет опасного. Поехала с поваром на грибной рынок: купила себе, Тане и Стаховичам грибов и себе русскую мебель. Толпа, изделия крестьян, народным духом пахнет. Еду домой, ударили в колокол, к вечерне. Переоделась, вышла с Л. Н. пешком, он пошел духоборам покупать 500 грамм хинину, а я – в церковь. Слушала молитвы, в душе молилась очень горячо; люблю я это уединение в толпе незнакомых, отсутствие забот и всяких отношений земных. Из церкви пошла в приют: дети меня окружили, ласкали, приветствовали. Там долго сидела, узнавая о делах и нуждах приюта. Дома одиноко, но с Л. Н. хорошо, просто и дружно. После обеда мне m-lle Lambert читала вслух «La Tenebreuse» [Жоржа] Оне. Потом пришли Алмазова, Дунаев, Усов проведать Льва Николаевича. У него очень увеличена печень и болят ноги и руки. Усов дал Карлсбад и порошки от болей. Во втором часу ложимся спать, вдруг звонок отчаянный. Какая-то дама, вдова Берг, сидевшая 13 лет в сумасшедшем доме, хочет видеть Льва Николаевича. Я ее не допустила, она час целый возбужденно говорила и, между прочим, вспомнила, как семь лет тому назад Ванечка мой рвал синенькие цветы в саду сумасшедших и просил у нее цветов. Жалкая нервнобольная полячка. Легли поздно, дружно и спокойно. В 6 часов утра смазывала горло Саше. 17 февраля. Встала поздно; опять к Саше доктор, смазывал горло; всё еще налет, жар меньше. Ясный, чудесный день, весело напоминает весну и радость жизни. Опять поехала на рынок с Марусей; купила пропасть дешевых деревянных и фарфоровых игрушек детям в приют; свезла их туда, большая была радость. Убирала детские вещи, которые готовила детям. Ужасно грустно! Забот много с детьми, а радости мало! 18 февраля. Вчера легла поздно под тяжелым впечатлением религиозных разговоров Льва Николаевича и Булыгина. Говорили о том, что поп в парчовом мешке дает пить скверное красное вино и это называется религией. Лев Николаевич глумился и грубо выражал свое негодование церковью. Булыгин говорил, что видит всегда в церкви дьявола в огромных размерах. Мне было досадно и грустно всё это слышать, и я стала громко выражать свое мнение, что настоящая религия не может видеть ни парчового мешка священника, ни фланелевой блузы Льва Николаевича, ни рясы монаха. Всё это безразлично. 20 февраля. Сережа вернулся, слава богу, благополучно. Опять ездит в Думу, сидит над шахматными задачами. Саша здорова, а Л. Н. всё жалуется на боль печени, худеет и наводит на меня мрачную грусть. Сегодня он обедал один, я подошла к нему, поцеловала его в голову – он так безучастно на меня посмотрел, а у меня точно упало сердце. Вообще что-то безнадежное в душе. Чудесная погода, ясные дни и лунные ночи; безумно красиво, волнительно и возбуждающе действует эта блестящая, уже напоминающая весну погода. Утром фотографировали весь приют со мной и начальницей для афиш моего концерта. Потом много играла на фортепьяно, вечером ходила гулять… 5 марта. Пережили много событий не домашних, а общественных. 24 февраля было напечатано во всех газетах отлучение от церкви Льва Николаевича. Приклеиваю его тут же, так как это событие историческое[132]. Бумага эта вызвала негодование в обществе, недоумение и недовольство среди народа. Льву Николаевичу три дня подряд делали овации, приносили корзины с живыми цветами, посылали телеграммы, письма, адресы. До сих пор продолжаются эти изъявления сочувствия и негодование на Синод и митрополитов. Я написала в тот же день и разослала свое письмо Победоносцеву и митрополитам. Приложу его здесь же. Глупое отлучение это совпало со студенческими беспорядками. 24-го был уже третий день движения в университете и среди населения Москвы. Московские студенты поднялись вследствие того, что киевских отдали в солдаты за беспорядки. Но небывало то, что прежде народ был против студентов, теперь же, напротив, все сочувствия на стороне студентов. Извозчики, лавочники, особенно рабочие, все говорят, что студенты за правду стоят и за бедных заступаются. В то же воскресенье, 24 февраля, Л. Н. шел с Дунаевым по Лубянской площади, где была толпа в несколько тысяч человек. Кто-то, увидав Л. Н., сказал: «Вот он, дьявол в образе человека». Многие оглянулись, узнали Л. Н., и начались крики: «Ура! Привет великому человеку! Ура!» Толпа всё прибывала, крики усиливались; извозчики убегали… Наконец какой-то студент-техник привел извозчика, посадил Льва Николаевича и Дунаева, а конный жандарм, видя, что толпа хватается за вожжи и держит под уздцы лошадь, вступился и стал отстранять толпу. Несколько дней продолжается у нас в доме какое-то праздничное настроение; посетителей с утра до вечера – целые толпы… 26 марта. Очень жалею, что не писала последовательно события, разговоры и проч. Самым для меня интересным были письма, преимущественно из-за границы, сочувственные моему письму. Никакая рукопись Л. Н. не имела такого быстрого и обширного распространения, как это мое письмо. Оно переведено на все иностранные языки. Меня это радовало, но я не возгордилась, слава богу! Написала я его быстро, сразу, горячо. Бог мне велел это сделать, а не моя воля. Сегодня важное событие: Лев Николаевич послал письмо «Царю и его помощникам». Что-то из этого выйдет! Не хотела бы я, чтоб нас на старости лет выслали из России. Событием для меня еще был мой концерт в пользу приюта. Участвовали очень все приятные люди, концерт получил характер необыкновенно порядочный, содержательный, чинный, нарядный. Барышни продавали афиши все в белых платьях, корзины живых цветов на столах. На бис повторяли мало. Прекрасно прочел отрывок сочинения Л. Н. «Кто прав?» Стахович. Самолюбие мое перед людьми, мнением которых я дорожу, было вполне удовлетворено. Денег выручили мало, 1307 рублей[133]. Здоровье Льва Николаевича лучше, если не считать боли в руках. Внешние события как будто придали ему бодрости и силы. Со мной он ласков и опять очень страстен. Увы! это почти всегда вместе. Начинаю говеть. Вяжу шапки для приюта; сшила сегодня юбку черную Варечке Нагорновой, этой милой, беспомощной племяннице Л. Н. Ей 50 лет, и всё в ней что-то детское. Играем с ней много в четыре руки. Вчера играли симфонии Бетховена. С Сашей было немного неприятно в Вербную субботу. Я звала ее с собой к всенощной; она воспротивилась, ссылаясь на неверие. Я ей говорю, что если она хочет идти путем отца, то должна, как и он, пройти весь круг: он несколько лет был крайне православным, уже долго после женитьбы. Потом отрекся от церкви в пользу чистого христианства и вместе отрекся от благ земных. Саша же, как и многие мои дети, сразу хочет сделать скачок к тому, что легче, – не ходить в церковь и только. Я даже заплакала. Она пошла к отцу советоваться, он ей сказал: «Разумеется, иди и, главное, не огорчай мать». Она пришла в приютскую церковь, простояла всенощную и теперь будет со мной говеть. (И не говела.)[134] Сегодня в газетах: назначен министром просвещения Банковский, и это хорошо. Ясно, но снегу много, все дни от двух до пяти градусов тепла. 27 марта. На днях получила ответ митрополита Антония на мое письмо. Он меня совсем не тронул. Всё правильно, и всё бездушно. А я свое письмо написала одним порывом сердца – и оно обошло весь мир и просто заразило людей искренностью. Но для меня всё это уже отошло на задний план, и жизнь идет вперед, вперед, неумолимо, сложно и трудно… Внешние события меня утомили, и опять очи мои обратились внутрь моей душевной жизни; но и там – и нерадостно, и неспокойно. 30 марта. С Сашей вышло очень неприятно. Она говеть со мной не стала: то отговаривалась, что ногу натерла, а то наотрез отказалась. Это новый шаг к нашему разъединению. Сегодня я причащалась. Говеть было очень трудно: противоречия между тем, что в церкви настоящее, что составляет ее основу, и обрядами, дикими криками дьякона и проч. и проч. так велики, что подчас тяжело и хочется уйти. Вот это-то и отвращает молодых. Вчера стою в церкви, где прекрасно пели слепые, и думаю: простой народ идет в церковь отчасти так, как мы в хороший симфонический концерт. Дома бедность, темнота, работа вечная, напряженная, а пришел в храм – светло, поют, что-то представляют… Здесь и искусство, и музыка, да еще оправдывающее развлечение – духовное настроение, религия, одобренная, даже считающаяся чем-то необходимым, хорошим. Как же быть без этого? Говела я без настроения, но серьезно, разумно и рада была просто потрудиться душой и телом: рано вставать, стоять долго на молитве и, стоя в церкви, разбираться в своей душевной жизни. Дома сегодня опять тяжело: песни Сулержицкого под громкий аккомпанемент Сережи, крикливый, мучительный голос Булыгина, хохот бессмысленный Саши, Юлии Ивановны и Марьи Васильевны – всё это ужасно! Приезжал Андрюша; грустно, что весь интерес – лошади, собаки, провинциальные знакомые и никакой умственной жизни. Вчера было тихо, и приятно провели вечер с Репиным. Он рассказывал, что в Петербурге на передвижной выставке, на которой он выставил портрет Льва Николаевича (купленный Музеем Александра III), произошли две демонстрации: в первый раз небольшая группа людей положила цветы к портрету; в прошлое же воскресенье, 25 марта, собралась в большой зале выставки толпа народа. Студент забрался на стул и утыкал букетами всю раму, окружающую портрет Льва Николаевича, потом стал говорить хвалебную речь, поднялись крики «ура!», с хор посыпался дождь цветов; а следствием всего этого стало то, что портрет с выставки сняли и в Москве он не будет, а тем более в провинции. Очень жаль! Май 1901 года. Самое счастливое, что произошло за последнее время, – это два вечера, когда играл Сергей Иванович. Играл он 3 и 4 мая, играл удивительно хорошо. Пьесы были: Rondo Моцарта, соната Шумана, «За прялкой» Шуберта, Duetto Мендельсона и увертюру «Фрейшютца». Даже Таня и Лев Николаевич пришли в восторг. На другой день играл свой 4-й квартет в четыре руки с Гольденвейзером. 18 мая. Десять дней уже мы в Ясной Поляне. Ехали с Буланже в директорском вагоне со всеми удобствами и довезли Л. Н. прекрасно: грела я ему сваренную заранее овсянку, варила яйца, кофе, ел он еще спаржу, спал на прекрасной постели. С нами были еще дочь Таня и Юлия Ивановна Игумнова. В Москве провожали нас дядя Костя, Масловы Федор Иванович и Варвара Ивановна, Дунаев и незнакомые молодые люди, кажется, техники. Кричали «ура!», рисовали Льва Николаевича, и это было трогательно. Тут и Маша с Колей, и Лева с Дорой, и все сегодня мы вместе обедали, все были веселы. Приезжал американец из Бостона, ему надо изучить Россию, и, конечно, Толстого, чтоб читать лекции об этом. Весна красивая, цветущая: цветут сирень, яблони, ландыши; так свежа зелень, поют соловьи – всё обычно, но всё переживаешь опять с наслаждением, всем любуешься, упиваешься, как упиваешься всяким наслаждением, сколько бы оно ни повторялось. Только теперь, когда пережила много горя, когда видишь упадок сил и жизни Льва Николаевича, когда усложнилась своя внутренняя жизнь – на всем отпечаток грусти, томления, точно что-то приходит к концу. А вместе с тем разлад душевный от прилива физической энергии, потребности жизни вперед, деятельности, движенья, разнообразия впечатлений. И всё вспыхивает и замирает, поднимается и падает… Дряхлость Льва Николаевича тянет меня за собой, и я должна стареть вместе с ним, но не могу, не умею, если б и хотела… Еду в понедельник в Москву… 6 июня. Была в Москве. Занималась делами, жила одна с девушкой в своем большом доме. Ездила на могилки Ванечки и Алеши, ездила к живому внуку, сыну Сережи. Славный мальчик, ясный, простой. Видела Мишу с Линой, всегда они производят хорошее впечатление. Видела часто Масловых, видела и Сергея Ивановича. С ним разладилось, и нет больше ни сил, ни желания поддерживать прежнее. Да и не такой он человек, чтоб дружить с ним. Как все талантливые люди, он ищет постоянно в жизни нового и ждет от других, не давая почти ничего от себя. Жарко, душно, лениво и скучно. Л. Н. берет соленые ванны и пьет Kronenquelle. Он довольно бодр, и мне приятно выхаживать его после зимы нездоровья. Живет Пастернак, хочет написать группу из Л. Н., меня и Тани. Пока делает наброски. Это для Люксембургского музея. Живет Черногубов, разбирает и переписывает письма Фета ко мне и к Льву Николаевичу. Приехала мисс Белый, и Саша занята. 14 июня. Боже мой, как хорошо лето! В мое окно смотрит луна на ясном, чистом небе. Всё неподвижно, тихо, и так ласкающе тепло, радостно! Живу всецело почти с природой, хожу купаться, по вечерам поливаю цветы, гуляю. Гостит у нас моя дорогая, милая Таня с мужем, с. которым начинаю мириться за ее любовь к нему. Характер у него милый, хотя эгоист он страшный и потому часто за Таню страшно. Жил Пастернак-художник, рисовал и меня, и Льва Николаевича, и Таню во всех видах и позах. Готовит из нашей семьи картину genre для Люксембурга. Живет сейчас скульптор Аронсон, бедняк-еврей, выбившийся в Париже в хорошего, талантливого скульптора. Лепит бюст Льва Николаевича и мой, bas-relief – Тани, и всё недурно. Меня он изобразил не такой безобразной, как это делали до сих пор все художники. Странно, что люди вообще находят меня красивой, а портрет, бюсты и фотографии выходят даже безобразны. Говорят: игра в лице неуловимая, блеск в глазах, красивые цвета и неправильные черты. Уехали Лева, Дора и Павлик[135] в Швецию. Ужасно, ужасно больно было с ними расставаться. Я их особенно сильно принимаю к сердцу, особенно чувствую их жизнь, их горе и радости. Последних мало им было в этом году! И так безукоризненно свято они живут, с лучшими намерениями и идеалами! Им нечего скрывать, можно спокойно до дна их души смотреть – и увидишь всё чистое и хорошее. Бедная Дорочка бегала в пять часов утра на могилку своего Левушки проститься с любимым детищем, и мне хотелось плакать, и я болела ее материнскими страданиями с ней вместе. Лев Николаевич всё жалуется на боль в руках и ногах, худ, слаб, и сердце мое болезненно переворачивается, глядя на то, как он стареет и как близок к тому времени, когда совершится с ним великая перемена, к которой ни он, ни я – как ни старайся – не готовы и не можем быть готовы. Сегодня утром Л. Н. ходит около дома и говорит: «А грустно без детей, нет-нет да и встретишь две колясочки, а теперь их нет». Как раз были тут вместе Павлик и Сонюшка, дочь Андрюши. 20 июня. Была в Москве по делам продажи Сашиной земли; опять страшная трата энергии и сил. Жара, две ночи в вагоне, разговоры с присяжным поверенным, покупки и проч. В доме моем уютно, сад хорош, воспоминаний много хороших. Вернулась утром, усталая, лошадей не выслали, пришла домой с Козловки пешком, рассердилась, жара невыносимая, дома толпа бесполезных для жизни людей: Алеша Дьяков, Гольденвейзер, скульптор, Сухотины. Одна Таня дорога. Опять потребность спокойствия и хоть какой-нибудь умственной и художественной деятельности. Сегодня дождь, ветер. Прихожу к Л. Н. узнать о его здоровье, встречаю стену между нами, о которую бьюсь. Сколько раз это бывало в жизни, и как это всё наболело! Заметила ему между прочим, чтоб он написал Андрюше письмо, увещевая его лучше и добрее относиться к своей жене. «Что ты меня учишь?» – злобно сказал Л. Н. Я говорю, что не учу, а прошу его заступиться за Ольгу и советовать Андрюше быть добрее и сдержаннее, потому именно, что Л. Н. умнее и лучше это сделает, чем я или другой. «А если я умнее, то нечего меня учить», – ответил он. 3 июля. Подходит нечто ужасное, хотя всегда всеми ожидаемое, но совершенно неожиданное, когда действительно подойдет, – конец жизни. И конец жизни того, кто для меня был гораздо больше моей собственной жизни, потому что я жила только и исключительно жизнью Левочки и детей, которых он же мне дал. Состояния моего сердца я еще не понимаю, оно окаменело, я не должна его слушать, чтоб сохранить силу и бодрость для ухода за Л. Н. Заболел он на 28 июня в ночь. Жаловался на общую тоску, бессонницу, стеснение в груди. Мы с Сашей утром 28-го собирались к сыну Сереже – это день его рождения и именин, туда приезжали и моя Таня, и Соня с семьей, и Варя Нагорнова, и мне очень хотелось с ними повидаться и Сереже сделать удовольствие, но я колебалась, мне не хотелось оставить Льва Николаевича. Все-таки мы поехали в восемь часов утра. Без меня он встал, гулял, но к вечеру сделался жар, 38 и 5. Говорили, что он спал эту ночь хорошо, но на другой день пошел гулять и не мог идти, так ослабел; чтоб вернуться домой, надо было сделать огромное усилие, было еще далеко, и он страшно утомился. Грудь стала болеть больше, ему клали теплое, и это облегчало. Вечером 29-го у него опять был жар, я тут вернулась, успокоенная телеграммой 28-го вечером, что Л. Н. совсем здоров. Кому без меня было усмотреть его состояние! Когда я его увидала, у меня сердце оборвалось: всю ночь у него сильно болела грудь, и я ему сказала, что это от сердца. Утром судили, кого взять доктором. Послали за тульским Дрейером, который нашел лихорадку и очень плохой пульс: 150 ударов в минуту. Предписал хинин по 10 гран в день, кофеин и строфант для сердца. Когда температура спала, пульс всё был 150, а температура 35 и 9. Потом выписали телеграммой из Калуги доктора Дубенского, главного врача городской больницы и нашего хорошего знакомого. Он поражен был пульсом и говорил, что это пульс агонии, но усомнился в лихорадке, думая, не желудочно ли кишечное нездоровье. От приемов хинина жар прошел, и два дня температура была нормальная, 36 и 2. Но сегодня опять вторая ночь полной бессонницы, маленький озноб, жар, и обильный пот, а теперь слабость, а главное, ослабление деятельности сердца очень значительное. Съехались дети, кроме Левы, который в Швеции, и Тани. Здесь и внуки Ильичи. Вчера он позвал трех внуков и Анночку-внучку к себе, раздал из коробочки шоколад и заставил четырехлетнего Илюшку рассказывать, как он чуть не утонул в водосточной кадушке. Анночку Л. Н. спросил о ее хрипоте, а потом сказал: «Ну, идите теперь, когда мне будет скучно, я вас позову опять». И когда они ушли, он всё говорил: «Какие славные ребята». Вчера утром я привязывала ему на живот согревающий компресс, он вдруг пристально посмотрел на меня, заплакал и сказал: «Спасибо, Соня. Ты не думай, что я тебе не благодарен и не люблю тебя…» И голос его оборвался от слез, и я целовала его милые, столь знакомые мне руки, и говорила ему, что мне счастье ходить за ним, что я чувствую всю свою виноватость перед ним, если не довольно дала ему счастья, чтоб он простил меня за то, чего не сумела ему дать, и мы оба, в слезах, обняли друг друга, и это было то, чего давно желала душа моя, – это было серьезное, глубокое признание наших близких отношений всей тридцатидевятилетней жизни вместе… Всё, что нарушало их временно, было какое-то внешнее наваждение и никогда не изменяло твердой внутренней связи самой хорошей любви между нами. Сегодня он мне говорит: «Я теперь на распутье: и вперед (к смерти) хорошо, и назад (к жизни) хорошо. Если и пройдет теперь, то только отсрочка». Потом он задумался и прибавил: «Еще многое есть и хотелось бы сказать людям». Когда дочь Маша принесла сегодня Л. Н. только что переписанную Коленькой Ге последнюю статью, он обрадовался ей, как мать обрадовалась бы любимому ребенку, которого ей принесли к постели больной, и тотчас же попросил Ге вставить некоторые поправки, а меня попросил собрать внизу в его кабинете все черновые этой статьи, связать их и надписать: «Черновые последней статьи», что я и сделала. Вчера он очень тревожился о том, приходили ли погорелые из дальней деревни, для которых на днях он у меня взял 35 рублей, и еще просил, чтоб если кто к нему приходит с просьбами, то ему говорили об этом. Прошлую ночь он провел ужасную: я была с ним вдвоем до семи часов утра. Он ни минуты не спал; боли в кишках. Позднее стала болеть грудь, я растерла ее камфарным спиртом, заложила ватой, и боль утихла. Потом появились боли в ногах, и они похолодели. Я растирала ему ноги тоже камфарным спиртом, завернула в теплое, и стало легче. Я была так счастлива, что могла облегчить его недуги! Температура была опять повышенная: от 36 и 2 поднялась до 37 и 3. Жар держался часа три, Л. Н. заснул, я ушла спать, потому что падала от усталости, и сменили меня сначала Коленька Ге, потом Маша. Приехал сын Миша; Л. Н. с ним поговорил, спросил о жене и сказал, что большое счастье, что все его невестки такие хорошие и даже, как женщины, такие красивые, славные. Сережа сказал про брата своего Мишу: «Папа, Миша всё умнеет». И Л. Н. ответил: «Ну, слава богу, это ему очень нужно, – а потом спросил: – Кончил ли он свое мерзкое дело – военную службу?» Миша сказал, что «слава богу, совсем отбыл». Сегодня сижу я в его комнате, читаю Евангелие, а в нем Львом Николаевичем отмечены те места, которые он считает важнейшими, и он мне говорит: «Вот как нарастают слова… В первом Евангелии сказано, что Христос просто крестился. Во втором наросли слова “И увидал небеса отверзтыми”, а в третьем уже – “Слышал слова: «Сей есть сын мой»” и т. д.» Теперь Левочка мой спит – он еще жив, я могу его видеть, слышать, ходить за ним… А что будет после? Боже мой, какое непосильное горе, какой ужас жизнь без него, без этой привычной опоры любви, нравственной поддержки, ума и возбуждения лучших интересов в жизни… Не знаю, в состоянии ли буду опять писать. Хочется записать всё, что касается его; всем, всем он нужен, и все его любят. Помоги, помоги, Господи, как невыносимо тяжело!.. 14 июля. Не помню уже подробно всего. Приехала еще Таня с мужем; приезжал из Москвы доктор Щуровский, приезжало много друзей; телеграммы, письма, суета большого стечения детей, внуков, знакомых. Заботы без конца… Наконец заболела я: сильный жар целую ночь, ослабление деятельности сердца, пульс 52. Пролежала два дня совсем обессиленная. Теперь мне лучше. Живет у нас молодой врач Витт Николаевич Саввин, следит за пульсом Л. Н.: пульс при малейшей усталости учащается до 90 ударов. Сегодня Л. Н. сошел вниз, походил возле дома среди цветов и теперь лег уснуть на кушетке под кленом. Врачи все нашли, что причина общего заболевания и ослабления сердца – присутствие малярийного яда в организме. Давали хинин, предлагают впрыскивания мышьяком, от которого, к сожалению, Л. Н. упорно отказывается. Сейчас он очень худ и слаб, но аппетит прекрасный, сон тоже, болей нет, занимается он каждое утро своей статьей о рабочем вопросе[136]. Слава богу, слава богу, еще отсрочка! Сколько придется еще пожить вместе! В первый раз я ясно почувствовала возможность разлуки с любимым мужем, и та боль сердца, которая овладела мной, так и не прошла и вряд ли когда пройдет. Когда я только взгляну на осунувшееся лицо, совсем побелевшие бороду и волосы и исхудавшее тело Левочки – боль сердца ноющая, никогда меня теперь не покидающая, обостряется, и жизни нет, и исчез весь интерес, вся энергия жизни. А сколько ее было? Поднимусь ли когда? Да, еще целый период отжит. Еще резкая черта проведена между тем периодом, в который жизнь шла вперед, и когда она вдруг во мне стала, как теперь. Всё казалось: «Вот соленые ванны помогут, и Левочка окрепнет, и еще поживет лет десять; воды Эмс обновят пищеварение; лето, тепло, отдых дадут ему новые силы…» Теперь вдруг ясно представился конец. Нет обновления, нет здоровья, нет сил – всего мало, мало осталось в Левочке. А какой был богатырь! Грустно часто слышать от него упреки за лечение мне и докторам. Как только ему лучше, он сейчас же высказывает ряд обвинений. А когда плохо, всегда лечится. 22 июля. Лев Николаевич поправляется, делает большие прогулки по лесам, аппетит прекрасный, сон тоже. Слава Богу! Вчера вечером получили письма из Тулы, и Коля Оболенский читал их вслух. Всё сочувственные письма, радость, что ожил Л. Н. Он слушал, потом засмеялся и говорит: «Теперь, если начну умирать, то уж непременно надо умереть, шутить нельзя. Да и совестно, что же, опять сначала: все съедутся, корреспонденты приедут, письма, телеграммы – и вдруг опять напрасно. Нет, этого уж нельзя, просто неприлично». Сегодня премилое умное письмо от королевы Румынской Елизаветы. Посылает Л. Н. свою брошюру и пишет, что счастлива уже тем, что la main du maitre[137] будет хоть минуту лежать на ее книжечке[138]. Сегодня жарко, сухо, пыльно. Идет уже уборка овса. Ясные, солнечные дни, лунные ночи, так везде красиво, что хотелось бы как-нибудь еще, получше воспользоваться красотой лета. Когда вчера Л. Н. говорил о том, что теперь, когда он заболеет, приличие требует, чтоб он умер, я говорю: «Скучно жить в старости, и я хотела бы поскорей умереть». А Л. Н. вдруг оживился, и у него как-то вырвался горячий протест: «Нет, надо жить, жизнь так прекрасна!..» Хороша эта энергия в 73 года, и она спасает и его, и меня. А Таня-дочь сегодня пишет, что мы, ее родители, не хотим стариться, и это напрасно. Кто знает, что лучше? 30 июля. Вчера вечером опять захворал Л. Н. Пищеварение испортилось, желчь не отделяется, и был жар, в 11 часов вечера термометр показал температуру в 37 и 8, и пульс днем был около 90. А перед этим как быстро стал поправляться! Как охотно ел, весело шутил с нами и разговаривал по вечерам. Как бодро мы гуляли на днях по всему лесу, Заказу с Федором Ивановичем [Масловым], дочерью Машей, Колей, Сашей и Юлией Ивановной… Сегодня опять жара, воздух пропитан гарью, точно дымом. Ничего не видно, даже солнце стало крошечным красным шариком. Живу уныло, сижу весь день у двери больного мужа, вяжу шапки в приют, и совсем потухла во мне жизнь и энергия. Получила от графини Паниной письмо, предлагает в Крыму нам свою дачу, и мы собираемся ехать, но я не хочу раньше сентября. 3 августа. Последнее нездоровье еще поубавило силы Льва Николаевича, хотя сегодня ему получше. Стоит жара, опять сухо, я купаюсь всякий день. Утром приходили из Мясоедова погорелые, дали им по 7 рублей на двор. Сколько было пожаров нынешнее лето, и скольким пришлось раздать помощи! Приехал чужой посетитель, Фальц-Фейн, потерявший молодую жену и оставшийся с тремя детьми, в отчаянии, больной от горя[139]. Л. Н. пошел с ним походить и поговорить. Разбирала разные ноты: концерт Гуммеля, Моцарта, Вебера. Выписала еще себе сонату Вебера в la-бемоль. Музыка – лучшее занятие в мире. Делали с Машей фотографии, училась немного по-итальянски, хозяйничала. Но чувство, что всё приходит к концу, мучительно преследует. Что-то должно кончиться. Мы жили с Л. Н. одним широким течением жизни – тридцать девять лет, и вот начались колебания. Собираемся в Крым, Л. Н. ходит слабый, унылый, хотя правильно держится порядка обычного: утро пишет, немного ходит по саду или в ближайший лес, сидит с нами по вечерам… Надолго ли всё это? И как сложится моя жизнь? Ничего не предвижу, не знаю… «Да будет воля Твоя». 26 августа. Собираемся в Крым 5 сентября. Была в Москве по делам, еду опять перед отъездом, около 1-го. Холод, ветер, сыро и гадко. Здесь сестра Л. Н., Мария Николаевна, Варя Нагорнова; Лева приехал из Швеции, Сережа-сын тут, и много кто еще. Была сестра Таня, что мне доставило большую радость. Л.Н. опять почувствовал себя не совсем хорошо, но он плохо бережется. Вчера был доктор Дубенский и нашел Л. Н. в удовлетворительном состоянии. Живу совсем не по душе: хозяйство, денежные уплаты, сборы, укладка и соображения практические… Ни прогулок, ни музыки – ничего, скучно, и духом упала. Мы, кажется, проживем в Крыму всю зиму, и это ужасно грустно! Ну, да что бог даст. Черта проведена, еще новый период жизни начинается. Лишь бы Лев Николаевич был жив издоров. 2 декабря. Крым. Гаспра. С 8 сентября живем здесь для здоровья Льва Николаевича, которое плохо поправляется. Две жизни не проживешь, ему минуло в августе 73 года, и он очень постарел, ослаб и изменился за этот год. Не писала дневник, долго не могла освоиться с новыми условиями жизни и с теми душевными лишениями, которые я должна была пережить. Теперь привыкла, и поддерживает чувство строго исполняемого долга относительно моих обязанностей как жены. Вчера ночью написала письма четырем отсутствующим сыновьям (кроме Андрюши, который только что приехал) и потом всю ночь не могла спать от мучительно нагромоздившихся воспоминаний детства моих детей, моего страстного, заботливого к ним отношения, ошибок невольных в их воспитании, моего и теперешнего отношения к моим взрослым детям. Потом мысли перешли к умершим. С мучительной ясностью я представляла себе то Алешу, то Ванечку в разные моменты их жизни. Особенно ясно мне представлялся худенький Ванечка в постельке, когда после молитвы, всегда почти прочитанной в моем присутствии, он уютно свертывался в маленький, худенький комочек и, блаженно улыбаясь мне, укладывался спать. Помню, как мне мучительно было, гладя его спинку, ощущать под рукой его тоненькие косточки. И какое я почувствовала вчера ночью душевное и физическое одиночество! С Львом Николаевичем вышло как раз то, что я предвидела: когда от его дряхлости прекратились (очень еще недавно) его отношения к жене как к любовнице, на этом месте явилось не то, о чем я тщетно мечтала всю жизнь, – тихая, ласковая дружба, а полная пустота. Утром и вечером он холодным, выдуманным поцелуем здоровается и прощается со мной; заботы мои о нем спокойно принимает как должное, часто досадует и безучастно смотрит на окружающую его жизнь, и только одно его волнует, интересует, мучит: в области материальной – смерть, в области духовной – его работа. Всё чаще думаю со спокойной радостью о смерти, о той области, куда ушли мои дети, где, думается, будет спокойнее. В этой жизни спокойствия не может быть: если стремиться к нему, если вырабатывать мудрое, равнодушное отношение ко всему, религиозное смирение и понимание, то этим самым прекращается жизнь. Жизнь есть энергическая, беспрерывная смена чувств, борьба; подъем, упадок доброго и злого; жизнь есть жизнь. Ее не остановишь, да и не хочешь останавливать добровольно. Но когда придет время естественно ей остановиться, тогда надо спокойно и радостно ее приветствовать и, созерцая Бога, подчиняясь Его воле, соединиться с Богом посредством духа и с природой посредством тела. И, кроме хорошего, ничего здесь быть не может. 3 декабря. Жаркий день, ездила в Ялту, писала и посылала доверенность Сереже на покупку 46¼ десятин телятинской земли к яснополянской. Получала, переводила деньги – несносные, вечные, ни на что мне не нужные дела! Устала и одна пошла бродить. Прошла в Чукурлар, там нищая и чахоточный юноша, пустота и неблагоустроенно. Всё это еще впереди. Лев Николаевич ездил в Алупку верхом, вечер весь проиграл в шахматы с Сухотиным. А приехавшие сыновья, Илья и Андрюша, Саша, Наташа Оболенская, Классен, Ольга – все играли в карты, чего я не люблю. Осталась одинока, молча шила, потом поучилась по-итальянски. 4 декабря. День еще жарче, ярче и красивее. Солнце прямо по-летнему греет. Какой неустойчивый, странный климат. Такое же здесь неустойчивое душевное настроение. Ходили пешком в Орианду: Лев Николаевич, Сухотин с сыном и учителем, Наташа Оболенская и я. Устали немного, но так называемая Горизонтальная дорожка очень хороша. Оттуда приехали с Сонюшкой и Ольгой. Море, закат – всё волшебно красиво. Боялась за усталость Льва Николаевича и простуду. Остальные поехали верхами на Учан-Су. Илюша вернулся, увлечен фотографией. Сегодня Варварин день, вспоминаю мои прошлогодние визиты с Марусей к Варе Нагорновой и Масловым. Как было у последних благодушно и весело! Что-то там сегодня, и странно, что там зима, снег, сани! 6 декабря. Проводила сейчас сыновей: вечно ребячливого, добродушного Илью и Андрюшу. Лев Николаевич поехал с ними в Ялту, к Маше, будет там ночевать, ему давно хотелось. Действие ли мышьяка, или просто хорошая погода повлияли на него хорошо, но он бодр, здоровье лучше, и радость этого улучшения выражается в суетливой предприимчивости: он ходил с нами пешком до Орианды, оттуда приехали, на другой день ездил верхом в Симеиз и обратно. Вчера ходил, утром и вечером, при лунном свете, гулять, заходил в больницу и восхищался видами при лунном освещении. Сегодня собрался в Ялту. Сегодня я хотела ему помочь при сборах в Ялту, чтобы он, суетясь, не потел. Он так грубо, брюзгливо на меня окрысился, что я, чуть не заплакав, молча удалилась. Получила письмо от графини Александры Андреевны Толстой. Какая удивительная духовная гармония в этой прелестной женщине! Сколько настоящей любви и участия дает она людям. Начинаю еще более склоняться к мнению, что сектантство всякое, включая и учение моего мужа, сушит сердце людей и делает их гордыми. Знаю двух женщин близко: это сестру Льва Николаевича – Машеньку, монахиню, и вышеупомянутую Александру Андреевну, и обе, не уходя из церкви, стали добрее, возвышеннее. Наступило четыре дня удивительной летней погоды: окна открыты, гуляем в одних платьях, и то жарко. Вечером 12° тепла. Моя бедная Таня, родив опять мертвого ребенка – мальчика (12 ноября), еще более привязалась к своему легкомысленному эгоисту-мужу. Ее совсем нет, она вся в нем, и он позволяет себя любить, а сам любит мало. Если ей хорошо, то и слава богу! Мы, женщины, способны жить любовью даже без взаимности. Да еще как сильно, содержательно жить! Из Москвы разные вести, не особенно мне радостные, из Ясной Поляны – то же. Дела запущены, друзья понемногу забывают, чудесная музыка – симфонические и другие концерты – манит и соблазняет, и всё бессильно, сиди здесь и скучай. Долг, долг, и вся энергия уходит на исполнение его, на убиение своей личности. Проводив Льва Николаевича в Ялту, пошла к обедне, пели девочки хорошо, и мне было хорошо и молитвенно спокойно. 8 декабря. Лев Николаевич из Ялты не вернулся, приехала одна Саша, а его уговорили доктор и Оболенские остаться еще на ночь. Вчера, проводив его, мне вдруг стало тоскливо, не при чем жить. Сегодня легче; ходила одна гулять в серьезном и хорошем настроении. Необычайно тепло, 12° тепла в тени, небо розовое от невидимого за облачками солнца. В здешнем парке красиво и уединенно. Горевала мыслями и сердцем о том, что с мужем живем как чужие! Саша говорила, что он сегодня написал в Ялте 8 страниц чего-то, устал и ослабел. 9 декабря. Как я и думала, Лев Николаевич в Ялте немного захворал и явились опять сердечные перебои. Сейчас говорила с ним по телефону, голос бодрый, думает, что от желудка, который опять хуже. Съездив в Симеиз верхом взад и вперед, он опять свои кишки раздражил, это уж чуть ли не в сотый раз повторяется одно и то же. Перед отъездом он с жадностью вдруг напустился сразу на вареники, виноград, грушу, шоколад. (Было 6-го рождение Андрюши и всякие угощения.) Теперь идет так: чуть поправится, всё истратит невоздержанием в еде и движениях. Испугается, опять лечится; опять лучше, опять трата… Так и идет правильным кругом. Была у обедни. Прекрасно пели девушки. Настроение хорошее, спокойное, привычное. Мне не мешают, как другим, бессмыслицы вроде «дориносима чиими», «одесную отца» и проч. Помимо этого, церковь – место напоминания нам Бога, место, куда столько миллионов людей приносило свою веру, свое возвышенное религиозное чувство, свои горести, радости во все моменты изменчивой судьбы. 13 декабря. В тот же день, как я писала последний дневник, меня сначала по телефону успокоили, а потом встревожили состоянием здоровья Льва Николаевича, и я тотчас же после обеда уехала в Ялту. Застала Льва Николаевича довольно бодрым, но в постели; говорили, что даже доктор испугался; перебои были значительные в сердце, и он выписал даже камфару для впрыскивания, но до нее дело не дошло. Все болезненные явления все-таки от желудка и кишок. Сегодня мы с Лизой Оболенской его привезли домой, в Гаспру. Сначала он, выпив кофе с молоком, оживился; вечером играл две партии в шахматы с Сухотиным, но опять ослабел и, наконец, лег. А весь вечер его уговаривали лечь по предписанию доктора, а он не хотел. У Сухотиных горе: Сережа их заболел тифом в Морском корпусе, и телеграммы, что положение серьезно. Таня очень, жалка, плакала, и у нее детское отношение к судьбе, что ее кто-то всё обижает. Радость у нас та, что у Миши и Лины родился 10-го сын Иван. Пусть Ванечка вложит в этого мальчика свою душу и помолится о нем, чтобы рос хорошим, счастливым и здоровым. Хотелось бы взглянуть на этого нового Ванечку. Сегодня мне кротко и сердечно жаль Льва Николаевича, я не могу на него смотреть без горя, и я рада этому чувству. А то иногда на меня нападает дурное чувство раздражения против него, что он даром тратит свои силы и сокращает жизнь, которой мы все так дорожим, что все свои жизни отдаем ему на служение. Я помню, что когда у моей сестры падали дети и ушибались, она их же бранила, и я понимала, что она на них нападает за те страдания жалости, которые испытывает. Так и я: я на Льва Николаевича нападаю иногда (более молча, в душе) за то, что его немощи мне доставляют невыносимые страдания. 14 декабря. Лев Николаевич поселился внизу со вчерашнего дня, чтобы не ходить по лестнице. Комната его рядом с моей опустела, и эта мертвая тишина наверху какая-то зловещая и мучительная. Уже я не стараюсь ставить тихонько умывальник на мраморный стол, ходить на цыпочках и не двигать стульями. Рядом с Львом Николаевичем внизу пока спит Лиза Оболенская (его племянница), и он охотно принимает ее услуги и рад меня не беспокоить. 15 декабря. Левочке сегодня лучше, и мы все повеселели. Он бодр, сердце хорошо, желудок еще не совсем, жару нет. Он обедал с нами, ходил до ворот усадьбы, но вернулся, устал. Был доктор, который его тут лечит, Альтшуллер, приятный, даровитый еврей, совсем не похожий на евреев, и Лев Николаевич ему верит и слушается его, и даже любит. Сегодня делали тридцатое впрыскивание подкожное мышьяка и пять гран хинину принял. Приезжал чех, доктор Маковицкий, мы его раньше знали, и с ним Евгений Иванович Попов, грузинского типа, будто бы толстовец. Обычно провели вечер: шахматы, газеты, письма и работа. Ходила сегодня одна гулять, тепло, красиво. Играла более двух часов, наслаждалась сонатой Вебера и Impromptu Шопена. Читая газеты, соблазняюсь концертами, особенно мне жаль, что не слыхала концертов Пауэра, сыгравшего все сонаты Бетховена в нескольких сериях. 16 декабря. День пустой, мало видела Льва Николаевича, сидели с ним ненавистный Попов и Маковицкий. Приехал Буланже. 23 декабря. Лев Николаевич поправился, сегодня ходил далеко гулять, зашел к Максиму Горькому, то есть к Алексею Максимовичу Пешкову[140]. Не люблю, когда писатели подписываются не своей фамилией. Домой приехали все, то есть Лев Николаевич, Ольга, я и Буланже, в коляске. Мы с Ольгой делали визиты, почти никого не застали. Тепло, 6°, ясно и ветрено. Лев Николаевич принес розово-лиловый крупный полевой цветок, вновь распустившийся. Миндаль хочет цвести, белые подснежники распустились. Хорошо! Я начинаю любить Крым. Слава богу, тоска моя прошла, главное, потому что Льву Николаевичу стало гораздо лучше. Надолго ли! Вчера уехали Сухотины, приехал Андрюша, больной, добродушный, но неприятно несдержанный, особенно с женой. 24 декабря. Приехал Сережа и Гольденвейзер. Заезжал Миша Всеволожский. Вечером играл Лев Николаевич со своими детьми и Классеном в винт. Все кричали, приходили в волнение от большого шлема без козырей; очень странны мне всегда эти настроения при карточной игре, точно все вдруг лишаются рассудка и кричат вздор. Лев Николаевич опять жалуется на боли в руках, хотя эти дни тепло и он осторожен. Что-то потускнело в жизни; перестала радоваться поездке в Москву, и просто тяжело это будет: и скучно, и холодно, и хлопотно. А будет ли какая радость? 25 декабря. Празднично проведенное Рождество. Льву Николаевичу лучше, лихорадки не было, члены не болят. 26 декабря. Уехал Буланже. Прелестная погода, все гуляют, катаются. Льву Николаевичу совсем хорошо. Кроила, копировала фотографии, немного шила и вечером просмотрела итальянскую грамматику. Собираюсь со страхом в Москву. Очень боюсь и жалею оставить Льва Николаевича, да и жутко одной совершить такое дальнее путешествие. Вечером у Классена, немецкий говор, чуждые люди, сладкая еда – всё не по мне. 27 декабря. Были вечером Четвериковы, Волковы. Разговор о музыке с Эшлиманом. Играл Гольденвейзер. Лев Николаевич ходит опять гулять, пишет о свободе совести и опять переправляет «О религии». Вечером, когда лег, спросил у меня теплого молока (он теперь его постоянно пьет), и, пока ему разогревали, а я прощалась со своими скучными гостями, Лев Николаевич вдруг в одном белье показался в дверях и нетерпеливо и сердито стал торопить, чтобы ему дали молока. Саша засуетилась, но пока я сняла с керосинки теплое молоко и донесла до его комнаты, он вторично выскочил с досадой в дверь. 29 декабря. Праздник у татар, провожали муллу на три месяца в Мекку, делали ему обед. На улицах Кореиза и Гаспры нарядный веселый народ всяких народностей. Плясали турки хороводом очень характерно и живописно. Пробовала фотографировать, но в движении плохо вышло. Лев Николаевич ходил один гулять в Ай-Тодор. Он кроток и добр сегодня, и все мы дружны и радостны, такое счастье! Днем недовольна: фотография и шила и больше ничего. 30 декабря. Утром приходили к Льву Николаевичу самые разнообразные люди: трое рабочих-революционеров, озлобленных на богатых, недовольных общим строем жизни; потом шесть человек сектантов, отпавших от церкви, из коих трое настоящих христиан, в смысле нравственной жизни и любви к ближнему, а трое – возникших от молокан и близкие к их вере. Не слыхала их бесед с Львом Николаевичем – он не любит, когда им мешают, но по его словам, некоторые умно и горячо говорили. Еще приходил старый человек, состоятельный и более интеллигентный, который хочет на Кавказе, на берегу моря, основать монастырь на новых началах. Чтоб братия вся была высшего образования, чтоб монастырь этот был в некотором роде центром науки и цивилизации, а вместе с тем, чтоб монахи сами обрабатывали землю и кормились своим трудом. Задача сложная, но хорошая. Вечером ходили в читальню, где устроен был танцевальный вечер. Играли странствующие три музыканта-чеха и еще юноша на огромной гармонии. Плясали вальсы, польки, pas de quatre разные горничные, жены и дочери ремесленников, какие-то мужчины из разных классов общества. Плясали и два татарина по-татарски, и два грузина с кинжалами лезгинку; многие, в том числе и земский доктор, энергичный и способный на всё – Волков, плясали трепак, по-русски и вприсядку. Хорошее это дело – народные балики, большое оживление и вполне невинное веселье. Мы все и Лев Николаевич ходили смотреть. 31 декабря. Вот еще год как будто прошел. Последний день довольно сложного, трудного года! Лучше ли будет новый? Всё как будто хуже живется, да и сама не лучше делаешься. День как-то весь пропал в суете, которую среди дня всегда делает приезд Оболенских. Лев Николаевич ходил к Горькому, оттуда приехал с Гольденвейзером, который гостит у нас. Переписывала первую главу «О религии» Льва Николаевича, и пока еще мне не особенно нравится: нового мало сказано, да и бедно как-то содержание. Что дальше будет! Не понравилось мне сравнение Л. Н. с отростком кишки – отброшенная людьми вера в необходимость религии. Посетители: Попов и Маковицкий. Письмо милое от Доры и интересное от Муромцевой. Ходили с Сашей в Кореиз покупать прислуге вино, апельсины и угощения для встречи Нового года. Мы тоже собираемся его встречать, хотя я не люблю этого полупразднества. Сидят, едят, и вдруг в двенадцать часов ночи что-то должно случиться.1902
1 января. Вчера тихо встретили Новый год в семье. Лев Николаевич раньше лег спать, чувствовал себя дурно после ванны. Утром Классен с чудесными фиалками. Переписываю понемногу «О религии». Умно, но чего-то мало, хочется больше горячности, силы убеждения. Ходили с Таней и Ольгой в Юсуповский парк и к морю. Теплый летний день. У моря Горький с женой. Приезжал доктор Альтшуллер. Приходила наша вся прислуга ряженой, топтались и плясали, скучно; скучно мне это, совсем я из всего этого выросла. Играли в винт Лев Николаевич, Гольденвейзер, Сережа и Классен. Написала вечером пять писем, довязала шарф и подарила Илье Васильевичу и повару. Получила милое письмо от Сони и Глебовой, порадовалась, что там, далеко, есть счастливые две семьи моих детей: Ильи и Миши. Какой-то будет новорожденный второй Ванечка Толстой! Такого, какой был первый – уже не может быть. А как бы он радовался, что у его любимого брата Миши есть тоже Ванечка! Гудит страшный ветер, здесь это несносно, и я боюсь за здоровье Льва Николаевича. Днем было тепло, и мы гуляли с Таней и Ольгой, а домой приехали. 4 января. Третью ночь сплю на кожаном диване в гостиной, или, вернее, не сплю, а всю ночь прислушиваюсь ко Льву Николаевичу рядом и боюсь за его сердце. Он третий день болен; главное – перебои в сердце. Вчера и сегодня вставал, выходил к обеду, но сильно ослабевал после обеда, и сегодня мы испугались и вызвали из Дюльбера великокняжеского доктора Тихонова, который сейчас был. Непосредственной опасности не нашел, но грозит, как и все доктора, плохим исходом, если Л. Н. будет вести ту неосторожную жизнь утомления, переедания и проч., которую он ведет. Температура нормальная, но пульс смутительный. Выпал снег с ночи на четверть аршина и лежит до сих пор. Вчера при северном ветре было 3° мороза, сегодня 1° тепла и тихо. Я знала, что погода дурно повлияет на Льва Николаевича, это теперь всегда так. К Альтшуллеру в телефон не дозвонились. Хожу за Львом Николаевичем совсем одна, хотя все предлагают помощь. Но пока не свалюсь сама, я люблю ходить за ним самостоятельно, хотя трудно ужасно, иногда невыносимо с его упрямством, самодурством и полным отсутствием знания медицины и гигиены. Например, доктора велят есть икру, рыбу, бульон, а он вегетарианец и этим губит себя. Читала удивительно хорошую книжечку, перевод «Об обязанности человека» Иосифа Мадзини. Какие мысли, какой язык, полный силы, простоты, краткости и убедительности! Переписывала еще «О религии», кроила себе лиф. Никуда не хожу, боюсь оставлять Л. Н. даже на полчаса. 5 января. Вчера вечером и всю ночь Льву Николаевичу было очень плохо: перебои в сердце, стеснение в груди, бессонница, тоска. Несколько раз я вставала к нему, пил он среди ночи молоко с ложечкой коньяку, принимал (сам спросил) строфант. К утру немного заснул. Был вчера вечером доктор Тихонов и сегодня днем опять. Нашел уплотнение печени, слабость сердца и атонию кишок. Все эти недуги давно появились, но теперь они как-то несомненнее и зловеще идут своим течением, всё тяжелее и чаще проявляя свои угрожающие симптомы. Сам Л. Н. очень угнетен, нас всех от себя удаляет и зовет кого-нибудь, только если что нужно. Сидит в кресле, читает или лежит. Днем опять спал мало. Лежит снег, весь день дул страшный ветер. И всё тоскливо, безнадежно как-то! Голова тяжела. Получила от Сухотина телеграмму, что они все приезжают в Крым на зиму. Рада, что Таня еще поживет с нами, рада, что Саше будет подруга, и Дорик миленький, да и Алю я теперь полюбила. Только бы Л. Н. поправился! О поездке в Москву уже не думаю пока, и во всяком случае будет страшно уехать. А очень, очень нужно! Сижу дома, шью, порчу глаза; отупела, как бывало, в молодости, в Ясной Поляне, когда годами живешь ровной, без подъемов жизнью. Но тогда были дети… 8 января. Несколько тяжелых дней болезни Льва Николаевича. Пульс всё слабый, частый. Вчера были оба доктора: Тихонов и Альтшуллер. Прописали два раза в неделю экстракт крушины в таблетках и шесть дней по пять капель три раза в день строфант. Но Лев Николаевич ничего не хочет делать, вдруг взбунтовался. А я так устала от вечной сорокалетней борьбы, от хитрых уловок и приемов, чтобы хоть какими-нибудь путями заставить принимать то или другое лекарство и вообще помочь себе! Вообще всякая борьба мне стала не под силу. Иногда так хочется от всех на свете удалиться, уйти в себя хоть на время. Болезнь Л. Н. мне стала очень ясна за это время: больны кишки, полная атония, плохи печень и желудок. Надолго ли хватит у него сил переживать эти периодические нездоровья – кто знает. Было вчера ночью 8° мороза, ветер страшный. Сегодня 4° тепла, но мрачно, серо и скучно. Вчера все наши ездили на концерт Гольденвейзера, остались Ольга и я. Сидела весь вечер одна в гостиной, шила, писала, порчу свои глаза. Наконец заснула на диване. Л. Н. давно уже спал, а наши вернулись около двух часов. Сегодня всё утро переписывала «О религии» Льва Николаевича. Это более социалистическое, чем религиозное произведение. Я вчера говорила это Льву Николаевичу. Говорила, что всякое религиозное произведение должно быть поэтичнее, возвышеннее, а его «О религии» очень логичное, не увлекает и не возвышает душу. На это он мне сказал, что только и надо, чтобы было логично, всякая поэзия и возвышенная неясность только путают понимание. Опять думаю о поездке в Москву и ловлю себя на том, что мне этого хочется. 10 января. Как иногда бывает мрачно настроение. Сегодня после обеда сижу одна, шью в темной гостиной. Лев Николаевич рядом в своей комнате. Таня с другой стороны быстро чикает по клавишам «ремингтона». Сережа в столовой молча читает газеты, и Ольга с Сонюшкой наверху. В доме мертвая тишина, и порою страшные порывы ветра рвут всё, и ветер этот гудит и шумит громко и ходит холодом по всему дому. Жизни никакой нет; только одно несомненно нужно и хорошо – это уход за Львом Николаевичем. Он совсем ослаб, даже прикрыть его пледом или поправить одеяло – и то зовет. Смотришь за тем, чтоб он не переел, чтобы не шумели, когда он спит, чтоб нигде не дуло. Клала ему на живот компресс, пьет он Эмс два раза в день. 11 января. Ездила с Таней в Ялту за делами и покупками, подарила ей шляпу к именинам. Маша очень худа и жалка. У бедной Ольги прекратилось движение ребенка, шестой месяц беременности. Очень ее жаль. Привезла домой Сашу. Она вчера ездила верхом в Гурзуф, а сегодня ходила на репетицию пьесы «Не всё коту масленица», где она играет роль Фионы. Кончила переписывать «О религии». Под конец мне понравилось. Хороша мысль о свободе души человека, просвещенного религиозным чувством, но не нова. Вышел у Ясинского роман Левы[141]; боюсь читать. 12 января. Весь день проходит в суете и мелкой заботе о семье. То с внучкой поиграть, то плачущую о своем неудавшемся младенце Ольгу утешить; то Сереже шапку мыла и подшивала; то с Сашей о ее театральном костюме совет держала; то доктор приезжал к Ольге; то вечером клистир готовила Льву Николаевичу; потом бинтовала живот и компресс положила, принесла ему вина, пил он кофе, которое ему варили. Он очень стал всего пугаться. Опять вечером были перебои пульса: он сам принял строфант, заробел, лег, напился кофе и стал мрачен. А лицо у него свежее, совсем не больное. Днем же Л. Н. два часа гулял, а доктор сказал никогда более часа не ходить. Всё нескладно! Таким неразумным и умрет в области гигиены и медицины. Именины Тани. Она приехала из Ялты и грустна. Андрюша тоже тих и грустен; всё не ладится в его супружеской жизни, и его жаль. Сережа уехал в Ялту с мыслью праздновать день открытия Московского университета. Он все эти дни во флигеле молча один занимался музыкой. А у меня и это отнято! Из дому уйти нельзя, не на кого оставить и Льва Николаевича, и Ольгу. Тоскливо сложилась и старческая жизнь. А какая-то буря желаний, стремление куда-то выше, духовнее, содержательнее жить еще всё не угасла в душе. Когда? Видно, на том свете. 14 января. Время так и летит… Зимы нет, и нет никакой определенности во времени. И всё не радостно в жизни. Здоровье Льва Николаевича не поправляется. Надо бы совершенно переменить пищу, но упорный, независимый и, не в обиду будь сказано, страшно упрямый характер великого человека не склонится ни за что на питание рыбой и курицей, как ему советуют, а будет есть морковь и цветную капусту, как сегодня, и страдать от этого. Вчера просидела возле его комнаты до трех с половиной часов ночи, ждала уехавших играть в карты сыновей Сережу и Андрюшу. Спал Лев Николаевич хорошо. Сижу и переписываю письмо его к государю. Боюсь, что рассердится царь за жестокую правду, ничем не смягченную. 15 января. У Льва Николаевича жар, 37 и 7. Был Альтшуллер. Доктора ничего не понимают, а дело плохо. Я очень встревожена. 16 января. Ночь была ужасная. Жар у Л. Н. усилился, дошло до 38. Провела без сна всю ночь в гостиной, рядом с Л. Н. К утру пот, температура 39 и 1, болит левый бок. И вчера, и сегодня мазали йодом, положили компресс. В два часа дня дали пять гран хинина и два раза в день по пять капель строфанта. Все-таки он вставал, писал, играл в винт с Классеном, сыновьями и Колей Оболенским. Переписала Таня, запечатала и послала к великому князю Николаю Михайловичу письмо Льва Николаевича к государю Николаю II, которое Николай Михайлович взялся передать, если удобно. Письмо резкое, и я очень боюсь за то, что государь наконец рассердится. Таня всё собирается уезжать и всё не решается. Но, кажется, завтра уедет. Ездили с Сашей, Ольгой и Наташей в горы, в сосновую рощу. Тепло, ясно, виды со всех сторон красивые. На столе у меня цветы свежие – прелестные белые подснежники, похожие на цветы померанцевые. Весь день и вечер шила с отупением; заботы, огорчения и ожидание тяжелого. 17 января. Всё то же, те же лекарства, та же боль в боку, только сам Лев Николаевич немного бодрей. Были Чехов и Альтшуллер. Тепло, ясно. Уехала Таня к мужу в деревню. Переписывала письмо Л. Н. к государю: злое, задорное письмо, всё бранящее и дающее самые нелепые советы о владении землей. Надеюсь, великий князь Николай Михайлович поймет, что это письмо – продукт больной печени и желудка, и не передаст царю. Если же передаст, то ожесточит царя против Л. Н., и как бы чего нам не сделали. 18 января. Льву Николаевичу немного лучше, хотя всё еще желудок не наладился, бок немного болит и температура утром 36 и 3, вечером 37. Сидит весь день, читает, писал письма, а вечером играл в винт с сыновьями, Классеном и Колей Оболенским. Каждый вечер, как ребенка, укладываю спать: пеленаю живот с компрессом из воды и камфарного спирта, ставлю молока в стакане, часы, колокольчик; раздену, покрою его и потом сижу рядом в гостиной, пока он заснет, и читаю газеты. Большим я вооружилась терпением и очень стараюсь облегчать его болезненное состояние. 20 января. Ходила смотреть, как Саша играла роль Фионы, старой экономки в пьесе «Не всё коту масленица», в здешней народной читальне. Это первый опыт Саши, и недурно. Странное сочетание людей играющих: жена доктора, кузнец, фельдшерица, каменотес и графиня. Это хорошо. Льву Николаевичу лучше, бок меньше болит, желудок лучше, температура утром 36 и 3, вечером 36 и 9, как вчера. Строфант принял, хинину не принимал. Компресс сегодня не клали. Ночевала возле его комнаты, он спал хорошо и встал бодрей. Выпал снег мокрый, густой и тихий, и мне стало легче, а то нездоровилось. 21 января. Ночь и день тревоги, тупого отчаяния, ожидания и, наконец, нервной тяжелой сонливости. Всё это от ухудшения здоровья Льва Николаевича. Болел бок, поднялась температура до 38. Были два доктора: Елпатьевский и Альтшуллер, определили возврат лихорадки и застой в кишках, а боль – невралгическая. Лежит снег, на точке замерзания. 23 января. Вчера вечером приехал доктор Бертенсон (почетный лейб-медик) из Петербурга. Умный, простой в обращении человек и, очевидно, опытный и знающий доктор. Сегодня приехал из Москвы тоже умный доктор Щуровский. Состоялся серьезный консилиум с Альтшуллером, и на следующей странице я напишу их предписания. Разговоры о фельетоне Амфитеатрова в газете «Россия», где намеки на государя и его семейных, о ссылке в Иркутск автора этой статьи или, вернее, сказки об обжорстве, глупости, нахальстве министра Сипягина. Рассказывал Бертенсон много о великих князьях, о петербургском обществе. Щуровский рассказывал о своих поездках на Кавказ. День прошел утомительно. Были Горький с Сулержицким. Бертенсон непременно хотел сделать визит Горькому и поехал к нему. Щуровский едет завтра к Чехову в Ялту. За болезнью Л. Н. все интересы жизни отодвинулись. Получила вчера письмо от Сергея Ивановича: пишет, чтобы я приехала слушать удивительную певицу Оленину-д’Альгейм. А я почувствовала какое-то равнодушие ко всему в мире и усталость! Ох, как я вообще устала жить! Сегодня ничего ровно не делала, кроме ухода за Львом Николаевичем. Глаза очень плохи, даже читать не могу. И только одно важно, только одно нужно и радостно: близость с Л. Н.! Так вот, о предписаниях докторов. Режим: 1) Избегать всякого утомления как физического, так и нравственного (лишних………* и т. п.). Гулять не много, соображаясь с силами, не задаваясь целью укреплять силы моционом. Безусловно запрещается верховая езда и подъемы. Отдыхать днем 1—½ часа, ложась в постель раздетым. Кушать три раза в день, причем не употреблять вовсе гороха, чечевицы, капусты цветной. Пить молоко с кофе не менее четырех стаканов в день (¼ стакана кофе, ¾ стакана молока). Молоко, если нить отдельно, то с солью (¼ чайной ложки на стакан). Вино можно иногда заменять портером (не более двух мадерных рюмок в день). Ванну одну в две недели в 28°, с заранее разведенным (полтора фунта) мылом. Сидеть в ванне пять минут, облиться чистой водой той же температуры. Ванну делать днем. В промежутки между ваннами делать обтирания тела из мыльного спирта пополам с одеколоном. Лечение: 1) Два раза в неделю масляные клистиры из 1 фунта масла, чуть подогреть, на ночь. В остальные дни пилюли на ночь, от 1 до 5, смотря по действию. Если действия пилюль недостаточно, то ставить утром водяную клизму. Многоточие в подлиннике. В течение месяца пить три раза в день за полчаса до утреннего кофе, завтрака и обеда по ⅓ стакана Karlsbad Mühlbrunn, слегка подогретый. Облатки каломеля по три облатки в день в течение трех дней; через три дня повторить, и т. д. В случае надобности сердечных средств (строф.), по усмотрению врача непременно давать. В случае сильной нервной боли принимать облатки от боли (+ coff.). Если врач найдет нужным при указанном режиме дать хинин, то этому препятствовать нельзя. Бертенсон. Еда Льва Николаевича должна быть: 4 стакана молока с кофе. Каши: гречневая, рисовая, овсяная, смоленская, размазня гречневая и каша с молоком манная. Яйца: глазунья, сбитые яйца, заливные яйца, яичница со спаржей. Овощи: морковь, репа, сельдерей, брюссель, картофель печеный, картофельное пюре, жареный картофель лапшой, кислая, мелко изрубленная капуста, салат, предварительно ошпаренный кипятком. Питье: портер, вода с вином, молоко с солью. Плоды: печеные протертые яблоки, вареные плоды, сырые, мелко изрубленные яблоки, апельсины только сосать. Желе и кремы всякие хороши. Дутые пироги. Записано после. 23-го вечером приступ грудной жабы напугал ужасно. Сразу температура поднялась до 39. 24-го. Утром при слушании оказался в левом боку плеврит. Щуровского вернули, и он лечит. 25-го. Решили, что воспаление левого легкого. Позднее оно распространилось и на правое. Сердце плохо было всё время. 26 января. Не знаю, зачем я пишу, это беседа моей души с самой собой. Мой Левочка умирает… И я поняла, что и моя жизнь не может остаться во мне без него. Сороковой год я живу с ним. Для всех он – знаменитость, для меня он – всё мое существование, наши жизни шли одна в другой, и, боже мой! сколько накопилось виноватости, раскаяния… Всё кончено, не вернешь. Помоги, Господи! Сколько любви, нежности я отдала ему, но сколько слабостей моих огорчали его! Прости, Господи! Прости, мой милый, милый, дорогой муж! Я не прошу ни сил у Бога, ни утешения, я прошу веры, религии, поддержки духовной, божьей, той, с которой жил всё последнее время мой муж драгоценный. На днях он где-то прочел: «Кряхтит стари пушка, кашляет старинушка, пора старинушке под холстинушку». И говоря нам это, он намекал на себя и заплакал. Боже мой! Потом прибавил: «Я плачу не от того, что мне умирать, а от красоты художественной». 27 января. Хотелось бы всё записывать про моего милого Левочку, но не могу, слезы и мучительная боль, как камнем, всю раздавили… Вчера Щуровский предложил подышать кислородом, а Левочка говорит: «Погодите, теперь камфара, потом кислород, потом гроб и могила». Сегодня я подошла, поцеловала его в лоб и спрашиваю: «Тебе трудно?» Он говорит: «Нет, спокойно». Маша спросила его сейчас: «Что, гадко тебе, папа?» Он ответил: «Физически очень гадко, а нравственно хорошо, всегда хорошо». Сегодня утром сижу возле него, он дремлет и стонет и вдруг громко меня позвал: «Соня!» Я вскочила, нагнулась к нему, он на меня посмотрел и говорит: «Я видел тебя во сне, что ты где-то лежала…» Он, милый, спрашивает обо мне, спала ли я, ела ли… Последняя забота обо мне кого бы то ни было! Помоги, Господи, прожить с Тобой и не ждать ничего от людей, а благодарить за всё, что они мне дадут. Я многое получила от Бога и благодарю Его! Как часто, чувствуя, что мой Левочка уходит из жизни, я точно на него за это досадовала, точно я хотела сделать невозможное: разлюбить его прежде, чем он будет от меня взят. Плеврит идет своим ужасающим ходом, сердце всё слабеет, пульс частый и слабый, дыханье короткое… Он стонет… Эти стоны день и ночь глубокими бороздами врезываются в мою голову, мой слух, мое сердце. Всю жизнь их буду слышать. Часто он заговаривается о том, что его занимало в последнее время: о письме царю, письмах вообще. Я слышала – раз он сказал: «Ошибся», а то еще: «Не поняли». Он благодарно и ласково относится ко всем окружающим и, видно, доволен уходом, всё говорит: «Ну, прекрасно». Нет, не могу писать, он стонет внизу. Ему впрыскивали несколько раз камфару и морфий. Завтра приезжает Таня, выехал и Лева из Петербурга. Хоть бы дожил проститься со всеми детьми. 5 часов вечера. Температура повышается, всё время бред. Но когда на минуту опомнится, пьет молоко или лекарство. В бреду раз сказал: «Севастополь горит». А то опять позвал меня: «Соня, ты что? Записываешь?» Несколько раз спрашивал: «А Таня когда приедет?» Сказала ему сегодня, что и Лева выехал. Беспрестанно то смотрит, а то спрашивает: «А который час?» Спросил, которое сегодня число. 28 января. Приехала Таня, Сухотины, Илья, шум, заботы о ночлегах и еде. Как это всё ужасно: тяжелый, серьезный путь высокой души к переходу в вечность, к соединению с Богом, которому служил, – и низкие земные заботы. Тяжело ему, милому, мудрому… Вчера говорил Сереже: «Я думал, что умирать легко, а нет, очень трудно». Еще он сказал доктору Альтшуллеру: «В молитве “Отче наш” различно понимаются слова “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”. Это просьба у Бога дать на каждый день духовную пищу. И вот вы, доктора, ежедневно служите больным, и это хорошо, особенно когда бескорыстно». Сегодняшний день Лев Николаевич провел лучше тем, что менее страдал, спал часа полтора днем, мог разговаривать. Но силы его слабеют, главное, сердце плохо. Не позволяю себе ни о чем думать, надо быть бодрой и ходить за ним. Стараюсь глубже хоронить в своем сердце то отчаяние, которое рвется наружу. Сейчас звал к себе Таню. Он был рад ее приезду; и еще ему дала удовлетворение телеграмма от великого князя Николая Михайловича, что он передал лично письмо государю. И того и другого Л. Н. очень ждал. Опять впрыскивали камфару, дают дигиталис, молоко с коньяком, Эмс, шампанское. Клали мушку на левый бок, но три дня тому назад. Одну ночь дежурит доктор Волков, другую Альтшуллер, третью Елпатьевский, Щуровский весь день. 29 января. Утро, 9 часов. Меня усиленно послали наверх спать, но, прорыдав час, я хочу лучше еще кое-что записать. Ночь Левочка мой (теперь уже не мой, а божий) провел очень тяжелую. Как только начнет засыпать, его душит, он вскрикнет и не спит. То просил меня и Сережу посадить его, то пил раз молоко, раз полрюмки шампанского, а то воду. Он не жалуется никогда, но тоскует и мечется ужасно. Всякий раз, как он задохнется, и у меня спазма в груди. Да, моя половина страдает, как же мне не болеть! Переход каждого любимого существа в вечность просветляет души тех, кто с любовью их провожает. Помоги, Господи, душе моей до конца жизни остаться на той высоте и просветлении, которые я всё больше и больше испытываю эти дни! Сейчас он заснул. Меня сменили Лиза Оболенская и Маша-дочь. Всю ночь до четырех часов я сидела при нем и служила ему. 30 января. Вчера с утра было настолько хорошо, что часу в первом Л. Н. послал за дочерью Машей и продиктовал ей приблизительно такие слова в свою записную книжечку: «Старческая мудрость, как бриллианты-караты, чем дальше, тем дороже, и их надо раздавать». Потом он спросил свою статью о свободе совести [ «О веротерпимости»] и стал диктовать в разных местах поправки. Днем температура была нормальная, Л. Н. был бодр, спокоен, и мы все ожили. С вечера я водворилась на свое ночное дежурство и просидела до четырех часов, следя за дыханием, и всё было хорошо. Вечером вчера приехал Лева, мне всегда жалкий и приятный. Сегодня вечером приехал и жизнерадостный Миша. Сегодня утро я пошла поспать, а когда вернулась, узнала, к ужасу моему, что температура опять 37 и 6. Так сердце и упало. Говорят доктора, что идет рассасывание в легких, что не опасно и сердце пока удовлетворительно. Верить ли? Так хочется хоть обмануться, сил нет страдать. Спросил сегодня, что с почты; еще попросил сначала иллюстрированную какую-нибудь газету, потом «Новое время» и «Русские Ведомости». Последних двух ему не дали, боясь утомления. Часам к трем начал задыхаться и метался; потом заснул. Дают то каждые четыре часа, то через два часа дигиталис. Поят кофеем с молоком, молоко с Эмсом, яйцо, вино с Эмсом, шампанским запивает дигиталис. Сейчас восьмой час вечера, он спокойно спит. Когда ему переменять положение, он охотнее всего зовет Андрюшу, ест охотнее всего из рук Маши. Мои страдания о нем невольно сообщаются ему, и он меня часто ласкает, бережет мои силы и принимает от меня только легкие или интимные услуги. 31 января. Ночь до четырех часов провел тяжелую. Метался, задыхался, звал два раза Сережу и просил посадить его. Вчера говорил Тане: «Что же это рассказывали про Адама Васильевича (графа Олсуфьева), что он легко умер?[142] Совсем нелегко умирать, очень трудно; трудно сбросить с себя эту привычную оболочку», – прибавил он, показывая на свое исхудавшее тело. Сегодня Левочке получше: он призывал Дунаева и Мишу; вообще, он радуется каждому приезду. Сегодня приехала и Соня, жена Ильи. Всех много, шумно, а процесс умирания великого человека, любимого мной мужа, идет своим путем, я не верю в полное выздоровление и едва верю во временную отсрочку… Диктовал опять и в записную книгу, и в статьи начатые [ «О веротерпимости» и «Что такое религия и в чем сущность ее?»]. Лежит спокойный, серьезный. Продиктовал длинную телеграмму брату Сергею. 1 февраля. Ночь провел ужасную. До семи часов утра не спал, болел живот, задыхался. Растирала живот несколько раз, ничего не помогало. Раз только под моей рукой уснул минут десять, я как терла, так и замерла, стоя на коленях, с рукой на левом его боку, думала, поспит, но он тотчас же задохнулся и проснулся. В пять часов утра я ушла, меня заменили Лиза и Сережа-сын. В семь часов разбудили доктора Щуровского, и он впрыснул морфий. Елпатьевский, доктор, тоже дежурил, но был так уставши, что всё спал. День провел довольно спокойно. К левому боку Щуровский поставил еще мушку. Диктовал Маше в записную книгу. 2 февраля. Вчера вечером, кроме Сони, приехали еще дядя Костя старенький, Варя Нагорнова. Лев Николаевич каждому посетителю, по-видимому, рад. Ночь вчера началась опять тревожно. Когда я его поднимала с Буланже и много раз служила ему, он мне сказал: «Я тебя замучил, душенька». В три часа ночи впрыснули маленькую долю морфия (шестое деление), и через десять минут Л. Н. заснул и спал хорошо до утра. Сегодня в первый раз температура вместо 36 и 9 стала 35 и 9. Ел охотно тапиоку на молоке и яйцо и за обедом ждет с удовольствием воздушного пирога, разрешенного доктором. Диктовал Маше поправки в статье «О свободе совести». Вчера сняли группу со всех моих детей со мной. На память тяжелого, но содержательного и важного времени. 3 февраля. Вчера к ночи опять ужас овладел моим сердцем. Температура поднялась до 37 и 8. Ночь тяжкая, в три часа ночи опять морфий впрыснули, но тоска и бессонница продолжались. До пятого часа я была с ним вдвоем, приходили два раза Сережа и доктор Альтшуллер. Когда я поднимала Левочку и служила ему, не присаживаясь ни на минуту, он жал и гладил нежно мои руки и говорил: «Благодарствуй, душенька» или: «Я тебя измучил, Соня». И я целовала его в лоб и руки и говорила, что мне большое счастье ходить за ним, лишь бы как-нибудь облегчать его страдания. Было стеснение в груди, тяжелое дыхание; он всё пил воду с вином и шампанское. Сегодня утром всё жар 37 и 4 или 37 и 2. Но диктовал всё более и более слабым голосом поправки к статье. Интересуется содержанием писем, которые мы ему вкратце рассказываем. Сегодня в «Русских Ведомостях» наконец напечатано о болезни Льва Николаевича. Вчера утром уехал Лева в Петербург. Сейчас Л. Н. поел немного супу, яйцо и воздушный пирог. Спросил Соню: «А где вы в прошлом году мать схоронили?» – «Мы ее свезли, по воле брата, в Паники». – «Как бестолково, – сказал Л. Н., – зачем возить мертвое тело». 4 февраля. Прошлую ночь впрыснули морфий, провел довольно спокойно. Утром был Л. Н. бодрее, чем все дни, температура 36 и 7, к вечеру опять поднялось до 37 и 7. Щуровский уехал в Петербург. Сегодня же уехали Илья и Миша. Прощаясь с ними, Л. Н. сказал, что, может быть, умрет, что последние двадцать пять лет он жил тою верою, с которой и умрет. «Пусть близкие мои меня спросят, когда я совсем буду умирать, хороша ли, справедлива ли была моя вера; если и при последних минутах она мне помогла, я кивну головой в знак согласия». Илюша плакал, когда простился. Два раза сегодня Левочка призывал меня, раз спросил: «Что ты такая смирная, ты лежишь?» А я сидела, и мне было грустно, одиноко на душе, и он меня почувствовал. 5 февраля. Положение всё то же. Ночь под морфием, впрыснули восьмое деление. С утра 36 и 7, к шести часам вечера 37 и 4. Спокойное состояние, молчаливое; пьет шампанское, молоко с Эмс, ест всё тот жеовсяный пюре-суп, яйца, кашки. Положили сегодня согревающий компресс. Сижу усталая, застывшая; всё переболела сердцем, всё передумала, многое перечувствовала – и вдруг вся приникла в ожидании. 6 февраля. 9 часов вечера. Бессонная ночь, два раза впрыскивали морфий, ничто не помогало. В пятом часу, усталая, я ушла отдохнуть. Утро всё прошло в тревоге. Днем озноб и вдруг сильный жар. Температура дошла до 38 и 7. Боль в груди. Приехали Елпатьевский и Альтшуллер. Говорят – кризис. Воспаление вдруг стало разрешаться со всех сторон. Что-то будет, когда спадет жар, и не упадут ли сразу силы? Мы все опять в ужасе. Я лежала два часа как мертвая, сразу силы меня оставили. Как выдержу ночь? Сегодня все будут не спать в ожидании кризиса. «Всё балансирую», – сказал сегодня Лев Николаевич племяннице Вареньке. Следит сам за пульсом и температурой, пугается, и мы принуждены обманывать, уменьшая градусы. Холод, ветер ухудшают дело. 7 февраля. Положение почти, если не сказать совсем, безнадежное. Пульс с утра был не слышен, два раза впрыскивали камфару. Ночь без сна, боль в печени, тоска, возбужденное состояние от валериановых капель, от шампанского и проч. До пятого часа я внимательно старалась облегчить всячески его страдания. Милый мой Левочка, он только и засыпал, когда я легкой рукой растирала ему печень и живот. Он всё благодарил меня и говорил: «Душенька, ты устала». К утру у Ольги начались схватки, и в семь часов она родила мертвого мальчика. Сегодня Лев Николаевич говорит: «Вот всё хорошо устроите, камфару впрыснете, и я умру». Другой раз говорит: «Ничего не загадывайте вперед, я сам не загадываю». А то спросил записи хода своей болезни: температура, лекарства, питание и проч., и внимательно читал. Потом спрашивал Машу, что она испытывала, когда был кризис ее тифа. Бедный, бедный, ему хочется еще жить, а жизнь уходит… Утром температура была 36 и 2, сейчас, в седьмом часу вечера – 36 и 7. Ничего не хочет пить, всё насильно. И когда сказали, что температура 36 и 6, он с отчаянием сказал: «И будет 37, и 37 и 5 и так далее». Напал густой снег, сильный ветер. Ненавистный Крым! В ночи было 8° мороза. 8 февраля. Ночь Левочка провел спокойнее, хотя часто просыпался, но всё же спал. Утро тоже спал. Температура была 36 и 4, и вечером – 36 и 7. Сейчас семь часов вечера, он слаб, дремлет, но всё хорошо, и пульс, и разрешение воспаления. Диктовал сегодня Маше страничку своих мыслей: всё против войны и братоубийства, как он выразился. Сидела с ним ночь до пятого часа утра и с Буланже, переворачивала его, меняла намоченное белье, поила лекарствами (дигиталис), шампанским и молоком. Заглядываю в себя и вижу, что всё существо мое стремится к тому, чтоб выходить любимого человека. И вдруг сидишь с закрытыми глазами, и понемногу выступают всякие мечты, целые планы жизни самой разнообразной, самой неправдоподобной… Опомнишься к действительности, и опять нытье в сердце, что замирает жизнь человека, с которым так сжилась и без которого я себя представить не могу. Странная, двойственная внутренняя жизнь. Объясняю себе это своим несокрушимым здоровьем, громадной жизненной энергией, просящейся наружу и находящей себе пищу только в те тяжелые минуты, когда действительно нужно что-нибудь делать: переворачивать, кормить, мыть, лечить больного; не спать – это самое трудное. А как только бездействие, сиденье часами при больном, так жизнь воображения начинает свою работу. Если б не слепнувшие глаза – я бы читала, какое это было бы хорошее развлечение и занятие времени! 9 февраля. Опять бессонная ночь, полная труда и тревог и страданий! Болели печень и живот. Когда ночью он просил его посадить и мне сесть сзади, чтоб поддерживать его – какие я испытывала страдания ощущать жалкие косточки моего мощного силача Левочки, бодрого, сильного и теперь жалкого, страждущего! Никто из ухаживающих не может ощущать того, что я. Кроме душевной боли, я всё время чувствую, что что-то со страданиями отдирается от меня. На днях Л. Н. сказал: «Всё болит, вся машина разладилась. Нос вытащишь, хвост увязнет, хвост вытащишь, нос увязнет». А сегодня утром, утомленный, говорит: «Как тяжко, умирать не умираешь и не выздоравливаешь». Что-то будет! Вчера был ясный день, и ему было лучше. Сегодня опять снег идет и темно, серо, на точке замерзания, а вчера было 3° мороза. Еще вечером вчера опять диктовал Л. Н. Павлу Александровичу Буланже свои мысли. 10 февраля. Опять сегодня ясный день и 3° тепла, и потому наш дорогой больной опять ночь спал хорошо и менее тоски днем, хотя слабость страшная, температура дошла до 36 и 3. Он ничего сегодня не говорит, ничем не интересуется, тихо лежит, пил три раза понемногу кофе, раз шампанского спросил, впрыскивали два раза камфару. Он спокоен, и на меня нашло спокойствие. Перечитываю сочинение Льва Николаевича «Христианское учение», и мне кажется всё время, что я это всё давно, давно, с детства знаю и сама передумала двадцать раз. «Цель жизни человеческой в желании блага себе и всему существующему. Достичь этого можно только единением людей между собой…» А кто из нас в раннем еще детстве не испытывал этого чувства, чтоб всем было весело и хорошо? Мама веселая, папа смеялся, няне подарили платье, собачку накормили, с Мишей помирится – и так всё весело, хорошо, потому что всем хорошо. И вот живешь, вырастаешь. Везде страдания, всем не хорошо. На днях газету пересматриваю: в Шемахе землетрясение, погибли в страшных мучениях тысячи людей… Англичане (солдаты) сделали из живых женщин и детей вал и им себя защитили, стреляя в буров, то есть в отцов, мужей, братьев, сыновей этих самых женщин. И уж не веришь, что мое горячее детское желание, чтоб всем было хорошо, имело бы какое-нибудь значение, и руки опускаются. Конечно, это не мешает духу стремиться всё к тому же, к любви, к Богу. Вечер. Весь день почти Л. Н. спал, вечером подозвал Машу и меня и велел написать Леве, который очень мучился, что огорчил отца своим романом и рекламой, сделанной редактором журнала о том, что роман написан против толстовцев, следующие слова: «Жалею, что сказал слово, которое огорчило тебя. Человек не может быть чужд другому, особенно когда так близко связан, как я с тобой. О прощении речи не может быть… конечно». Взволновали мою маленькую душу разные объявления о концертах, об исполнении вещей сочинения Сергея Ивановича, и я, как голодный хочет пищи, вдруг страстно захотела музыки, и музыки Танеева, которая своей глубиной так сильно на меня действовала. 12 февраля. Эти дни Л. Н. очень соплив, слаб и мало говорит. Вчера спросил у доктора Волкова, как лечат в простонародье таких стариков, как он, впрыскивают ли им камфару, кто их поднимает, чем питают. Волков ему всё рассказывал, говорил, что лечат так же, но что поднимают и помогают домашние, а часто соседи. Вернулся Щуровский, привез свою дочку. Саша больна. Стало теплей. Измучилась я и физически и душевно, но Бог дает силы, и то благодарю Его. 13 февраля. Опять плохо проведенная ночь. Вчера весь день температура держалась около 37; сегодня держится на 36 и 5. Но сегодня большая слабость и сонливость весь день, даже не умывался и сонный едва проглотил две маленькие чашечки кофе, два яйца и один стаканчик молока. Утро я спала, весь день сижу с Левочкой и шью разные подушечки, подстилочки и т. п. Кончила сегодня перечитывать «Христианское учение». Очень хорошо о молитве и будущей жизни. 14 февраля. Ночь тревожная. Давно я не была так слаба и утомлена, как сегодня. Опять сердце мое слабеет, и я задыхаюсь. Читала вчера детям, Варе Нагорновой и барышням свой детский рассказец, еще не конченный, «Скелетцы», и, кажется, понравилось. Относительно Левочки не знаю, что думать: он всё меньше и меньше ест, всё хуже и хуже проводит ночи, всё тише и тише разговаривает. Ослабление это временное или уже окончательное – не пойму, всё надеюсь, но сегодня опять напало уныние. Как бы мне хотелось до конца с нежностью и терпением ходить за ним, не считаясь со старыми сердечными страданиями, которые он мне причинял в жизни! А вместе с тем сегодня я горько плакала от уязвленной вечно любви моей и заботы о Льве Николаевиче: спросил он овсянки протертой, я сбегала в кухню, заказала и села около него; он заснул. Овсянка поспела, и когда Л. Н. проснулся, я тихо положила на блюдечко и предложила ему. Он рассердился и сказал, что сам спросит и во всю болезнь пищу, лекарства, питье принимает от других, а не от меня. Когда же надо его поднимать, не спать, оказывать интимные услуги, перевязывать компрессы – он всё меня заставляет делать без жалости. И вот с овсянкой я употребила хитрость: позвала к нему Лизу, А сама села рядом в комнате, и как только я ушла – он спросил овсянку и стал есть, а я стала плакать. Этот маленький эпизод характеризует всю мою трудную с ним жизнь. Труд этот состоял в вечной борьбе с его духом противоречия. Самые разумные, нежные мои заботы о нем и советы всегда встречались протестом. 15 февраля. Третий день Левочка слабеет и отказывается принимать пищу. Сегодня осложнилось сильной болью в желчном пузыре. Я надела с Машей ему компресс из масла с хлороформом и вместе согревающий; сейчас полегче. Ноги и руки холодеют… Доктора всё дают надежду, но сердце болит невыносимо и плохо надеется. Сегодня ночь спал довольно много и хорошо, я дежурила до пяти часов утра, потом меня сменила Лиза. Когда Левочка страдал от колючей боли в правом боку, я нагнулась, поцеловала его в лоб и руки, говорю, что мне так жаль его, что он опять страдает. Он слабо взглянул на меня полными слез глазами и тихо сказал: «Ничего, душенька, это хорошо». И я рада, что сегодня в первый раз увидала в нем не мрачное желание ожить, а покорное смирение. Помоги ему Бог, так легче и страдать и умирать. Больна Саша. Уж и за нее стало страшно. Боже мой, какую мы переживаем мрачную зиму! Два мертворожденных внука, болезнь тяжкая Льва Николаевича – и что еще впереди! Сегодня у Л. Н. температура 36 и 2, а пульс – 100. Впрыскивали опять камфару. Вечером. Получила письмо от петербургского митрополита Антония, увещевающего меня убедить Льва Николаевича вернуться к церкви, примириться с церковью и помочь ему умереть христианином. Я сказала Левочке об этом письме, и он мне сказал было написать Антонию, что его дело теперь с Богом, что «моя последняя молитва такова: “От тебя изошел, к тебе иду. Да будет воля твоя”». А когда я сказала, что если Бог пошлет смерть, то надо умирать, примирившись со всем земным, и с церковью тоже, на это Л. Н. мне сказал: «О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом?» Потом Л. Н. прислал мне Таню сказать, чтоб я ничего не писала Антонию. Сейчас у него усилились боли в правом боку, воспаление держится, и завтра поставят мушку. Туман, свежо; перед Гаспрой стоит в море пароход, и сирены жалобно кричат. Видно, пароходы стоят на якоре и боятся пускаться в туман. 16 февраля. Сегодня Льву Николаевичу немного лучше: он не страдает ничем, лежит тихо, спал и ночью, и днем лучше. Боюсь радоваться. Уехал Щуровский, приезжает Сливицкий, бывший земским врачом у Сухотиных, человек немолодой, хороший. С утра погода была ясная, теплая, теперь опять заволокло. Читала, сидя при спящем Льве Николаевиче, о последних годах жизни Байрона. Много незнакомых имен, эпизодов, много специального, но очень интересно. Какой был сильный, значительный человек и поэт! Как правильно относился ко многим вопросам, и теперь еще не дозревшим в обществе. Трогательна кончина и друга его Шелли, утонувшего в море, и его самого, преследующего в Греции цель общего умиротворения. Удивительно, как бескорыстны доктора: ни Щуровский, ни Альтшуллер, ни бедный, но лучший по доброте из трех – земский врач Волков, никто не берет денег, а все отдают и время, и труд, и убытки, и бессонные ночи. Сегодня поставили мушку к правому боку. Вечером разломило мой затылок, голова совсем не держится, я прилегла на диване в комнате, где лежит Лев Николаевич, он меня кликнул. Я встала, подошла. «Зачем ты лежишь, я тебя так не позову», – сказал он. «У меня затылок болит, отчего же ты не позовешь, ведь ночью ты же зовешь меня?» И я села на стул. Он опять кликнул. «Поди в ту комнату, ляг, зачем ты сидишь?» – «Да ведь нет никого, как же я уйду?» Пришел в волнение, а у меня чуть не истерика, так я устала. Пришла Маша, я ушла, но захватила дела со всех сторон: бумаги деловые от артельщика из Москвы, повестки, переводы. Всё надо было вписать в книгу, подписать и отправить. Потом Саше компресс, потом прачке и повару деньги, записки в Ялту… 19 февраля. Несколько дней не записывала, очень труден уход, времени остается мало, едва на хозяйство и нужные дела и письма. Бедный мой Левочка всё лежит слабенький, всё томится продолжительной болезнью. Приехал 17-го вечером Сливицкий, доктор, жить пока постоянно. Приезжают всякий день Волков и Альтшуллер; впрыскивают ежедневно камфару, дают Nux Vomica[143]. Пьет Л. Н. очень охотно, до четырех сегодня полубутылочек кефира. Находят доктора, что очень туго разрешается воспаление правого легкого. Но меня больше всего смущает ежедневная лихорадка. Утром температура 36 и 1, к шести часам вечера – уже 37 и 5. Так было вчера и сегодня. Татарин пришел на поклон, с желанием здоровья, принес феску и чадру в подарок; и Л. Н. даже померил феску. А третьего дня ночью опять позвал Буланже и диктовал ему свои мысли. Какая потребность умственной работы! Лиза Оболенская не уезжает, остается ухаживать за Львом Николаевичем, и меня это тронуло. 20 февраля. Вчера было лучше, температура дошла только до 37 и 1, сам Л. Н. бодрее. Говорит доктору Волкову: «Видно, опять жить надо». Я спрашиваю: «А что, скучно?» Он оживленно вдруг сказал: «Как скучно? Совсем нет, очень хорошо». 22 февраля. Льву Николаевичу лучше, температура утром 36 и 1, вечером – 36 и 6. Впрыскивают камфару и мышьяк второе утро. Уехал сегодня Буланже, с неохотой возвращаясь к семье. Какое это несчастье иметь и не любить семью. Остаются один трудности. Продолжаю сидеть ежедневно, до пятого часа утра, а потом от утомления и спать не могу. Весь день сижу, шью в комнате больного, которого всякий малейший шорох раздражает. Хозяйство здесь трудно и скучно по дороговизне. Написала несколько слов в ответ на письмо митрополита Антония. Больна всё Саша, острый перепончатый колит; кроме того, ухо и зубы болят. Холодно, снег шел. Получила от Бутенева письмо с предложением отказаться от звания попечительницы приюта, так как отсутствую и не могу быть полезна приюту. Посмотрим, кого выберут и как поведут свои дела. 23 февраля. Опять плохая ночь. К вечеру поднялась температура до 37 и 4, а пульс доходил до 107, но скоро перешел на 88, 89. Ночью позвал меня: «Соня?» Я подошла. «Сейчас видел во сне, что мы с тобой едем в санках в Никольское». Утром он мне сказал, что я очень хорошо за ним ночью ходила. 25 февраля. Первый день Великого поста. Так и хочется этого настроения спокойствия, молитвы, лишений, ожидания весны и детских воспоминаний, которые возникали в Москве и в Ясной с наступлением Великого поста. А здесь всё чуждо, всё безразлично. Лев Николаевич приблизительно всё в том же положении. Сам он пободрей, спал ночью от 12 до 3 в первый раз без просыпаний; в 5 часов утра я ушла спать, и он плохо провел остальную ночь. Утром читал газеты и интересовался полученными письмами, но неинтересными. Двое увещевают вернуться к церкви и причаститься – и раньше были такие письма, – двое просят сочинения даром, два иностранца выражают чувства восторга и уважения. Получила и я письмо от княжны Марии Дондуковой-Корсаковой с просьбой обратить Л. Н. к церкви и причастить. Вывели, помогли выйти ему из церкви эти владыки духовные, а теперь ко мне подсылают, чтобы я его вернула. Какое недомыслие! Серо, холодно, ветер. Отвратительный весь февраль, да и вообще климат очень нездоровый и дурной. Саше лучше. 27 февраля. Вчера ничего не писала, с утра уже заметила ухудшение в состоянии Льва Николаевича. Он плохо накануне спал, вчера день весь мало ел, посреди дня поднялась температура до 37 и 5, а к ночи стала 38 и 3. И опять ужас напал на меня: когда я считала этот ужасный, быстрый, до 108 ударов в минуту, с перебоями пульс, со мной чуть дурно не сделалось от этой сердечной angoisse[144], которую я уже столько раз переживала за эту зиму. Но ночь спал Л. Н. недурно, к трем часам температура стала опять 37 и 5, а к утру сегодняшнего дня дошла до 36 и 1. Опять явились бодрость, аппетит. Он читал даже газету, пил опять охотно кефир, три раза поел. Сережа удивительно бодро, кротко и старательно ходил за отцом всю ночь. Лев Николаевич мне говорил: «Вот удивительно, никак не ожидал, что Сережа будет так чуток, так внимателен», и голос его дрожал от слез. Сегодня он мне говорит: «Теперь я решил ничего больше не ждать, я всё ждал выздоровления, а теперь, что есть сейчас, то и есть, а вперед не заглядывать». Сам напоминает дать ему дигиталис или спросит градусник померить температуру. Пьет опять шампанское, позволяет себе впрыскивать камфару. 28 февраля. Сейчас половина одиннадцатого часов вечера, у Льва Николаевича опять жар, 38, и пульс плох, с перебоями, и опять страшно. Сегодня он Тане говорил: «Хороша продолжительная болезнь, есть время к смерти приготовиться». Еще он сегодня же ей сказал: «Я на всё готов; и жить готов, и умирать готов». Вечером гладил мои руки и благодарил меня. Когда я ему меняла одеяло, он вдруг рассердился, ему холодно показалось. После пожалел меня. С утра ел, просмотрел газету, к вечеру же очень ослабел. Страшная буря, 1° мороза, ветер стучит, воет, трясет рамы. Пролила чернила и всё испачкала. 4 марта. Льву Николаевичу день ото дня лучше. Слушали доктора, нашли еще крупные хрипы. Диктовал мне вчера вечером ответное письмо Бертенсону и ежедневно диктует кому-нибудь письма открытые Буланже. Прекрасный человек этот Буланже, ходил за Л. Н. как сын, а какое-то у меня к нему было брезгливое чувство, прямо почти физическое, отталкивающее. Вообще редко мужчины бывают симпатичны. 5 марта. Льву Николаевичу лучше; температура утром 35 и 7, вечером – 36 и 7. Доктора находят всё еще какие-то хрипы, а так, если не знать о них, то всё нормально. Аппетит такой огромный, что Лев Николаевич никак не дождется, когда ему время обеда, завтрака и проч. Кефиру он выпил за сутки три бутылочки. Сегодня просил повернуть кровать к окну и смотрел на море. Очень он худ и слаб еще. Ночи плохо спит и очень требователен: раз пять в час позовет, то подушку поправить, то ногу прикрыть, то часы не так стоят, то кефиру дай, то спину освежи, посидеть, за руки подержись… Только приляжешь на кушетку, опять зовет. Ясный день, лунные ночи, а я мертвая, как мертва здешняя каменная природа и скучное море. Птички всё пели у окна, и почему-то ни птицы, ни жужжащая у окна муха, ни луна не принадлежат Крыму, а всё же напоминают яснополянскую или московскую весну, а муха – жаркое лето в рабочую пору, а луна – наш хамовнический сад и мои возвращения с концертов… 6 марта. Ужасно проведенная прошлая ночь. Тоска в теле, в ногах, в душе, и всё не по нем, а главное, что меня огорчило в Льве Николаевиче, это то, что он – оговариваясь, что это дурно, – роптал на то, что выздоровел. «Я всё думаю, зачем я выздоровел, лучше бы уж умер». День он провел в апатии, я всё так же сижу при нем весь день, только ушла во флигель в первый раз поиграть немного свои любимые вещи… Но нет, и этого уж не могу. 7 марта. Испугались сегодня ужасно, пульс вдруг среди дня забил 108 ударов в минуту, а сам Лев Николаевич в апатии с утра, не сидел, не умывался и почти не обедал, только утром поел с аппетитом. Температура выше 36 и 8 не поднималась, к вечеру было даже меньше. Заболела печень, положили компресс и на живот, и на легкие. Погода эти три дня ясная, но воздух холодный. С утра было 4–5° тепла и ветер. Но солнце жжет, почки надулись, птицы поют. 8 марта. С утра встала совсем больная: болит под ложечкой, спина, хотя Л. Н. сегодня ночь провел очень хорошую, спал больше других ночей. Тяжелая сцена с Сережей. Ужасный у него характер: вздорный, крикливый, так и лезет, чтоб поссориться. Я сегодня взяла кофе и ушла в гостиную, а то опять со мной сделалась бы истерика, как было на днях, потому что Сережа кричит до тех пор на человека, пока тот не выдержит. Всё вышло из-за кресла Льву Николаевичу: Сережа говорит, что надо в Одессу телеграфировать, но куда и кому – он не знает. Я говорила, что надо прежде знать, какое кресло, и подробно написать об этом в Москву. И он на это разозлился и стал кричать. 10 марта. В первый раз вышла погулять, и сразу меня поразила совершенная весна. Трава – как у нас в России в мае. Примулы цветут пестрые, одуванчики и глухая крапива кое-где. На деревьях готовится цвет и почки. Яркое солнце, синее небо и море, и птицы, эти милые создания, везде поют. Льву Николаевичу с хорошей погодой стало значительно лучше. Температура сегодня 35 и 9, пульс 88. Аппетит огромный, и кефир пьет всё с наслаждением день и ночь. Читает газеты и письма, но что-то не весел. Вчера уехали Лиза Оболенская и доктор Сливицкий. Ночевал у Л. Н. доктор, армянин, сосланный, и я опять до пол вины пятого, потом Таня. 11 марта. Лев Николаевич поправляется. Была в Ялте, ясно, небо и море голубые, птицы поют, трава лезет всюду; деревья еще голы, только кое-где миндаль цветет. Вечером сидела с Л. Н., он говорит: «Я всё стихи сочинял, перефразировалВсё мое, сказало злато…
Всё сломлю, сказала сила,
Всё взращу, сказала мысль».
«Мы получили от графа Льва Николаевича Толстого следующее письмо: Милостивый государь, г. редактор. По моим годам и перенесенным, оставившим следы, болезням я, очевидно, не могу быть вполне здоров и, естественно, будут повторяться ухудшения моего положения. Думаю, что подробные сведения об этих ухудшениях хотя и могут быть интересны для некоторых – и то в двух самых противоположных смыслах, – но печатание этих сведений мне неприятно. И потому я бы просил редакции газет не печатать сведений о моих болезнях. Лев Толстой. Ясная Поляна. 9 декабря 1902 года».
Я вполне понимаю это чувство Льва Николаевича и сама бы не стала о нем извещать, если б не скука и труд отвечать на бесчисленные запросы, письма, телеграммы желающих знать о состоянии его здоровья. Сегодня мне нездоровится и постыдно жаль себя. Сколько силы, энергии, здоровья тратится на уход за Л. Н., который из какого-то протеста, задорного упрямства пойдет шесть верст зимой по снегу или объестся сырниками и потом страдает и мучает всех нас!.. Сегодня в Москве второй концерт Никиша, это была моя самая счастливая мечта быть на этих двух концертах – и, как всегда, я лишена этого невинного удовольствия, и мне грустно и досадно на судьбу. Еще меня мучает и мне больно вспоминать мой последний разговор, ровно месяц тому назад, с Сергеем Ивановичем. Нужно бы разъяснить многое, и нет случая… 15 декабря. Лев Николаевич всё еще в постели. Он сидит, читает, записывает, но слаб еще очень… Читала сначала «Ткачей» Гауптмана и думала: все мы, богатые люди – и фабриканты, и помещики – живем в этой исключительной роскоши, и часто я не иду в деревню, чтобы не испытывать неловкости, даже стыда от своего исключительного, богатого положения и их бедности. И, право, удивляешься еще их кротости и незлобивости относительно нас. Потом прочла стихотворения Хомякова. Много в них все-таки настоящего поэтического и много чувства. Как хороши «Заря», «Звезды», «Вдохновение», «К детям», «На сон грядущий»!.. «К детям» – это прямо вылилось из сердца правдиво и горячо. У кого не было детей, тот не знает этого чувства родителей, особенно матерей. Войдешь ночью в детскую, стоят три, четыре кроватки, оглянешь их, чувствуешь какую-то полноту, гордость, богатство… Нагнешься над каждой из них, вглядишься в эти невинные, прелестные личики, повеет от них какой-то чистотой, святостью, надеждой. Перекрестишь их рукой или сердцем, помолишься над ними о них же и отойдешь с умиленной душой, и ничего от Бога не просишь – жизнь полна. И вот все выросли и ушли… И не пустые кроватки наводят грусть, а разочарования в судьбе и в свойствах любимых детей, и так долго не хочется их видеть и им верить. И не детей просишь молиться о себе, а опять молишься за них, за просветление их душ, за внутреннее их счастье. Сегодня концерт Гофмана, последний. Как мне хотелось его слышать – и опять не судьба. Собираюсь по делам уж теперь – в Москву. Уеду ли нынче? Все эти дни срисовывала акварелью портреты отца Льва Николаевича. Я не училась никогда акварели, и очень трудилась; вышло посредственно, но было очень весело и интересно рисовать и самой добиваться, как рисуют акварелью. 27 декабря. Опять давно не писала. Была три дня в Москве: 19-го, 20-го, 21-го; принимала отчет продажи книг у артельщика, делала покупки и доставила радость теми подарками, которые успела приобрести для детей, прислуги и проч. Один вечер провела у Муромцевой, приехавшей из Парижа, с Марусей Маклаковой, с двумя старшими сыновьями и еще с Федор Иванычем [Масловым], Цуриковым и Танеевым. С ним холодно, сухо и чуждо. Без меня Льву Николаевичу стало еще лучше, он вставал, выходил в соседнюю комнату, занимался. В день Рождества ему вдруг стало хуже. Боли под ложечкой и в печени с шести часов утра; желудок раздуло, сердце стало слабеть, перебои, удары 130 в минуту. Он ничего не ел, давали строфант, кофеин, доктор явно смутился. Вчера стало опять гораздо лучше. Когда в день Рождества Льву Николаевичу было плохо, он полушутя сказал Маше: «Ангел смерти приходил за мной, но Бог его отозвал к другим делам. Теперь он отделался и опять пришел». Всякое ухудшение здоровья Льва Николаевича вызывает во мне страдание всё сильнейшее, и всё более и более страшно и жаль мне потерять его. В Гаспре я не чувствовала такого глубокого горя и такой нежности к Левочке, как теперь здесь. Так мучительно мне видеть его страждущим, слабым, гаснущим и угнетенным духом и телом! Возьмешь его голову в обе руки или его исхудавшие руки, поцелуешь с нежной, бережной лаской, а он посмотрит безучастно. Что-то в нем происходит? Что он думает? Приезжал Андрюша и его семья. Маленькая, миленькая Сонюшка, прощаясь с Львом Николаевичем, сама взяла его руку, поцеловала и сказала: «Прощай, дединька!» Я рада им, особенно на праздниках и когда грустно. 29 декабря. Льву Николаевичу то лучше, то хуже. Сегодня днем он мне говорит: «Боюсь, что я долго вас промучаю». Вероятно, он думает, что уже не выздоровеет от своей болезни печени, но что теперь хронически и постепенно она будет вести его к концу. И я это всё чаще и чаще, с болью в сердце, думаю. Позвал он Павла Александровича Буланже к себе и хвалил ему книгу барона Таубе, находил в ней христианские идеи, хвалил конец, заключение, в котором Таубе говорит, что люди бурской и китайской войной доказали, что пришли к новому варварству[148]. А Л. Н. высказывал, что только религия, и именно христианская, может вывести людей из их теперешнего дикого, варварского состояния. Еще говорили об англичанах. Два англичанина из спиритической общины в одних пиджаках и открытых башмаках пошли в Лондон, а оттуда без копейки денег приехали в Россию с целью увидать Толстого и спросить у него разъяснения во многих сомнениях религиозных. Они жили у Дунаева, а мы им послали шубы и шапки Л. Н., чтоб они не замерзли. 30 декабря. Сижу дни и ночи у больного Л. Н. и вспоминаю всю свою жизнь. И вдруг ясно поняла я, что прожила ее почти бессознательно. Все ли так? Мне никогда не было времени вперед, разумно обдумать свои поступки, и не было времени после их обсудить. Я жила по теченью жизни, подчиняясь обстоятельствам, поступала не по своей воле и выбору, а в силу необходимости. Идти против чего – не умела и не имела сил. Да разве и возможно это было с моим мужем и в моей жизни? И по уму, и по возрасту, и по имущественному положению – по всему муж мой был властен надо мной… И вот прожито сорок лет… Много недочетов в нашей жизни; ну, да теперь не о них горевать… Слава Богу и за то, что было.
1903
1 января. Печально встреченный Новый год. Вчера было от Тани письмо, что младенец опять перестал в ней жить и она в страшном отчаянии… Л. Н. первый прочел ее письмо и, когда я вошла к нему утром, сказал мне: «Ты знаешь, у Тани всё кончено». Губа его затряслась, и он всхлипнул, и исхудавшее, больное лицо его выразило такую глубокую печаль. Безумно жаль Таню, и мучительно больно смотреть на уходящего из жизни Левочку. Эти два существа в моей семье самые любимые и самые лучшие. Сегодня Домна, бедная баба с деревни, приходила просить бутылку молока в день, чтоб прикармливать своих двоешек-девочек. Встречали вчера Новый год. Тут мои две невестки: Ольга и Соня с детьми. Илюша и Андрюша приехали ночью. Народу очень много: с домашними всех 19 человек. Приехали еще два молодых англичанина, какие-то шальные спириты из средне-интеллигентно-рабочего класса. Предлагают, взяв Льва Николаевича за руки, молиться о его исцелении, и уверены, что это его спасет. Всю ночь до половины пятого провела с Л. Н. Он совсем не спал, всё ныло, всё болело. Я терла ему ноги, успокаивала, бодрила его, но всё напрасно. Утихнет на минуту, благодарит меня, потом опять мечется. К утру пульс стал плох, с перебоями, и ему впрыснули морфий, и теперь весь день он спит. В пять часов утра я пошла в свою спальню, подняла штору, открыла форточку. Белый лунный свет так и разлился по всей природе, в липовых аллеях сада и проник в мою комнату. На деревне стали петь петухи, такое странное впечатление! Сегодня ходила далеко гулять, лесом, на купальную дорогу и назад. Тишина, одиночество, природа – хорошо! Вечером играл Гольденвейзер, хорошо. 2 января. Известие от Тани, она родила вчера двух мертвых мальчиков! Мы все поражены, но, слава богу, хоть роды прошли благополучно; что-то будет дальше. Л.Н. спал хорошо, пульс хорош, но он очень сегодня слаб и вял. Пасмурно, 12° мороза. 15 января. Вернулась сегодня из Москвы, где заказала еще в другой типографии работу. В продаже нет сейчас ни одного экземпляра Полного собрания и ни одного экземпляра «Войны и мира». В Москве слышала много музыки: Аренский играл свою сюиту с Зилоти, дирижировал свою музыкальную поэму, и всё это было прелестно. Вчера было потрясающее объяснение с Сергеем Ивановичем, после которого я поняла, за что я его так ценила и любила. Это удивительно добрый и благородный человек. Гольденвейзер противен своим вторжением в нашу интимную жизнь. Л. Н. лучше, слава богу. Он занят подбором философских выражений для составления календаря; это началось в его болезнь, так как ничего серьезного он не мог писать. Тепло, тихо, 1° мороза. Хороша тишина и природа, и в ней Бог, и хочется скорее слиться с природой и уйти к Богу. Вместо того чтоб читать корректуру, сижу и весь день плачу. Помоги, Господи! 21 января. На днях Сережа-сын был груб со мной за то, что я заговорила с Сашей во время игры в винт и помешала им. Я заплакала, ушла в свою комнату и легла. Через несколько времени, когда я уже успокоилась тем, что легче быть обиженной, чем обижать других, – вошел Л. Н. с палочкой, еще слабый и худой, и ласково и сочувственно отнесся ко мне, сказав, что он сделал Сереже выговор. Меня это так тронуло, такое я почувствовала к нему благоговение и нежность, что опять разрыдалась, целуя его руки, чувствуя и ту виноватость свою невольную перед ним, которая последнее время роковым путем ведет меня куда-то. Вечером. Л. Н. сегодня в первый раз выходил два раза на воздух и, разумеется, переутомился; пульс слабый и с перебоями. Дали вечером строфант. На точке замерзания, ветер, и, может быть, погода влияет на нервы, а нервы – на сердце. 22 января. Л. Н. после прогулки совсем расхворался: температура поднялась до 38 и 2, боли в желудке, грипп небольшой. 27 января. Моя Дуняша говорит часто: «Господь милосерд, знает, что делает». И вот со мной он был милосерд. Душевный разлад мой дошел до последней степени мучения и желанья опять увидеться и поговорить с любимым человеком. И я заболела, со мной сделалось дурно, я упала и весь вечер не могла стать на ноги. Мне прикладывали к голове лед, и всю ночь я лежала со льдом на голове, и всё стало напряженно, тяжело, и физически я совсем перестала жить. И вот сегодня (третий день) мне легче душевно, болезнь перебила тоску и душевный разлад. И опять прошу Бога, чтоб в тот момент, когда я ослабею, помочь мне или без греха и стыда взять меня в ту область, где «мертвые срама не имут». Сегодня думала о пословице: «Без пятна платья и без стыда лица не износить». И вот когда для меня наступил «стыд» перед собой, перед Богом и совестью. Только бы пережить всю бурю в душе и ничем, как до сих пор, не ослабеть в поступках… 7 февраля. Была опять в Москве. Был квартетный концерт, играли квартет Танеева, его видела мельком; квинтет Моцарта с кларнетом, прелестно, наслаждение получила большое, и секстет Чайковского (воспоминание о Флоренции). Спокойно и счастливо я чувствовала себя после этого вечера. На другой день собрались у меня старушки, дядя Костя и Сергей Иванович. Читали Льва Николаевича «Разрушение и восстановление ада» (о дьяволах), и опять и на меня, и на слушателей эта вещь произвела нехорошее впечатление. Задорно спорила с Сергеем Ивановичем Екатерина Ивановна Баратынская, защищая статью против логически умных доводов Сергея Ивановича. Он был оживлен, и я радовалась на него. Была в концерте Гофмана, чудесный концерт с оркестром Шопена. Очень много было дела с исканием корректора, с печатаньем, переплетом и прочим. Многое не кончила. Занялась и Сашиными денежными делами… Но какое душевное усилие и сколько трат! Напечатано в «Новом времени» мое письмо против Андреева по поводу статьи Буренина: в № 7 февраля 1903 года[149]. 15 февраля. У Льва Николаевича сидит старичок, николаевских времен солдат, сражавшийся на Кавказе, и рассказывает ему, что помнит. Л. Н. сегодня и вчера катался по лесу, а утром сидел на верхнем балконе. Он здоров и спокоен. Занялась немного его корреспонденцией: всё больше просительские письма и просящие автографа. Что было за это время? 1) Родился у Андрюши сын Илья в ночь на 4 февраля. Ездила я на него взглянуть и поздравить Ольгу. 2) Уехали за границу Маша с Колей, и без них очень опустело, но мне стало легче. Это были почти единственные наши гости. Был на Масленице Давыдов, прочел отрывок из своей повести. Были Буланже, Дунаев, и гостила Зося Стахович. Умная, живая девушка, но я испугалась как-то последние дни за мою откровенность с ней. Саша была в Петербурге и огорчила меня известием о продолжающейся болезни Доры и о нервности Левы. Теперь нас осталось здесь мало: Саша, Юлия Ивановна, доктор Гедгофт и Наташа Оболенская. Теплая, сырая зима: 2° тепла, вода в лощинах, солнце на небе и снегу почти нигде нет. Сегодня посвежей, 2° мороза и пасмурно. Очень уж уединенно живем, и я рада опять съездить в Москву. Неестественна наша жизнь помещичья – единицы среди сельского населения. У нас нет общения ни с народом, оно было бы фальшиво, ни с равным себе образованным классом. Получаю много писем по поводу моего письма. Многие обвиняют Льва Николаевича как начинателя грязной литературы во «Власти тьмы», в «Крейцеровой сонате» и в «Воскресении». Но это недомыслие, непонимание. Многие восхищаются и благодарят меня за письмо, особенно от лица матерей. Но есть и заступники Андреева. А на меня всё это производит такое впечатление, что я посыпала персидским порошком на клопов и они расползлись во все стороны. Я написала письмо в газету – и поднялись письма, статьи, статейки, заметки, карикатуры и проч. Обрадовалась бездарная наша пресса скандалу и пошла чесать всякую чепуху. Надоело, и тоска у меня эти дни… Одно утешенье – музыка, и другое – исполнение долга ухода и облегчения жизни Льву Николаевичу. 21 февраля. У Миши родилась дочь Таня. 6 марта. Была в Москве – тяжелая болезнь Андрюши, проверка продажи книг, пломбирование зубов, покупки, заказы; концерты: филармонический – кантата Танеева и проч., симфонический – Манфред, увертюра «Фрейшютца» и проч., квартеты Бетховена и Моцарта, пианист Буюкли – As-duf ный полонез Шопена. Ездила в Петербург. Трогательные Лева и Дора и миленькие мальчики; сестра Таня жалкая безденежьем, брат Вячеслав с некрасивой женой, чуткий и милый. Пробыла один день, две ночи в вагоне. В Москве опять беготня, гости, больной Андрюша, и бессилие тоски и неудовлетворенности среди нервной, безумной траты сил физических и духовных. В Ясной Поляне лучше. Красота ясных дней, блеск солнца в ледяных, зеркальных, гладких пространствах замерзшей воды, синее небо, неподвижность в природе и щебетанье птиц – предчувствие весны. Ездили кататься по лесам с Л. Н. Его нежная забота обо мне, хорошо ли, весело ли мне кататься. Ездили в трех санках все. Вечером, когда я его покрывала и прощалась с ним на ночь, Л. Н. нежно гладил меня по щекам, как ребенка, и я радовалась его отеческой любви… Были скучные, некрасивые Розановы[150]. Кончила корректуру «Анны Карениной». Проследив шаг за шагом за состоянием ее души, я поняла себя, и мне стало страшно… Но не оттого лишают себя жизни, чтоб кому-то отомстить] нет, лишают себя жизни оттого, чтонет больше сил жить… Сначала борьба, потом молитва, потом смирение, потом отчаяние и последнее – бессилие и смерть. И я вдруг ясно себе представила Льва Николаевича, плачущего старческими слезами и говорящего, что никто не видел, что во мне происходило, и никто не помог мне… А как помочь? Пустить, пригласить опять к нам Сергея Ивановича и помочь мне перейти с ним к дружеским, спокойным, старческим отношениям. Чтоб не осталось на мне виноватости моего чувства, чтоб мне простили его. 7 марта. Лев Николаевич здоров. Прекрасно катались сегодня по Засеке, всё лесными дорожками, но уже всё тает. Л. Н. ехал с Сашей, я с Левой, а доктор – с Наташей и Юлией Ивановной. Потом я пересела к Льву Николаевичу. Сердце мое прыгало от радости, что он здоров, едет и правит: сколько раз я считала его жизнь конченой, и вот опять он к ней возвращен! И эта радость его здоровья не излечивает моего сердечного недуга; как войду в свою комнату, опять охватывает меня какая-то злая таинственность моего внутреннего состояния, хочется плакать, хочется видеть того человека, который составляет теперь центральную точку моего безумия, постыдного, несвоевременного. Но да не поднимется ничья рука на меня, потому что я мучительно исстрадалась и боюсь за себя. А надо жить, надо беречь мужа, детей, надо не выдавать, не показывать своего безумия и не видеть того, кого болезненно любишь. И вот молишься об исцелении этого недуга, и только. 18 марта. Мне часто кажется, что в жизни моей я была мало виновата перед моими детьми – я слишком их любила, и осуждение их, а иногда и грубость невыносимо больно действуют на мою душу. Сегодня пошла в библиотеку за книгой. Лева спал; и у меня такое нежное до слез умиление было, когда я посмотрела на его плешивенькую, с черными редкими волосами маленькую голову, на его немного оттопыренные губы и всю худую фигуру его. И так жалко мне стало его, что он храбрится перед жизнью, которая разлучила его теперь с семьей – больной, милой женой и двумя мальчиками. И чем-то кончится болезнь Доры! И так же умиленно я смотрю и на часто мрачно озабоченного Сережу, и на спутавшегося старого ребенка – Илюшу, и на закрывающего на всё разумное глаза легкомысленного, но ласкового Андрюшу, и на любимую Таню, и на больную Машу, и на пока счастливого, но еще бессознательного Мишу, и на такую же Сашу. Так всегда одного хочется: чтоб все были счастливы и хороши морально! Еду сегодня в Москву, и тяжело, и что-то страшно… Стоит месяц уже солнечная погода, Л. Н. здоров, всё у нас хорошо. Работа во мне идет внутренняя со страшной силой, всё молюсь, особенно по ночам, на коленях перед старинным образом, и так и хочется, чтоб поднятая рука Спасителя наконец поднялась бы надо мной и благословила мою душу на мирное, спокойное настроение. 1 июля. Не писала всю весну и лето; жила чисто с природой, пользуясь прелестной солнечной погодой. Такого жаркого, красивого во всех отношениях лета и такой блестящей весны – не запомню. Не хотелось ни думать, ни писать, ни углубляться в себя. Да и зачем? «Взрывая, возмутишь ключи…»[151]. Жили мирно, спокойно, даже радостно. Сегодня отвратительный разговор за обедом. Л. Н. с наивной усмешкой, при большом обществе, начал обычно бранить медицину и докторов. Мне было противно (теперь он здоров), но после Крыма и девяти докторов, которые самоотверженно, умно, внимательно, бескорыстно восстановили его жизнь, нельзя порядочному и честному человеку относиться так к тому, что его спасло. Я бы молчала, но тут Л. Н. прибавил, что Руссо сказал, что доктора в заговоре с женщинами; итак, и я была в заговоре с докторами. Тут меня взорвало. Мне надоело играть вечно роль ширмы, за которой прячется мой муж. Если он не верил в лечение, зачем он звал, ждал, покорялся докторам? Наш тяжелый разговор 1 июля 1903 года не есть случайность, а есть следствие той лжи и одиночества, в которых я жила. Я обвиняюсь своим мужем во всем: сочинения его продаются против его воли; Ясная Поляна держится и управляется против его воли; прислуга служит против его воли; доктора призываются против его воли… Всего не пересчитать… А между тем я непосильно работаю на всех и вся моя жизнь не по мне. Так вот я отстраняюсь от всего, я измучена вечными упреками и трудом. Пусть Л. Н. хоть остальную свою жизнь живет по своим убеждениям и по своей воле. А я устала служить ширмами и выйду из этой навязанной мне роли. 5 июля. Есть что-то в моем муже, что недоступно моему жалкому, может быть, пониманию. Я должна помнить и понять, что назначение его – учить людей, писать, проповедовать. Жизнь его, наша, всех близких должна служить этой цели, и потому его жизнь должна быть обставлена наилучшим образом. Надо закрывать глаза на всякие компромиссы, несоответствия, противоречия и видеть только в Льве Николаевиче великого писателя, проповедника и учителя. 9 июля. Вернулись из-за границы все дети: Оболенские – Маша с Колей 6-го, Андрюша – 7-го, Лева – 8-го. Андрюша очень худ, слаб и жалок, но очень приятен. Лева, бедный, измучен душевно, очень мне жалок и дорог. Маша поправилась и по-прежнему чужда. Сегодня Л. Н. почувствовал стеснение в груди и перед завтраком пульс был правильный, 78, а когда он поел картофеля и хлеба с медом, удушья усилились, пульс стал частый и путаный; вчера еще и все последние дни он жаловался на слабость и ночь провел плохую. Очень я испугалась, и опять ужас перед пустотой в жизни, если не станет Льва Николаевича раньше меня. 10 июля. К вечеру вчера Л. Н. уже стало лучше. Он последние дни слишком много тратился, и верхом, и пешком, а кроме того, поел тяжело. Приезжали вечером молодой кавалергард Адлерберг с огромной, полной женой. Л. Н. его позвал к себе и много расспрашивал о военных действиях: «Что такое развод? Когда на смотру государь садится на лошадь? Кто подводит лошадь?» и проч., и проч. Л. Н. очень занят историей Николая I и собирает и читает много материалов. Это включится в «Хаджи-Мурата». 12 июля. Что-то хотела записать хорошее, но зачиталась и теперь устала. Вчера ездила к имениннице Ольге в Таптыково. Андрюша больной, очень жалок своим грустным и крайне похудевшим видом. Ольга часто мне непонятна. В чем ее суть и жизнь? Ехали с Левой. И этот сын не радует. Жена умирает в Швеции в нефрите; он делает планы, хочет поступать на медицинский факультет, жить в Москве; и какое-то в нем неспокойствие. Льву Николаевичу что-то нездоровится: стеснения в груди, неровный пульс. Изменилась погода, страшный ветер и 11° тепла. Вечером Л. Н. с Машей, Колей, Сашей и Никитиным играли оживленно в винт. Много сижу одна, в своей комнате. Буланже говорит, что моя комната похожа на комнату молодой девушки. Странно, что теперь, когда я живу одна и никогда мужской глаз или мужское прикосновение не касается больше меня, у меня часто девичье чувство чистоты, способности долго, на коленях молиться перед большим образом Спасителя или перед маленьким – Божьей матери (благословение тетеньки Татьяны Александровны Льву Николаевичу, когда он уезжал на войну). И мечты иногда не женские, а девичьи, чистые… 13 июля. Большая суета с самого утра. Приехали к Л. Н. два итальянца: один аббат, которого больше интересовала русская жизнь и наша, чем разговоры; другой – профессор теологии, человек мысли, энергичный, – отстаивал перед Л. Н. свои убеждения[152], состоявшие, главное, в том, что надо проповедовать истины, которые познал в религии и нравственности, не сразу разрушая существующие формы. Л. Н. говорил, что формы все не нужны, что религия – это истина, а церковь и формы есть ложь, путающая людей и затемняющая христианские истины. Очень интересно было слушать эти разговоры. Потом приехали сыновья Лева и Андрюша, еще позднее – Стахович с дочерью и сын Миша. Разговоры, крики детей, суета еды и питья ужасно утомительны. Приезжали отец старик и жена приговоренного за богохульство Афанасия, очень были жалки, но помочь им уж, кажется, нельзя. Л. Н. просил об этом Афанасии государя, которому писал письмо, переданное графом Александром Васильевичем Олсуфьевым[153]. Маша с Колей уехали, и как приезд их, так и отъезд остались незаметны у нас в доме. 10 августа. Обыкновенно говорят, что мужа с женой никто, кроме Бога, рассудить не может. Так пусть же письмо, которое я перепишу здесь, не даст никогда повода к осуждению кого бы то ни было. Но оно во многом перевернуло мою жизнь и поколебало мое отношение, доверчивое и любовное, к моему мужу. То есть не письмо, а повод, по которому я его написала. Это было в год смерти моего любимого маленького сына Ванечки, умершего 23 февраля 1895 года. Ему было семь лет, и смерть его была самым большим горем в моей жизни. Всей душой я прильнула к Льву Николаевичу, в нем искала утешения, смысла жизни. Я служила, писала ему, и раз, когда он уехал в Тулу и я нашла его комнату плохо убранной, я стала наводить в ней чистоту и порядок. Дальнейшее объяснит всё… Сколько слез я пролила, когда я писала это письмо! Вот оно; я нашла его сегодня, 10 августа, в моих бумагах. Это черновое. «12 октября 1895 года. Все эти дни ходила с камнем на сердце, но не решалась говорить с тобой, боясь и тебя расстроить, и себя довести до того состояния, в котором была в Москве до смерти Ванечки. Но я не могу (в последний раз… постараюсь, чтоб это было в последний) не сказать тебе того, что заставляет меня так сильно страдать. Зачем ты в дневниках своих всегда, упоминая мое имя, относишься ко мне так злобно? Зачем ты хочешь, чтоб все будущие поколения поносили имя мое как легкомысленной, злой, делающей тебя несчастным жены? Если б ты меня просто бранил или бил за то, что находишь дурным во мне, ведь это было бы несравненно добрей (то проходяще), чем делать то, что ты делаешь. После смерти Ванечки… – вспомни его слова: “Папа, никогда не обижай мою маму”, – ты обещал мне вычеркнуть эти злые слова из дневников своих. Но ты этого не сделал; напротив. Или ты боишься, что слава твоя посмертная будет меньше, если ты не выставишь меня мучительницей, а себя мучеником? Прости меня; если я сделала эту подлость и прочла твои дневники, то меня на это натолкнула случайность. Я убирала твою комнату, обметала паутину из-под твоего письменного стола, откуда и упал ключ. Соблазн заглянуть в твою душу был так велик, что я это и сделала. И вот я натолкнулась на слова (приблизительно; я слишком была взволнована, чтоб помнить подробно): “Приехала С. из Москвы. Вторглась в разговор. Выставила себя. Она стала еще легкомысленнее после смерти Ванечки. Надо нести крест до конца. Помоги мне, Господи…» и т. д. Когда нас не будет, это легкомыслие можно толковать кто как захочет, и всякий бросит в жену твою грязью, потому что ты этого хотел и вызываешь сам на это своими словами. И всё это за то, что я всю жизнь жила только для тебя и твоих детей, любила тебя одного больше всех на свете (кроме Ванечки), что легкомысленно (как ты это рассказываешь будущим поколениям в своих дневниках) себя не вела и умру и душой, и телом только твоей женой… Стараюсь стать выше того страданья, которое мучает меня теперь; стараюсь стать лицом перед Богом, своей совестью, смириться перед злобой любимого человека и, помимо всего, оставаться всегда в общении с Богом: “любите ненавидящих нас”, и “яко же и мы оставляем должникам нашим”, и “видеть свои прегрешения и не осуждать брата своего”. И Бог даст, я достигну этого высокого настроения. Но если тебе не очень трудно это сделать, выкинь из всех дневников своих всё злобное против меня, ведь это будет только по-христиански. Любить меня я не могу тебя просить, но пощади мое имя; если тебе не трудно, сделай это. Если же нет, то Бог с тобой. Еще одна попытка обратиться к твоему сердцу. Пишу это с болью и слезами; говорить никогда не буду в состоянии. Прощай; всякий раз, как уезжаю, невольно думаю: увидимся ли? Прости, если можешь. С. Толстая». Мы тогда как будто объяснились; кое-что Л. Н. зачеркнул в своих дневниках. Но никогда уже искавшее тогда утешения и любви сердце мое не обращалось к мужу с той непринужденной, любовной доверчивостью, которая была раньше. Оно навсегда замкнулось болезненно и бесповоротно. 17 ноября. Выхожу вечером в комнату Льва Николаевича. Он ложится спать. Вижу, что ни слова утешенья или участия я от него теперь никогда не услышу. Свершилось то, что я предвидела: страстный муж умер, друга-мужа не было никогда, и откуда же он будет теперь? Счастливые жены, до конца дружно и участливо живущие с мужьями! И несчастные, одинокие жены эгоистов, великих людей, из жен которых потомство делает будущих Ксантипп! Не по мне вся жизнь. Некуда приложить кипучую жизненную энергию, нет общения с людьми, нет искусства, нет дела – ничего нет, кроме полного одиночества весь день, когда пишет Л. Н., и игры в винт по вечерам, для отдыха Л. Н. О, ненавистные возгласы: «Малый шлем в пиках! Без трех… Зачем же сбросили пику, нужно сделать ренонс… Каково, как чисто взяли большой шлем!..» Точно бред безумных, к которому не могу привыкнуть. Пробовала я, чтоб не сидеть одной, участвовать в этом бреде и каждый раз ловила себя на том, что мне делалось и стыдно, и еще более тоскливо от игры в карты. Доктор Беркенгейм участливо и молча смотрит на меня, видя всю мою тоску, и читает мне по вечерам вслух. Читали Чехова, и это приятно.1904
17 января. Жизнь летит со страшной быстротой. С 6 декабря по 27-е жила моя Таня со всей семьей в Ясной. Выборы, елка, праздники, суета так утомительны были, что и радоваться не было времени. Инфлюэнца очень меня ослабила. Под новый год Л. Н. заболел, и грустно встретили с Сережей, Андрюшей, Анночкой, Сашей и мальчиками Сухотиными. Потом еще гостила сестра моя Таня, веселая, легкомысленная, но надломленная жизнью, которая научила ее особенному обращению с людьми. Неприятность с винтом, моя болезнь от огорчения. 8 января приезжали три студента из Петербургского горного института с адресом. Много с ними беседовала, умные люди, но, как и все современные молодые люди, не знают, куда приложить свои силы. Вечером мы все уехали в Москву, где я и пробыла до 15-го числа, вечера. Была два раза в опере Аренского «Наль и Дамаянти»; мелодично, грациозно, но не сильно. А какой прелестный идеал настоящей женщины в этой поэме! Ездила всюду с Сашей. Были и на концерте симфоническом с Шаляпиным. Это самый талантливый и умный певец из всех, кого я слыхала в жизни. Еще был концерт Гольденвейзера, игравшего оживленнее, чем обыкновенно; потом репетиция «Вишневого сада» Чехова доставила мне большое удовольствие. Тонко, умно, с юмором, вперебивку с настоящим трагизмом положений – всё это хорошо. Но главное дело мое в Москве было перевезти девять ящиков с рукописями и сочинениями Льва Николаевича из Румянцевского в Исторический музей. Меня просили взять ящики из Румянцевского музея по случаю ремонта. Но мне странно показалось, что в таком большом здании нельзя спрятать девять ящиков в один аршин длины. Я обратилась к директору музея, бывшему профессору Цветаеву. Он заставил меня ждать полчаса, потом даже не извинился и довольно грубо начал со мной разговор. – Поймите, что мы на то место, где стоят ящики, ставим новые шкапы, нам нужно место для более ценных рукописей, – между прочим заявил Цветаев. Я рассердилась, говорю: – Какой такой хлам ценнее дневников всей жизни и рукописей Толстого? Вы, верно, придерживаетесь взглядов «Московских Ведомостей»? Мой гнев смягчил невоспитанного, противного Цветаева, а когда я сказала, что надеялась получить помещение лучшее для всяких предметов, бюстов, портретов и всего, что касалось жизни Льва Николаевича, Цветаев даже взволновался, начал извиняться, говорить льстивые речи и что он меня раньше не знал, что он всё сделает. И так я уехала, прибавив, что если я сержусь, то потому, что слишком высоко ценю всё то, что касается Льва Николаевича, что я тоже львица, как жена Льва, и сумею показать свои когти при случае. Отправилась я после этого в Исторический музей к старичку восьмидесяти лет – Забелину. Едва передвигая ноги, вышел ко мне совсем белый старичок с добрыми глазами и румяным лицом. Когда я спросила его, можно ли принять и поместить рукописи Льва Николаевича в Исторический музей, он взял мои руки и стал целовать, приговаривая умильным голосом: «Можно ли? Разумеется, везите их скорей. Какая радость! Голубушка моя, ведь это история!» На другой день я отправилась к князю Щербатову, который тоже выразил удовольствие, что я намерена отдать на хранение в Исторический музей рукописи и вещи Толстого. Милая его жена, княгиня Софья Александровна, рожденная графиня Апраксина, и очень миленькая дочь Маруся. На следующий день мы осматривали помещение для рукописей, и мне дают две комнаты прямо против комнат Достоевского. Весь персонал Исторического музея, библиотекарь Станкевич, его помощник Кузминский, и князь Щербатов с женой – все отнеслись с должным уважением и почетом ко мне, представительнице Льва Николаевича. В Румянцевском музее был только Георгиевский в отделении рукописей. Мы приехали четверо: помощник библиотекаря Исторического музея Кузминский, солдат, мой артельщик Румянцев и я. Забрав ящики, мы благополучно свезли их в музей и поставили в башне. Теперь я вся поглощена заботой о перевозке вещей и еще рукописей Льва Николаевича туда же. Надо спасти всё, что можно, от бестолкового расхищения вещей детьми и внуками. Мы очень с Л. Н. дружны это время, да и всегда, когда мы одни, у нас устанавливаются прежние отношения доверчивой ласковости, которая не нарушается присутствием четырех старших детей, но нарушается присутствием дочери Маши, моей сестры Тани и некоторых друзей и знакомых. Всё это время Л. Н. очень был бодр, усиленно работал, увлекаясь составлением новой книги мыслей мудрых людей и мечтая о том, чтоб были даже рассказы и целый ряд чтений в одном направлении – на каждый день[154]. «И, разумеется, я ничего не успею в жизни сделать», – с грустью говорит он. Один день Л. Н. ездил верхом верст от десяти до шестнадцати, а другой день ходил пешком тоже далеко. Сегодня ему нездоровится, он вечером чихал и не стал пить чай. В Москве я узнала, что в «Журнале для всех» в марте напечатают мою поэзию в прозе «Стоны», с псевдонимом Усталая. 3 февраля. Вчера был тут странный офицер – казак Белецкий. Он бывший военный, отрицает войну и кончил курс в университете юристом. В разговоре с ним я еще раз уяснила себе ясно свое отношение к мыслям моего мужа. Если б у нас был полный разлад, то мы не любили бы друг друга. Я поняла, что я любила в Льве Николаевиче всю положительную сторону его верований и всю жизнь не терпела его отрицательной стороны, возникшей из той черты характера, которая всегда всему составляла протест. Л.Н. здоров; один день он гуляет, другой день ездит верхом. Дня три тому назад он долго не возвращался. Является в шестом часу, и мы узнаем, что он съездил в Тулу взад и вперед, чтоб купить последнюю телеграмму и иметь свежие вести о войне с японцами. Война эта и в нашей деревенской тишине всех волнует и интересует. Общий подъем духа и сочувствие государю изумительные. Объясняется это тем, что нападение японцев было дерзко-неожиданное, а со стороны России не было ни у государя, ни у кого-либо желания войны. Война вынужденная. Опять теплая зима: сегодня и вчера 2° то тепла, то мороза и ветер. Л.Н. занят художественной работой: он пишет рассказ «Фальшивый купон». А я задалась дерзкой мыслью попробовать писать копии масляными красками, не взяв ни разу в руки до сих пор кисти и масляных красок.МОЙ СОН НА 3 ФЕВРАЛЯ Иду я к Масловым; в руках моих букет цветов, лиловых и желтых, уже поблекших. Мне томительно хочется украсить свой букет какими-нибудь красными или розовыми цветами и зеленью. Ищу по окнам, тоскливо перебираю увядшие цветы и выхожу из дома. У притолоки входной двери стоит, заложив назад руки, моя покойная мать. Я вскрикиваю от радости, но не удивляюсь, а спрашиваю ее, что она здесь делает. «Я за тобой пришла», – отвечает она мне. «Так зайдемте прежде к Масловым, я вас познакомлю, это мои лучшие друзья», – говорю я. Моя мать соглашается, и мы идем наверх. Я радостно и торжественно говорю каждому из Масловых: «Это моя мать», – и все ее приветствуют. Идем в огромную залу, где длинный чайный стол и за самоваром сидит Варвара Ивановна. Потом мы уходим, и моя мать говорит, что она спешит на корабль, который должен уплыть. Мы идем вместе, всходим на корабль, и там все мои дети. Отплываем, в море видны еще корабли, лодки с парусами, пароходы. Вдруг мы останавливаемся. В корабле что-то сломалось. Я хочу пройти к моим детям и вдруг вижу перед собой углубление деревянное, дощатое. Перейти невозможно. Я спрашиваю: «Как же перешли мои дети?» – «Они молодые, перепрыгнули». Я вижу вдали свою Таню: она, веселая, покупает мармелад в каком-то буфете, где за стеклянными витринами продаются разные сладости, и улыбается мне. Лева – маленький, худой и черноволосый, суетится, чтоб ему дали гривенник на покупку сластей. В это время на дне углубления вдруг кто-то катит большую пустую бочку. И на мой вопрос, зачем она, мне отвечают, что ею починят корабль. И мы опять поплыли… Истолкование. Поблекшие цветы – поблекшие радости жизни. Искание красных цветов – искание новых радостей; искание зелени – надежды. Мать моя пришла за мной, чтоб взять меня. Корабль и плавание – переход к смерти. Дощатое углубление – гроб и могила. Невозможность перехода через дощатое углубление за детьми – это невозможность продолжения с ними жизни. Поплыли дальше – началась новая, загробная жизнь в вечность… 26 мая. Рассказ Льва Николаевича, как он поступил на военную службу. Сегодня я с Сашей разбирала вещи, которые графиня Александра Андреевна Толстая оставила крестнице Саше после своей недавней кончины. Там и мне, и Тане, и Сереже, и Льву Николаевичу по вещице. В числе вещей были и три портрета: один ее отца, графа Андрея Андреевича Толстого, и двух братьев – рано умершего Константина и уже в старости умершего Ильи Андреевича. Вот по поводу последнего Л. Н. сейчас рассказал мне, Мише и Лине следующее. Когда, проигравшись в Москве в карты и прокутив много денег, Л. Н. решил ехать на Кавказ к служившему там брату своему, Николаю Николаевичу, он и мысли не имел поступать на военную службу. Ходил он на Кавказе в штатском платье и когда ходил в первый раз в набег, то надел фуражку с большим козырьком и простое свое платье. Жили они с Николаем Николаевичем в Горячих Водах (там и были серные ключи), а в набег ходили оттуда в Грозную. Набег этот описан Львом Николаевичем. Раз Л. Н. поехал верхом со старым казаком к знакомым в Хасав-Юрт. У старого казака был на руке ястреб ручной. По дороге, которая считалась опасной, встретили они ехавшего с оказией графа Илью Андреевича Толстого в коляске, окруженного казаками. Граф пригласил Л. Н. ехать с ним к Барятинскому. Барятинский стал уговаривать Льва Николаевича поступить в военную службу. Он хвалил Льва Николаевича за спокойствие и храбрость, которые тот выказывал во время набега. Граф Илья Андреевич тоже присоединился к Барятинскому и уговаривал Л.Н. подать прошение. Л. Н. так и сделал: подал прошение бригадному командиру и поступил в артиллерию юнкером. Два года он оставался юнкером без производства, хотя и был в разных опасных делах. Покойная тетенька его, Пелагея Ильинична, говорила мне, что производство задержано было потерей бумаг, документов Льва Николаевича, которые пришлось восстановлять. А Барятинский, обещав многое, просто забыл про Толстого. Только через два года произвели его в прапорщики. Потом в Турецкую войну Лев Николаевич попросился в Дунайскую армию, к Горчакову, а впоследствии сам же попросился в Севастополь, где открылись военные действия. 8 августа. 5 августа, то есть три дня тому назад, я проводила на войну моего милого, хотя и плохо живущего, ласкового и любящего сына Андрюшу. Мне хочется описать его отъезд со штабом пехотного 6-го Кромского полка из Тамбова. В полк этот приняли Андрюшу унтер-офицером, старшим, конным ординарцем. Пошел он на войну добровольно. Жену и детей он покинул, полюбив Анну Леонидовну Толмачеву, дочь генерала Соболева, женщину пустую, слабую, но умеющую быть нежной в любви. Не сужу ни сына, ни мою добродетельную, умную и хорошенькую невестку. Мужа с женой рассудит только Бог. Но пережила я много тяжелого, боролась, прежде чем решилась хлопотать о поступлении Андрюши в военную службу. Он убедил меня тем, что всё равно его возьмут или он и без меня пойдет, и тогда ему будет хуже и труднее. И действительно, насколько может быть хорошо, ему хорошо в полку. Его сердечный такт заставляет всех любить его. Полковой командир сказал мне, что «пока от Андрея Львовича одно удовольствие». Но я отвлеклась своими материнскими чувствами от рассказа. Сделав в Москве все нужные покупки для Андрюши и кончив денежные дела, я поехала с сыном Левой в Тамбов, куда собрались и мои сыновья: Илья с женой Соней, Лева, Миша. Остановились в великолепной для Тамбова «Европейской гостинице». Чувствовала я себя совсем больной, ночь не спала и встала рано; мы отправились с Андрюшей в лагерь; он привел меня к конюшням, где стояли его ординарцы. Как и все мои дети, Андрюша любит очень лошадей и показал мне свою кобылу, купленную им у Болдыревой (Мэри Черкасская), лучшую лошадь в их полку. Ординарцы, двенадцать человек, хлопотали у конюшен, и везде мелькали их красивые фуфайки, которые я им привезла как товарищам Андрюши и которые они тотчас же надели с восторгом. Андрюша познакомил меня с адъютантом их полка, очень порядочным человеком, Николаем Ивановичем Руженцовым. Мы ходили по площади, разговаривая и поджидая лошадей в подводы военные. К нам еще подошел ротный, неприятный, коренастый человек со старушкой матерью, похожей на мещаночку. Она горько жаловалась на судьбу, что последний, единственный сын ее уходит на войну и она остается совсем одна на свете. Не переставая, плакала эта несчастная мать, я старалась ее утешить и пригласила в свою пролетку сопровождать выходивших из лагеря солдат и офицеров. Она очень этому обрадовалась, говорила, что меня ей Бог послал, чтоб бодрее перенести разлуку. А все-таки эта несчастная мать осталась теперь на свете совсем одна! Когда мы сели с ней в пролетку, мы увидали издали идущую толпу. Это были солдаты, сопровождаемые толпой родных и просто любопытных. Что-то было такое мрачное в грянувшей музыке и барабанном бое. Военная старушка моя (ее муж был ополченцем в Севастополе), услыхав музыку, тотчас же начала рыдать. Выехали и ординарцы верхами, и мой Андрюша впереди всех в светло-песочной рубашке, такой же фуражке, на своей прелестной кобыле. Так всё запечатлелось в моей памяти: завязанные чем-то белым ноги кобылы, прекрасная посадка на лошади Андрюши и слова старушки: «На лошади-то как сидит ваш сынок – картина, точно у себя в кабинете». У колодца солдаты остановились, и разные женщины принялись качать воду, черпать кружками и подносить солдатам пить. С утра было жарко, ветер крутил пыль и разносил ее повсюду. Офицеры что-то крикнули, и все опять двинулись к вагонам. Толпа всё увеличивалась и проводила солдат до стоявшего наготове поезда, недалеко от вокзала. Жены, матери, отцы, маленькие дети – всё это шло с узелками, вязанками баранок и проч. Недалеко от меня шел молодой солдатик с женой и матерью. Старуха вдруг остановилась и с отчаянием проговорила: «Не могу больше идти». Солдатик обнял ее, поцеловал и побежал догонять полк. Жена последовала за ним, а мать долго стояла на месте как окаменелая. У вагонов скомандовали: «Вольно!», солдаты поснимали мундиры и стали грузить лошадей. Андрюша помогал и распоряжался. Возле вагонов расположилась толпа. Солдаты клали вещи свои около родных, которые сели кто на чем попало, а то и на землю; кто ел, кто унимал детей, кто плакал. Пьяных не было почти никого. Работа нагрузки лошадей и повозок шла быстро и споро. Только долго бились с одной гнедой лошадью и уже силой втащили ее в вагон. К четвертому часу нагрузили всё, осталось только прессованное сено и огромная гора ковриг печеного хлеба. Мы уехали с Андрюшей в гостиницу обедать. Он очень устал, но бодрился, и мы берегли друг друга, стараясь не растрогаться. К нам вскоре подошли и все провожающие Андрюшу: сыновья Илья с женой, Лева и Миша, Николай Маклаков и два тамбовских помещика Шульгин и Ртищев. После обеда мы снова отправились к вагонам с Андрюшей, и все остальные поехали с нами. У поезда толпа собралась еще гуще. Солдаты уже сидели в вагонах, жены и родные подавали им их вещи и гостинцы. Один из солдат высунулся и закричал четырехлетнему сыну: «Не плачь, Ленька, шоколадных конфеток привезу». Другой уже с проседью солдат лежал, запрокинув голову, фуражка упала, ноги подняты кверху, глаза закрыты, и рыдал так отчаянно, что сердце надрывалось его слушать. Молодой изжелта-бледный прапорщик стоял на площадке и смотрел тупыми глазами. Он ничего не говорил, точно восковая кукла. Некоторые солдаты плакали. Я подошла к полковому командиру и поблагодарила его за хорошее отношение к Андрюше. Он мне сказал, что «пока одно удовольствие его иметь в полку». Тут же мне представили начальника дивизии, кажется, генерал-лейтенанта Клавера. Он поцеловал мне руку и сказал: «Какие мы иногда минуты переживаем в жизни!» Андрюша ввел нас в вагон 1-го класса, в который его взяли по особенной протекции. Место его было у двери на раскидном кресле. Трудно ему будет, болезненному и избалованному, переносить все неудобства дороги и военной жизни, и мне больно. Наконец последний, третий, свисток, грянула музыка, все заплакали, я крестила и целовала Андрюшу и уже ни на кого не смотрела. Красный, растроганный и весь в слезах кивал он нам из окна. Что-то он в это время чувствовал и переживал?.. Дальше, дальше, всё исчезло, и я на минуту потеряла всякое сознание жизни и ее смысла. Что-то похожее, но гораздо более сильное я испытала, когда шла с похорон Ванечки. Только матери поймут меня и друг друга. Если бы кто захотел искать усиленно подъем патриотических и воинственных чувств во всех этих солдатах, офицерах, генералах и тем более в провожающих, никто бы его не нашел и тени. Всем было тяжело, все шли поневоле, с недоумением и тоской. Генерал Клавер попробовал было крикнуть солдатам, прощавшимся с ним из вагонов: «Задайте им там перцу!» Но слова эти вышли пошлы, некстати, смешны. Он, видно, вдруг вспомнил, что надо подбодрить уезжающих, и сам понял, как ничего не вышло из этого. Что-то еще раз оборвалось в моем сердце. Еще новая полоса отделила значительный период моей жизни от прежней к последующей – проводы сына на войну и ужасное впечатление проводов солдат вообще. Что такое война? Неужели один глупый человечек, Николай II, незлой, сам плачущий, мог наделать столько зла? Мне вдруг представилось, что война, как буря, – явление стихийное и мы только не видим той злой силы, которая так беспощадно и несомненно крушит насмерть столько человеческих жизней. Когда человек палкой раскапывает муравейник и муравьи погибают, таскают яйца свои и разный сор, они не видят ни палки, ни руки, ни человека, разоряющих их; так и мы не видим той силы, которая произвела убийство войны. 17 августа. Когда переживешь что-нибудь тяжелое, дальнейшая жизнь идет по инерции и ни во что не вкладываешь душевную энергию. Проводив Андрюшу на войну, я вдруг почувствовала свою связь со всеми скорбящими о судьбах своих детей, мужей, братьев и проч., и вся радость жизни исчезла, стало страшно за сына – и ужас войны, который был где-то на дне души, вдруг всплыл со страшной силой и ясностью на поверхность души и захватил меня всю. От Андрюши было бодрое, веселое письмо из Уфы, с дороги. Но он не смотрит вперед… Живет у меня его бедная жена Ольга с детьми, и мне больно на них смотреть. Сонюшка со своими ямочками на щеках и с чуткой, болезненной душой меня трогает и часто мучает. Радостна семья сына Миши. Что за прелестные дети, до того симпатичны, веселы, сердечны эти крошки, что одна радость от них. И жена Миши, какая прекрасная, сердечная, умная женщина. Мне хочется иногда обнять ее и сказать, как я ее люблю и как бесконечно мне было бы жаль ее, если б она когда-нибудь стала несчастна. Здесь еще Варя Нагорнова, мой сердечный друг. Ходила сегодня купаться, холодно и ветрено, в воде 14°. Бодрю свое тело и свою душу. Л. Н. живет уже неделю в Пирогове у Маши. Он поехал, собственно, для брата, Сергея Николаевича, который умирает от рака в лице, глазу, челюсти. Он, бедный, очень страдает, но хуже всего его душевное состояние: ни терпенья, ни веры, ни любви к людям… Спаси всякого от такого умирания! Лева-сын и Варя Нагорнова играют в четыре руки квинтеты Моцарта, и мне тоже хочется играть, и писать трудно под музыку.
1905
14 января. Хочу отдать и этот дневник на хранение в Исторический музей, но мне захотелось написать еще, как начали мы этот новый год. Вхожу я утром 1 января к Льву Николаевичу, целую его, поздравляю с Новым годом. Он писал свой дневник, но перестал и пристально посмотрел на меня. «Мне жаль тебя, Соня, – сказал он, – тебе так хотелось играть со скрипкой сонаты, и тебе не удалось». (А не удалось потому, что и он, и дети отклонили это, и я огорчилась накануне.) – «Отчего жаль?» – спрашиваю я. «Да вот вчера скрипача отклонили, да и вообще ты несчастлива, и мне ужасно жаль тебя». И вдруг Л. Н. расплакался, стал меня ласкать и говорить, как он меня любит, как счастлив был всю жизнь со мной. Я тоже заплакала и сказала ему, что если я иногда не умею быть счастлива, то я сама виновата и прошу его простить меня в моем неустойчивом настроении. Л.Н. с новым годом всегда как будто подводит итоги жизни; а на этот раз перед самым новым годом Павел Иваныч Бирюков, которого вернули только что из ссылки – из Швейцарии – всё время читал дневники Л. Н. и его письма ко мне, и Л. Н. часто заглядывал и прочитывал кое-что. Перед ним промелькнула вся его жизнь, и вот он говорил Павлу Ивановичу, составляющему его биографию, что лучшего счастья семейного он не мог мечтать, что я во всем дополняла его, что он никого не мог бы так любить… И я радовалась, когда Павел Иваныч мне это рассказывал. 10 января, в ночь на 11-е, вернулся, слава богу, наш Андрюша с войны; его отпустили на год. Он болен головой и нервами. Всё так же ребячлив, но война оставила свои следы, и, кажется, он переменился к лучшему. Война, ужасающая по своей жестокости. Не говоря о простой стрельбе, людей мученически казнят: бьют шашками и штыками, не добивая, отбрасывают умирать в жестоких мучениях; жгут, связав предварительно, людей на кострах; устраивают волчьи ямы, куда, провалившись, человек попадает на кол… и т. д. И это люди!.. Я совершенно не понимаю и страдаю ужасно, когда слышу об озверении людей и бесконечной войне. Лев Николаевич пишет статью [ «Об общественном движении в России»] о том, как должно правительству действовать, и о требованиях конституции, и о земском съезде. Вчера он ездил до Тулы верхом, а вернулся в санях, и ничего – молодцом. Ужасные события в Петербурге. Там стачка 160 тысяч рабочих. Призвали войска, убили, говорят, до 3000 людей. Было два покушения на царя. Вообще времена смутные и тяжелые.1908
7 сентября. Очень давно не писала своего дневника. Пришла к той поре старости, когда предстоят два пути: или подняться выше духовно и идти к самосовершенствованию, или находить удовольствие в еде, покое, всякого рода наслаждениях от музыки, книг, общества людей. Боюсь последнего. Жизнь поставлена в тесные рамки: постоянное усиленное напряжение в уходе за Львом Николаевичем, здоровье которого стало видимо слабеть. Когда ему хуже, то на меня находит какой-то ужас бесцельности и пустоты жизни без него. Когда ему лучше, я как будто готовлюсь к этому и убеждаю себя, что буду свободна для той же цели – служения Льву Николаевичу – тем, что соберу его рукописи в порядке, перепишу их: перепишу все его дневники, записные книжки, всё то, что касалось его творчества. В настоящее время он опять в катающемся кресле с неподвижно положенной ногой, которая слегка припухла. Воспаления нет, и боли нет. Сам он что-то слаб. Постоянно живущих нас в Ясной Поляне теперь: Лев Николаевич, я, дочь Саша, доктор Маковицкий, Варвара Михайловна Феокритова, как помощница и подруга Саши, и секретарь Льва Николаевича Николай Николаевич Гусев, которому ежедневно утром Л. Н. диктует поправки и новые мысли во вновь составляемый «Круг чтения». Пережили юбилей восьмидесятилетия Льва Николаевича. В общем – сколько любви и восхищения перед ним человечества! Чувствуется это и в статьях, и в письмах, и, главное, в телеграммах, которых около 2000. Всё я собираю и намереваюсь отдать на хранение в Исторический музей в Москву. Так и будет называться: «Юбилейный архив». Были и трогательные подарки: первый был от официантов петербургского театра «Буфф» с прекрасным адресом. Подарок этот – никелированный самовар с вырезанными на нем надписями «Не в силе Бог, а в правде», «Царство божье внутри вас есть», и 72 подписи. Потом прислали художники прекрасный альбом с акварельными рисунками. Много портретов Льва Николаевича; от торжковских кустарей прекрасная вышитая кожаная подушка; от кондитера Бормана четыре с половиной пуда шоколада, из которого 100 коробок для раздачи яснополянским детям. Еще от кого-то 100 кос нашим крестьянам; 20 бутылок вина для желудка Льву Николаевичу. Еще ящик большой папирос от фабрики «Оттоман», который Лев Николаевич с благодарным письмом отправил назад, так как он против табака и куренья. Были и злобные подарки, письма и телеграммы. Например, с письмом за подписью «Мать» прислана в ящике веревка и написано, что «нечего Толстому ждать и желать, чтоб его повесило правительство, он и сам это может исполнить над собой». Вероятно, у этой матери погибло ее детище от революции или пропаганды, что она приписывает Толстому. В день рождения Льва Николаевича собрались за столом следующие лица: он сам, я, четыре сына – Сережа, Илья, Андрюша и Миша. Лева в Швеции, ждет родов жены. Из дочерей одна Саша, а Таня была незадолго до 28-го, приезжала к моему рождению и теперь не решилась оставить дочку свою вторично. Потом были: Михаил Сергеевич Сухотин, Михаил Александрович Стахович, супруги Гольденвейзеры, отец и сын Чертковы, Марья Александровна Шмидт, Иван Иванович Горбунов, англичанин m-r Wright, привезший адрес от английских писателей, Митя Кузминский, жены сыновей Маша (Зубова) и Соня (Философова), а вечером приехала и вторая жена Андрюши Катя. Потом приехала Галя Черткова и пришли супруги Николаевы. Настроение было тихое, спокойное и умиленное у всех, начиная с Льва Николаевича, который только что выздоровел и выехал в кресле к обеду. Чувствовалось что-то любовное и извне – от всего мира, – и в душе каждого из присутствовавших в этот день. Когда вечером Лев Николаевич ложился спать и я, по обыкновению, затыкала ему за спину теплое, мною вязанное одеяло, он мне сказал: «Как хорошо! Как всё хорошо! Только за всё это не было бы какое-нибудь горе…» Пока Бог миловал. Сегодня Лев Николаевич чувствует себя недурно. Обедал с нами, ел охотно и рассказывал, что получил письмо от какого-то незнакомого полковника, спрашивающего его, на какой лошади он ускакал от чеченцев на Кавказе. Дело было так: собралась ехать так называемая на Кавказе в то время оказия. Ехали в экипажах и верхами, а сопровождали солдаты. Желая погарцевать и похрабриться, трое отделились от оказии и поскакали вперед: Лев Николаевич, его кунак (приятель) Садо и Полторацкий. Под Львом Николаевичем была высокая серая лошадь, дорогая, красивая, но тяжелая, с прекрасным проездом, иноходец. Дорогой Садо предложил поменяться лошадьми, чтоб Лев Николаевич испробовал резвость ногайской породы (лошади Садо). Только они поменялись, вдруг им навстречу из-под горы показались вооруженные чеченцы. Ни у Льва Николаевича, ни у Полторацкого не было оружия. Полторацкий был на плохой артиллерийской лошадке, он отстал, в него выстрелили, попали в лошадь, а его изрубили на месте шашками, но он остался жив. В то время как Садо, махая ружьем, что-то по-чеченски кричал своим землякам, Лев Николаевич успел ускакать на быстроногой маленькой ногайской лошадке своего кунака. И так опять-таки случай спас жизнь Толстого. После обеда Лев Николаевич играл в шахматы с Гольденвейзером, а потом слушал его же игру на фортепьяно. Третий scherzo Шопена, эскиз Аренского и две баллады Шопена, из коих вторую Гольденвейзер сыграл превосходно, с вдохновением, сообщившимся всем. Моя жизнь вся сводится к материальным заботам. Приезжал подрядчик, делали сметы на перестройку пола у Саши, на починку бани, кучерской, постройку птичника и т. д. Даже просто погулять нет возможности; то сидела с Львом Николаевичем, а то дела. А как я люблю природу: смотрю на покрасневшие клены и хочется их написать. Люблю искусство; иду по полю, а мысленно твержу стихи Тютчева: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…» Слушаю, как играет Гольденвейзер, и всё мое существо стремится опять заняться музыкой… И так всю жизнь неудовлетворенные порывы и строгое исполнение долга. Теперь порывы затихают: передо мной спустилась та стена, предел жизни человеческой, которая останавливает эти жизненные порывы, эту художественную тревогу. «Не стоит, скоро всему конец!» Останется молитва; но и та холодеет перед тяжелой, житейской, материальной жизнью. Бросить ее, бросить всё… Но на кого? 8 сентября. Встала поздно, пошла узнать о Льве Николаевиче; у него вчера в ночь сделалась сильная изжога. Подошла к сетке балконной двери из кабинета Льва Николаевича, а он, увидав меня, радостно воскликнул: «А, Соня!», что мне было очень приятно. Сегодня он составил с Гусевым благодарственное письмо всем, почтившим его восьмидесятилетие. Гусев мне прочел это письмо вечером, и я сделала кое-какие поправки и замечания, с которыми согласились и Гусев, и сам Лев Николаевич. Саша уехала в Тулу с Варварой Михайловной на концерт. Приезжал Николай Васильевич Давыдов, и как хорошо с ним провели день. Много беседовали о литературе, причем все ужасались порнографии, бездарности и грубой смелости современных писателей. Говорили о смертной казни, бессмысленность и бесполезность которой описывал Давыдов. Да и о многом другом беседовали с ним, Львом Николаевичем, Хирьяковым и Николаевым. Дни летят как-то бесплодно, что мне грустно; точно что-то теряешь драгоценное, и это драгоценное – время, последние годы твоей жизни и жизни близких. 10 сентября. Хозяйство меня затягивает. Сегодня распорядилась копать картофель. Прихожу в поле – никого. Все ушли обедать. Мальчик лет четырнадцати, заморыш, караулит картофель, всё поле отрасхищения. Я ему говорю: «Что же ты сидишь, не собираешь картофель?» Взяли мы с ним кошелки, пошли работать; копали вдвоем картофель и собрали в кошелки, пока пришли поденные. Много веселей работать, чем быть хозяйкой и погонять работающих. Мое вмешательство как бы всех подогнало, и убрали в один день очень много. Сортировали, носили в подвал, я и тут наблюдала и даже помогала. Стражники удивленно смотрели на мою работу. Льву Николаевичу нынче лучше; нога совсем прошла, он сегодня ходил один; да и весь он бодрее. Много работал над своим «Кругом чтения», потом слушал музыку и играл вечером в винт с племянницей Лизой Оболенской, приехавшей сегодня, с дочерью Сашей и Варварой Михайловной. Лег рано. Тихо на воздухе, 10° тепла, всё еще зелено; флоксы прелестны перед моими окнами, да и везде. 12 сентября. Чтение газет и отыскивание в них имени Льва Николаевича берет много времени и тяжело на мне отзывается. Передо мной проходит тяжелая русская жизнь; читая их, точно что-то делаешь и узнаешь – а в сущности ни к чему. Делаю вырезки и наклеиваю их в книгу. Собрала семьдесят пять газет 28 августа; есть и журналы. Любви к Льву Николаевичу много, понимания настоящего мало. Сегодня я окончательно редактировала и переписала письмо Л. Н. в газету с обращением благодарности всем, почтившим его 28 августа. Ясный, свежий, блестящий день; к вечеру 3° тепла. Много ходила по разным хозяйственным делам, вспоминала стихи Фета, присланные мне когда-то со словами: «Посылаю вам (к именинам) свой последний осенний цветок, боюсь вашей проницательности и тонкого вкуса». Стихи начинаются словами: «Опять осенний блеск денницы…» Особенно хорошо вышло: И болью сладостно-суровой Так радо сердце вновь заныть… Это настоящее осеннее чувство. Приходил к Льву Николаевичу какой-то рыжий босой крестьянин, и долго они беседовали о религии. Привел его Чертков и всё хвалил за то, что он имеет влияние на окружающих, хотя очень беден. Я хотела было прислушаться к разговорам, но когда я остаюсь в комнате, где Л. Н. с посетителями, он молча, вопросительно так на меня посмотрит, что я, поняв его желание, принуждена бываю уйти. У Сережи подожгли хлеб, и его сгорело на 4000 рублей. Л.Н. сидел на балконе, завтракал, а вечером играл в шахматы с Чертковым и беседовал с Николаевым. Здоровье его лучше, и в нем чувствуется какая-то удовлетворенность от любовных к нему отношений людей, и даже умиленность. 13 сентября. С утра решила, что сегодня разочту всех своих яснополянских поденных. К конторе собрались молодые девушки и подростки-мальчики. Взяла я на подмогу себе Варвару Михайловну, потом пришли и моя Саша с Надей Ивановой. Принялись все учитывать билетики, записывать, платить. Девушки сначала пели, потом шуточки разные пускали, ребята весело возились. Раздала я 400 рублей. Дома всё еще занималась этим делом, ставила штемпеля «уплачено» в книги ярлыков. День сегодня тихий, серенький, к вечеру 8°. Саша набрала крупных опенок и рыжиков немножко. Л.Н. с утра одолевали посетители. Приезжий из Америки русский (Бианко, кажется), женатый на внучатной племяннице Диккенса, просил портрет Льва Николаевича в Америку, где живут три тысячи молокан, назвавших именем Толстого свою школу. Потом пришло восемь молодых революционеров, недавно выпустивших прокламацию, что надо бунтовать и убивать помещиков. Л. Н. сам их вызвал, когда узнал об их существовании. Старался он их образумить, внушить добрые и христианские чувства. К чему это поведет – Бог их знает. Потом я застала у Л. Н. юношу. Он сидел такой жалкий и плакал. Оказывается, ему надо идти отбывать воинскую повинность, а это ему противно; он хочет отказаться, слабеет, плачет и остается в нерешительности. Еще приходил старичок из простых побеседовать. Приходили два солдата со штатским, но их уже не пустили, а дали им книги. Днем Л. Н. сидел наверху на балконе. Читаю и делаю вырезки все только о Толстом. Сегодня хороша в «Новой Руси» от 12 сентября. 16 сентября. Сегодня Л. Н. в первый раз после двух месяцев сиденья дома выехал в пролетке с Гусевым; сам правил и съездил к Чертковым в Телятинки. У него прекрасный аппетит, и он, видимо, поправляется. Идет какая-то хозяйственная суета, которая тяжела и заслоняет и жизнь, и мысли о скоро предстоящей смерти. Точно все к чему-то готовятся — точно готовятся к жизни, а ее-то и нет, то есть нет настоящей, спокойной, досужной жизни для тех занятий, которыми занимаешься любя. В этом был всю жизнь и мудр, и счастлив Л. Н. Он всегда работал по своему выбору, а не по необходимости. Хотел – писал, хотел – пахал. Вздумал шить сапоги – упорно их шил. Задумал детей учить – учил. Надоело – бросил. Попробовала бы я так жить. Что бы было и с детьми и с самим Л. Н.? 17 сентября. Мои именины. Ходила с Варей Нагорновой гулять и восхищалась особенно горячо, по-молодому, красотой осенней природы. Яркое освещение бесконечно разнообразной окраски леса беспрестанно давало такие чудесные картины, что мне безумно хотелось всё воспроизвести, написать масляными красками. Перед домом на клумбе цветет еще одна роза, и опять стих: «Одна лишь ты, царица роза, благоуханна и пышна», как сказал Фет в своих стихах об осени. Гуляла я еще с Андрюшей и его женой. Приехала Марья Александровна Шмидт и точно праздновала именины. Я не люблю празднества, хотя сегодня мне было очень приятно. Вечером играли в винт: Л. Н., Саша, Андрюша и Варвара Михайловна, а я делала вырезки из газет. Днем Л. Н. катался в пролетке на резиновых шинах с Сашей и Чертковым на козлах. Вчера он тоже катался. Поздно вечером разговорился о своей работе над «Кругом чтения» и начал нам читать различные изречения свои и других мыслителей. По-видимому, он очень занят и любит эту работу. Говорил о внутреннем благе человека, состоящем в его любви ко всем, в постоянном общении с Богом, в стремлении жить, чувствуя и исполняя волю Божию. Никогда Л. Н. еще не определял ясно, в чем он видит волю Божию и как приложить ее в жизни. «В любви», – отвечает он, когда его спрашивают. Но и это не ясно. Всякий чувствует и понимает Бога по-своему; и чем глубже это понимание, тем меньше о нем говорится, тем оно тверже и лучше. Очень постарел Л. Н. в этом году. Он перешел еще следующую ступень. Но хорошо постарел. Видно, что духовная жизнь преобладает, и хотя он любит и кататься, и вкусную пищу, и рюмочку вина; любит и в винт, и в шахматы поиграть, но точно тело его живет отдельной жизнью, а дух остается безучастен к земной жизни, где-то уж выше, менее зависим от тела. Что-то совершилось после его болезни: что-то новое, более чуждое, далекое чувствуется в Льве Николаевиче, и мне иногда невыносимо грустно и жаль утерянного и в нем, и в его жизни, и в его отношении ко мне и ко всему окружающему. Видят ли это другие? 30 сентября. Всецело отдалась хозяйству. Но это для меня возможно только потому, что сопряжено с постоянным общением с природой и любованием ею. В природу включаю работающий народ. Сегодня ходила в яблочные сады; там сорок человек счищают мох, обрезают сушь, а главное, мажут стволы составом из глины, известки и коровьего навоза. Какая красота эти пестрые фигуры девушек на зеленом фоне еще свежей травы, это голубое небо, желтые, и красные, и бурые деревья! Я долго любовалась одной яблоней – опортовых яблок. Такие переливы красок нежно-желтого, розового и светло-зеленого цвета трудно было бы воспроизвесть, да и вся фигура яблони прелестна. Потом ходила смотреть, как делают плотину и спуск на нижнем пруду. В саду нарвала еще букет Льву Николаевичу, но ему ничего и никого не стало нужно. Болезнь ли, усадившая его дома и сильно повлиявшая на него, старость ли или стена его толстовцев, а главное – Черткова, почти поселившегося в нашем доме и не оставляющего Льва Николаевича почти никогда одного, – не знаю что, но он стал не только чужд, но даже недобр со мною, да и со всеми. Вчера получено было письмо от его сестры, Марии Николаевны, прекрасное, полное чувства письмо, – Л. Н. его и не прочел. «Круг чтения» опять весь перечеркнут, переделан, всё переправлено, и бедная Саша всё должна опять переписывать на машинке. Хорошо, что я ей взяла на помощь Варвару Михайловну, а то она совсем надорвала бы и нервы, и глаза. Переписываю каталоги библиотеки, а то они все разорвались. Работа и скучная, и трудная, но необходимая. Перешиваю зимние платья. Очень скучаю, но не пишу свою «Жизнь» и не занимаюсь никаким искусством. Как часто хочется поиграть; но два рояля стоят в зале, а там никогда нельзя играть… Или едят там, или Лев Николаевич занимается, или спит… Всё это время читала на всех языках статьи о Л. Н., о нас. Никто его не знает и не понимает; самую суть его характера и ума знаю лучше других я. Но что ни пиши, мне не поверят. Л. Н. – человек огромного ума и таланта, человек с воображением и чувствительностью, чуткостью необычайными, но он человек без сердца и доброты настоящей. Доброта его принципиальная, но не непосредственная. Дивная погода. Яркое солнце, 11° тепла в тени, лист не облетел, и ярко-желтые березы на голубом небе, прямо перед нашими окнами, поражают своей окраской. На душе уныло, одиноко, никто меня не любит. Видно, недостойна. Во мне много страстности, непосредственной жалости к людям, но тоже мало доброты. Лучшее, что во мне есть, – это чувство долга и материнства. Был у нас третьего дня бывший революционер Николай Александрович Морозов, просидевший сначала в Шлиссельбургской, потом в Петропавловской крепости двадцать восемь лет. Всё хотелось послушать о его психологическом состоянии во время сиденья. А он больше рассказывал, как нарочно морили плохой едой, от которой делалась цинга. Цингу лечили, потом опять морили голодом и дурной пищей, так что из одиннадцати посаженных одновременно в крепость остались живы и отбыли срок трое, а восемь человек умерло. Морозов еще свежий на вид, женился в прошлом году. Говор его какой-то глухой. Сам жизнерадостный и весь поглощенный интересом к астрономии. Уже он написал и напечатал книгу об Апокалипсисе, и все его работы состоят в том, чтобы найти связь старых священных писаний с астрономией. Приезжал Морозов со старушкой, своей старой приятельницей Лебедевой, и пробыли они один вечер. 8 декабря. Хочется мне записать то, что я случайно слышала. Чертков, который бывает у нас каждый день, вчера вечером пошел в комнату Льва Николаевича и говорил с ним о крестном знамении. Я невольно из залы слышала их разговор. Л. Н. говорил, что по привычке иногда делает крестное знамение, точно если не молится в эту минуту душа, то тело проявляет знак молитвы. Чертков ему на это сказал, что легко может быть, что, умирая или сильно страдая, Лев Николаевич будет креститься рукой и окружающие подумают, что он перешел или желает перейти в православие; и чтоб этого не подумали, Чертков запишет в свою записную книжку то, что сказал теперь Лев Николаевич. Какое ограниченное создание этот Чертков, и какая у него на всё узкая точка зрения! Ему даже не интересна психология души Льва Николаевича в то время, как он один сам перед собой и перед Богом осеняет себя крестным знамением, которым крестили его и мать, и бабушка, и отец, и тетеньки, и его же маленькая дочь Таня, когда она вечером прощалась с отцом и, быстро двигая маленькой ручкой, крестила отца, приговаривая: «Пикистить папу». Черткову надо всё записать, собрать, сфотографировать – и только. Интересен его рассказ, как к нему пришли два мужика и просили принять их в какую угодно партию, что они под чем угодно подпишутся и чем угодно: чернилами, кровью – на всё согласны, лишь бы им платили деньги. Произошло это оттого, что у Черткова набрано в его доме столько всякого сброду, живут и едят тридцать два человека. Дом большой и весь полон. В числе других живут четыре парня, товарищи сына Димы, просто молодые ясенковские мужики, которые, не делая ровно ничего, кушают вместе с господами и получают по 15 рублей в месяц. Им завидуют. Там же живут с матерью мои бедные, брошенные моим сыном Андрюшей внуки – Сонюшка и Илюшок. Я их не могу видеть без горести. У нас поломали во флигеле все замки, побили стекла; украли мед из улья. Я ненавижу народ, под угрозой разбоя которого мы теперь живем. Ненавижу и казни, и несостоятельность правительства.1909
14 января. Сегодня я вступила в прежнюю должность – переписывала новое художественное произведение Льва Николаевича, только что написанное[155]. Тема – революционеры, казни и происхождение всего этого. Могло бы быть интересно. Но те же приемы – описание мужицкой жизни. Смакование сильного женского стана с загорелыми ногами девки, что когда-то так сильно соблазняло его; та же Аксинья с блестящими глазами, почти бессознательно теперь, в восемьдесят лет, снова поднявшаяся из глубины воспоминаний и ощущений прежних лет. Всё это как-то тягостно отозвалось во мне. И, вероятно, дальше будет опоэтизирована революция, которой, как ни прикрывайся христианством, Л. Н., несомненно, сочувствует – ненавидит всё, что высоко поставлено судьбой и что – власть. Буду переписывать дальше, посмотрим, что будет в дальнейшем рассказе. Ему не хотелось давать мне переписывать, точно ему было стыдно за рассказ. Да если бы в нем было немножко больше деликатности, он не называл бы своих героинь Аксиньями. И опять из мужиков герой, который должен быть симпатичен со своей улыбкой и гармонией, а потом спутавшийся и сделавшийся революционером. Может быть, я переменю свое мнение, но пока мне всё не нравится. Приехала сегодня [пианистка] Ванда Ландовская и много играла. Мазурка Шопена и соната Моцарта были исполнены в совершенстве. Близко нагнувшись над клавишами, она точно заставляет кого-то рассказывать себе содержание сочинения. Изящество игры и выразительность доведены до последней степени красоты. Старинные вещи: кукушка, старички, молодые, пляска прислуги, bourrée[156] – всё интересно, и всё удивительно исполнено. Слушали, кроме нашей семьи, отец и сын Чертковы и невестка Ольга. Уехала Маруся Маклакова.1910
26 июня. Лев Николаевич, муж мой, отдал все свои дневники с 1900 года Владимиру Григорьевичу Черткову и начал писать новую тетрадь там же, в гостях у Черткова, куда ездил гостить с 12 июня. В том дневнике, который он начал писать у Черткова и который он дал мне прочесть, между прочим сказано: «Хочу бороться с Соней добром и любовью»[157]. Бороться?! С чем бороться, когда я его так горячо и сильно люблю, когда одна моя мысль, одна забота – чтоб ему было хорошо. Но ему перед Чертковым и перед будущими поколениями, которые будут читать его дневники, нужно выставить себя несчастным и великодушно-добрым, борющимся с мнимым каким-то злом. Жизнь моя с Льв. Ник. делается со дня на день невыносимее из-за бессердечия и жестокости по отношению ко мне. И всё это постепенно и очень последовательно сделано Чертковым. Он всячески забрал в руки несчастного старика, он разлучил нас, он убил художественную искру в Л. Н. и разжег осуждение, ненависть, отрицание, и они чувствуются в статьях Л. Н. последних лет, на которые его подбивал глупый злой гений. Да, если верить в дьявола, то в Черткове он воплотился и разбил нашу жизнь. Все эти дни я больна. Жизнь меня утомила, измучила, я устала от трудов самых разнообразных; живу одиноко, без помощи, без любви, молю Бога о смерти; вероятно, она не далека. Как умный человек, Лев Ник. знал способ, как от меня избавиться, и с помощью своего друга Черткова убивал меня постепенно, и теперь скоро мне конец. Заболела я внезапно. Жила одна с Варварой Михайловной в Ясной Поляне, Лев Ник., Саша и вся свита – доктор, секретарь и лакей – уехали в Мещерское к Чертковым. Для Сашиного здоровья после ее болезни, для чистоты и уничтожения пыли и заразы меня вынудили в доме всё красить и исправлять полы. Я наняла всяких рабочих и сама таскала мебель, картины, вещи с помощью доброй Варвары Михайловны. Было много и корректур, и хозяйственных дел. Всё это меня утомило ужасно, разлука с Л. Н. стала тяжела, и со мной сделался нервный припадок, настолько сильный, что Варвара Михайловна послала Льву Ник. телеграмму: «Сильный нервный припадок, пульс больше ста, лежит, плачет, бессонница»[158]. На эту телеграмму он написал в дневнике: «Получил телеграмму из Ясной. Тяжело». И не ответил ни слова и, конечно, не поехал. К вечеру мне стало настолько дурно, что от спазм в сердце, головной боли и невыносимого какого-то отчаяния я вся тряслась, зубы стучали, рыданья и спазмы душили горло. Я думала, что умираю. В жизни моей не помню более тяжелого состояния души. Я испугалась и, как бы спасаясь от чего-то, естественно бросилась за помощью к любимому человеку и вторично ему телеграфировала уже сама: «Умоляю приехать завтра, 23-го». Утром 23-го вместо того, чтоб приехать с поездом, выходящим в 11 часов утра, и помочь мне, была прислана телеграмма: «Удобнее приехать 24-го утром, если необходимо, приедем ночным». В слове удобнее я почувствовала стиль жесткосердого, холодного деспота Черткова. Состояние моего отчаяния, нервности и болей в сердце и голове дошло до последних пределов. У Чертковых все разочли, что я не могу успеть и получить, и ответить телеграммой, но я тоже разочла и предвидела их хитрость, и мы послали телеграмму от имени Варвары Михайловны: «Думаю, необходимо», но не простой, а срочной. А в то время приехал к Чертковым скрипач Эрденко с женой. Разумеется, Чертков внушил Льву Ник., что неловко уезжать, и, конечно, не высказал, но подвел так, что скрипач, конечно, важней больной жены, и задержал Л. Н. А он и рад хоть лишнее утро пробыть еще со своим обожаемым идолом. Вечером 23-го Лев Ник. – со своим хвостом – вернулся недовольный и неласковый. Насколько я считаю Черткова нашим разлучником, настолько Лев Ник. и Чертков считают разлучницей меня. Произошло тяжелое объяснение, я высказала всё, что у меня было на душе. Сгорбленный, жалкий сидел Лев Ник. на табуретке и почти всё время молчал. И что мог бы он мне сказать? Минутами мне было ужасно жаль его. Если я не отравилась эти дни, то только потому, что я трусиха. Причин много, и надеюсь, что Господь меня приберет и без греховного самоубийства. Во время нашего тяжелого объяснения вдруг из Льва Ник. выскочил зверь: злоба засверкала в глазах, он начал говорить что-то резкое, я ненавидела его в эту минуту и сказала ему: «А! Вот когда ты настоящий!», и он сразу притих. На другое утро моя неугасаемая любовь взяла верх. Он пришел, и я бросилась ему на шею, просила простить меня, пожалеть, приласкать. Он меня обнял, заплакал, и мы решили, что теперь всё будет по-новому, что мы будем помнить и беречь друг друга! Надолго ли? Но я не могла уже оторваться от него; мне хотелось сблизиться, срастись с ним; я стала его просить поехать со мной в Овсянниково, чтобы побыть с ним. Мы поехали. Ему, видимо, не хотелось ехать со мной, но он сделал усилие, а дорогой всё пытался уйти от меня пешком. Тогда я опять начинала плакать, так как мое одинокое катанье в пролетке теряло уже для меня всякий смысл. Доехали вместе, я успокоилась, блеснул маленький луч радости быть вместе. Сегодня я прочла данный мне Льв. Ник. его дневник – и опять меня обдало холодом и расстроило известие, что Лев Ник. все дневники свои от 1900 года отдал Черткову, якобы делать выписки. А у Черткова работает сын хитрого Сергеенки и, по всей вероятности, переписывает всё целиком для будущих целей и выгод. А в дневниках Льва Ник. везде с умыслом он выставляет меня, как и теперь – мучительницей, с которой надо как-то бороться и самому держаться, а себя – великодушным, великим, любящим, религиозным… Мне надо подняться духом, понять, что перед смертью и вечностью так неважны интриги Черткова и мелкая работа Л. Н. унизить и убить меня! Да, если есть Бог, Ты видишь, Господи, мою ненавидящую ложь душу и мою не умственную, а сердечную любовь к добру и многим людям! Вечер. Опять было объяснение, и опять мучительные страдания. Нет, так невозможно, надо покончить с собой. Я спросила: «С чем во мне Лев Ник. хочет бороться?» Он говорит: «С тем, что у нас во всем с тобой разногласие – в земельном и в религиозном вопросе». Я говорю: «Земли не мои, и я считаю их семейными, родовыми». – «Ты можешь свою землю отдать». Я спрашиваю: «А почему тебя не раздражает земельная собственность и миллионное состояние Черткова?» – «Ах! Ах, я буду молчать, оставь меня…» Сначала крик, потом злобное молчание. Сначала на вопрос мой, где дневники с 1900 года, Лев Ник. мне быстро ответил, что у него. Но когда я их просила показать, он замялся и сознался, что они у Черткова. Тогда я спросила опять: «Так где же дневники твои, у Черткова? Ведь может быть обыск и всё пропадет? А мне они нужны как материал для моих “Записок”». – «Нет, он принял свои меры, – отвечал Л. Н., – они в каком-то банке». – «Где? В каком?» – «Зачем тебе это надо знать?» – «Как, ведь я самый тебе близкий человек, жена твоя». – «Самый близкий мне человек – Чертков, и я не знаю, где дневники. Не всё ли равно?» Правду ли говорит Лев Николаевич? Кто его знает; всё делается скрытно, хитро, фальшиво, во всем заговор против меня. И давно он ведется и не будет этому конца до смерти несчастного, опутанного дьяволом Чертковым старика. Я, кажется, обдумала, что мне надо делать. На днях, до отъезда Льва Ник. к Черткову, он негодовал на нашу жизнь и, когда я спросила: «Что же делать?», негодующим голосом закричал: «Уехать, бросить всё, не жить в Ясной Поляне, не видать нищих, черкеса, лакеев за столом, просителей, посетителей – всё это для меня ужасно!» Я спросила тогда: «Куда же нам, старикам, уехать?» – «Куда хочешь: в Париж, в Ялту, в Одоев… Я, разумеется, поеду с тобой». Слушала я, слушала всю эту гневную речь, взяла 30 рублей и ушла; хотела ехать в Одоев и там поселиться. Была страшная жара, добежала до шоссе, задохнулась от волнения и усталости, легла возле ржи в канаву на травке. Слышу, едет кучер в кабриолете. Села, обессиленная, вернулась домой. У Льва Ник. на короткое время сделались перебои в сердце. Что тут делать? Куда деваться? Что решать? Это был первый надрез в наших отношениях. Приехала домой. Опять тяжесть жизни. Муж сурово молчит, а тут корректуры, маляры, приказчик, гости, хозяйство… Всем надо ответить, всех удовлетворить. Голова болит, что-то огромное, разбухающее распирает голову, и что-то напухшее, сдавливающее – в сердце. И вот сегодня вечером, обходя раз десять аллеи в саду, я решила без ссор, без разговоров нанять угол в чьей-нибудь избе и поселиться в ней, бросив все дела, всю жизнь, стать бедной старушкой в избе, где дети, и их любить. Надо попробовать. Когда я стала говорить, что на перемену более простой жизни с Льв. Ник. я не только готова, но смотрю на нее как на радостную идиллию, только прошу указать, где именно он хотел бы жить, он сначала мне ответил: «На юге, в Крыму или на Кавказе…» Я говорю: «Хорошо, поедем, только скорей…» На это он мне начал говорить, что прежде всего нужна доброта. Разумеется, он никуда не поедет, пока тут Чертков; и в Никольское, к Сереже, как обещал, не поедет. Доброта). А когда в 20 лет, может быть, в первый раз он мог показать свою доброту, которую я давно не чувствую, когда я умоляла его приехать, он с Чертковым сочинял телеграмму, что удобнее не приезжать. Я спросила: «Кто составлял и писал телеграмму?» Лев Ник. сейчас же ответил: «Кажется, я с Булгаковым; впрочем, не помню». Я спросила Булгакова, он мне сказал, что даже не знал и никакого участия в телеграмме не принимал. Пришлось сознаться, что это стиль Черткова, которого Лев Ник. хотел выгородить и, к ужасу моему, просто сказал неправду. Пишу ночью, одна, в зале. Рассвело, птицы начали петь, и возятся в клетках канарейки. Неужели я не умру от тех страданий, которые переживаю… Сегодня Лев Ник. упрекал меня в розни с ним во всем. В чем? – В земельном вопросе, в религиозном, да во всем… И это неправда. Земельный вопрос по Генри Джорджу я просто не понимаю; отдать же землю помимо моих детей считаю высшей несправедливостью. Религиозный вопрос не может быть разный. Мы оба верим в Бога, в добро, в покорность воле Божьей. Мы оба ненавидим войну и смертную казнь. Мы оба любим деревню и живем в деревне. Мы оба не любим роскоши… Одно – я не люблю Черткова, а люблю Льва Ник. А он не любит меня и любит своего идола. 30 июня. 28-го мы поехали в Никольское, к сыну Сереже на день его рожденья: Лев Ник., Саша, я, Душан Петрович и Коленька Ге. Встали все рано, и я пошла сказать, что если Лев Ник. себя плохо чувствует, то чтоб не ехал, а я поеду с Ге вдвоем. Он сказал, что подумает, а раньше дал мне слово, что поедет со мной непременно. Совестно ему, верно, стало, и он поехал. Я чувствовала себя очень еще больной и накануне вечером решила не ехать, сидела, следила за игрой в шахматы Льва Ник. с Гольденвейзером. И в это время вошел Булгаков и сказал, что Чертков, бывший в ссылке, приехал с матерью в Телятинки. Я вскочила как ужаленная, кровь прилила к голове и сердцу, и я решила ехать к Сереже непременно. Быстро уложилась и потом не спала всю ночь. Утром Лев Ник. сказал, что пойдет вперед пешком, а чтоб я его догоняла в экипаже. Но приехал Чертков, Лев Ник. тотчас же потерял голову и вместо Засеки пошел по направлению к Ясенкам. Спохватился, испугался и быстро пошел к конюшне, на гору, а оттуда ехал и догонял меня с Чертковым, на его запряженной лошади, но слез на некотором расстоянии, подошел к моей пролетке, и мы поехали вместе. На станции Бастыево, куда должны были за нами выслать, лошадей не оказалось. Саша с Те слезла в Черни и на тройке уехала в Никольское, где оказалось, что никакой телеграммы от нас не было получено. Ее просто задержали и не послали из Бастыева. Давно я не испытывала такой тоски, как в эти три часа ожиданья на грязной, тесной, неприветливой станции. Лев Ник. опять ушел вперед и взял не то направление, и опять пришлось его искать уже в приехавшей из Никольского коляске. Хорошо, что я взяла с собой и овсянку сваренную, и кофе с молоком и могла накормить Льва Ник. О себе я никогда не думаю и ничего не ела, только чаю плохого выпила стакан и за весь день съела одно яйцо. В Никольском была дочь Таня, семья Орловых, Таня Берс и главное – Варечка Нагорнова. Делали красивые прогулки, но мне всё было тяжело и трудно. Разговоры с Таней только еще более расстроили меня: в них было с ее стороны столько жестокого осуждения и столько безжалостности и невозможно исполнимых требований, что я еще больше расстроилась. Зато Варечка так сердечно, умно и ласково отнеслась к моим страданиям! Последняя прогулка очень меня утомила, но в общем я рада была, что мы съездили. Два дня близко-близко провела с моим Левочкой, ехали на станцию так, что он держал меня под руку, он сам этого захотел, а когда ехали вчера ночью со станции Засека, он трогательно беспокоился, что мне холодно, мне ничего теплого не прислали, я была в одном платье, и он пошел к коляске спросить, нет ли чего теплого. Ге принес и накинул на меня свой плащ. На Засеке поезд остановили на мосту, где между перилами моста и вагонами было так узко, что едва можно было пройти. Если б поезд тронулся, могли бы вагоны и нас стащить. Сегодня с утра я очень тревожилась о здоровье Льва Ник. У него всё сонливость, отсутствие аппетита и обычное желчное состояние. Пульс больше 80. Он долго днем лежал и лежа принимал Суткового, Гольденвейзера и Черткова. Слушала я разговор Л. Н. с Сутковым, и он говорил, между прочим, Сутковому, что «сделал эту ошибку, женился…» Ошибку? Ошибкой он считает будто оттого, что женатая жизнь мешает духовной жизни. К вечеру, позднее, Л. Н. встал, играл в шахматы с Гольденвейзером, я поправляла корректуру «Власти тьмы». Было хорошо, тихо, спокойно и без Черткова. 1 июля. Вечер. Весь день просидела за корректурой нового издания («Плоды просвещения») и очень дурно себя чувствовала во всех отношениях. Письмо мое к Черткову Льву Николаевичу не понравилось. Что делать! Надо всегда писать только правду, не принимая ничего в соображение, и я послала все-таки это письмо. Вечером, при закрытых дверях собрались Лев Ник., Саша и Чертков и начался какой-то таинственный разговор, из которого я мало расслышала, но упоминалось часто мое имя. Саша ходила кругом осматривать, не слушаю ли я их, и, увидав меня, побежала сказать, что я слышала, вероятно, с балкона их раз– или заговор. И опять защемило сердце, стало тяжело и больно невыносимо. Я откровенно пошла тогда в комнату, где все сидели, и, поздоровавшись с Чертковым, сказала: «Опять заговор против меня?» Все были смущены, и Л. Н. с Чертковым наперерыв начали говорить что-то бессвязное, неясное о дневниках, и так никто мне не сказал, о чем говорили, а Саша просто скорей ушла. Началось тяжелое объяснение с Чертковым, Лев Ник. ушел к приехавшему сыну Мише. Я повторила, что написала в письме, и просила его сказать мне: сколько у него тетрадей дневников, где они и когда он их взял? При таких вопросах Чертков пришел в ярость и сказал, что раз Лев Ник. доверился ему, то ни Льву Ник. и никому он не даст отчета. А что Лев Ник. дал ему дневники, чтоб из них будто бы вычеркнуть всё интимное, всё дурное. Минутами Чертков смирялся и предлагал мне с ним заодно любить, беречь Льва Николаевича и жить его жизнью и интересами. Точно я без него не делала этого в течение почти всей моей жизни – 48 лет. И тогда между нами не было никого, мы жили одной жизнью. «Two is company, three is not»[159]. И вот этот третий и разбил нашу жизнь. Чертков заявил тогда же, что он духовный духовник (?) Льва Ник. и что я должна со временем примириться с этим. Сьсвозь весь разговор прорывались у Черткова грубые слова и мысли. Например, он кричал: «Вы боитесь, что я вас буду обличать посредством дневников! Если б я хотел, я мог бы сколько угодно напакостить (хорошо выражение якобы порядочного человека) вам и вашей семье. У меня довольно связей и возможности это сделать, но если я этого не делал, то только из любви к Льву Николаевичу». Как еще низменно мыслит Чертков! Какое мне дело, что после моей смерти какой-нибудь глупый офицер в отставке будет меня обличать перед какими-нибудь недоброжелательными господами?! Мое дело жизни и душа моя – перед Богом; а жизнь моя земная прошла в такой самоотверженной, страстной любви к Льву Николаевичу, что какому-нибудь Черткову уже не стереть этого прошлого, несомненно пережитого почти полвека моей любви к мужу. Кричал Чертков и о том, что если б у него была такая жена, как я, он застрелился бы или бежал в Америку. Потом, сходя с Левой с лестницы, Чертков со злобой сказал про меня: «Не понимаю такой женщины, которая всю жизнь занимается убийством своего мужа». Медленное же это убийство, если муж мой прожил уже 82 года. И это он внушил Льву Николаевичу, и потому мы несчастны на старости лет. Что же теперь делать? Увы! Надо притворяться, чтобы не совсем был отнят у меня Лев Николаевич. Надо этот месяц быть доброй и ласковой с Чертковым и его семьей, хотя после моего мнения о нем и его обо мне это будет невыносимо трудно. Надо чаще там бывать и ничем не расстраивать Льва Николаевича, признав его подчиненным, обезволенным и обезличенным Чертковым. Свое долголетнее влияние и любовь я утратила навсегда, если Господь не оглянется на меня. И как жаль Льва Николаевича! Он несчастлив под гнетом деспота Черткова и был счастлив в общении со мной. По поводу похищенных дневников я добилась от Черткова записки, что он обязуется их отдать Л. Н. после работ, которые поспешит окончить. А Лев Николаевич словесно обещал мне их передать. Сначала он тоже хотел мне это написать, но испугался и тотчас же отрекся от своего обещания. «Какие же расписки жене, это даже смешно, – сказал он. – Обещал и отдам». Но я знаю, что все эти записки и обещания – один обман (так и вышло с Львом Ник., он дневников мне не отдал и положил пока в банк в Туле[160]). Чертков отлично знает, что Льву Николаевичу уже недолго жить, и будет всё отлынивать и тянуть свою вымышленную работу в дневниках и не отдаст их никому. Вот правдивая история моего горя в последние годы моей жизни. Буду теперь писать дневник ежедневно. Вечером ездила на станцию Засека подписать корректурные листы, что забыла сделать вчера вечером. Приходил Николаев, приезжал на короткое время сын Миша, как всегда непонятный, спокойный и приятный. Я ему рассказала все наши тяжелые переживания, но он был спокойно ко всему равнодушен. Тяжелы отношения ко мне Саши. Она дочь-предательница. Если бы ей кто предложил, как будто для спокойствия отца, тихонько увезти его от меня, она бы сейчас же это сделала. Сегодня она поразила меня таинственным перешептываньем с отцом и Чертковым и беспрестанными оглядками и выбеганием из комнаты, чтоб узнать, не слышу ли я их разговоров обо мне. Да, окружили меня морально непроницаемой стеной; сиди и томись в этом одиноком заточении и принимай это как наказание за свои грехи; как тяжелый крест. 2 июля. Ничего не могла делать, так расстроили меня разговоры с Сашей. Сколько злобы, отчуждения, несправедливости! Всё больше и больше отчуждения между нами. Как это грустно! Мудрая и беспристрастная старушка Шмидт помогла мне своим разговором. Она советовала мне стать морально выше всяких упреков, придирок и брани Черткова; говорила, что приставанья моих дочерей, чтоб я куда-нибудь переезжала жить с Львом Николаевичем, потому что ему будто бы в Ясной Поляне стало невыносимо, что это пустяки; что посетители и просители везде его найдут и легче не будет, а ломать жизнь на старости лет просто нелепо. Ездила к Гольденвейзерам. Александр Борисович уехал в Москву; жена же его, брат и его жена были очень приятны. В это же время Лев Ник. приезжал верхом к Чертковым и, по-видимому, очень устал от жары. После обеда пришло много народу. К обеду приехал сын Лева, оживленный и радостный. Ему приятно быть опять в России, в Ясной Поляне и видеть нас[161]. На террасе происходили разговоры о добролюбовцах[162] в Самарской губернии. Присутствовали: Сутковой, его сестра, Картушин, Марья Александровна, Лев Ник., Горбунов, Лева и я. Сутковой рассказывал, что эти добролюбовцы соберутся, сидят, молчат, и между ними таинственно должна происходить духовная связь и единение. Лев Ник. ему возражал, но, к сожалению, не помню и боюсь ошибиться в неточности выражения его мысли. Приезжала мать Черткова. Она очень красивая, возбужденная и не совсем нормальная, очень уже пожилая женщина. Редстокистка[163], тип сектантки, верит в искупление, верит во вселение в нее Христа и религию производит в какой-то пафос. Но – бедная мать, у нее умерло два сына, и она подробно рассказывала о смерти меньшего, 8-летнего Миши. Прошло с тех пор 35 лет, а рана этой утраты свежа, и сердце у нее измучено горем, со смертью ее Миши прекратились для нее навеки все радости жизни. Слава Богу, она нашла утешение в религии. Лев Ник. брал ванну, желудок у него расстроился, но в общем состояние его здоровья недурно, слава богу! 3 июля. Еще я не оделась утром, как узнала о пожаре в Танином Овсянникове. Сгорел дом, где жили Горбуновы, сгорела и избушка Марьи Александровны. Она эту ночь ночевала у нас, и без нее подожгли ее избу. У нее сгорело всё, но больше всего ее огорчило, что сгорел сундук с рукописями. Всё, что когда-либо было написано Львом Ник., всё было у нее переписано и хранилось в сундуке вместе с тридцатью письмами Льва Ник. к ней. Не могу без боли сердца вспомнить, как она влетела ко мне, бросилась мне на шею и начала отчаянно рыдать. Как было ее утешить? Можно было только ей сочувствовать всей душой. И целый день я вспоминаю с грустью ее прежние слова: «У нас, душечка, райская жизнь в Овсянникове». Свою избушку она называла «дворцом». Сокрушалась очень и о своей старой безногой шавке, сгоревшей под печкой. Завтра Саша едет в Тулу ей всё купить, что необходимо для непосредственной нужды. Мы ее и оденем, и обставим, как можем. Но где ей жить – не знаю. Она не хочет жить у нас; привыкла к независимости, к своим коровам, собакам, огороду, клубнике. Лев Николаевич ездил с Левой верхом в сгоревшее Овсянниково и всё повторял, что «Марья Александровна хороша», то есть бодро выносит свое несчастье. Это всё хорошо, но сейчас надо во что-то одеться, что-то есть и пить, а ничего нет. Спасибо, что Горбуновы вытащили всё имущество и не бросят пока без помощи старушку. Страшная жара, медленно убирают сено, что немного досадно. Здоровье получше, ходила купаться. Вечером приехали Гольденвейзер и Чертков. Лев Ник. играл с Гольденвейзером в шахматы, Чертков сидел надутый и неприятный. Лева очень приятен, участлив и бодрит меня, а все-таки что-то грустно! Поправила много корректур и отсылаю. 4 июля. Описывала поездку нашу в Москву и к Чертковым, читала английскую биографию Льва Ник., составленную Моодом. Нехорошо; слишком много всюду он выставляет себя, пропагандируя свои переводы (об искусстве) и другие. Лева сегодня говорил, что вчера случайно подстерег на лице Льва Николаевича такое прекрасное выражение человека не от мира сего, что был поражен и желал бы его уловить для скульптуры. А я, несчастная близорукая, никогда не могу своими слепыми глазами улавливать выражения лиц. Да, Лев Ник. наполовину ушел от нас, мирских, низменных людей, и надо это помнить ежеминутно. Как я желала бы приблизиться к нему, постареть, угомонить мою страстную, мятущуюся душу и вместе с ним понять тщету всего земного! Где-то, на дне души, я чувствую это духовное настроение; я познала путь к нему, когда умер Ванечка, и я буду стараться найти его еще при моей жизни, а главное, при жизни Левочки. Трудно удержать это настроение, когда везешь тяжесть мирских забот, хозяйства, изданий, прислуги, отношений с людьми, их злобу, отношений с детьми и когда в моих руках отвратительное орудие, деньги – Деньги! Саша с Варварой Михайловной накупили в Туле всё нужное для Марьи Александровны. Я уже начала вечером работать на нее. У нее всё сгорело решительно, и надо ей всё завести и одеть ее. и вот еще новая забота! Чертков вечером привозил стереоскопические снимки, сделанные в Мещерском, где гостил у него Лев Ник. И Лев Ник., как ребенок, на них радовался, узнавая везде себя. Гольденвейзер играл, Лева нервно расплакался. Свежо, 12°, и северный ветер. 5 июля. Жизни нет. Застыло как лед сердце Льва Николаевича, забрал его в руки Чертков. Утром Лев Ник. был у него, вечером Чертков приехал к нам. Лев Ник. сидел на низкой кушетке, и Чертков подсел близко к нему, а меня всю переворачивало от досады и ревности. Затем был затеян разговор о сумасшествии и самоубийстве. Я три раза уходила, но мне хотелось быть со всеми и пить чай, а как только я подходила, Лев Ник., повернувшись ко мне спиной и лицом к своему идолу, начинал опять разговор о самоубийстве и безумии, хладнокровно, со всех сторон обсуждая его и с особенным старанием и точностью анализируя это состояние с точки зрения моего теперешнего страдания. Вечером он цинично объявил, что всё забыл, забыл свои сочинения. Я спросила: «И прежнюю жизнь, и прежние отношения с близкими людьми? Стало быть, ты живешь только настоящей минутой?» – «Ну да, только настоящим», – ответил Лев Ник. Это производит ужасное впечатление! Пожалуй, что трогательная смерть физическая с прежней нашей любовью до конца наших дней была бы лучше теперешнего несчастия. В доме что-то нависло, какой-то тяжелый гнет, который убьет и задавит меня. Брала на себя успокоиться, быть в хороших отношениях с Чертковыми. Но и это не помогло; всё тот же лед в отношениях Льва Николаевича, всё то же пристрастие к этому идиоту. Ездила сегодня отдать визит его матери, видела своих внуков. Старушка безвредная; поразила меня своими огромными ушами и количеством съеденной ею при мне всякой еды: варенца, ягод, хлеба и проч. Кроила Марье Александровне рубашки, шила на машине юбку и рубила платки. Заболела голова. Были Булыгин, Ге, Гольденвейзер. Ох, как тяжело, как я больна, как я молю Бога о смерти! Неужели это ничем не разрешится и Черткова оставят жить в Телятинках? Горе мне! Хотелось бы прочесть дневник Л. Н. Но теперь всё у него заперто или отдано Черткову. А всю жизнь у нас не было ничего друг от друга скрытого. Мы читали друг другу все письма, все дневники, всё, что писал Лев Николаевич. Понять моих страданий никто не сможет, они так остры и мучительны, что только смерть может их прекратить. 6 июля. Не спала всю ночь. Всё видела перед глазами ненавистного Черткова, близко, рядом сидящего возле Льва Ник. Утром пошла одна купаться и всё молилась дорогой. Я отмолю это наваждение, так или иначе. А если нет, то, ходя ежедневно купаться, я воспитаю в себе мысль о самоубийстве и утоплюсь в своей милой Воронке. Еще сегодня вспоминала я, как давно, давно Лев Ник. пришел в купальню, где я купалась одна. Всё это забыто, и всё это давно и не нужно; нужна тихая, ласковая дружба, участие, сердечное общение… Когда я вернулась, Лев Ник. поговорил со мной добро и ласково, и я сразу успокоилась и повеселела. Он уехал верхом с Душаном Петровичем, не знаю куда. Лева (сын) добро и трогательно относится ко мне; пришел на речку меня проведать, в каком я состоянии. А я взяла на себя успокоиться и как можно меньше видать Черткова. Ездила к Звегинцевой, она мне была рада, болтали по-женски, но сошлись в одном несомненно, это в нашем мнении и отношении к Черткову. Опоздала к обеду; Лев Ник. не хотел было обедать, но потом я его позвала хоть посидеть с нами, и он с удовольствием съел весь обед, составленный для его желудка особенно старательно. Суп-пюре, рис, яйцо, черника на хлебе, моченном в миндальном молоке. Вечером шила юбку Марье Александровне, приехал Чертков, пришли Сутковой и Николаев, потом и Гольденвейзер, сыгравший сонату Бетховена, ор. 90, рапсодию Брамса и чудесную балладу Шопена. Потом Лев Ник. разговаривал с Сутковым о секте добролюбовцев и перешли к обсуждению религии вообще. Он говорил, что нужно прежде всего познать в себе Бога, а потом не искать форм и искусственных осложнений вроде чудес, причастия, искусственного молчания для мнимого общения с мистическим миром; нужно устранять всё лишнее, всё, что мешает общению с Богом. И для того чтоб этого достигнуть, нужно усилие; и об этом Лев Ник. написал книжечку, которой очень доволен и которую, сегодня прокорректировав, послал Горбунову для печатанья[164]. Сегодня я меньше волнуюсь и как будто овладела собой, хотя не могу простить Черткову его слово напакостить. Странно! Сколько праздных разговоров, и как немногие понимают, что важно в жизни. Помню, когда я во время моей операции провалилась куда-то в бездну страданий, усыпления эфиром и близости смерти, перед моимидуховными глазами промелькнули со страшной быстротой бесчисленные картины земной, житейской суеты, особенно городской. Как не нужны, странны мне показались особенно города: все театры, трамваи, магазины, фабрики – всё ни к чему, всё вздор перед предстоящей смертью. Куда? Зачем всё это стремленье и суета? – невольно думалось мне. «Что же важно? Что нужно в жизни?..» И ответ представился мне ясный и несомненный: «Если уж нам суждено жить на земле по воле Бога, то лучшее и несомненно хорошее дело есть то, что мы, люди, должны помогать друг другу жить. В какой бы форме ни проявлялась обоюдная помощь – вылечить, накормить, напоить, утешить – всё равно, лишь бы помочь, облегчить друг другу житейские скорби». И вот, если б Лев Ник. тогда, вместо всех речей, на мой призыв умоляю приехать — приехал бы, а не откладывал, он помог бы мне жить, помог бы в моих страданиях и это было бы дороже всех его холодных проповедей. Так и всегда во всем. Это сходится и с христианством. 7 июля. Утро. Дождь, ветер, сыро. Поправляла корректуру «Плодов просвещения», дошила Марье Александровне юбку. Взяла из дивана Льва Ник. корректуры «Воскресения», пока Чертков еще не пронюхал, где они, и не взял их. Несмотря на погоду, Лев Ник. поехал к своему идолу. Думала сегодня, что хотя последние дневники его очень интересны, но они все сочинялись для Черткова и тех, кому угодно будет г. Черткову их предоставить для чтенья! И теперь Лев Ник. никогда в своих дневниках не смеет сказать обо мне слова любви, это не понравилось бы Черткову, а дневники поступают к нему. В моих же руках всё самое драгоценное по искренности, по силе мысли и чувств. Очень плохо я соблюла рукописи Льва Ник. Но он мне их раньше никогда не давал, держал у себя, в ящиках своего дивана, и не позволял прикасаться. А когда я решила их убрать в музеи, мы в Москве перестали жить, и я только могла убрать, а не разобрать их. Да и жили-то когда в Москве, я была страшно занята многочисленной семьей и делами, которые просто из-за хлеба насущного нельзя было бросить. Лева тоже вчера рассорился с этим грубым неотесанным идиотом Чертковым. Льет дождь, холодно, а Лев Ник. поехал-таки верхом к Черткову, и я в отчаянии ждала сто на крыльце, тревожилась и проклинала соседство с Чертковым… Вечер. Нет, Льва Ник. еще у меня не отняли, слава Богу! Все мои страданья, вся энергия моей горячей любви к нему проломила тот лед, который был между нами эти дни. Перед нашей связью сердечной ничто не может устоять; мы связаны долгой жизнью и прочной любовью. Я взошла к нему, когда он ложился спать, и сказала: «Обещай мне, что ты от меня не уйдешь никогда тихонько, украдкой». Он мне на это сказал: «Я и не собираюсь и обещаю, что никогда не уйду от тебя, я люблю тебя», – и голос его задрожал. Я заплакала, обняла его, говорила, что боюсь его потерять, что так горячо люблю его и, несмотря на невинные и глупые увлеченья в течение моей жизни, ни минуты не переставала любить его до самой старости больше всех на свете. Лев Ник. говорил, что и с его стороны то же самое, что нечего мне бояться; что между нами связь слишком велика, чтоб кто-нибудь мог ее нарушить, – и я почувствовала, что это правда, и мне стало радостно, и я ушла к себе, но вернулась еще раз и благодарила его, что снял камень с сердца моего. Когда я уже простилась с ним и ушла к себе, немного погодя дверь отворилась и Лев Ник. вошел ко мне. «Ты ничего не говори, – сказал он мне, – а я хочу тебе сказать, что и мне был радостен, очень радостен наш последний разговор с тобой сегодня вечером…» И он опять расплакался, обнял и поцеловал меня… «Мой! Мой!» – заговорило в моем сердце, и теперь я буду спокойнее, я опомнюсь, я буду добрее со всеми и постараюсь быть в лучших отношениях с Чертковым. Он написал мне письмо, пытаясь оправдаться передо мной. Я вызывала его сегодня на примирение и говорила ему, что он по крайней мере должен, если он порядочный человек, извиниться передо мной за эти две его грубые фразы: 1) «Если б я хотел, я имел возможность и достаточно связей, чтобы напакостить вам и вашим детям. И если я этого не сделал, то только из любви к Льву Николаевичу»; 2) «Если б у меня была такая жена, как вы, я давно убежал бы в Америку или застрелился». Но извиняться он ни за что не хотел, говоря, что я превратно поняла смысл его слов и т. д. А чего же яснее? Гордый он и очень глупый и злой человек! И где их якобы принципы христианства, смирения, любви, непротивления?.. Всё это лицемерие, ложь. У него и воспитанности простой нет. Когда Чертков сходил с лестницы, то сказал, что во второй фразе он считает себя неправым и что если его письмо ко мне меня не удовлетворит, то он готов выразить сожаление, чтоб стать со мной в хорошие отношения. Письмо же ничего не выразило, кроме уверток и лицемерия[165]. Теперь мне всё равно, я тверда своей радостью, что Лев Николаевич показал мне свою любовь, свое сердце, а всё и всех остальных я презираю, и я теперь неуязвима. Петухи поют, рассветает. Ночь… Поезда шумят, ветер в листьях тоже слегка шумит. 8 июля. Ласка мужа меня совсем успокоила, и я сегодня провела первый день в нормальном настроении. Ходила гулять, набрала большой букет полевых цветов Льву Николаевичу; переписывала свои старые письма к мужу, найденные еще раньше в его бумагах. Были опять всё те же: Чертков, Гольденвейзер, Николаев, Сутковой. Шел дождь, холодно, ветер. В хозяйстве двоят[166] пар, красят крыши. Саша вяла, в сильном насморке, дуется на меня. Лев Никол, нам прочел вслух хорошенький французский рассказ нового писателя Милля. Ему и вчера поправился рассказ: «La biche ecrasee». Он был бы здоров, если б не констипация[167]. 9 июля. Господи! Когда кончатся все эти тяжелые подлые сплетни и истории! Приезжала невестка Ольга, поднялся опять разговор всё о том же – о моем отношении к Черткову. Он мне нагрубил, а я ему ни единого неучтивого слова не сказала – и мои же косточки перебирают по углам, пересуживая меня и в чем-то обвиняя. Часто удивляюсь и не могу еще привыкнуть к тому, что люди просто лгут. Иногда ужасаешься, пытаешься с наивностью напомнить, объяснить что-нибудь, восстановить истину… И все эти попытки совершенно не нужны; люди часто совсем не хотят правды; им это и не нужно, и не в их пользу. Так было со всей чертковской историей. Но я больше об этом говорить не буду. Довольно всяких других тревог. Сегодня Лев Ник. с Левой поехали верхом по лесам. Шла черная, большая туча; но они прямо поехали на нее и даже не взяли ничего с собой. Лев Ник. был в одной тонкой белой блузе, Лева в пиджаке. Я прошу всегда Льва Ник. мне сообщать свой маршрут, чтобы можно было выслать ему платье или экипаж. Но он не любит этого делать. И сегодня разразилась сильная гроза, ливень, и я полчаса бегала по террасе в страшной тревоге. И опять это болезненное сжимание сердца, прилив крови к голове, сухость во рту и всех дыхательных органах и отчаяние в душе. Вернулись мокрые, я хотела помочь растереть Льва Николаевича спиртом – спину, грудь, руки и ноги, но он сердито отклонил мою помощь и едва согласился на то, чтобы его потер его слуга, Илья Васильевич. Ольга почему-то озлилась, не осталась обедать и увезла детей. Весь день потом болела голова, нездоровилось, температура поднялась немного (37 и 5), и я уже ничего не могла делать, а работы много, особенно по изданию, которое совсем остановилось. Вечером я почувствовала изнеможение, легла в своей комнате, заснула и, к сожаленью, проспала весь вечер, просыпаясь несколько раз. Приехали Чертков и Гольденвейзер. Пришел Николаев, который, по-видимому, очень раздражает Льва Ник. своими разговорами. Л. Н. играл в шахматы с Гольденвейзером, который потом немного поиграл. Чудесная мазурка Шопена! Всю душу перевернула! Лева-сын тревожен о заграничном паспорте, который сегодня не выдали ему в Туле, требуя от полиции свидетельства о беспрепятственном выпуске его из России, а Лева находится под судом за напечатание в 1905 году брошюр «Где выход?» и «Восстановление ада». Всё и это тревожно. 12° тепла, сыро, неприятно. Саша грубо, дребезжаще кашляет – и это тревожно тоже. И что-то вообще кончается. Не жизнь ли моя или кого из близких? Чертков привез мне не полный, как обещал, альбом снимков с Льва Николаевича, некоторые прекрасные; мать его прислала мне книжечку «Миша» о ее умершем мальчике. Я прочла, очень трогательно, но в ее отношениях к Иисусу, к Богу, даже к ребенку – много искусственного, мне непонятного. 10 июля. Лев Николаевич, разумеется, не посмел в дневнике своем написать, как он поздно вечером вошел ко мне, плакал, обнимал меня и радовался нашему объяснению и нашей близости, а везде пишет: «Держусь». Что значит держусь! Большей любви, желания блага, бережности нельзя дать, чем я отдаю ему. Но дневники отдаются Черткову, он их будет издавать, он всему миру постарается повестить, что, как он говорил, от такой жены, как я, надо застрелиться или бежать в Америку. Уехал сегодня Л. Н. верхом с Чертковым в лес: какие-то там будут разговоры. Подали лошадь и Булгакову, но его устранили, чтоб не нарушал их уединения. Вот мне приходится держаться, чтоб ежедневно видеть эту ненавистную фигуру. В лесу раза два слезали зачем-то, и Чертков, направив свой аппарат на Льва Ник., снимал его в овраге. Приехав, Чертков хватился, что потерял часы. Он нарочно подъехал к балкону и сказал Льву Ник., где думает, что потерял часы. И Л. Н., жалкий, покорный, обещал после обеда пойти искать часы господина Черткова в овраге. К обеду приехали приятные гости: Давыдов, Саломон и Ге. Давыдов привез мне прочтенное им «Воскресение» для нового издания, но много еще мне над ним придется работы. Работу эту взял на себя и сын Сережа. Я думала, что Льву Ник. будет совестно потащить всех нас, почтенных людей, в овраг искать часы господина Черткова. Но он так его боится, что не остановился даже перед положением быть смешным: случилось исканье часов Черткову целым обществом в восемь человек. Мы топтались все в мокром сене и часов не нашли. Да и бог его знает, где этот рассеянный идиот их потерял! И почему надо было фотографировать на неудобном мягком и мокром сене?.. Лев Ник. во всё лето в первый раз позвал меня с ним погулять, мне это было так радостно, и я с волнением ждала, что нас минует этот овраг с часами. Но, конечно, ошиблась. На другое утро Лев Ник. встал рано, пошел на деревню, созвал ребят и с ними нашел часы в овраге. Вечером читал Саломон скучную французскую аллегорию о блудном сыне; потом читали легкий рассказ Милля и другой, его же. Давыдов уехал; я высказала Льву Ник. свое чувство неудовольствия и отчасти стыда за то, что повел вместо прогулки всё общество в овраг за чертковскими часами; он, конечно, рассердился, произошло опять столкновение, и опять я увидала ту же жестокость, то же отчуждение, то же выгораживание Черткова. Совсем больная и так, я почувствовала снова этот приступ отчаяния; я легла на балконе на голые доски и вспоминала, как на этом же балконе 48 лет тому назад, еще девушкой, я почувствовала впервые любовь Льва Николаевича. Ночь холодная, и мне хорошо было думать, что где я нашла его любовь, там я найду и смерть. Но, видно, я ее еще не заслужила. Вышел Лев Николаевич, услыхав, что я шевелюсь, и начал с места на меня кричать, что я ему мешаю спать, что я уходила бы. Я и ушла в сад и два часа лежала на сырой земле в тонком платье. Я очень озябла, но очень желала и желаю умереть. Поднялась тревога, пришли Душан Петрович, Коля Ге, Лева, стали на меня кричать, поднимать меня с земли. Я вся тряслась от холода и нервности. Если б кто из иностранцев видел, в какое состояние привели жену Льва Толстого, лежащую в два и три часа ночи на сырой земле, окоченевшую, доведенную до последней степени отчаяния, как бы удивились добрые люди! Я это думала, и мне не хотелось расставаться с этой сырой землей, травой, росой, небом, на котором беспрестанно появлялась луна и снова пряталась. Не хотелось и уходить, пока мой муж не придет и не возьмет меня домой, потому что он же меня выгнал. И он пришел только потому, что Лева-сын кричал на него, требуя, чтоб Л. Н. пришел ко мне, и они меня с Левой привели домой. Три часа ночи, ни он, ни я не спим. Ни до чего мы не договорились, ни капли любви и жалости я в нем не вызвала. Ну и что ж! Что делать! Что делать! Жить без любви и нежности Льва Николаевича я не могу. А дать мне ее он не может. Четвертый час ночи… Я рассказывала Давыдову, Саломону и Николаевой о злых и грубых выходках Черткова против меня; и все искренно удивлялись и ужасались. Удивлялись, как мой муж мог терпеть такие оскорбления, сделанные жене. И все единогласно выразили свою нелюбовь вообще к злому дураку Черткову. Особенно негодовал Давыдов за то, что Чертков похитил все дневники Льва Ник. с 1900 года. – Ведь это должно принадлежать вам, вашей семье! – горячась, говорил Давыдов. – И письмо Черткова в газеты, когда Лев Ник. жил у него! Ведь это верх глупости и бестактности! – горячился милый Давыдов[168]. Всем всё видно, всё ясно; а мой бедный муж?.. Когда совсем рассвело, мы еще сидели у меня в спальне друг против друга и не знали, что сказать. Когда же это было раньше?! Я всё хотела опять уйти, опять лечь под дуб в саду; это было бы легче, чем в моей комнате. Наконец я взяла Льва Ник. за руку и просила его лечь, и мы пошли в его спальню. Я вернулась к себе, но меня опять потянуло к нему, и я пошла в его комнату. Завернувшись в одеяло, связанное мною ему, с греческим узором, старенький, грустный, он лежал лицом к стене, и безумная жалость и нежность проснулись в моей душе, и я просила его простить меня, целовала знакомую и милую ладонь его руки – и лед растаял. Опять мы оба плакали, и я наконец увидала и почувствовала его любовь. Я молила Бога, чтоб Он помог нам дожить мирно и по-прежнему счастливо последние годы нашей жизни. 11 июля. Спала только от 4 до 1½ часов. Лев Ник. тоже мало спал. Чувствую себя больной и разбитой, но участливой в душе. С Львом Ник. дружно, просто – по-старому. Как сильно и глупо я люблю его! И как неумело! Ему нужны уступки, подвиги, лишения с моей стороны, – а я этого не в силах исполнять, особенно теперь, на старости лет. Утром приехал Сережа. Саша и ее тень Варвара Михайловна на меня дуются, но мне так это всё равно! Лева со мной добр, и он умен, начал меня лепить. Лев Ник. ездил верхом с доктором. Вечером приехал Горбунов, и Лев Ник. с ним много беседовал по поводу новых копеечных книжечек. Прошлись все по саду, Лев Ник. имел усталый вид. Но вечер прошел в тихих разговорах, игре в шахматы, рассказах милого Саломона. Легли все рано. Черткова отклонил сам Л. Н. на нынешний вечер. Слава богу, хоть один день вздохнуть свободно, отдохнуть душой. 12 июля. Днем позировала Леве, он лепил мой бюст, и сегодня стало более похоже, он талантлив, умен и добр. Какое сравнение с Сашей, увы! Лев Ник. поджидал Гольденвейзера, чтоб с ним ехать верхом, а тот всё не ехал. Послали в Телятинки, а Филька вместо Гольденвейзера вызвал ошибкой Черткова. Всего этого я не знала; но Л. Н., не дождавшись Гольденвейзера, пошел на конюшню седлать свою лошадь (чего никогда раньше не делал), чтоб ехать навстречу к Гольденвейзеру. Я подумала, что если Лев Ник. не встретит его, то очутится один, жара смертельная, еще сделается солнечный удар, и я побежала на конюшню спросить, куда он поедет, если не встретит никого. Лев Ник. торопил кучера; тут же стоял доктор, я говорю: «Вот хорошо, пусть Душан Петрович едет с тобой». Лев Ник. согласился; но только выехал из конюшни, из-под горы, вижу, поднимается ненавистная мне фигура на белой лошади – Черткова. Я ахнула, закричала, что опять обман, опять всё подстроили, солгали про Гольденвейзера, а вызван был Чертков, и со мной тут же, при всей дворне сделалась истерика, и я убежала домой. Лев Ник. сказал Черткову, что он с ним не поедет, и Чертков уехал домой, а Л. Н. поехал с доктором. К счастью, обмана, по-видимому, не было, Филька спросонок забыл, к кому ему приказано было ехать, и ошибкой заехал к Черткову, вызвал его к Л. Н. вместо Гольденвейзера. Но я так намучена всё это время, что малейшее напоминание о Черткове и тем более вид его приводят меня в отчаянное волнение. Вечером он приезжал, я ушла и тряслась как несчастная целый час. Были Гольденвейзер с женой, оба очень приятные. Уехал Саломон; такой он славный, живой, умный, участливый. Лева трогательно добро относится ко мне. Лев Ник. стал много мягче, но сегодня вечером вижу, что он сам не свой, видно, ждал Черткова, а тот долго не ехал, и Лев Ник. пошел писать ему письмо, объяснение того, почему он к ним не поехал. Очень нужно! В этом письме, верно, писал что-нибудь дурное обо мне. Обещал мне показать, но как бы опять не вышел обман. Столько скрытого, лживого вокруг меня! Приехали Сухотины, Таня и Михаил Сергеевич. Тяжелые разговоры. Таня, Саша верят во всех моих рассказах только тому, что им нравится выбрать из них; и как бы правдивы ни были мои слова, им нужно только то, что им на руку, чтоб бранить и осуждать меня. Я наверное погибну так или иначе; радуюсь тому, что не переживу Льва Николаевича. И какое будет счастье избавиться от тех страданий, которые я переживала и переживаю теперь! Вызвала меня сегодня письмом мать Черткова Елизавета Ивановна. К ней приехали два проповедника: Фетлер и другой, ирландский профессор, речи которого я мало понимала и который усердно ел и изредка произносил механически какие-то религиозные фразы. Но Фетлер – очень убежденный человек, красноречив, прекрасно говорит и начал меня старательно обращать в свою веру – искупления. Я возражала ему только на то, что он настаивал на материальном искуплении, проливании крови, страданий и смерти тела Христа. А я говорила, что в вопросы религиозные не надо вводить ничего материального, что дорого учение Христа и его божественность в духе, а не в теле. И это им не нравилось. Потом этот Фетлер стал на колена и начал молиться за меня, за Льва Николаевича, за наше обращение, за мир и радость наших душ и проч. Молитва прекрасно составленная, но странно всё это! Елизавета Ивановна всё время присутствовала и позвала меня к себе, чтобы спросить, за что я возненавидела ее сына. Я ей объяснила, сказала про дневники и про то, что ее сын отнял у меня моего любимого мужа. Она на это сказала: «А я огорчалась всегда тем, что ваш муж отнял у меня моего сына!» И права. Три часа ночи. Луна красиво светит в мое окно, а на душе тоска, тоска. И какая-то только болезненная радость, что вот тут совсем близко дышит и спит мой Левочка, который еще не весь отнят у меня… 13 июля. Отправив вчера Черткова с верховой езды для меня, Лев Ник. вечером ждал его для объяснения причины, и Чертков долго не ехал. Чуткая на настроение моего мужа, я видела, как он беспокойно озирался, ждал его вечером, как ждут влюбленные, делался всё беспокойнее, сидя на балконе внизу, всё глядел на дорогу и наконец написал письмо, которое я просила мне показать. Саша письмо привезла, и оно у меня. Разумеется, «милый друг» и всякие нежности… И я опять в диком отчаянии. Письмо это он отдал все-таки приехавшему Черткову. Я взяла его под предлогом прочтения и сожгла. Мне уж он никогда больше не пишет нежных слов, а я делаюсь всё хуже, всё несчастнее и всё ближе к концу. Но я трусиха: не поехала сегодня купаться, потому что боюсь утопиться. Ведь нужен один момент решимости, и я его еще не нахожу. Позировала для Левы долго. Лев Ник. ездил верхом с Сухотиным и Гольденвейзером. Искала дневник последний Льва Ник. и не нашла. Он понял, что я нашла способ его читать, и спрятал еще куда-то. Но я найду, если он не у Черткова, не у Саши или у доктора. Мы как два молчаливых врага хитрим, шпионим, подозреваем друг друга! Скрываем, то есть Лев Ник. скрывает вместе с этим злым фарисеем, как его прозвал один близкий человек, Ге-сын, всё, что можно скрывать, может быть, и последний дневник он вчера вечером уже передал Черткову. Господи, помилуй меня, люди все злы, меня не спасут… Помилуй и спаси от греха!.. Ночь на 14 июля. Допустим, что я помешалась и пункт мой, чтоб Лев Ник. вернул к себе свои дневники, а не оставлял их в руках Черткова. Две семьи расстроены; возникла тяжелая рознь; я уже не говорю, что я исстрадалась до последней крайности (сегодня я весь день ничего и в рот не брала). Всем скучно, мой измученный вид, как назойливая муха, мешает всем. Как быть, чтоб все были опять радостны, чтоб уничтожить мои всякие страданья? Взять у Черткова дневники, эти несколько черных клеенчатых тетрадочек, и положить их обратно в стол, давая ему по одной для выписок. Ведь только! Если трусость моя пройдет и я наконец решусь на самоубийство, то, как покажется всем в прошлом, моя просьба легко исполнима, и все поймут, что не стоило настаивать, жестоко упрямиться и замучить меня до смерти отказом исполнить мое желание. Будут объяснять мою смерть всем на свете, только не настоящей причиной: и истерией, и нервностью, и дурным характером, но никто не посмеет, глядя на мой убитый моим мужем труп, сказать, что я могла бы быть спасена только таким простым способом – возвращением в письменный стол моего мужа четырех или пяти клеенчатых тетрадок. И где христианство? Где любовь? Где их непротивление? Ложь, обман, злоба и жестокость. Эти два упорных человека – мой муж и Чертков – взялись крепко за руки и давят, умерщвляют меня. И я их боюсь; уж их железные руки сдавили мое сердце, и я сейчас хотела бы вырваться из их тисков и бежать куда-нибудь. Но я чего-то еще боюсь… Говорят о каком-то праве каждого человека. Разумеется, Лев Ник. прав, мучая меня своим отказом взять его дневники у Черткова. Но причем право с женой, с которой прожил полвека? И причем право, когда дело идет о жизни, об общем умиротворении, о хороших со всеми отношениях, о любви и радости, о здоровье и спокойствии всех – и наконец об излюбленном Л. Н. непротивлении? Где оно? Завтра Л. Н., вероятно, поедет к Черткову. Таня с мужем уедет в Тулу, а я – я буду свободна, и если не Бог, то еще какая-нибудь сила поможет мне уйти не только из дома, но из жизни… Я даю способ спасти меня – вернуть дневники. Не хотят – пусть променяются: дневники останутся по праву у Черткова, а право жизни и смерти останется за мной. Мысль о самоубийстве стала крепнуть. Слава Богу, страданья мои должны скоро прекратиться. Какой ужасный ветер! Хорошо бы сейчас уйти… Надо еще попытаться спастись… в последний раз. И если отказ, то будет еще больней и тогда еще легче исполнить свое избавление от страданий; да и стыдно будет вечно грозить и опять вертеться на глазах у всех, кого я мучаю… А хотелось бы еще ожить, увидать в исполнении моего желанья тот проблеск любви моего мужа, который столько раз согревал и спасал меня в моей жизни и который теперь как будто на веки затушил Чертков. Ну и пусть без этой любви потухает и вся моя жизнь. «Утопающий хватается за соломинку…» Мне хочется дать прочесть моему мужу всё то, что теперь происходит в душе моей; но при мысли, что это вызовет только его гнев и тогда уже наверное убьет меня, я безумно волнуюсь, боюсь, мучаюсь… Ох, какая тоска, какая боль, какой ад во всем моем существе! Так и хочется закричать: «Помогите!» Но ведь это пропадет в том злом хаосе жизни и людской суеты, где помощь и любовь в книгах и словах, а холодная жестокость на деле… Как раньше на мой единственный в целые десятки лет призыв о возвращении домой Льва Ник., когда я заболела нервным расстройством, он отозвался холодно и недоброжелательно и этим дал усилиться моей болезни, так и теперь это равнодушие к моему желанью и упорное сопротивление моей болезненной просьбе может иметь самые тяжелые последствия… И всё будет слишком поздно… Да ему что! У него Чертков, а хотелось бы… Но у него дневники, надо их вернуть… 14 июля. Не спала всю ночь и на волоске была от самоубийства. Как бы крайни ни были мои выражения о страданиях моих – всё будет мало. Вошел Лев Ник., и я ему сказала в страшном волнении, что на весах с одной стороны возвращение дневников, с другой – моя жизнь, пусть выбирает. И он выбрал, спасибо ему, и вернул дневники от Черткова. Я от волнения плохо наклеила тут то письмо, которое он принес мне сегодня утром; очень мне это жаль, но оно переписано в нескольких местах: и в книге писем Льва Ник. ко мне, мной переписанной, и экземпляр есть у дочери Тани. Саша ездила к Черткову за дневниками с письмом от Льва Николаевича, но душа еще скорбит, и эта так ясно и твердо назревшая мысль о лишении себя жизни, я чувствую, будет всегда готова, если вновь уязвят меня в мои больные места сердца. Вот какой конец моей долгой, раньше такой счастливой супружеской жизни!.. Но еще не совсем конец; сегодняшнее письмо Льва Ник. ко мне – еще клочок прежнего счастья, но маленький, изношенный клочок! Дневники запечатала моя дочь Таня, и завтра их повезут Таня с мужем в Тулу, в банк. Расписку напишут на имя Льва Ник. и его наследников, и расписку привезут ему же. Только бы меня опять не обманули; только бы опять тихонько не выманил этот иезуит Чертков у Льва Ник. эти дневники! Третьи сутки ничего в рот не брала, и это почему-то всех тревожило, а это наименьшее… Всё дело в страстности и силе огорчения. Сожалею и раскаиваюсь, что огорчила детей моих, Леву, Таню; особенно Таню; она опять так ласкова, сострадательна и добра ко мне! Я очень ее люблю. Надо разрешить Черткову бывать у нас, хотя мне это очень, очень тяжело и неприятно. Если я не разрешу свиданий, будет целая литература тайной и нежной переписки, что еще хуже. 15 июля. Всю ночь не спала, всё думала, что если Лев Ник. так легко взял назад в своем письме обещание не уехать от меня, то он так же легко будет брать назад все свои слова и обещания, и где же тогда верные, правдивые слова? Недаром я волнуюсь! Ведь обещал же он мне при Черткове, что отдаст дневники мне, и обманул, положив их в банк. Как же успокоиться и выздороветь, когда живешь под угрозами «уйду и уйду»? Как жутко голова болит – затылок. Уж не нервный ли удар? Вот хорошо бы – только совсем бы насмерть. А больно душе быть убитой своим мужем. Сегодня утром, не спав всю ночь, я просила Льва Ник. отдать мне расписку от дневников, которые завтра свезут в банк, чтоб быть спокойной, что он опять не возьмет свое слово назад и не отдаст дневники Черткову, раз он так скоро и легко это делает, то есть берет слово назад. Он страшно рассердился, сказал мне: «Нет, это ни за что, ни за что», и сейчас же бежать. Со мной опять сделался тяжелый припадок нервный, хотела выпить опий, опять струсила, гнусно обманула Льва Ник., что выпила, сейчас же созналась в обмане, плакала, рыдала, но сделала усилие и овладела собой. Как стыдно, больно, но… нет, больше ничего не скажу; я больна и измучена. Поехала с сыном Левой кататься в кабриолете, смотреть дом в Рудакове для Овсянникова, для Тани. Лев Ник. поехал с доктором верхом. Думала – поедем вместе, но Л. Н. взял умышленно другое направление, чем мы, сказал, что поедет по шоссе и через Овсянниково кругом домой, а поехал наоборот – раньше через Овсянниково, будто невзначай; а я всё замечаю, всё помню и глубоко страдаю. Разрешила через силу Черткову бывать у нас, старательно вела себя с ним, но страдала; следила за каждым движением и взглядом и Льва Николаевича и Черткова. Они были осторожны. Но до чего я ненавижу этого человека! Мне страдание – его присутствие, но буду выносить, чтоб видеть их вместе на моих глазах, а не где-нибудь еще, и чтоб они не затеяли вместо свиданий какую-нибудь еще длинную переписку. Был и сын Черткова, милый, непосредственный мальчик, который привез своего друга англичанина, шофера автомобилей. Приехал еще англичанин из Южной Америки, скучный, тупой, неинтересный. Вышла в газетах статейка Л. Н. о разговоре с крестьянином: «Из дневника». Дневники Льва Ник. сегодня запечатали, семь тетрадей, и завтра мы их с Таней везем на хранение в банк. Сейчас они лежат в Туле у доктора Грушецкого, что меня беспокоит. Хотели сегодня их убрать в банк, но всё оказалось заперто по случаю молебствия в Туле о холере, и завтра надо их взять у Грушецкого и положить в банк. Это что-то новое и неприятное в Льве Николаевиче; почему в банк, а не держать их дома или отдать в Исторический музей, где все остальные дневники, на хранение, и почему именно эти дневники именно я не должна читать, а ведь после смерти Льва Ник. бог знает кто их будет читать, а жена не смей. Так ли было во всю жизнь нашу! Горько душе всё это! И всё влияние Черткова. «Конечно, вам обидно, – сказал Сухотин, – я это понимаю и сам не люблю Черткова». Пропасть скучного народа: англичанин, Дима с товарищем (эти лучшие), монотонный, скучный Николаев, Гольденвейзер, Чертков. Пускали граммофон, потому что всем этим господам говорить не о чем. Пробовала читать корректуру – не идет. Лева меня лепит, и мне возле него спокойнее, он всё понимает, любит, жалеет меня. Дорого мне досталось отнятие дневников у Черткова; но если б сначала – опять было бы то же самое; и за то, чтоб они никогда не были у Черткова, я готова отдать весь остаток моей жизни и не жалею той потраченной силы и здоровья, которые ушли на выручку дневников; и теперь эта потеря здоровья и сил пали на ответственность и совесть моего мужа и Черткова, так упорно державшего эти дневники. Положены они будут на имя Льва Ник., с правом их взять только ему. Какое недоброе по отношению к жене и неделикатное, недоверчивое отношение! Бог с ним! Получила письмо от Масловой, и потянуло меня в их ласковый, честный, добрый мирок, без всяких хитростей и тяжелых осложнений; и, может быть, там и Сергей Иванович, и я отдохнула бы душой среди всех них и под звуки той музыки, которая когда-то усыпила тоже мое острое горе. Я так устала от всех осложнений, хитростей, скрываний, жестокости, от признаваемого моим мужем его охлаждения ко мне! За что же я-то буду всё горячиться и безумно любить его? Повернись и мое сердце и охладей к тому, который всё делает для этого, признаваясь в своем охлаждении. Если надо жить и не убиваться – надо искать утешения и радости. Скажу и я: «Так жить – невозможно! Холод сердца – мне, горячность чувств – Черткову». 16 июля. Узнав, что я пишу дневник ежедневно, все окружающие принялись чертить вокруг меня свои дневники. Всем нужно меня обличать, обвинять и готовить злобный материал против меня за то, что я осмелилась заступиться за свои супружеские права, пожелать больше доверия и любви от мужа и отнятия дневников у Черткова. Бог с ними со всеми; мне нужен мой муж, пока его охлаждение еще не заморозило меня, мне нужна справедливость и чистота совести, а не людской суд. Ездила с Таней в Тулу; клали семь тетрадей дневников Льва Николаевича на хранение в Государственный банк. Это полумера, то есть уступка мне наполовину. Когда их привезли от Черткова, я с волнением взяла их, перелистывала, искала, о чем и что там написано (хотя многое раньше читала), и у меня было чувство, точно мне вернули мое пропадавшее, любимое дитя и опять отнимают у меня. Воображаю, как на меня злится Чертков! Сегодня вечером он опять был у нас, и как я страдаю от ненависти и ревности к нему! Мать, у которой цыгане похитили бы ребенка, должна испытывать то же, что я, когда ей вернули ее ребенка. Вечером был Чертков, торчит всё чужой несносный англичанин, были Булгаков, Марья Александровна. Еще был Гольденвейзер, поиграл очень хорошо мазурки Шопена. Лев Ник. со мной добрее, чем был раньше, и мне так радостно чувствовать его ласковый взгляд, который я ловлю с любовью. Он ездил без нас верхом с Булгаковым по лесам; на нездоровье не жалуется. О работах его мало знаю; хожу в так называемую канцелярию, где переписывают Саша и Варвара Михайловна, и пересматриваю по ночам бумаги и письма. Есть письма, предисловие к копеечным книжечкам, статья о самоубийстве, начатые разные вещи, но ничего большого и серьезного. Весь вечер страшная гроза и льет сильнейший дождь. Я ужасно тревожусь за Танин отъезд, особенно потому, что муж ее уехал к дочери, в Пирогово, хотел завтра выехать на станцию Лазарево, а теперь дорога испортится, ему трудно будет проехать до станции. И Таня тревожна без мужа и дочери у нас, и мне ее очень жаль, хотя она меня за последнее время часто огорчала своей недоброжелательностью, осуждением ради заступничества за отца. Господи! Какой дождь и шум грозы, ветра, листьев дерев… Спать невозможно… 17 июля. Утром уехала дочь Таня. Гроза прошла. Легла поздно и проспала до 12 часов; встала совсем разбитая, и первая мысль – о дневниках Льва Николаевича. Вчера ночью я прочла вслух Тане мое письмо к Черткову, приложенное в этой тетради, и подумала: если б Чертков любил действительно Льва Ник., он на мою просьбу отдать дневники, видя мое безумное волнение, не допустил бы, чтоб мы все были так несчастливы, как это последнее время, а с чуткостью доброго и порядочного человека (чего в нем совсем нет) привез бы их, отдал бы по праву – не мне, а Льву Николаевичу и брал бы для работ своих по одной тетради, возвращая ее опять-таки Льву Николаевичу. Нет, ему овладеть драгоценными тетрадями было дороже, конечно, спокойствия Л. Н., и только его решительное требование заставило этого тупицу отдать дневники. Что же теперь лучше, как есть? Теперь горе всей семье в продолжение двух недель, и Лев Ник. предлагает мне, если я хочу, никогда ему не видать Черткова. Чертков вступил со мной в открытую борьбу. Пока победила я, но прямо и правдиво говорю, что выкупила дневники ценою жизни, и впредь будет то же. А Черткова за это возненавидела. Лев Ник. был встревожен сегодня тем, что вчера ночью Чертков, Гольденвейзер и Булгаков в эту страшную грозу и ливень вывалились из тележки, сломали ее, отпрягли лошадь и пошли домой пешком. Видя его тревогу, я пересилила себя и сказала: «Ты, верно, поедешь верхом к Черткову?» Лев Ник. мне на это ответил: «Если тебе это неприятно, я не поеду». Хотя трудно было, но я ни за что не хочу огорчать моего дорогого старичка и уговорила его ехать к Черткову; он и поехал один, и, разумеется, коллекционеру Черткову нужны только фотографии и рукописи, и он тотчас же снял Льва Ник. цветной фотографией. Когда Л. Н. мне сказал, что он и вечером приедет, то я запротестовала опять всем моим существом, но смирилась. Лев же Ник. сам просил Варвару Михайловну доехать до Черткова и отказать ему приезд вечером. Вечером я гуляла спокойно с приехавшими Лизой Оболенской и Верочкой Толстой; Лев Ник. играл в шахматы с Гольденвейзером, потом прошелся, пил чай и рано ушел. Позировала много для моего бюста, и Лева лепил усердно, дело подвигается. Узнала сегодня от Льва Николаевича, что дневники его сначала были спрятаны у дочери Саши, а Саша по требованью Черткова передала их молодому Сергеенке, который и свез их Черткову 26 ноября 1909 года тихонько от меня. Какие гнусные, тайные поступки! Какая сеть обмана, скрываний от меня! Лжи! Ну не предательница ли моя дочь Саша? И какое притворство, когда Лев Ник. на вопрос мой «где дневники?» взял меня за руку и повел к Саше, будто он не знает, а Саша может знать, где дневники. И Саша ответила тоже, что не знает, и солгала. А Лев Ник., вероятно, забыл, что дал их увезти к Черткову. Как все вокруг Льва Ник. наловчились лгать, и всячески хитрить, изворачиваться и оправдываться! Я ненавижу ложь; недаром говорят, что дьявол – отец лжи. А в нашей ясной и светлой семейной атмосфере никогда этого не было, и завелось только с тех пор, как в доме чертковско-чертовщинное влияние. Недаром их фамилия от слова черт. Список лиц, не любящих Черткова и заявивших мне об этом: М. А. Шмидт, Н.В.Давыдов, М.С.Сухотин, Н.Н.Ге, И.И.Горбунов, Моод, Е.Ф.Юнге. Все мои сыновья и я сама, П. И. Бирюков, Зося Стахович. Вероятно, еще много тех, кого я не знаю. 18 июля. С утра мне было очень тяжело, тоскливо, мрачно и хотелось плакать. Я думала, что если Лев Ник. так тщательно прячет свои дневники от меня именно, чего никогда раньше не было, – то в них что-нибудь есть такое, что надо скрывать именно от меня; так как они были и у Саши, и у Черткова, а теперь закабалены в банк. Промучившись сомнениями и подозрениями всю ночь и весь день, я высказала Льву Ник. и выразила подозрение, что он мне изменил так или иначе, записал это в дневники и теперь скрывает и прячет их. Он начал уверять, что это неправда, что он никогда не изменял мне. Так зачем же их прятать? Из злобы и упрямства? Ведь если там много хороших мыслей, то они могли бы мне принести только пользу… Но нет, если скрывают, то наверное что-нибудь дурное. Я ничего не скрываю: ни дневников, ни своих «Записок», пусть весь мир читает и судит. Какое мне дело до людского суда! Знаю свою чистую жизнь, знаю, что читаю теперь как книгу все ощущения и самую суть природы и характера моего мужа, скорблю и ужасаюсь! Но я еще привязана к нему, к сожалению! Когда же я напомнила Льву Ник., что он хотел написать обещание мне отдать дневники, но раздумал, сказав: «Какие же расписки жене, обещал и отдам», – он сделал злое лицо и сказал: «Я этого не говорил». – «Да ведь у меня записано это в дневнике 1 июля, и Чертков свидетель», – сказала я. Тогда Л. Н. сейчас же отклонил этот разговор и начал кричать: «Я всё отдал – состояние, сочинения, оставил себе только дневники, и те должен отдать… Я тебе писал, что я уйду, и уйду, если ты будешь меня мучить». А что значит: отдал всё? Прав на сочинения он не отдал, а навалил на мою женскую спину управление всем имуществом, устройство жизни, в которой сам живет, и пользуется всеми благами гораздо больше меня. А у меня только вечный, непосильный труд. Но в том-то и дело, что мне отдавать дневников и не нужно; пусть они будут у Льва Ник. до конца его жизни. Мне только обидно и больно, что их скрывают именно от меня у Саши, Сергеенки, Черткова – везде и у всех, но только не смей в них заглядывать жена… Ходили после обеда в елочки гулять: приезжавший Дунаев, Лев Ник., Лева, Лизонька и я. Пропасть маленьких маслят. Жара весь день томительная. Писала Юнге, Масловой, Кате, Бельской; послала артельщику письмо и перевод в 195 рублей. Приходила Николаева, приезжали Чертков, Гольденвейзер, пили чай на балконе. Читала Лизоньке кое-что из старых записок Л. Н., и она ужасалась порочности его в молодости и страдала от всего того, что я ей разоблачила о ее дядюшке, которого она считала святым. За то, что я во многом прозрела, Лев Ник. ненавидит меня, и упорное отнятие дневников есть ближайшее орудие уязвить и наказать меня. Ох уж это напускное христианство со злобой на самых близких вместо простой доброты и честной безбоязненной откровенности! 19 июля. Разбили мое сердце, измучили, а теперь выписывают докторов – Никитина и Россолимо. Бедные! Они не знают, как можно лечить человека, которого со всех сторон морально изранили! Случайное чтение листка из старого дневника возмутило мою душу, мое спокойствие и открыло глаза на теперешнее пристрастие к Черткову, навеки отравило мое сердце. Сначала предложили мне такое лечение: Льву Ник. уехать в одну сторону, мне – в другую, ему – к Тане, мне – неизвестно куда. Потом, расплакавшись, увидав, что вся цель окружающих – меня удалить от Льва Николаевича, я на это не согласилась. Тогда, видя свое бессилие, доктора начали советовать: ванны, гулять, не волноваться… Просто смешно! Никитин удивляется, как я исхудала. Всё только от горя и уязвленного любящего сердца, а они – уезжай! То есть то, что больнее всего. Ездила купаться, и мне стало хуже. Уходила вода из Воронки – как моя жизнь, и пока утопиться в ней трудно; ездила, главное, чтоб примериться, на сколько можно углубиться в воде. Мыла шляпу Льва Николаевича. Он в самую жару ездил в Овсянниково, потом не обедал и имеет усталый вид. Еще бы! 16 верст верховой езды при температуре в 36° на солнце! Вечером играл в шахматы с Гольденвейзером. Я ничего с ним не говорила сегодня, я боюсь расстроить его, да и себя. Позировала для Левы, с ним всё хорошо; поправляла корректуры, но опять не послала, не могу работать… И теперь поздно, надо ложиться спать, а спать не хочется… 20 июля. Второй день тихо и спокойно, и Чертков не был. Уехали доктора днем. Не для того ли их выписывали, чтоб на всякий случай засвидетельствовать мое безумие? Бесполезно было их посещение. Если всё будет, как эти дни, я буду здорова. И Лев Ник. ездил верхом с глупым и добродушным конюхом Филькой и весь вечер сидел у себя наверху, на балконе, что-то писал и читал, был спокоен и отдыхал. Приезжал Гольденвейзер, и мирно сыграли в шахматы, пили чай на балконе все вместе. Мне что-то очень жаль сына Леву. Он сегодня такой грустный, озабоченный. Всплыло ли пережитое им в Париже, встревожен ли он тем, что ему не выдают бумагу для получения заграничного паспорта, или он, нервный, устал от наших тяжелых осложнений жизни… Ходила купаться с Лизой Оболенской, Сашей и Варварой Михайловной. Оттуда приехали. Жара невыносимая, много белых грибов, косят овес… Читала корректуру русскую собрания сочинений нового издания и английскую, биографию Льва Ник. Моода. Позировала для Левы. 21 июля. Пишу, страшно вся взволнованная: у Льва Ник. очень болит печень, желудок плохо действует без желчи, которая задержана, и главное, отчего я так мучаюсь, это что я виновата, что он не поправляется. Опять вечером приехал Чертков с сыном. Я с утра знала, что он приедет, и весь день волновалась. Но ездила купаться, кончила поправлять корректуру английской биографии Моода, позировала дважды Леве и радовалась, что могу быть спокойна. Лев Ник. поехал верхом с доктором, опять по страшной жаре, и имел вид усталый, не хотел идти обедать, но пошел и ел много вареного гороха, а печень уж давно увеличена и болит. Вечером играл с Гольденвейзером в шахматы наверху на балконе; приехал Чертков. Как только я заслышала звук его кабриолета, меня уже начало всю трясти. Еще раньше я 1½ часа ходила по саду, чтоб собой овладеть. Я не терплю этого человека и пускаю в дом только для Льва Николаевича. Но мне стало грустно, что все на террасе сидят вместе и Марья Александровна здесь; все пользуются присутствием Льва Ник., а я нет, и мы доживаем последнее время на свете, а я не могу даже быть с ним. Три раза я примеривалась войти на террасу пить чай и наконец решилась. И что же? Я так взволновалась, что кровь бросилась мне в голову, пульс бился неуловимо, я едва держалась на ногах и не могла видеть Черткова. Пыталась начать говорить, чувствую – голос совсем не мой, а что-то дикое. Все на меня вытаращили глаза. Пытаюсь опять и опять успокоиться и едва успеваю настолько это сделать, чтоб избегнуть скандала и не огорчать Льва Николаевича. Господи, помоги мне! Я этого больше всего желаю! Но я чувствую себя такой больной и несчастной. И пусть бы я страдала еще в тысячу раз больше, лишь бы мой Левочка поправился и не сердился на меня… И могло бы всего этого не быть, если б уступили раньше моим законным, хотя отчастиболезненным желаниям. Так и слышу слова: «Ни за что, ни за что!» Что же, лучше теперь? Все несчастны, я во всем виновата, Лев Ник. нездоров, Чертков изгнан из доброго расположения к нему; дневники закабалены… Ну, довольно; как ужасно тяжело и грустно! 22 июля[169]. Прямо с утра мне ставил доктор пиявки к пояснице, чтоб не было приливов к голове. Потом встала, шатаясь после недоспанной ночи. Лев Ник. уехал верхом с Гольденвейзером; Саша, Варвара Михайловна и приехавшие Ольга с детьми и финляндка пошли за грибами и купаться. Оставалась я совершенно одна, занималась корректурой и новым изданием. Послала корректуру и предисловие к Лабрюйеру и другим. Лева уехал на лошадях в Чифировку к Мише и его семье. За обедом по поводу моего недовольства и недоумения, что мне никогда не дадут ничего переписанного из последних сочинений Льва Ник. хотя бы прочесть, так как рукописи все отбирает Чертков, Лев Ник. на меня опять рассердился, возвысил голос, начал говорить неприятное. Я опять расплакалась и ушла от обеда к себе наверх. Он спохватился и пришел ко мне, но опять обострился разговор. В конце концов он позвал меня погулять в саду вдвоем, что я очень всегда ценю и люблю, и обоюдный тон недоброжелательства как будто прошел. Приехал Чертков вследствие моей записки к нему и позволения моего ему посещать Льва Николаевича. Я желаю быть великодушна к нему за все его грубости и неприятности. Победила себя, села играть с Сонечкой-внучкой в шашки и отвлекла себя от Черткова. Лев Ник. вял, болит печень, нет аппетита, и пульс частый. Он ничего не хочет принимать. Умоляла его принять, как всегда в подобных случаях, ревень и положить компресс, но он раздражительно и упорно отказывается, а доктор, не исследовав его, лег спать, хотя я просила его заняться повнимательнее Львом Николаевичем. Виновата в его нездоровье частью я, частью страшная жара, в тени 29°. Мы оба подвержены болезни печени. 23 июля. С утра Льву Ник. стало гораздо хуже. Температура 37 и 4, пульс частый, состояние вялое, печень, желудок – всё плохо, как я и знала. Что бы я ни говорила, что бы ни советовала, как бы любовно ни относилась – я встречаю злобный протест. И всё это с тех пор, как он пожил у Черткова. Сегодня вечером он опять приехал; Лев Ник. поручил ехавшей в Телятники Саше позвать его и – для отвлечения – также и Гольденвейзера. Но я пошла тоже к Льву Ник. в комнату и не допустила до tête-à-têtа, а сама упорно высидела, пока Чертков не увидал, что я не уйду ни за что и не оставлю его вдвоем с Львом Ник., и наконец уехал, сказав, что приехал только посмотреть на него, пока он еще жив, а я прибавила: «И пока я еще его не убила». Была мне и радость сегодня – приехали мои милые внуки: сначала Сонюшка и Илюшок с матерью, а позднее Лева, Лина и Миша приехали из Чифировки и привезли Ванечку и Танечку. Все четверо – милые, симпатичные дети. Но, охраняя Льва Ник. и прислушиваясь к нему, я не могла много быть с внуками, о чем очень сожалею. Когда я узнала, что опять едет к нам Чертков, опять меня всю потрясло, и я расплакалась; проходившая мимо Саша плюнула громко и резко чуть ли мне не в лицо и закричала грубо: «Тьфу, черт знает, как мне надоели эти истории!» Какое грубое создание. Просто непонятно, как можно так оскорблять мать, которая ровно ничего ей не сделала и ни слова ей не сказала. И какое страшное и злое у ней было при этом лицо! Да, пожелаешь смерти при такой обстановке зла, обмана, нелюбви и даже простого неучтивого отношения к близкому человеку, не причинившему им никакого зла. Прочла двухактовую пьеску, написанную еще в Кочетах Львом Ник., узнавшим, что в Телятинках играл Димочка Чертков со своими мужиками-товарищами его пьесу «Первый винокур», и пожелавшим еще тогда написать что-нибудь для них. Произведение это еще только набросано, есть ошибки, но задумано хорошо и местами хорошо. Постоянно напоминает «Власть тьмы». Бывало, когда всё переписывала я, все ошибки и всё неловкое я указывала Льву Ник., и мы исправляли. Теперь же ему переписывают точно, но как машины. 24 июля. Опять вечером приезжал Чертков, и Лев Ник. с ним перешептался, а я слышала. Лев Ник. спрашивал: «Вы согласны, что я вам написал?» А тот отвечал: «Разумеется, согласен». Опять какой-нибудь заговор. Господи, помилуй! Когда я стала просить со слезами опять, чтоб Лев Ник. мне сказал, о каком согласии они говорили, он сделал опять злое, чуждое лицо и во всем отказывал упорно, зло, настойчиво. Он неузнаваем! И опять я в отчаянии, и опять стклянка с опиумом у меня на столе. Если я не пью еще его, то только потому, что не хочу доставить им всем, в том числе Саше, радость моей смерти. Но как они меня мучают! Здоровье Льва Ник. лучше, он всё сделает, чтоб меня пережить и продолжать свою жизнь с Чертковым. Как хочется выпить эту стклянку и оставить Льву Ник. записку: «Ты свободен». Сегодня вечером Лев Ник. со злобой мне сказал: «Я сегодня решил, что желаю быть свободен и не буду ни на что обращать внимание». Увидим, кто кого поборет, если и он мне открывает войну. Мое орудие – смерть, и это будет моя месть и позор ему и Черткову, что убили меня. Будут говорить: «Сумасшедшая!» А кто меня свел с ума? Уехала семья Миши, Ольга с детьми еще тут. Спаси Господи, я, кажется, решилась… И всё еще мне жаль моего прежнего и любящего Левочку… И я плачу сейчас… И осмеливаться писать о любви, когда так терзать самого близкого человека – свою жену! И он, мой муж, мог бы спасти меня, но не хочет… 25 июля. Открыв, что между Львом Ник. и Чертковым есть тайное соглашение и какое-то дело, задуманное против меня и семьи, в чем я несомненно убедилась, я, конечно, опять глубоко начала страдать. Никогда во всей моей жизни между нами с мужем не было ничего скрытого. И разве не оскорбительны для любящей жены эти apartes[170], тайны, заговоры?.. Во всяком случае, все теперешние распоряжения Льва Ник. вызовут жестокую борьбу между его детьми и этим хитрым и злым фарисеем Чертковым. И как это грустно! Зачем Лев Ник. устраивает себе такую посмертную память и такое зло! А всё о любви какой-то говорят и пишут; и всякие документы отрицали всю жизнь, говоря, что никогда их писать не будут, и Лев Ник. всё, что отрицал, были только слова; собственность – он оставил за собой при жизни права авторские; документы – он написал в газетах об отказе на сочинения с 1881 года, теперь под расписку Государственного банка отдал дневники, писал что-то с Чертковым и, кажется, с Булгаковым и сегодня передал ему листы большого формата, вероятно, домашнее завещание о лишении семьи прав на его сочинения после его смерти. Отрицал деньги – теперь у него всегда для раздачи несколько сот рублей на столе. Отрицал путешествия – и теперь уже три раза выезжал в одно лето: к Тане-дочери в Кочеты два раза в год, к Черткову в Крекшино и в Мещерское, к сыну Сереже со мной; и опять стремится в Кочеты. Встревоженная, 24-го вечером я села к своему письменному столу и так просидела в легкой одежде всю ночь напролет, не смыкая глаз. Сколько тяжелого, горького я пережила и передумала за эту ночь! В пять часов утра у меня так болела голова и так стесняло мне сердце и грудь, что я хотела выйти на воздух. Было очень холодно, и лил дождь. Но вдруг из комнаты рядом выбежала моя невестка (бывшая жена Андрюши) Ольга, схватила меня сильной рукой и говорит: «Куда вы? Вы задумали что-нибудь нехорошее, я вас теперь не оставлю!» Добрая, милая и участливая, она сидела со мной, не спала, бедняжка, и старалась меня утешить… Окоченев от холода, я пересела на табурет и задремала, и Ольга говорила, что я жалостно стонала во сне. Утром я решила уехать из дому, хотя бы на время. Во-первых, чтоб не видать Черткова и не расстраиваться его присутствием, тайными заговорами и всей его подлостью и не страдать от этого. Во-вторых, просто отдохнуть и дать Льву Николаевичу отдых от моего присутствия со страдающей душой. Куда я поеду жить, я не решила еще; уложила чемодан, взяла денег, работу письменную и думала или поселиться в Туле, в гостинице, или ехать в свой дом в Москву. Поехала в Тулу на лошадях, которых выслали за семьей Андрюши. На вокзале я его окликнула и решила, проводив их в Ясную, ехать вечером в Москву. Но Андрюша, сразу поняв мое состояние, остался со мной, твердо решив, что не покинет меня ни на одну минуту. Делать нечего, согласилась и я вернуться с ним в Ясную, хотя дорогой часто вздрагивала при воспоминаниях обо всем том, что пережила за это время, и при мысли, что всё опять пойдет то же, сначала. Езда взад и вперед, волнение – всё это меня очень утомило, я едва взошла на лестницу и прямо легла, боясь встретить мужа и его насмешки. Но неожиданно вышло совсем другое и очень радостное. Он пришел ко мне добрый, растроганный; со слезами начал благодарить меня, что я вернулась. – Я почувствовал, что не могу решительно жить без тебя, – говорил он плача, – точно я весь рассыпался, расшатался; мы слишком близки, слишком сжились с тобой. Я так тебе благодарен, душенька, что ты вернулась, спасибо тебе… И он обнимал, целовал меня, прижимал к своей худенькой груди, и я плакала тоже и говорила ему, как по-молодому, горячо и сильно люблю его и что мне такое счастие прильнуть к нему, слиться с ним душой, умоляла его быть со мной проще, доверчивее и откровеннее и не давать мне случая подозревать и чего-то бояться… Но когда я затрагивала вопрос о том, какой у него заговор с Чертковым, он немедленно замыкался и делал сердитое лицо и отказывался говорить, не отрицая тайны их заговора. Вообще, он был странный: часто не сразу понимал, что ему говорят, пугался при упоминании Черткова. Но слава богу, я опять почувствовала его сердце и любовь. Права же свои после смерти моего дорогого мужа пусть отстаивают уж дети, а не я. Вечер прошел благодушно, спокойно, в семье, и, слава богу, без Черткова. Здоровье и Льва Ник., и мое нехорошо. 26 июля. С утра грустное известие о нездоровье дочери Тани, она лежит. Очень зовет в Кочеты Льва Николаевича, но не меня, и я ужасно боюсь, что он уедет, но тогда и я с ним. Доктор наш говорит, что дизентерия прилипчива, и я боюсь, что Лев Ник. при ослабевшем организме и болезни печени и кишок заразится от Тани. Сыновья мои очень добры, солидарны между собой и со мной. Саша злобно на меня смотрит, как все виноватые. Нагрубив мне и наплевав чуть ли не в лицо, она дуется на меня, и без памяти ей хочется увезти от меня отца; но я брошу всё и вся и уеду за ним, конечно. Много позировала для бюста своего, и работа Левы подвигается. Сегодня тепло, сыро и ходили тучки, но дождя не было. Косят овес, лежит еще не связанная рожь, кое-что убрали. 27 июля. Утро. Опять не спала всю ночь: сердце гложет и гложет, и мучительна неизвестность какого-то заговора с Чертковым и какой-то бумаги, подписанной Львом Николаевичем вчера. (Это было, по-видимому, приложение к завещанию, составленное Чертковым и подписанное Львом Ник.[171]) Эта бумага – месть мне за дневники и за Черткова. Бедный старик! Что готовит он своей памяти после смерти?! Наследники ничего не уступят Черткову и будут всё оспаривать, потому что все ненавидят Черткова и все видят его хитрое, злое влияние. Непротивление оказалось, как и надо было ожидать, пустым словом. Вечером 27 июля Булгаков отрицал свое участие в бумагах и подписях Льва Николаевича. Может быть! Тут ничего не поймешь. Когда спросила дочь Сашу, что она знает о завещании и бумаге отца, о которой у Льва Ник. таинственные переговоры с Чертковым, она, как всегда, зло и грубо ответила, что ничего не скажет. Не оскорбительно разве жене, что тайны с дочерью и Чертковым, а от меня всё скрывают? Как только встала, пошла с Ванечкиной корзиночкой бродить по лесам. Первое, что увидала в лесу, был Л. Н., который сидел на своем стульце-палке и что-то записывал. Он удивился, увидав меня, и как будто испугался, поспешно спрятав бумагу. Подозреваю, что он писал Черткову. Ходила я часа два с половиной и думала, как хорошо в природе без хитрых и злобных людей. Дурочка Параша стережет телят, веселая, добрая, набрала и принесла мне несколько негодных грибов, но с таким добродушием! Два пастуха ласково со мной поздоровались и прогнали мимо меня наше стадо. Я вглядывалась в выражение глаз коров и убедилась, что они только природа, без души. Мальчики шли, собирали грибы, веселые, бесхитростные… На гумне, у риги расположились поденные девушки (дальние) и яблочные сторожа обедать. Все бодрые, веселые; никаких у них нет задних мыслей, бумаг, заговоров с хитрыми дураками вроде Черткова. Всё просто, откровенно, ясно и весело! Надо бы слиться с природой и народом; легче бы было (без) этого ложнонепротивленского смрада нашей жизни. С Львом Ник. опять молчаливо и холодно. Легла перед обедом и спала ½ часа. В голове немного просветлело, и я могла после обеда немного заняться изданием. Послала Стаховичу статьи и письмо, писала в типографию. Днем позировала Леве. Была сильная гроза и ливень, портит хлеб. Л. Н. с Душаном Петровичем ездил верхом и попал под дождь. Потом Лев Ник. играл в шахматы с Гольденвейзером и позднее слушал игру приехавшего сына Сережи (полонез Шопена, что-то Шумана, «Шотландские песни», мазурка Шопена). Очень было приятно. Сашу почти не вижу, она сидит больше у себя и со своей точки зрения наговаривает каждому обо мне, что хочет, а вечером пишет свой дневник, опять-таки со своей личной, недоброжелательной точки зрения. Часов в 12 ночи мы еще сидели вдвоем с Сережей, и я ему рассказала всё, что мы пережили за это время. Как и всем, ему всё время хотелось осуждать меня; одна собака тявкнет на кого-нибудь, дернет – и вся стая за ней разрывает жертву. Так и со мной. И все стремятся меня разлучить с Львом Николаевичем. Но этого им не удастся. 28 июля. Приехала Зося Стахович; непременно хотела, чтоб я ей рассказала обо всем, что мы пережили за это время. Я ей сообщила все подробности, она осудила меня за то, что я так настоятельно требовала дневники Льва Ник., но она, хотя и очень умна, но девушка и никогда не поймет той связи, которая образуется между мужем и женой после 48-летнего супружества. Скучно болтать без дела, еще скучнее позировать для Левы. Он всё время нервничает, кричит: «Молчите, молчите!», как только я слово скажу, и меня очень стало утомлять это бесконечное позирование. Сегодня стояла почти iVi часа. Люблю теперь жизнь спокойную, занятую полезным делом, дружную, без лишних гостей и с близкими, милыми людьми, изредка посещающими нас только из любви, а не с какими-нибудь целями. Вечером, после того как Лев Ник. играл с Гольденвейзером в шахматы и пил чай с медом, он ушел к себе и показался мне грустным. Я пошла за ним и сказала ему, что если он скорбит о том, что не видит Черткова, то мне его жаль, пусть он его позовет к нам. И Лев Ник., по-видимому, искренно и несомненно правдиво сказал мне: «Нисколько я об этом не скорблю, я тебя уверяю! Я так спокоен, так рад, мне совсем не нужен Чертков, лишь бы с тобой всё было любовно и ты была бы спокойна». И я была так счастлива, что это сомнение снято с души моей и что не я причиной разлуки Левочки с Чертковым, а как будто сам он рад освободиться от гнусного давления Черткова на него. И так мы дружно, любовно, по-старому обнялись со слезами, и с таким счастьем в душе я ушла от него! Теперь ночь, он спит, и мне хотелось бы еще взглянуть на его любимое мной столько лет, изученное до последних подробностей, милое старенькое лицо. Но мы не вместе – живем через коридор в разных комнатах, и я всю ночь прислушиваюсь к нему. Нет, господин Чертков, я уже не выпущу больше из моих рук Льва Николаевича и не уступлю его. Я всё сделаю, чтоб Чертков опротивел ему и никогда бы его не было в моем доме. Вечером Лев Ник. прочел нам вслух остроумный рассказец Милля «Le repos hebdomadaire», который ему очень понравился, и начало рассказа «Le secret». 29 июля. Повеяло от нашей жизни прежним спокойным счастием, и жизнь наладилась. Слава Богу! Уже пять дней ни Чертков к нам не ездит, ни Лев Ник. к нему. Но при воспоминании о нем и возможности вновь их сближения что-то поднимается со дна души, клокочет там и мучает меня болезненно. Ну, хоть пока отдых! Зося Стахович вносит много оживления и очень приятна. Лев Ник. ездил верхом, но всё дожди. Занялась корректурой и восхищалась «Казаками». И как сравнительно бедны и жидки новые рассказцы! Писала дочери Тане, племянницам: Лизе Оболенской и Варе Нагорновой, Марусе Маклаковой. После обеда пришел Николаев, и Лев Ник. с ним беседовал о Генри Джордже и о справедливости; слышала отрывочно их разговор, который, очевидно, утомлял Л. Н. Зося Стахович оживленно и весело рассказывала о Пушкине, что читала, и говорила его стихи. Потом устроили игру в винт; Саша хотела меня устранить, но когда я решительно взяла тоже карту, она сделала злое лицо и ушла. Мы весело взяли с Львом Ник. большой шлем без козырей. Я не люблю карт, но грустно оставаться в одиночестве, когда все близкие за карточным столом, оживленные и веселые. День прошел мирно и без Черткова. Лев Ник. сегодня здоровьем лучше и бодрее. 30 июля. Целый день ничего не приходится делать: суета, скучные заботы о еде, об устройстве приезжих, о посеве ржи, о ремонте погреба, и проч., и проч., а за всё это вечные упреки, осуждение, предписывание мне материальности. Позировала час Леве; потом ушла одна за грибами, проходила часа два, грибов нет, но хорошо уединение и природа. Семья Бирюкова, приехавшая к нам, пять человек, будет нам, очевидно, в тягость, так как дети крикливы и очень непривлекательны. От шума, крика, граммофона, лая пуделя, громкого хохота Саши трещит моя еще слабая голова, а когда вечером сели играть в карты и это был бы отдых моей голове и глазам, меня, как всегда, оттерли от игры. Я, как приживалка, всем разливала чай, а приживалка Варвара Михайловна – чужая, молодая – уселась, конечно, за карточный стол, чему очень была рада Саша; но чуткий Лев Ник. понял, что я огорчилась, и, когда я ушла, чтобы не расплакаться, спросил меня: «Куда ты?» Я сказала: «В свою комнату». Да, я слишком себя отстраняла для других во всю свою жизнь и теперь приму другой тон; не хочу огорчаться, а хочу пользоваться жизнью всячески: и кататься, и в карты играть, и ездить всюду, куда ездит Лев Ник. Уехала Зося Стахович. У меня такое чувство теперь к гостям: всех вон! Устала я, чувствую себя больной, и надоело всем служить, обо всех заботиться, и за всё – одно осуждение. Зося лучше многих; она оживляет, принимает во всем участие. Лев Ник. ездил верхом в Овсянниково, возил корректуры маленьких копеечных книжечек к Горбунову. Свежо, 6° вечером. 31 июля. Как трудно переходить от исправления корректур к заказу обеда, к покупке ржи; потом к чтению писем Льва Ник. и, наконец, к своему дневнику. Счастливые люди, у которых есть досуг и которые могут всю жизнь сосредоточиваться на чем-нибудь одном и отвлеченном. Перечитывала письма Л. Н. к разным лицам, и меня поражала его неискренность. Например, он часто и как будто с любовью пишет к еврею Молочникову – слесарю в Нижнем Новгороде. А между тем мы сегодня вспоминали с Катей, что Лев Ник. говорил: «Я особенно старательно любезен с Молочниковым, потому что мне это особенно трудно; он мне неприятен, и я должен делать усилие, чтоб так относиться к нему». Пишет Л. Н. и его жене, которую никогда не видал. И всё это потому, что Молочников сидел в тюрьме будто бы за распространение книг Толстого, а мне говорили, что Молочников – революционер озлобленный. Еще меня поразило в письмах частое упоминание того, что «тяжело жить, как живу, среди роскоши и поневоле…». А кому, как не Льву Николаевичу, нужна эта роскошь? Доктор – для здоровья и ухода; две машины пишущие и две переписчицы – для писаний; Булгаков – для корреспонденции; Илья Васильевич – лакей для ухода за стариком слабым; хороший повар – для слабого желудка Льва Ник. Вся же тяжесть добыванья средств, хозяйства, печатанье книг – всё лежит на мне, чтоб всю жизнь давать Льву Ник. спокойствие, удобство и досуг для его работ. Если б кто потрудился вникнуть в мою жизнь, то всякий добросовестный человек увидал бы, что мне-то лично ничего не нужно. Я ем один раз в день; я никуда не езжу; мне служит одна девочка 18 лет; одеваюсь теперь даже бедно. Где это давление роскоши, производимое будто бы мной? Как жестоко несправедливы могут быть люди! Пусть святая истина, высказываемая в этой книге, не пропадет и уяснит людям то, что затемнено теперь. Приезжали Лодыженские – муж с женой – и консул русский в Индии, ничего интересного не представлявший. Лодыженские много путешествовали, были в Индии, Египте и изучали религии. Живые и интересные люди. Отправила корректуру предисловий, позировала, занялась немного изданием. Уехал Андрюша. С мужем Левочкой дружно, он ласков был утром. Саша и Варвара Михайловна противно дуются. Варвара Михайловна зазналась, прилипла к Саше и даже чан не разливает, а предоставляет мне. Придется ей отказать и взять более полезную мне помощницу, а главное, такую, которая бы мне читала вслух. Погода переменная. Вечером 9°. 1 августа. Очень мне сегодня с утра опять нехорошо; опять всё волнует и мучает. Лев Ник. молчалив и холоден; видно, скучает без своего идола. Примериваюсь мысленно, могу ли я спокойно перенесть вид Черткова, и вижу, что не могу, не могу… Разбирала книги и газеты русские и иностранные; всё кровь приливает к голове и тяжко… Хорошо занялась с Бирюковым изданием; во многом он мне помог советами и указаниями. Вечером читала свои рассказы детские детям Бирюковым. Приходили к Льву Ник. крестьяне наши, которых мы просили указать более бедных для раздачи ржи на посев на деньги, присланные мне Моодом для помощи бедным. Крестьяне беседовали с Льв. Ник. и обещали составить список бедных. Он назвал мне двух крестьян, а третьего не назвал; вероятно, это его сын от бабы – Тимофей. (Это был Алексей Жидков[172].) Ночью гадала на картах. Льву Ник., вышло, что он останется при молодой женщине (Саше), при бубновом короле (Черткове), при любви, свадьбе и радости (все червонные карты). Мне вышла прямо смерть (пиковый туз и девятка), на сердце старик (пиковый король) или злодеи: все четыре десятки – исполнение желанья; а желанье мое – умереть, хотя не хотела бы и после смерти уступить Черткову Льва Николаевича. А как бы все возликовали и обрадовались моей смерти! Первый удар мне нанесен метко, и этот удар уже произвел свое действие. Я умру вследствие тех страданий, которые пережила за это время. 2 августа. Писанье дневников для Льва Николаевича уже давно не имеет никакого смысла. Его дневники и его жизнь с проявлением хороших и дурных движений его души – это две совершенно разные вещи. Дневники теперь сочиняются для господина Черткова, с которым он теперь не видится, но по разным данным я предполагаю, что переписывается, и, вероятно, передают письма Булгаков и Гольденвейзер, которые ходят ежедневно. Когда Чертков здесь был в последний раз, ведь спросил же его Лев Николаевич, «получил ли он его письмо и согласен ли». На какую еще мерзость изъявил свое согласие г. Чертков? Если бы его посещения уничтожили их тайную переписку, то так бы и быть, пусть бы ездил; но переписка всё равно продолжается и при свиданиях, значит, пусть лучше не видаются. Останется одна переписка, без свиданий. Любовь эта к Черткову обострилась у Л. Н., главное, после его пребывания летом у Черткова без меня, и ослабеет все-таки в разлуке – со временем. Сегодня Лев Ник. ездил один верхом в Колину смотреть рожь для покупки крестьянам. Я ничего не могла делать, сердце билось безумно быстро, голова разболелась, я боялась, что он назначил Черткову где-нибудь свидание и они поехали вместе. Тогда я велела запрячь кабриолет и поехала ему навстречу. Слава богу, он ехал один, и за ним случайно Данила Козлов, наш крестьянин. Очень много дела, корректур, но пока в соседстве Чертков – ничего не могу делать и очень боюсь напутать. Через силу пошла обедать, но тотчас же после сделалась такая дурнота и боль в голове, что ушла к себе и легла. Горчичники и примочки на голову облегчили головную боль, и я заснула. Лев Ник. был участлив и добр; но когда, узнав, что пришел Булгаков с письмами, я спросила: «И от Черткова письмо?», он рассердился и сказал: «Ну да, я думаю, что я имею право переписываться с кем хочу…» А я ни слова и не говорила о праве. «У меня с ним бесчисленное количество дел по печатанью моих произведений и по писаньям разным», – прибавил Лев Ник. Да, если б только такие дела, тогда не было бы тайной переписки. Раз всё тайно, то кроется что-нибудь нехорошее. Христос, Сократ, все мудрецы ничего не делали тайно; они проповедовали открыто на площадях, перед народом, никого и ничего не боялись, их казнили – но произвели в богов. Преступники же, заговорщики, распутники, воры и тому подобные люди – всё делают тайно. И в это несвойственное ему положение вовлек бедного святого – Толстого Чертков. 3 августа. Узнав, что Моод изобличил в своей биографии Льва Николаевича разные гнусные поступки Черткова, даже не называя его, а обличая под буквой X, Лев Ник. унизился до такой степени, что просил Моода в письме от 23 июля сего года вычеркнуть из биографии эту гнусную правду и дал выписку из письма покойной нашей дочери Маши, которая дурно пишет о Черткове. Сегодня я получила от Моода два письма: одно – ко мне, другое – к Льву Николаевичу. Ужасно то, что Л. Н. настолько любит Черткова, что готов на всякие унижения, чтоб выгородить его, хоть бы солгать или умолчать. То, что Лев Ник. просил Моода вычеркнуть, была выписка из письма нашей покойной дочери Маши, в котором она дурно пишет о Черткове. Такое обличение Черткова, конечно, было неприятно Льву Ник., особенно от его любимицы Маши, которая всегда была, по-видимому, в дружбе с Чертковым, но тоже под конец поняла его. Получила сегодня от Елизаветы Ивановны письмо, полное упреков. Вполне ее понимаю как мать: она идеализирует своего сына и не знает его. Я отвечала ей сдержанно, учтиво и даже гордо. Но на примирение я не иду. Хотела объяснить Льву Ник. источник моей ревности к Черткову и принесла ему страничку его молодого дневника, 1851 года, в котором он пишет, как никогда не влюблялся в женщин, а много раз влюблялся в мужчин. Я думала, что он, как Бирюков, как доктор Маковицкий, поймет мою ревность и успокоит меня, а вместо того он весь побледнел и пришел в такую ярость, каким я его давно, давно не видала. «Уходи, убирайся! – кричал он. – Я говорил, что уеду от тебя, и уеду…» Он начал бегать по комнатам, я шла за ним в ужасе и недоумении. Потом, не пустив меня, он заперся на ключ со всех сторон. Я так и остолбенела. Где любовь? Где непротивление? Где христианство? И где, наконец, справедливость и понимание? Неужели старость так ожесточает сердце человека? Что я сделала? За что? Когда вспомню злое лицо, этот крик – просто холодом обдает. Потом я ушла в ванну, а Лев Ник. как ни в чем ни бывало вышел в залу, пил с аппетитом чай и слушал, как Душан Петрович, переводя со славянского, читал о Петре Хельчицком. Когда все разошлись, Лев Ник. пришел ко мне в спальню и сказал, что пришел еще раз проститься. Я так и вздрогнула от радости, когда он вошел; но когда я пошла за ним и начала говорить о том, что как бы дружней дожить последнее время нашей жизни и еще о чем-то, он начал меня отстранять и говорил, что если я не уйду, он будет жалеть, что зашел ко мне. Не поймешь его! 4 августа. Слава богу, день прошел без всякого напоминания о Черткове, и стало как-то легче жить, очистился немного воздух. Спасибо милому моему мужу Левочке, что щадит меня. Кажется, если всё начнется сызнова, у меня не хватит сил перенесть. Надеюсь, что скоро все уедут из Телятинок и я перестану вздрагивать и пугаться, когда уезжает верхом Лев Ник., и перестану бояться их тайных свиданий. Чувствую себя больной, голова какая-то странная, не сплю почти совсем и не могу долго ничем заниматься. Лежу часто без сна, и какие-то дикие фантазии проходят в моей голове, и боюсь, что схожу с ума. Уехали Бирюковы. Стало ясней, и появились грибы. Саша была в Туле у доктора, и он ничего ей не предписал. Тане, слава богу, лучше. Позировала для Левы, исправляла корректуру «Искусства», вписывала пропущенное – работа трудная и медленная. Лев Ник. верхом ездил в Басово, к Лодыженскому, и устал. Я встретила его на так называемом нашем прешпекте. Думала о том, не могу ли примириться с Чертковым; хочется вызвать в себе добро, «яко же и мы оставляем должникам нашим…» И может быть, в мыслях я и перестану ненавидеть его. Но когда подумаю видеть эту фигуру и встречать в лице Льва Ник. радость от его посещения, опять страдания поднимаются в моей душе, хочется плакать и отчаянный протест так и кричит во мне: «Ни за что, не хочу больше этих острых, мучительных страданий!..» А чувствую, что я вся во власти мужа, и если он не выдержит – всё пропало! В Черткове злой дух, оттого он так и пугает, и мутит меня. 5 августа. Провела ужасную ночь; переживала опять в воспоминаниях всё, чем страдала это время. Как оскорбительно, что муж мой даже не вступился за меня, когда Чертков мне нагрубил. Как он его боится! Как весь был подчинен ему! Позор и жалость! Пробовала заняться корректурой, не смогла. Задыхаюсь, голова болит, и дрожит всё сердце. Пошла гулять и проходила почти три часа. За мной приехал кабриолет на большую дорогу. Лев Ник. ездил верхом с Душаном Петровичем. Встретила Леву, возвращающегося из Телятинок. Он издали видел Черткова. Не ездил ли он на свидание с Львом Ник.? Слышала сегодня, что в Телятинках 30 человек что-то усиленно переписывают. Что бы это могло быть? Уж не дневники ли вчера взял Лев Ник.? Ничего не узнаешь. С коварной, злой и упорной волей он всё от меня скрывает, и мы стали – чужие. Во многом я виновата, конечно, но мое раскаяние тоже так велико, что добрый муж простил бы меня и к концу, к смерти приблизил бы меня хотя бы за то, что я с такой горячей, страстной любовью вернулась к нему сердцем и никогда не изменила ему. Как я была бы счастлива, если б он меня приласкал и приблизил. Но этого уж никогда не будет, даже если и удалить Черткова от него! Сегодня опять холоден и чужд. Грустно! Читала ужасные статьи Короленко о смертной казни и тех, кого к ней приговаривали[173]. Просмотрела роман Рони. Вечером Гольденвейзер сыграл удивительную сонату Шопена. Но играл он сегодня как-то вяло. Погода переменная, три раза принимался идти дождь. Ночь… не спится. Долго на коленях молилась. Просила Бога и о том, чтоб он повернул сердце мужа моего от Черткова ко мне и смягчил бы холодность его ко мне. Молюсь ежедневно и в молитве часто вспоминаю тетеньку Татьяну Александровну, прося ее молитв. Она, наверное, поняла бы меня и пожалела. 6 августа. Как и всё это последнее время – нет сна. Утром просыпаешься с каким-то ужасом: что даст сегодняшний день? Так было и нынче. Заглянула в десятом часу в комнату Льва Николаевича, его еще нет, он на своей обычной утренней прогулке. Наскоро оделась, побежала в елочки, куда он ходит по утрам, бегу, думаю: «Ну, как он там с Чертковым?» Идет милый, спокойный, старенький – и один. Но Чертков мог уже уехать. Встречаю детей, спрашиваю: «Видели, детки, старого графа?» – «Видели, на лавочке сидел». – «Один?» – «Одни». Я начала себя обуздывать и успокаивать. Дети милые со мной, видят, что я не нахожу грибов – где уж там! – дали мне пять подберезников и с сожалением сказали: «Да ты не видишь ничего, ты слепая». Пришел в елочки Лева, случайно или ко мне – не знаю. Потом верхом встретил меня возле купальни. Я проходила четыре часа сряду и немного успокоилась. Дома сейчас же напали: яблочный купец, сторожа с поклонами и яблоками, прислуга, потом приехал булочник. Лев Ник. строг и холоден, а мне при виде его холодности так и слышится жестокий возглас: «Чертков – самый близкий мне человек!» Ну по крайней мере физически он не будет самым близким. Бог даст, скоро уедут. Старуха, мать его, вероятно, нарочно тут так долго живет, чтоб мучить меня. Она хотела уехать к сестре до 6 августа. Лев Ник. ездил верхом с Булгаковым, и они заблудились в Засеке, но приехали не поздно. Опять корректуры «Искусства». Днем пришел со станции Засека Короленко и провел весь вечер, без конца рассказывая о самых интересных и разнообразных предметах: о разных сектантах, собирающихся у святого озера в Макарьевском уезде, о монастырях, о пытках, тюрьмах, первом знакомстве с Горьким, картинах Репина, и проч., и проч. Жаль, что нельзя записать. Говорит Короленко очень хорошо, содержательно и красноречиво. Посылали за Гольденвейзером; он играл в шахматы с Львом Ник., а главное, его интересовал Короленко. Саша ездила на Провалы с Ольгой, детьми и Гольденвейзерами. Дождь шел, и все промокли. 7 августа. Всё тот же над нами гнет, та же мрачность в доме; кстати, и дождик всё льет и льет, перепутал проросший овес в поле. Приходили наши крестьяне, роздали по дворам деньги Моода. Пришлось на двор по 5 рублей 50 копеек – всего 401 рубль 50 копеек. Уехал Короленко. Позировала Леве, сидела с гостем, отправила в типографию XV часть для набора. Не хочется писать о том, что больнее всего на свете и что гложет меня день и ночь – жестокая холодность Льва Ник. Он не поздоровался даже сегодня со мной; весь день не говорит ни слова, мрачен, сердит; тон его со мной такой, что я ему мешаю жить, что я в тягость. И всё от того, что он для меня перестал видать Черткова. И взял на себя Лев Ник. молчать, молчать весь день и дуться – упорно, зло молчать. С моим живым, откровенным характером это молчание невыносимо. Но он и хочет меня мучить и вполне достигает этого. Я не запрещала Черткову ездить к нам ни словесно, ни письменно; писали ли ему Л. Н. или Лева – не знаю. У них всё тайно. Скоро ли уедут Чертковы, тоже неизвестно. Хочет ли Л. Н. опять видаться с Чертковым, тоже не знаю. Молчит и молчит. Что делается в душе его? Не поймешь. На лице видны гнев и скорбь. Ах, хоть бы растаял лед в его сердце! Жили же мы десятки лет без Черткова и были счастливы. Что же теперь? Ведь мы всё те же, а между тем сестры ссорятся с братьями, отец недоброжелателен к сыновьям, дочери – к матери, муж возненавидел жену, жена – Черткова; и всё от него, от того, что его глупая, громоздкая и грубая фигура втерлась в нашу семью, опутала старика и губит мое счастье и жизнь… Сейчас опять буду молиться, и когда вспомнила о молитве, стало легче на душе; я радуюсь, что вот сейчас стану на колена и понемногу войду в общение с Богом и Он утешит, смирит и исцелит мою скорбящую душу и смягчит окаменелое сердце моего мужа. 8 августа. Так и вышло: молитва моя поразительно скоро услышана Богом. Мой Левочка сегодня растаял, стал добр, участлив и даже нежен. Благодарю тебя, Господи! Пусть я всячески страдаю физически, только бы чувствовать с Левочкой ту связь, которая так долго существовала, а не то отчуждение, которое убивает меня. Не спала опять ночь, всё думала, что надо предложить Льву Ник. опять видаться с Чертковым, и рано утром, когда он встал, я это ему и сказала. Он махнул рукой, сказал, что переговорит после, и ушел гулять. Ушла и я в девятом часу, бродила по всей Ясной, по садам и лесам, упала прямо плашмя на грудь и живот, рассыпала грибы и, нарвав дубовых веток и травы, легла на них в изнеможении на лавке из березовых палочек и до тех пор плакала, пока задремала с какими-то фантастическими видениями во сне. Ветки были мокрые от дождя, и я вся промокла, но лежала в этой тишине, с соснами перед глазами, более часа. Всего я отсутствовала более четырех часов из дома, без пищи, конечно. Когда я вернулась, Лев Ник. меня позвал к себе и сказал (я так счастлива была уже тем, что услыхала его голос, обращенный ко мне): «Ты предлагаешь видеться с Чертковым, но я этого не хочу. Одно, чего я более всего желаю, – это прожить последнее время моей жизни как можно спокойнее. Если ты будешь тревожна, то и я не могу быть спокоен. Лучше всего мне бы уехать на недельку к Тане и нам расстаться, чтоб успокоиться». Сначала мне это показалось ужасно – опять расстаться. Но приняв в расчет, что удаление Льва Ник. от соседства с Чертковым и во время его отъезда есть именно то, что желательнее всего, я думаю, что это будет хорошо; пусть отдохнем мы оба от этого дерганья сердечного. Уверял меня мой Левочка, что мое спокойствие так ему дорого, что он сам не живет, видя мое нервное и тяжелое состояние, и всё готов сделать, чтоб помочь мне и успокоить меня. И это его отношение ко мне есть лучшее лекарство всем моим недугам. Написал он сегодня на листке обращение к молодым людям, желающим отказаться от воинской повинности. Очень хорошо. Уже Саша переписала; а куда девался рукописный листок? Неужели опять отдали Черткову? Занялась опять изданием, писала Мооду о деньгах крестьянам, писала артельщику. Спала вечером. Играл Гольденвейзер сонату Бетховена, я, к сожаленью, не слыхала; а потом при мне вальс и мазурку Шопена – прекрасно сыграл. Болит под ложкой, и пищу перестала переваривать; весь организм надломлен. Опять был короткий дождь. Овес пророс, пошли белые грибы и другие. 9 августа. Весь день шила для Левочки: перешивала его блузу, потом белую фуражку, и так спокойно, хорошо было за этим занятием. Нарочно ничем другим не занималась, чтоб дать покой нервам. Всё бы хорошо, если б не злое извержение всевозможных грубостей от дочери Саши. Она всё ездит к Чертковым, и там ее всячески натравливают на меня за то, что я разлучила своего мужа со всей этой телятинской кликой. Никогда не могла бы я себе представить, чтоб дочь смела так относиться к матери, не говорю уже про сердечное отношение. Когда я рассказала о ее невозможной грубости ее отцу, он с грустью сказал: «Да, жаль: у нее есть эта грубость в характере, и я с ней поговорю». Ездил Лев Ник. сегодня к Горбунову в Овсянниково, его не застал и огорчился, так как вез ему корректуру копеечных книжечек, которыми в настоящее время очень занят. К обеду он вышел мрачный, и опять защемило мое сердце. Я пошла к нему и спросила его, какая причина его настроения. Он сказал сначала, что что-то скучно, а потом истолковал мне так, что он не мрачен, а просто серьезен. Что бывает такое настроение, что «все разговоры кругом кажутся ненужными, скучными, бесцельными, что всё ни к чему». А разговоры были, конечно, неинтересные и чуждые, так как приехал сосед, Василий Юрьевич Фере, смоленский вице-губернатор, старый знакомый, которого мы не видали пять лет. Человек хороший, добродушный, любит музыку, играл с Левой в четыре руки, но человек обыкновенный. Позднее приехали супруги Гольденвейзеры, и стало как-то к вечеру веселей, и Лев Ник. не был уже мрачен. Мы, слава богу, дружны, но что-то еще страшно – страшно потерять опять его доброе ко мне расположение. Ждем Таню в 3½ часа ночи. 10 августа. Таня приехала ночью в четыре часа; прислушиваясь всю ночь, я не слыхала, когда она приехала. Утром разговорились с ней всё о том же, и я очень расстроилась, и мы решили больше совсем не говорить о том, что всех так измучило. Позировала для Левы, и вдруг, когда, встав и почувствовав дурноту, подошла к окну, упала и потеряла сознание. Пришла в себя, почувствовав сильную боль в ноге и увидав Леву-сына, с трудом поднимавшего меня. «Бедняга!» – сказал он. Падая, я рассекла и ушибла сильно ногу, до ранки. Лев Ник., узнав об этом падении, был добр и участлив. Но как он все-таки грустен, молчалив и как он, видимо, скучает! Вероятно, боясь меня огорчить, он не признается, что скучает без Черткова. И чем больше он скучает, тем меньше у меня желания возобновить отношения с Чертковым и снова страдать от этой близости и посещений ненавистного мне человека. Узнала сегодня, что они уезжают только еще 1 сентября, и это одна из причин, почему я должна сочувствовать отъезду Льва Ник. к Тане; а вместе с тем снова разлука с ним мне представляется невыносимой! Мы и так нынешнее лето уже много расставались, а долго ли осталось и всего-то нам жить? А видимо, надоела Льву Ник. жизнь в Ясной Поляне! Всё то же, день за день, а он любит теперь всякие развлечения. С утра прогулка по тем же местам; потом работа, завтрак; прогулка верхом с Душаном Петровичем, сон, обед – и опять одинокое, скучное сиденье вечером у себя в комнате; или – что лучше – приезжает Гольденвейзер, и они играют почти ежедневно в шахматы. Иногда Гольденвейзер играет на фортепьяно, и это всем приятно. Сегодня к нам в Ясную Поляну почему-то пришли солдаты и разместились по всей деревне. Четверо из них украдкой приходили к Льву Ник., но не знаю, что он с ними беседовал. Странное отношение Льва Ник. к моему присутствию: если я интересуюсь им и его разговорами и взойду к нему – он недоброжелательно на меня смотрит, давая чувствовать, что я мешаю. Если же я не вхожу и как будто не интересуюсь, он считает это равнодушием и разногласием. Часто не знаешь, как быть. Всякое решение мое, вынужденное жизнью и обстоятельствами, считают за деспотизм; решать же никто ничего не хочет, и ждут меня для того, чтоб осудить, порицать и не соглашаться. Опять ветер; болит голова, тоскует сердце. В субботу Левочка уедет с Таней в Кочеты, а что будет со мной? Уже заранее волнуюсь, огорчаюсь и не знаю, что станется со мной! Где же тут выздороветь. Все меня покинут. Читала для издания «Христианство и патриотизм» и вычеркивала с сожалением то, что нецензурно; как всё это трудно соображать! 11 августа. Как будто отлегло немного от сердца, хотя новая забота о здоровье Льва Николаевича. Он охрип, у него насморк, и он всё зябнет; если выдержит спокойно сидеть дома и беречься, то, бог даст, всё пройдет. Приезжали ненадолго Булыгин, Те и племянник Саломона. Наши все ездили в Тихвинское смотреть дом и в Овсянниково. Я туда ездила потом за Таней. Радостью мне было сегодня то, что Лев Ник. мне диктовал письмо, и я у него довольно долго сидела, писала. Вечером немного занялась изданием, потом мы играли в винт. Лев Ник. весь день просидел дома, кашляет и тревожит этим меня, хотя и надеюсь, что всё кончится благополучно. 12 августа. Только что я немного успокоилась и начала жить нормально и без особенных страданий, как опять тревога. Лев Ник. очень кашляет, а вместе с тем собирается непременно ехать в Кочеты. Он наверное застудит свой кашель, в его года опасно воспаление легких. Мы оба молчим о его отъезде, но он поступит так, как будет больно мне. Отъезд его – новое желание избавиться от меня; но я не хочу и не могу жить опять с ним в разлуке и дня через три поеду туда же. Вокруг меня все очень озабочены нас разлучить, но им это не удастся. Ходила сегодня часа три за грибами с Екатериной Васильевной. Очень было хорошо в елочках, где сидели в зеленом мху красные рыжички, где спокойно, чисто, уединенно. Днем позировала, занялась изданием. Очень трудно! Приехали Ге, Гольденвейзер; пришел Николаев – разговоры без конца. Л. Н. сел играть в шахматы. Он весь день не выходил из дому; только утром немного прошелся. Завтракалу себя в комнате и вообще вял от гриппа, жалуется на прострел в спине и слабость. Вечером Таня начала целый ряд тяжелых на меня обвинений, из которых почти все несправедливые, и я в них так и узнала подозрительность и ложь Саши, которая всячески старается меня оклеветать, со всеми поссорить и разлучить с отцом. Вот где настоящий крест. Иметь такую дочь хуже всяких Чертковых: ее не удалишь, а замуж никто не возьмет с ее ужасным характером. Я часто обхожу двором, чтобы с ней не встречаться, того и гляди или опять плюнет мне в лицо, или зло накинется на меня с отборно грубыми и лживыми речами. Сколько горя в старости! За что? Перечитала свой дневник сейчас и ужаснулась, увы! и на себя, и на мужа моего! Нет, жить оставаться – почти невозможно. 13 августа. Чувствую себя опять тревожней, и дрожит сердце. Но зато радостно провела день. Лев Ник. весь день был дома и только утром походил по террасе. Здоровье его лучше, слегка кашляет. В настроении он хорошем и со мной не строг и не сердит. И за то спасибо. Писал он всё больше письма, ответы на запросы. Таня была мила, со слезами говорила, что всегда меня чувствует, любит и жалеет. Играли вечером в винт с Буланже; Гольденвейзер немного поиграл; Марья Александровна приехала. Лил страшный дождь весь день; вечером гроза, молния поминутно сверкала, и гром – по-летнему. Вписывала книги в библиотеку, кроила платье Марье Александровне. Делами не занималась – голова не свежа, и сердце не покойно. Писала: Бутурлину, Торбе, Сереже, артельщику (перевод), Бирюкову, Давыдову. 14 августа. Тревога усилилась, с утра опять дрожанье сердца, прилив к голове. Мысль о разлуке с Львом Ник. мне невыносима. Колебалась весь день, остаться в Ясной или ехать с ним к Тане в Кочеты, и решила последнее. Наскоро уложилась. Жаль очень оставлять Леву, который ждет паспорта и суда в Петербурге за напечатание «Восстановления ада». Жаль было и Катю с Машенькой оставить; нехорошо и дела бросать. Но я уже не буду расставаться с мужем, не могу просто. Ходила с Катей в елочки, но рыжики все уже обобраны. Лев Ник. ездил с Душаном два часа верхом по Засеке, весь закутанный. Ему лучше. Вечером Гольденвейзер играл сонату Бетховена, играл скучно и холодно. Играл две вещи Шопена – прекрасно. Карнавал Шумана технически недурно, но совсем не характерно каждую часть. Весь день так дурно себя чувствовала, что даже не обедала. Нашло много народу: Дима Чертков (сын), незлобивый, простой и хороший малый, не то что отец. Николаева, Гольденвейзер с женой, Марья Александровна и еще чужая – Языкова. Укладывалась, легла поздно. 15 августа. Кочеты. Рано встали, поехали на Засеку, провожало много народу и Лева; уехали в Кочеты с Таней. Дорога длинная и трудная с пересадкой в Орле на Благодатную. Лев Ник. дорогой много спал, мало ел и казался слаб, но вечером в Кочетах играл в винт с большим оживлением до двенадцатого часу; жалуется на слабость. В Кочетах трогательно встретила нас маленькая внучка Танечка. Что за ласковый, милый, прелестный ребенок! Как она меня ласкала, целовала, хоть кто-нибудь на свете мне рад! И эта святая бесхитростность как трогательна у ребенка! Не то что мы, взрослые. Сегодня пошла прощаться с мужем, он у Саши (случайно при мне) спрашивает записную книгу; Саша замялась, я поняла, что опять какая-нибудь хитрость или ложь. Я спросила: «Что ты спрашиваешь?» Лев Ник. понял, что я уже догадалась, и, спасибо, сказал правду, а то я опять страшно бы расстроилась. «Я спрашиваю у Саши дневник, я ей даю прятать, и она выписывает мои мысли». Конечно, прячут от меня, выписывают мысли для Черткова. Значит, теперешние дневники Л. Н. – это, как я и раньше писала, сочинения для господина Черткова и искренности поэтому в них быть не может. Ну, и бог с ними, с их тайнами и обманами и скрываниями от меня. Со временем всё уяснится. Я – это совесть, не любящая ничего скрытого, и это им невыносимо. Уже в Ясной Поляне я усмотрела это тайное скрывание дневников Льва Ник. у Саши и потому так волновалась последние дни, а они думали, что скрыли от меня. Спросила я еще сегодня Льва Ник.: – А Саша читает твои дневники? – Не знаю, – отвечал он, – она выписывает мои мысли… Так как же не знаю, если выписывает? Опять ложь! Но я ничего не сказала. – Ты от всего так волнуешься, – прибавил Лев Ник., – оттого я и прячу от тебя… Это, конечно, отговорка. Я волнуюсь не оттого, что прячут дневники; это и понятно, и вполне законно; и даже надо их от всех прятать. Волнуюсь я, что и Черткову, и Саше можно их читать, а мне, жене, – нельзя. Значит, он меня бранит и дает на суд дочери и Черткову. И это жестоко и дурно. Здесь пропасть народу, все добродушны, не злобны и не скрытны, как в нашем аду семейном. Начинаю чувствовать ослабление моей любви к мужу за его коварство. Вижу в его лице, глазах и всей фигуре ту злобу, которую он всё время на меня изливает, и злоба эта в старике так некрасива и нежелательна, когда на весь мир кричат о какой-то любви! Он знает, что мучает меня этими дневниками, и старательно это делает. Дай-то Бог мне отделаться от этой безумной привязанности; насколько шире, свободнее и легче будет жить! Пусть их там колдуют с Сашей и Чертковым. Таня мила, уступила мне свою комнату, что мне и совестно, и будет мучить всё время. 16 августа. Может ли быть счастье и радость в жизни, когда всё сложилось так, что Лев Ник. и Саша, по его воле, постоянно с большим напряжением скрывают от меня что-то в дневниках Л. Н.; а я так же напряженно и хитро стараюсь узнать и прочесть, что от меня скрывается и что про меня доносится Черткову и через него всему миру? Не спала всю ночь, сердце билось, и я придумывала всё способы, как прочесть. Если там ничего нет, то не проще ли было бы сказать: «На, возьми, прочти и успокойся». Он умрет, а этого не сделает, таков его нрав. Сегодня жалуется на сонливость и слабость, лежит у себя, ходил гулять. Я видела его минутку и передала клочок бумаги, на котором написала, что считаю справедливым и законным свои дневники скрывать и никому не давать читать; но давать Саше читать и переписывать их для Черткова, а от меня хитро прятать во всевозможные шкапы и столы – это и больно, и обидно. «Бог тебе судья», – кончила я свою записку и больше ничего не буду говорить. Вчера вечером до двенадцатого часа Л. Н. после дороги играл оживленно в винт, сегодня утром чувствовал себя хорошо, а теперь, верно, рассердился за мой упрек. Что делать! Мы изводим друг друга; между нами поселился, как говорит народ, – враг, то есть злой дух. Помоги, Господи! Молюсь вечером долго; молюсь, гуляя одна; молюсь, как сейчас, когда душа болит… Вечером. Среди дня Лев Ник. меня позвал и сказал: «Ты опять обиделась». – «Конечно, – сказала я. – Ты прочел мою записочку?» – «Да; но я хочу тебе сказать, что Саша не читает дневника, а в конце каждого дня у меня в дневнике отдел мыслей, и эти мысли Саша переписывает для Черткова в дополнение прежних. А дневник у меня, и я никому его не дам». Это меня слегка успокоило, если это опять не обман, и я легче дожила сегодняшний день. Играла с миленькими детками Танечкой и Микушкой. Танюшка говорит: «Я бабушку люблю больше всех на свете!» Ходили гулять, грибы собирали, рыжики и валвянки, с детьми весело. Здесь толпа народу, и это утомительно немного, но легко то, что нет ответственности за хозяйство; а бедной Тане трудно, и мне совестно, что мы приехали четверо и своих здесь много. Вечером играли мы в винт, и я рада была посидеть хоть сколько-нибудь с мужем. Но он очень увлекается винтом, а меня постоянно упрекает за плохую игру и старается устранить. Вчера я всех обыграла. Бедный Сухотин угнетен дождями, погубившими овес и сделавшими ему тысячи на три убытку. А у Тани пропал багаж, из Орла будто не погрузили. Обедала я сегодня с маленькими и их нянями отдельно, и дети были в восторге. А я была в восторге, когда Лев Ник. встал из-за стола и пришел на меня взглянуть. Как я еще глупо к нему привязана сердцем! 17 августа. Весь день усердно выправляла «Детство». Поразительно, до чего черты молодости те же, как и черты старости. Преклонение перед красотой (Сережа Ивин), и потому страдания за свою некрасивость и желание заменить красоту тем, чтоб быть умным и добрым мальчиком. Поразительна глава «Гриша» по рукописи и места, пропущенные в книге: это чувственная сцена в чулане с Катенькой непосредственно после умиления и приподнятого религиозного чувства веры и духовной высоты юродивого Гриши. Красота, чувственность, быстрая переменчивость, религиозность, вечное искание ее и истины – вот характеристика моего мужа. Он мне внушает, что охлаждение его ко мне – от моего непонимания его. А я знаю, что ему главное неприятно, что я вдруг так всецело поняла его, слишком поняла то, чего не видала раньше. Ходил Лев Ник. гулять по парку, и был у него в гостях скопец, с которым он беседовал более двух часов. Не люблю я сектантов, особенно скопцов. А этот, кажется, умен, но неприятно хвастается своей ссылкой. Опять сегодня что-то чуждое и грустное в Льве Николаевиче. Верно, всё тоскует по своему идолу Черткову. Хотелось бы ему напомнить мудрую заповедь не сотвори себе кумира, да ничего не поделаешь со своим сердцем, если кого сильно любишь. Какая унылая, серая погода! Но люди здесь все милые, простые, не говоря о заботливой обо всех дочери моей Тане. Михаил Сергеевич весь в хозяйстве; и не волнуется же об этом Лев Николаевич, а именно в эту старинную, привычную помещичью атмосферу его и тянет. В Ясной Поляне всё надо отрицать и от всего страдать, и многое там уже испорчено тяжелыми воспоминаниями. Там он уже давно на меня взвалил всю тяжесть жизни и, разумеется, не может не страдать от этого, чувствуя свою вину. Вспомнила Ясную Поляну за последнее время, и как-то не хочется опять жизни там. Хотелось бы новой жизни, новых людей, новой обстановки. Как всё там наболело! И давно надвигалась эта болезнь нашей жизни. Вечер провела праздно, устало; только хорошо было, когда с детьми играли: такие они оба миленькие! Позднее Лев Ник. с увлечением играл в винт до двенадцатого часа. Просил у Тани какой-нибудь легкий французский роман читать. Как ему надоела его роль религиозного мыслителя и учителя, как он устал от этого! И даже игра с детьми в мнения и другие игры доставляют ему приятное развлечение. Он не хотел, чтоб я это видела, то есть его желания отдыха от роли религиозного учителя, и потому старательно отклонял мой приезд в Кочеты. С болью сердца вспоминаю, как я спросила его, проведет ли он наши два рождения в Кочетах или вернется в Ясную. Он мне на это сказал: «Что же, это на днях. А вот ты оставайся в Ясной и приезжай к 28-му, к моему рожденью». Я так и вспыхнула от горя и обиды. Очень мне нужно его рожденье, если он так старательно хочет от меня отделаться! И я нарочно тогда тотчас же решила, что поеду в Кочеты. Тут по крайней мере мои две любимые Тани. Так как у меня теперь много дела по изданию и я желала бы знать, сколько мы тут проживем, я спросила об этом Льва Ник., а он мне грубо сказал: «Я не солдат, чтоб мне назначать срок отпуска». Вот и живи с таким человеком! Боюсь, что он, со свойственным ему коварством, зная, что мне необходимо вернуться, будет жить здесь месяцы. Но тогда и я ни за что не уеду, брошу всё, пропадай всё! Кто кого одолеет? И подумать, что возникла эта злая борьба между людьми, которые когда-то так сильно любили друг друга! Или это старость? Или влияние посторонних? Иногда смотрю я на него, и мне кажется, что он мертвый, что всё живое, доброе, проницательное, сочувствующее, правдивое и любовное погибло и убито рукою сухого сектанта без сердца – Черткова. 18 августа. Ужасное известие прочла в газетах. Черткова правительство оставляет жить в Телятниках! И сразу Лев Николаевич повеселел, помолодел; походка стала легкая, быстрая, а у меня мучительной болью изныло всё сердце; билось оно в минуту 140 ударов, болит грудь, голова. Рукою Бога, по Его воле мне послан этот крест, и Чертков с Львом Николаевичем избраны орудиями моей смерти. Может быть, когда я буду лежать мертвая, у Л. Н. откроются глаза на моего врага и убийцу и он тогда возненавидит его и раскается в своем греховном пристрастии к этому человеку. И со мной теперь как вдруг изменились отношения. Явилась ласковость, внимание: авось, мол, теперь она примирится с Чертковым и всё будет по-старому. Но этого никогда не будет, и Черткова я принимать не буду. Слишком глубока и болезненна та рана, которая открылась у меня и терзает мое сердце. И слишком невозможно мне простить грубости Черткова мне и его внушения Льву Николаевичу, что я его всю жизнь убиваю. Плохо занималась делами издания, ходила с Танюшкой за грибами. Писала письмо Леве и черновое письмо Столыпину о том, чтобы убрали Черткова из нашего соседства. Столыпин уехал в Сибирь, и потому я письма не послала. Сухотин не советует посылать, посоветуюсь с Левой и с графом Олсуфьевым, который приехал сегодня с сыном Сережей. Бедную Таню замучили мы все – гости. Прекрасно говорила и утешала меня Танечкина няня. «Молитесь ангелу-хранителю, чтоб он смирил и успокоил ваше сердце, – убедительно говорила она, – и тогда всё устроится к лучшему. Берегите свою жизнь», – прибавила она. Ходили в школу смотреть, как ребята играли «Чайку» Чехова. Жарко и скучно, переделка из рассказа. 19 августа. Проснулась очень рано, и началось это не перестающее страдание от мысли, что там, вблизи от Ясной, сидит Чертков. Но меня утешил мой муж. Утром, когда я еще не вставала, он пришел в мою комнату и спросил, как я спала и как мое здоровье; и спросил не так, как большей частью спрашивает, привычно холодно, а с действительным участием. Потом он мне подтвердил обещание: не видать совсем Черткова, не давать никому своих дневников, и не позволять больше ни Черткову, ни Тапселю делать свои фотографии. Это еще выпросила я. Мне противно было, что Л. Н., как старую кокетку, его идол фотографировал и в лесах, и в оврагах и вертел старика во все стороны, чтоб деспотично снимать его и делать коллекции из фотографий, как и из рукописей. «Переписываться с Чертковым я буду, – прибавил он, – потому что это мне нужно для моего дела». Надеюсь, что это будет именно деловая, а не какая-либо другая переписка. Ну, спасибо и за то. Получила от Левы письмо, в котором он пишет, что суд над ним назначен 13 сентября в Петербурге. Тяжело и это. Уедет он из Ясной Поляны совсем 10 сентября. Когда я спросила Льва Ник., до тех пор уедем ли мы отсюда, он поспешно стал говорить, что ничего не знает, не решает вперед. И я уже предвижу новые мучения; он, вероятно, что-нибудь затевает и, конечно, отлично знает, что, но привычка и любовь к неопределенности и к тому, чтоб этим меня мучить всю жизнь, так велика, что он без этого уж не может. Ходила с Таней за грибами, их такая пропасть; потом играла всё время с детьми, делала бумажные куколки. Не могу заниматься делом, сердце просто физически болит, и такие приливы к голове! Наполовину я убита Л. Н. и Чертковым, и еще два, три припадка сердечных, как вчера, – и мне конец. Или же сделается нервный удар. И хорошо бы! Все поражаются, до чего я похудела и переменилась – без болезни, только от сердечных страданий! Уехал Лев Ник. верхом с Душаном Петровичем; места незнакомые, и я тревожилась. Вечером рассказала графу Олсуфьеву всю печальную историю с Чертковым, и он посоветовал мне подождать писать Столыпину об удалении Черткова. Теперь именно этого нельзя сделать, так как его только что вернули. Если же Чертков будет заниматься какой-нибудь пропагандой и наталкивать на это Льва Ник. или Лев Ник. возобновит с ним свои пристрастные отношения, то лучше мне самой, лично, переговорить тогда со Столыпиным. Всё это в будущем, а пока надо жить сегодняшним днем. Часа три подряд Лев Ник. играл с большим увлечением в карты в винт. Как грустно видеть все его слабости именно в тот возраст, когда духовное должно над всем преобладать! Хочется на все его слабости закрыть глаза, а сердцем отвернуться и искать на стороне света, которого уже не нахожу в нашей семейной тьме. 20 августа. Сегодня вечером на почту посылаются два толстых пакета на имя Булгакова, то есть для господина Черткова. Отказавшись для меня от свиданий, Лев Ник. изготовляет для коллекции своего идола разные бумажки, чтоб утешать его, и посылаются они через Булгакова. Ездил Лев Ник. верхом далеко в Ломцы, в лес, вечером сонный играл в винт. Уехали утром сын Сережа и Олсуфьев. Занималась много «Детством» для издания; стараюсь быть спокойна и уйти в дело, но не могу еще совсем. Малейшее напоминание о Черткове (фотография сегодня) приводит меня в ужасное состояние, делается прилив к голове и сердцу и к отчаянию в душе. Да, счастия жизни уже дома не будет, надо или с этим примириться, или искать его в другом и других! Приехал Абрикосов. Фотография, которую делали в Кочетах летом, в моем отсутствии, изображает всех за столом, а Черткова близко, близко сидящего возле Льва Николаевича. Так всю меня и взорвало опять! Писала Масловой и Близ… 21 августа. Опять не спала, опять дрожит сердце, хочется плакать и не хочется жить. Да, зачем, зачем на многое открылись у меня глаза? И зачем мне так страстно хочется его, мужа моего, любви, ласки и прежнего доверия? Завел ключ, чтобы запирать свой дневник. Сегодня, рассказывая всё Абрикосову, я говорю: «Они бог знает что говорят и думают про то, что я ревную Л. Н. к Черткову, а я просто чувствую, что он у меня отнял душу моего мужа». – «Да, это верно, – сказал Михаил Сергеевич, – но теперь поздно, душа отнята давно; поздно спохватились…» И это непоправимо. И я это чувствую, и я виновата и несу возмездие, и жду не от людей, а от Бога помощи и избавления! Оно, вероятно, настанет с моей смертью!.. Чувствую больным сердце, и очень. Сегодня просто жарко, ясно, вернулось лето. Ходила с детьми, Таней и Лелей в лес, очень устала. Лев Ник. ушел гулять один. Вечером он опять играл в шахматы и очень оживленно в винт. А я почти весь вечер лежала, чувствуя себя совсем больной. Он пришел ко мне и порадовался, что я смирно лежу, и в голосе его я как будто услыхала нотку участия. Так и ловишь эти редкие нотки! Утомили Льва Николаевича долгие годы отречения от всего житейского, и он нагоняет это время, пользуясь, насколько можно уж теперь, всеми жизненными благами. В Ясной винта и столько людей – простых, обыкновенных – не будет, и ему скучно, и он не скоро туда поедет. Писала Кате, Андрюше и сестре Тане. Готово «Детство» к печати, я перечитывала главу «Ивины». Поразительны слова: «Сережа с первого взгляда произвел на меня сильное впечатление. Его необыкновенная красота поразила и пленила меня. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение…» И дальше: «Видеть его было достаточно для моего счастья, и одно время все силы моей души были устремлены на это. Ежели случалось, что в три или четыре дня я ни разу не мог видеть это прекрасное личико, я скучал и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои были о нем…» и т. д. Ночь… Не спится. Долго молилась со слезами и поняла, что те страдания, которые я переживаю, должны быть как возобновленное средство моего горячего обращения к Богу, как раскаяние во многом – и, может быть, еще возврата счастия или душевного покоя… 22 августа. День моего рождения, мне 66 лет, и всё та же энергия, обостренная впечатлительность, страстность и – люди говорят – моложавость. Но эти последние два месяца сильно меня состарили и, Бог даст, приблизили к концу. Встала утомленная бессонницей, пошла ходить по парку. Прелестно везде: старые аллеи всяких деревьев, полевые вновь зацветшие цветы; рыжики и другие грибы, тишина, одиночество – одна с Богом. Всё время ходила и молилась. Молилась о смирении, о том, чтоб перестать с помощью Бога так страдать душевно. Молилась и о том, чтоб Бог вернул мне перед нашей смертью любовь мужа. Я верю, что вымолю эту любовь, столько слез и веры я кладу в свои молитвы. Миленькие дети и Леля пришли утром меня поздравить. Лев Ник. во время моей прогулки два раза заходил спросить обо мне. Надо же, для приличия хотя бы, поздравить жену с рождением. Так и смотрю ему в глаза, чтоб поймать хоть минутное проявление его прежней, доверчивой любви ко мне. Когда я ее верну, то возможно, что и с Чертковым примирюсь. Хотя трудно! Опять всё пойдет то же, сначала. Ездил Лев Ник. далеко верхом к скопцу [Григорьеву], который тут бывал уже и раньше приезжал к Черткову, когда там был Лев Николаевич. Проехал взад и вперед 20 верст и не устал. Вот здоровье железное. Играл опять вечером в винт. Играла и я за другим столом; учили, по ее желанию, Лелю Сухотину, а я очень утомила зрение, читая весь день и весь вечер присланную мне корректуру, и игра в карты – отдых глазам. Корректура была из «Военных рассказов». Какая красота многих мест из севастопольских рассказов! Я очень восхищалась и наслаждалась, читая их! Да! Это художник настоящий, гениальный – мой муж! И если б не Чертков и его влияние – науськиванье на такие брошюры, как «Единое на потребу» и другие – совсем другая была бы литература Льва Толстого за последние годы. Чувствую себя немного менее нервной, хотя болит сердце и каждую минуту боишься новых взрывов и припадков. Даже с детьми сегодня играла вяло и скучно. Как и чем разрешится наша жизнь, я даже себе представить не могу! После рождения Льва Ник. поеду в Ясную Поляну и, вероятно, в Москву – а потом?.. 23 августа. Провела день спокойно, но не здорово. Всё та же idee fix — близость Льва Ник. к Черткову. Сердце мое болит просто физически, от душевных причин, в голове бог знает что происходит. Вся правая сторона головы болит… Мне скоро конец. А больно оставлять мужа – Черткову! Получила письмо и разные статьи от Бирюкова, для издания; надо работать, а нет ни сил, ни свежести головы. Заговорила сегодня об отъезде своем, чтобы испытать, как это примет Лев Николаевич. Он, кажется, будет рад, а мне его радость – огромное страдание! И уезжать грустно. Гуляла, занималась «Детством» и очень озабочена, как издать первую часть. Лев Ник. тоже гулял один, писал письмо какому-то революционеру в Сибирь, говорил, что здоров. После прогулки он окликнул меня в окно, и глупая радость и счастье быстро наполнили мою душу. Ах, если б он действительно опять полюбил меня! Читала вслух милой моей внучке – Танюшке. Сейчас 11 часов вечера. Л. Н. ежедневно играет с увлечением в карты и сейчас еще сидит. 24 августа. Как тяжелы бессонные ночи! Вчера с вечера долго, долго молилась плача. То, о чем я больше всего молюсь, – это изгнание духа зла из нашего дома и из отношений моих с мужем. В доме Сухотиных два младенца – два ангела, и потому легко и хорошо живется. В Ясной же Поляне если не сам Чертков, то призрак его еще долго не исчезнет из ее стен и из моего представления. Так и будет мне везде и всюду мерещиться эта огромная, ненавистная мне фигура с огромным мешком, с которым он всегда приезжал и в который хитро и старательно забирал все рукописи Льва Николаевича. Работала над корректурой «Так что ж нам делать?» и над «Детством» для издания. Ездила с Таней и Сашей к соседке – княгине Голицыной. Приятная, твердая и умная женщина. У нее ее деверь, племянница и очень оригинальная старушка Мацнева, с лишком 80 лет, живая, всем интересующаяся, но духовно, кажется, мертвая, то есть уже не задумывающаяся ни над какими духовными вопросами. Вечер прошел тихо; ни шахмат, ни винта не было, все сидели по своим комнатам. Время бежит, не хочется ничем заниматься; не хочется ехать на работу в Ясную и Москву. Устала! 25 августа. Сегодня утром была неожиданно обрадована появлением Льва Николаевича у моей двери. Я умывалась и не могла сразу подойти к нему. Поспешно набросила на мокрые плечи халат и спросила его: «Ты что, Левочка?» – «Ничего; я пришел узнать, как ты спала и как твое здоровье». Я ответила, и он ушел. Но через несколько минут вернулся и говорит: «Я хотел тебе сказать, что вчера ночью, часов в двенадцать, я всё о тебе думал и хотел даже пойти к тебе. Я думал, что тебе одиноко одной, ночью, и что ты делаешь – и мне жалко стало тебя…» При этом слезы показались у него на глазах, и он заплакал. А меня охватила такая радость, такое счастье, что весь день я им жила, хотя чувствовала себя нездоровой, а приближающаяся моя поездка в Ясную и Москву не перестает меня волновать. Очень много занималась весь день «Воскресением» для нового издания сочинений. Надо выкидывать нецензурные места, надо вставлять пропущенные – работа большая и ответственная. Давыдов и сын Сережа сделали указания на это и тем очень мне помогли. Но вписывать приходится самой. Радуюсь на Танюшку, гуляю, огорчаюсь отношением ко мне дочерей, которые тоже пристрастны к Черткову и несправедливы ко мне. С Таней вечером был длинный разговор, но мы друг друга не убедили. Я эти два месяца слишком перестрадала, чтоб признать, что не было причины. Причина была и есть ужасная! Но молюсь, молилась и вчера с такими мучительными, но горячими слезами о том, чтоб вернулись мне сердце и любовь моего мужа. И удивительное совпадение! Именно в двенадцать часов ночи, когда я, призывая Бога, стояла в слезах на коленях, муж мой с участием думал обо мне! И после этого не верить в молитву? Нет, сила горячей, искренней молитвы, молитвы о любви душевной, не может пропасть даром, она несомненна! Писала Ване Эрдели и внуку Сереже. 26 августа. Хотя я отчасти и овладела собой, стараюсь быть мудрой, духовно независимой от людей и свято хранить и поддерживать в себе молитвенное настроение, все-таки ослабеваю и мучаюсь порою. Разговор мой вчера к ночи с дочерью Таней мне многое уяснил. У нее, у Саши и Льва Николаевича идет деятельная переписка с Чертковым. Они так боятся, что я что-нибудь прочту (хотя этой подлой привычки вскрывать чужие письма у меня никогда не было), что в Ясной только через людей, близких им, передают письма Черткову, а здесь кладут их в сумку последними и тщательно запирают или пишут на Гольденвейзера или Булгакова. Запирает старательно Л. Н. и свой дневник от меня; но дневник дома, как-нибудь он может мне все-таки попасть в руки; и вот я не спала сегодня и думала, что теперь не в дневнике будет сплетаться сеть всяких коварных и недобрых наговоров на меня (конечно, в форме христианского смирения), а в переписке с господином Чертковым. Л. Н. на себя взял роль Христа, а на Черткова напустил роль любимого ученика Христа. Я не читала ни одного письма Л. Н. к Черткову, ни Черткова к Л. Н., но я могу изложить всё, что там пишется намеками на меня: «С.А. жалка, стараюсь держаться, помнить, что я призван исполнять волю пославшего меня… Более чем когда-либо чувствую близость духовную с вами… Думаю о вас постоянно, видеть вас хотел бы… Но это не нужно, если чувствовать общение наших душ и знать, что мы служим одинаково Отцу… Молю Бога о терпенье, целую вас…» и прочие нежности фарисейского рода, в которых с мастерством писателя постоянно, вероятно, проглядывает жалоба на страдания от злой жены. И эта переписка с Львом Ник. Черткова, вся сочиненная на эту тему, будет тщательно храниться для будущих поколений… Видит Бог, как я стараюсь выработать в себе ту мудрость, которая избавила бы меня от страданий нелюбви ко мне мужа и любви его к Черткову и воспитала бы во мне равнодушие и спокойное отношение ко всем этим расставляемым земными побуждениями сетям моей семьи (дочерей), мужа и этого злого фарисея Черткова, как назвал его Коленька Ге. Но подчас – грустно. Какая бы я ни была, больше того, что я дала мужу, дать нельзя. Я горячо, самоотверженно, честно и заботливо любила его, окружала всякой заботой, берегла его, помогала; не изменяла ни единым словом или движением хотя бы пальца; что же может женщина дать больше самой сильной любви? Я на 16 лет моложе мужа и на 10 лет всегда казалась моложе своего возраста. И все-таки всю страстность моей здоровой, энергической любви я отдавала только ему. Я понимала, что вся святость философии моего мужа останется только в книгах, что ему нужна для его работы привычная, удобная обстановка, и он всю жизнь прожил в этой обстановке – будто бы для меня!.. Бог с ним, и помоги мне, Господи! Помоги и людям открыть и увидать истину, а не фарисейство! И какие бы козни против меня ни сочинялись, любовь Льва Ник. ко мне проскакивает всюду и перед всяким возникнет вопрос: если 48 лет люди прожили вместе, любя друг друга, то было за что любить? Теперь принят такой тон, что я ненормальная, истеричная, чуть ли не сумасшедшая, и потому всё, что будет исходить от меня, надо приписывать моему нездоровью. Но люди, а главное Господь, разберут по-своему. Вечером. Провела остальной день терпеливо, хотя не совсем спокойно. Много работала над «Воскресением» для издания. Не люблю я этого произведения; много фальши и много скрытой злобы на людей. Рассказывала детям выдуманную мной сказку, читала им; бродила, молясь, по парку, а вечером играла в винт с Львом Ник. и братьями Сухотиными. Лев Ник. притворился, что ему не неприятно играть со мной, но я знаю, что он предпочел бы дочерей. За что же я-то буду всю жизнь, отброшенная, скучать и всем уступать? Жила я так самоотверженно и до чего дожила. Довольно! Ездил сегодня Лев Ник. с Михаилом Сергеевичем в дрожках в Трехонетово, где большой яблочный сад. Оттуда он пришел пешком, поправлял корректуры книжечек копеечных от Горбунова, а вечером беседовал с приехавшим из Саратова крестьянином. Играл в шахматы и вечером, позднее – в винт. Жаловался на слабость, но просто влияет дурно теплый, давящий, тяжелый воздух, и всем нездоровится, нет бодрости. Живем сегодняшним днем, а что будет дальше – неизвестно. Писала Ванечке Эрдели и Наталье Борисовне [Нордман] о Черткове. 27 августа. Утро. Болезненно живет во мне эта рана ревности к Черткову! Зачем Богу угодно было открыть мне на всё это глаза?! Проснулась опять в рыданьях, потому что видела мучительный сон. Меня даже разбудили мои собственные рыданья! Вижу, сидит Лев Ник. в новом полушубке, башлык завязан назад, шапка высокая, барашковая, лицо такое вызывающее, неприятное. Я спрашиваю: «Куда ты едешь?» Он так развязно отвечает: «К Гольденвейзеру и к Черткову, надо с ним одну статью просмотреть и уяснить». И я от отчаяния, что Лев Ник. не сдержал обещанного слова, страшно разрыдалась, чем и разбудила себя. А теперь едва пишу, так дрожит сердце и рука. Вечером. Гуляла одна в сильном волнении, молилась и плакала. Всё страшно в будущем. Лев Ник. обещал вовсе не видаться с Чертковым, вовсе не сниматься по его приказанию и не отдавать ему дневников. Но у него есть теперь новая отговорка, которую он употребляет, когда хочет и когда ему это нужно. Он тогда говорит: «Я забыл», или: «Я этого не говорил», или: «Я беру слово назад». Так что страшно ему и верить. Очень много занималась корректурой нового издания. Исправляла «Об искусстве», «О переписи» и «Воскресение». Трудно мое дело! И голова страшно болит, и тоска! тоска! Когда прощалась на ночь с Львом Ник., всё ему высказала: и что Черткову он пишет на имя разных шпионов – Булгакова, Гольденвейзера и других; и что я надеюсь, что он меня не обманет в своих обещаниях; и спросила его, всякий ли день он пишет Черткову. Он мне сказал, что писал раз, приписывая в письме Саши, и еще раз самостоятельно. Все-таки два письма с 14 августа. 28 августа. Рождение Льва Николаевича, ему 82 года. Чудный, ясный летний день. Встала я тревожная, ночи не сплю; пошла поздравить мужа, но разволновалась. Пожелала ему долго прожить, но без всяких обманов, тайн, наваждений, и главное, к концу жизни по-настоящему просветлеть. Он сделал тотчас же злое лицо; он, бедный, одержим и считает себя с Чертковым на высшей ступени совершенства духовного. Бедные! Слепые и гордые! Насколько раньше, несколько лет тому назад, был Лев Ник. выше духовно настроен! Какое было стремление искреннее к простоте, к лишению себя всякой роскоши; стремление быть добрым, правдивым, открытым и высоко духовно настроенным! Теперь он откровенно веселится, любит и хорошую еду, и хорошую лошадь, и карты, и музыку, и шахматы, и веселое общество, и снимание с себя сотен фотографий. По отношению же к людям он постольку с ними хорош, поскольку ему льстят, ухаживают за ним и потакают его слабостям. Всякая отзывчивость исчезла. Не года ли? Приехали Варя Нагорнова и Маша Толстая – невестка. Я им очень обрадовалась; но чувствую, что все на меня стали смотреть как на больную, чуть ли не сумасшедшую, и потому отдаляются, избегают меня. И тяжело очень! Если б я знала, что есть во мне тяжелая вина перед моими домашними, то я постаралась бы исправиться. Но бранил Чертков меня, разлюбил муж меня, скрывают всё от меня, нападают тоже на меня — так как же и от чего исправляться? Полюбить Черткова? Но это безнадежно! А рана, нанесенная мне им, болит и болит и изводит меня ужасно! Говорил сегодня Лев Ник., что идеал христианства есть безбрачие и полное целомудрие. На мое возражение, что два пола созданы Богом, по его воле, почему же нужно идти против него и закона природы, Л. Н. сказал, что кроме того, что человек есть животное, у него есть разум и этот разум должен быть выше природы и человек должен быть одухотворен и не заботиться о продолжении рода человеческого. В этом его различие от животного. И это хорошо, если б Л. Н. был монах, аскет и жил бы в безбрачии. А между тем по воле мужа я от него родила шестнадцать раз: живых тринадцать детей и трех неблагополучных. Теперь, после 48 лет, как виноватая за его же требования, я стою перед ним и чувствую, что и за это он готов теперь ненавидеть меня, отрицать всё, чем жил, и создавать духовные единения, которые выражаются в отбирании Чертковым его бумаг, в сотнях фотографий, снятых с Льва Николаевича и еще в каких-то тайнах с ним господина Черткова. Вечер. Тяжесть жизни всё больше и больше надавливает меня. Чем это всё разрешится? Бог знает, и Бог один может помочь. Вот что было: вечером мы все пошли посмотреть детей в ванночке, как их мыли. Вернувшись, я сидела, вязала, думала и тут же высказала Льву Николаевичу, что вот он говорил о полном целомудрии людей, как идеале, а если б достигнуть его до конца, то не было бы детей и без детей не было бы и Царства небесного на земле. Почему-то это очень рассердило Льва Ник., и он начал на меня кричать. (Мне Михаил Сергеевич потом сказал, что в это время Л. Н. проигрывал ему третью партию в шахматы.) Л. Н. говорил, что идеал – в стремлении его достигнуть. Я говорю: «Если отвергать конечную цель, то есть деторождение, то стремление не имеет смысла. Для чего же оно?» – «Ты ничего не хочешь понимать, ты даже не слушаешь!» – кричал он гневно. Я своей больной душой злобный тон Льва Николаевича не перенесла спокойно, расплакалась и ушла к себе в комнату. Окончив партию, он пришел ко мне со словами: «За что ты так обиделась?» Что было объяснять? Я сказала, что он со мной совсем не говорит, а когда заговорил, то несправедливо, злобно рассердился. Разговор мало-помалу перешел в горячий, очень огорченный с моей стороны, крайне злобный со стороны Льва Николаевича. Поднялись старые упреки; на мой болезненный призыв, что делать, чтоб нам быть ближе, дружнее, он, злобно указывая на стол, где лежали корректуры, кричал: «Отдать права авторские, отдать землю, жить в избе». Я говорю: «Хорошо, но будем жить без посторонних людей и влияний. Будем жить с крестьянами, но только вдвоем…» Как только я соглашалась, Лев Ник. бросался к двери и говорил отчаянные слова: «Ах, боже мой, пусти, я уйду» и т. п. Говорил, что «нельзя быть счастливым, если, как ты, ненавидеть половину рода людского…» И тут себя выдал. «Ну, это я ошибся, говоря половину». – «Так кого же я ненавижу?» – спросила я. «Ты ненавидишь Черткова и меня». – «Да, Черткова я ненавижу, но не хочу и не могу соединить тебя с ним». И так меня и кольнуло в сердце опять – эта безумная любовь к этому идолу, которого он не может от себя никак оторвать и который составляет для него половину человечества. И еще более утвердилась во мне решимость ни за что, никогда его не принимать и не видеть и сделать всё, чтоб Л. Н. оторвался от него. И если не достичь этого, то убить Черткова – а там будь что будет. Всё равно и теперь жизнь – ад. Варенька всё поняла; Маша же судит очень ограниченно и, к счастью для нее, многого просто не знает и не понимает. А хорошо бы ей открыть тоже глаза на любовь Льва Ник. к Черткову. Она, может быть, поняла бы мои страдания, откуда их источник, если б прочла листок, приклеенный в конце этой тетради. Жить в избе! А сегодня, гуляя, Л. Н. раздавал ребятам яблоки; вечером два часа с лишком играл в шахматы и два часа в винт. И без развлечений ему скучно, а изба и жизнь в избе – всё это предлоги злиться на меня, выставлять искусной писательской рукой несогласие с женой, чтобы стать в роль мученика и святого. Недаром существует легенда о Ксантиппе; дадут и мне эту роль неумные люди, умные же всё разберут и поймут. Хочется и отсюда уехать, чтоб хоть на время было уединение без травли. И комната моя со всех сторон шумная и людная, и все недоброжелательны ко мне за то, что я смею болеть и страдать душой и телом. 29 августа. Вчерашняя злоба Льва Ник. так тяжело на меня подействовала, что я не спала ночь, молилась, плакала и с раннего утра ушла бродить по парку и лесу. Потом зашла к милой фельдшерице – Анне Ивановне; там она и ее трогательная и сочувственная старушка мать утешали меня. Л. Н. меня везде искал и не нашел. Я вошла к нему. Он говорил, что подтверждает обещания свои: 1) не видать Черткова, 2) не отдавать ему дневников и 3) не позволять снимать фотографии; но опять-таки ставит условием мирную жизнь. Сам сердился и кричал вчера, и опять я виновата. Он придерется к чему-нибудь, чтоб видать Черткова, нарочно меня расстроит и нарушит обещания. Вот чего я боюсь. Но тогда я уеду, и наверное. Пережить второй раз то, что я перестрадала, немыслимо. Получила телеграмму от Левы, что суд над ним назначен не 13-го, а 3 сентября, он уезжает 31 августа. Я рада была предлогу уехать, и главное, хотела повидать сына, проститься с ним, подбодрить его. И вот мы с Сашей поехали на Благодатную, на Орел и в Ясную. Прощались мы с Л. Н. любовно и трогательно, и даже плакали оба и просили друг у друга прощения. Но эти слезы и это прощание были как будто прощаньем с прежним счастием и любовью; точно, проснувшись еще раз, любовь наша, как любимое дитя, хоронилась навсегда, пораненная, убитая и убивающая горем от ее исчезновения и перехода к другому лицу. Мы с Левочкой оплакивали ее в объятиях друг друга, целуясь и плача, но чувствуя, что всё безвозвратно! Он не мог разлюбить Черткова и чувствовал это сам, мучаясь! Ехала я сонно, устало, точно вся разбитая. Холод, 2°, мы с Сашей зябли и зевали. Приехали в пятом часу утра. 30 августа. Приехала домой, и хорошо, лучше, чем не дома. Ходила с Левой-сыном и Катей-невесткой гулять; свежо, ясно и красиво. Застала Булгакова, Булыгина и Марью Александровну. Возбужденно рассказывала Булыгину всю печальную историю с Чертковым. Он, кажется, понял, но не хотел сознаваться. Бродила возле дома, входила в комнаты Льва Николаевича – и всё точно совсем другое, точно что-то похоронено навеки и теперь будет не то, совсем не то, что было, чем жили раньше. А что будет? Не знаю и представить себе не могу. Саша и Варвара Михайловна ездили к Черткову. Он, говорят, очень весел и оживлен. Так и слышу его идиотский хохот. Противно! Получен сентябрьский номер журнала из Нью-Йорка – «The World’s Work». И там очень лестная статья обо мне, и биографические сведения о Льве Ник. Между прочим, про меня сказано, что я была Льва Ник. поверенной и советчицей всю жизнь; что отдала ему силу тела, ума, духа и многое другое, очень лестное для меня. Так как же не сокрушаться, что отнята у меня и передана Черткову эта роль? Поневоле будешь худеть и плакать, как я последнее время. Сегодня форматоры отлили бюсты работы Левы, и нельзя не видеть, что бюсты талантливы и хороши. Форматор М.И.Агафьин – старый знакомый, отливал и раньше бюсты Льва Ник. и другие. Занималась нехотя хозяйством, бумагами, делами, выписыванием маляров, печника, уяснением дел, но голова не свежа и ничего не соображает. 31 августа. Получила письма от Тани и от Льва Николаевича. Сначала обрадовалась, а потом плакала. «Как бы хорошо было и для меня и для тебя, если б ты могла победить себя», – пишет мне муж. У него одна цель, одно желанье, чтоб я победила себя и допустила, очевидно, близость Черткова. А это немыслимо для меня. Ясный, красивый день; холодно и грустно. Проводила Леву в Петербург на суд. Пошла гулять с Катей и Варварой Михайловной, но слишком устала, и стал болеть весь живот и ноги. Вечер, усиленно занялась корректурой, раньше переписывала письма. Страшно утомилась! И сколько всякого дела навалилось на меня! Мало сплю, почти ничего не ем. 1 сентября. Утром уехала Катерина Васильевна с дочкой; мне жаль. Завтракали Булгаков, Марья Александровна и Ризкина, рожденная Цингер (Лиза), с двумя мальчиками. Она неглупая и образованная, но чуждая своим материализмом и ученостью. Вечером еще приехала Надя Иванова. Гулять не ходила: не хочется орошать слезами и омрачать своим горем любимые места Ясной Поляны, по которым я всю жизнь, счастливая и радостная, легкой походкой с легким сердцем обегала под впечатлением красоты природы и собственного счастья! И, как и теперь, всё необыкновенно здесь красиво в эти ясные, блестящие дни! А на душе грустно, грустно! Занималась много корректурой и вообще делами по изданию и распоряжениями по хозяйству. Но ничего не ладится; хотела ехать в Москву, но ничего у меня не готово, а энергии нет, и всё кажется ненужным и неважным. Тяжелый был инцидент с грубой Сашей. Она вошла в залу в то время, как я рассказывала Марье Александровне, как Л. Н. еще летом, по приказанию Черткова, заставил в овраге, где Чертков фотографировал Льва Николаевича, искать всех нас потерянные господином Чертковым часы и как нам всем это было неловко, совестно и досадно за унижение Льва Ник. и всех нас за него. Я уже кончала рассказ, когда вошла за чаем Саша и с места начала на меня кричать, что я опять говорю о Черткове. Я тоже рассердилась, заразившись, к сожаленью, ее злобой, и произошла тяжелая перебранка, о которой сожалею; но не могу же я испрашивать позволения у дочери, о чем мне беседовать с моими друзьями! Так тяжело и кончился день, и чувствую себя еще больнее и еще несчастнее. Писала мужу. 2 сентября. Занималась с утра работой над «Воскресением» для издания. Днем посылала за священником, который отслужил молебен с водосвятием[174]. Прекрасные молитвы, кроме последней, «Победы государю императору». Не место рядом с молитвой о грехах, о смягчении сердец, об избавлении от бед и скорби молить Бога о победе, то есть об убийстве людей. Вечером пришел Николаев и горячо внушал мне о ничтожестве Черткова, о том, что мне унизительно становиться с ним наравную ногу и говорить о том, что он занял при Льве Ник. мое место. «А просто у Черткова хорошо устроена канцелярщина для писаний Льва Николаевича, за что он ему и благодарен». И Николаев, и Марья Александровна, по-видимому, очень не любят Черткова. Читала я как-то у Льва Ник. письмо Черткова к государю, в котором он просит вернуть его в Телятинки; письмо именно фарисейское, но в нем больше всего проглядывало желание быть ближе к Льву Ник. И вот теперь: государь вернул, а жена Толстого прогнала. «Femme veut, Dieu le veut»[175]. Как ему теперь должно быть досадно на меня. А я радуюсь! Всё та же волшебно-прекрасная погода. Ясно, к ночи свежо; блеск, разнообразие колеров зелени: листьев, кустов и деревьев. Висят еще яблоки, косят, пашут, начали копать картофель. Маляры докрашивают крыши и службы; из парников таскают землю; в лесу кое-где еще есть грибы. После молебна и сиденья весь день дома чувствую себя спокойнее и лучше. Беседовала со священником, и он ужасался, так же как и все, грубости Черткова. Но довольно о нем – спускаю занавес на этого человека и всю его гнусность. 3 сентября. Любуюсь красотой природы, ярко блестящими днями, и все-таки грустно! Получила очень хорошее письмо от мужа, и так стало радостно, и так хочется опять, по-старому, слиться с ним в одну жизнь, без розни, без злобы! Но письмо не жизнь! Я тоже написала ему, кажется, хорошее письмо с Сашей, уехавшей сегодня утром в Кочеты. Послезавтра собираюсь и я туда. Что-то Бог даст, а хотелось бы в среду вернуться с Левочкой домой. Дело издания совсем стало, надо продолжать; это долг совести и долг перед публикой, читающей и любящей Толстого. Вечером пришла Николаева. И ее жизнь не легкая с идейным, хотя очень хорошим мужем, но с пятью детьми, без прислуги. 4 сентября. Нетерпение мое видеть мужа всё растет, и непременно поеду завтра в Кочеты. Сегодня гуляла одна, грустно на душе; получила хорошее письмо от сына Левы, его суд будет 13-го. Занялась «Воскресением» с Варварой Михайловной, прошлась по хозяйству. Тепло, ветерок, цветы полевые и чудесные садовые, облачка на небе, пестрота листьев – и хорошо! Но как тяжело одиночество! Я не люблю его, я люблю людей, движение, жизнь… Этим у Сухотиных лучше, народу много, и всё проще, без идей и отрицаний. И там Льву Ник. весело; прямо от обеда игра в шахматы с Сухотиным или доктором тамошним. Часа два проиграет, походит, письма прочтет, выйдет в столовую, ищет всех и просит скорей ставить стол, играть в карты, в винт. И игра продолжается часа три, до половины двенадцатого, оживленная, веселая. Никаких поз от Льва Ник. не ждут и не надо принимать; никакие просители и нищие не бывают; никакой нет ответственности, живи, пиши, играй, разговаривай, спи, ешь и пей… Очень боюсь, что он затоскует в Ясной Поляне. Постараюсь, чтоб было людней. Но у нас всех отбили, а я теперь отбила Черткова и К°. 5 сентября. Кочеты. Пишу после. Дневника не писала это время. 5 сентября рано утром уехала в Кочеты на Мценск. В душе была надежда, что Лев Ник. поедет со мной в Ясную Поляну, так как, запряженная в необходимую работу нового издания, я должна быть ближе к Москве и иметь под руками все книги и материалы. Ехала я из Мценска 35 верст под сильнейшим дождем и бурей. Грязь, переезд на пароме, волнение – всё это было очень тяжело. В Кочетах и муж, и дочь встретили меня холодно. Лев Ник. понял, что я буду звать его домой, а ему жаль было расстаться с веселой жизнью в Кочетах, с разными играми и большим обществом. Он только что вернулся от скопца, к которому ездил верхом, 20 верст взад и вперед, в эту ужасную погоду. Но зато как мило и ласково встретили меня эти пятилетние детки – внучка Танечка и ее приятель – Микушка Сухотин! 6 сентября. У Льва Ник. от вчерашней верховой езды разболелся большой палец на ноге, распух, покраснел, и он всё повторял: «Это старческая гангрена, и я, наверное, умру». И весь он, до вечера, чувствовал себя дурно, не ел, лежал в постели. Вечером приехавший Дранков показывал целое представление кинематографа. Лев Ник. встал и тоже смотрел, но очень устал. Представляли, между прочим, и Ясную Поляну зимой со всеми нами. Дранков мне подарил ленту, которую я отдала на хранение в Исторический музей в Москве. 7 сентября. Льву Ник. стало лучше. Он обедал со всеми, играл в шахматы, и после, когда все ушли смотреть кинематограф, представленный всей деревне, Зося Стахович, приехавшая в Кочеты, читала нам с Л. Н. вслух предисловие к сочинению [Анри] Бордо «Страх жизни». Отношения со всеми натянутые. Все мы ревниво тянем к себе Льва Ник., а он выбирает, где ему веселее и лучше, не обращая внимания на мое страстное, горячее и безумное желание его возвращения со мной в Ясную Поляну. 8 сентября. Приехала в Кочеты более спокойная, а теперь опять всё сначала. Не спала ночь, рано встала. Снимал Дранков нас опять для кинематографа, а потом деревенскую свадьбу, разыгранную нарочно. Когда я днем решилась наконец спросить Льва Ник., когда он вернется домой, он страшно рассердился, начал на меня кричать, некрасиво махать руками со злыми жестами и злым голосом, говоря о какой-то свободе. В довершение всего злобно прибавил, что раскаивается в обещании мне не видеть Черткова. Я поняла, что всё – в этом раскаянии. Он мстит мне за это обещание и будет еще долго и упорно мстить. Вина моя на этот раз была только в том, что я спросила о приблизительном сроке возвращения Л. Н. домой. Конечно, я не обедала, рыдала, лежала весь день, решила уехать, чтоб не навязывать себя в огорченном состоянии всей семье Сухотиных. Но почувствовала, как безжалостно и упорно Лев Ник. содействовал моему нервному нездоровью и моей всё более и более ускорявшейся смерти, и это привело меня в отчаяние. Я только одного желала – отвратить мое сердце, мою любовь от мужа, чтоб так не страдать. Получила письмо от Черткова: лживое, фарисейское письмо, в котором ясна его цель примирения, для того чтоб я его опять пустила в дом[176]. 9 сентября. Плакала, рыдала весь день, всё болит: и голова, и сердце, и желудок; душа разрывается от страданий! Лев Ник. старался быть добрее, но эгоизм его и злоба не позволяют ему ни в чем уступить, и он ни за что упорно не хочет сказать мне, вернется ли и когда в Ясную Поляну. Написала письмо Черткову, но еще не послала. Все мои несчастья от этого человека, и я не могу с ним примириться. 10 сентября. Лежала всё утро, потом надолго ушла в сад. Вечером Лев Ник. опять пришел в гневное состояние и сказал мне: «Никогда ни в чем тебе больше не буду уступать и страшно раскаиваюсь в своей ошибке, что обещал не видеться с Чертковым». Крик его и злоба меня окончательно сломили. Я легла в его комнате на кушетку и лежала в полном изнеможении и отчаянии; Лев Ник. сел за стол и начал что-то писать. Потом встал, взял мои обе руки в свои, пристально на меня посмотрел, добро улыбнулся и вдруг заплакал, и я в душе сказала себе: «Слава Богу! Еще теплится в сердце его искра прежней любви ко мне!» Среди дня ходила к старушке, матери фельдшерицы Путилиной. Святая, набожная старушка утешала меня и советовала верить в милосердие божье и молиться, что и делаю всё время, не переставая. 11 сентября. Всё чего-то жду, голова не свежа, болит сердце и желудок. Ходила через силу гулять с Таней и детьми, ужасно устала, ничего не могу есть. После обеда Лев Ник. сделал над собой усилие и пригласил и меня играть в карты. Я села, немного поиграла, но закружилась голова, и я принуждена была лечь. Решила завтра уехать. Несмотря на нездоровье и горе, всё время читаю корректуру и брошюры для издания. 12 сентября. Опять утром волновалась, плакала горько, тяжело, мучительно. Голова точно хотела вся расколоться. Потом взяла себя в руки и занялась корректурой. Я избегала этот день встречи с Льв. Ник. Его недоброе упорство сказать приблизительно хотя что-нибудь о своем приезде измучило меня. Окаменело его сердце! Я так страдала от его холодности, так безумно рыдала, что прислуга, провожавшая меня во время моего отъезда, заплакала, гладя на меня. На мужа, дочь и других я и не взглянула. Но вдруг Лев Ник. подошел ко мне, обойдя пролетку с другой стороны, и сказал со слезами на глазах: «Ну, поцелуй меня еще раз, я скоро, скоро приеду…» Но обещания своего не сдержал и прожил еще 10 дней в Кочетах[177]. Ехала я всю дорогу рыдая. Таня с внучкой Танечкой и Микой сели ко мне в пролетку и немного проводили меня. Приехала в Ясную Поляну ночью, встретили меня Варвара Михайловна и Булгаков. Пустота в доме и одиночество мое мне показались ужасны. Перед отъездом я написала письмо Льву Ник., которое ему передал Сухотин. Письмо, полное нежности и страдания, но лед сердца Льва Ник. ничем не прошибешь. (Письмо это переписано в тетрадь моих всех писем к мужу.) На это письмо Лев Ник. мне ответил коротко и сухо, и в следующие 10 дней мы уже не переписывались, чего не было ничего подобного во все 48 лет нашей супружеской жизни[178]. Усталая, измученная, я просто шаталась, когда вернулась домой. И всё я жива, ничто меня не сваливает, только худею и чувствую, что смерть все-таки быстрее приближается, чем раньше, до этих бедствий; и слава богу! 13 сентября. Очень много занималась корректурой, старалась успокоиться и поверить словам Льва Ник.: «Я скоро, скоро приеду». Этим жила и утешалась. Приехали ко мне Анненкова и Клечковский. Разговоры всякие тяжелые, и все считают меня ненормальной и несправедливой относительно мужа, а я пишу только правдивые факты в своем дневнике. Пусть люди из них делают свои выводы. Материальные дела и жизнь меня мучают. 14 сентября. Приезжала за моим бюстом, сделанным сыном Левой, барышня Альмединген, Наталья Алексеевна, умная и живая. От одиночества и тоски я ей всё рассказала об истории с Чертковым. Узнала, что суд над Левой отложен до 20 ноября. 15 сентября. Еще один тоскливый день; ни писем, ни известий. Пошла ходить одна, рвала цветы, плакала – тишина, одиночество! Все-таки много работаю над корректурами. 16 сентября. Всё то же. 17 сентября. Мои мечты, что муж мой вернется к моим именинам, разлетелись; он даже письма не написал, и никто из Кочетов. Одна моя дорогая внучка, Танюшка, прислала мне поздравление с картиночкой, и еще прислали мне сухую, безжизненную коллективную телеграмму из Кочетов! День именин – день предложения мне Льва Ник. И что сделал он из этой восемнадцатилетней Сонечки Берс, которая с такой любовью и доверием отдала ему всю свою жизнь? Он истязал меня за это последнее время своей холодной жестокостью и своим крайним эгоизмом. Ездила с Варварой Михайловной в Таптыково. Ольга (первая жена сына Андрюши) и ее дети – моя тезка, внучка София Андреевна и Илюшок – были очень со мной добры и ласковы, и если б не камень на сердце, я хорошо бы провела день именин. 18 сентября. Утром вернулась в Ясную. Всё время, весь день плакала, невыносимо страдала. Получила много поздравительных писем, но не от мужа, не от детей. Тоска в пустом доме ужасающая! Читала корректуры, надрывая глаза от слез и напряженной работы. Порою поднималось в душе даже чувство досады к человеку, так спокойно и последовательно истязавшему меня за то, что я возненавидела его идола Черткова. 19 сентября. Москва. Корректуру читала, укладывалась, уехала вечером в Москву по делам. В вагоне чуть до смерти не задохнулась. Встретила с радостью в Туле сына Сережу, который сказал, что и жена его, и сын едут в том же вагоне в Москву, и мне это было приятно. 21 сентября. 20-го и 21 сентября провела с делами в Москве. Заехала навестить старушку няню Танеева и узнать что-нибудь о нем. Он еще в деревне. Хотелось бы его повидать и послушать его игру. Этот добрый спокойный человек когда-то, после смерти Ванечки, много помог мне в смысле душевного успокоения. Теперь это невозможно; я уже не так люблю его, и мы не видимся почему-то, да я ничего давно уже для этого не делаю. Узнавала о Масловых. 22 сентября. Вернулась утром в Ясную Поляну. Морозно, ясно, в душе какой-то ад горя и отчаяния. Ходила по саду и до безумия, до страшной головной боли плакала. И всё я жива, и хожу, и дышу, и ем, но не сплю. Замерзли цветы, как и моя жизнь. Вид унылый, и в душе уныло. Вспыхнет ли еще когда-нибудь искра счастья и радости в нашей жизни? Думаю, что, пока поблизости Чертков, этого не будет уж больше никогда! От Льва Ник. ни слуху ни духу. Он не уступил мне ни одного дня, не пожертвовал своей эпикурейской жизнью у Сухотиных с играми в шахматы и винт ежедневно, и я уже без прежней любви ждала его. Ночью приехали Л. Н., Саша и доктор, и вместо радости я упрекнула ему, расплакалась и ушла к себе, чтоб дать ему отдохнуть от дороги. 23 сентября. Ну вот и свадебный день. Я долго не выходила из своей комнаты и проплакала одна. Хотела было пойти к мужу, но, отворив дверь, услыхала, что он что-то диктует Булгакову, и ушла бродить по Ясной Поляне, вспоминая счастливые времена – не очень их было много – моей 48-летней брачной жизни. Просила потом Льва Ник. позволить нас фотографировать вместе. Он согласился, но фотография вышла плохая – неопытный Булгаков не сумел снять. К вечеру Л. Н. стал как-то мягче и добрее и мне стало легче на душе. Почувствовала некоторое успокоение, точно я действительно нашла вновь свою половину. 24 сентября. Недолго был добр Лев Ник. Опять он кричал на меня за то, что я, узнав в Таптыкове от француженки, бывшей гувернантки Дитерихсов, что у Черткова читали рассказ Л. Н. «Детская мудрость», просила и мне его дать прочесть. Когда в доме, и даже у Льва Ник. не оказалось ни одного экземпляра, я почувствовала досаду и горечь сердца и сказала, что Чертков, конечно, поспешил отобрать рукопись, потому что он коллекционер и больше ничего. За это страшно рассердился Лев Ник. и так накричал на меня, что я опять неутешно плакала. Ушла в елочки, пилила там ветки, потом копировала фотографии, читала корректуру и весь день почти не видала мужа. 25 сентября. Радуюсь, что муж мой хотя бы фактически со мной, и начинаю успокаиваться. Но как далек он от меня душой! Я люблю его больше, чем он меня. Лев Ник. читает с интересом книгу Малиновского «Кровавая месть», ездил верхом. 26 сентября. С утра всё было мирно и хорошо. Саша с Варварой Михайловной уехали в Таптыково к Ольге, с нами осталась Марья Александровна; я копировала фотографии. Проходя через кабинет Льва Ник., увидала, что портрет Черткова, который я в отсутствие Л. Н. перевесила на дальнюю стенку, заменив его портретом отца Л. Н., снова повешен над головою и креслом Льва Ник., в котором он всегда сидит. Мне тяжело было видеть портрет этого ненавистного мне человека ежедневно над Львом Ник., когда я по утрам приходила с ним здороваться; я и удалила его. То, что Лев Ник. восстановил его на прежнее место, привело меня опять в страшное отчаяние. Не видая его, он не мог расстаться с его портретом. Я сняла его, изорвала на мелкие части и бросила в клозет. Разумеется, Лев Ник. рассердился, справедливо упрекал меня в лишении свободы (он теперь вдруг на этом помешался), о которой всю жизнь не только не заботился, но и не думал. К чему свобода, когда мы всю жизнь любили друг друга и старались сделать всё приятное и радостное друг для друга? Опять я пришла в безумное отчаяние, опять поднялась ревность к Черткову самая едкая, и опять я доил акал ась до изнеможения и головной боли. Думала о самоубийстве, думала, что надо убрать себя из жизни Льва Ник. и дать ему желанную свободу. Я пошла в свою комнату, достала фальшивый пистолет, пугач, и, думая приобрести себе настоящий, попробовала выстрелить из пугача. Потом, когда Лев Ник. вернулся с верховой езды, я выстрелила и вторично, но он не слыхал. Марья Александровна, думая, что я стреляться хочу по-настоящему, не разобрав, в чем дело, написала Саше в Таптыково письмо, чтоб Саша приезжала, потому что мама стрелялась или что-то в этом роде. Я ничего об этом не знала, слышу, ночью подъезжает экипаж и кто-то стучится. Было очень темно, и я удивилась, кто бы это мог быть. Выхожу, вижу – Саша и Варвара Михайловна. Очень меня это удивило. «Что случилось?» – спросила я. И вдруг на меня в два голоса посыпались такие грубые речи, такие злые упреки, что я долго не могла опомниться. Пошла наверх, Саша и Варвара Михайловна с криками за мной. Наконец я потеряла терпенье и страшно рассердилась. Что я им двоим сделала? В чем моя вина?! К сожалению, и я начала кричать: говорила, что выгоню их из дому, что завтра же разочту эту приживалку, подлизывающуюся к Саше. Марья Александровна, поняв свою ошибку, стала плакать и просить этих двух разошедшихся крикуний уйти из ее комнаты. Но эти две злючки не скоро успокоились и на другое утро, уложив свои вещи, забрав лошадей, собак, попугая, уехали в Телятинки, в Сашин дом. Сами виноваты и сами озлились и сделали дурной поступок. 27 сентября. Остались мы, старики, одни. Лев Ник. поехал один верхом по шоссе, я за ним в кабриолете. Он, видимо, нарочно, постоянно оглядываясь, ехал всё дальше и дальше, ожидая, что я наконец озябну (я плохо оделась) и вернусь. Но я не вернулась, простудилась, получила потом насморк, но до дому доехала с ним. Мы сделали тогда 17 верст, и он проспал до 7½ часов, обедали в 8 часов. Вечером Лев Ник. играл в шахматы с Хирьяковым, был сонлив, вял, и расстроился у него желудок. Очевидно, эта верховая езда в холод и страшный ветер дурно повлияла на него. Несмотря на неприятности, я много занималась изданием и корректурами. 28 сентября. Всё так же занималась в одиночестве и с тяжелым камнем на душе. Не только мне не помогают выздороветь, но всё делают, чтоб мучить меня! Даже случайности против меня! Лев Ник. ездил верхом в Овсянниково к Марье Александровне и встретил Черткова, ехавшего к Ольге в Таптыково. Так и защемило сердце, когда я подумала о той радости, которую они оба испытали. Но Лев Ник. с лошади не слезал и поговорил недолго; aparte никакого не было, так как ехали еще Дима и Ростовцев. Во весь день Л. Н. ел очень мало, начинался насморк, и изредка он кашлял; разумеется, вчерашняя поездка не могла обойтись даром; да и в Овсянниково ездить и далеко, и очень холодно было. Никогда ему даром не обходились поездки в Овсянниково. 29 сентября. Тихо, дружно с Львом Ник. и потому хорошо! Когда он завтракал, я сидела с ним и тоже начала что-то есть, кажется, блинчики с творогом. Надо было видеть, как он обрадовался, когда на вопрос, кому я кладу блинчики, я сказала: «Себе». – «Ах, как я рад, что ты наконец начала есть!» Потом принес мне с такой любовью грушу и просил ее непременно съесть. Вообще он без посторонних опять по-старому добр и ласков со мной, и я чувствую, что он мой. Но что-то он не бодр, и я беспокоюсь. Сама была подвижна весь день: пилила сучья в елочках, ездила в Колпну покупать рожь и муку. Ясный, морозный день, красиво по-осеннему. 30 сентября. У Льва Ник. сильная изжога с утра. Это всегда плохой признак, и мне тревожно, тем более что он что-то уныл. Отъезд Саши был для него новой и неожиданной неприятностью. И неужели на ней такая непроницаемая броня, что ей не жаль делать неприятное старику отцу своим бегством из дому? Несмотря на физическое недомогание, Лев Ник. поехал с глупым Душаном верхом и долго ездил по лесам и оврагам. Говорю глупым, потому что на то держат доктора, чтоб он следил за состоянием здоровья Л. Н., а не допускал его делать неразумное. Опять ледяной ветер и солнце. У меня насморк, на душе тоскливо. Наклеивала газетные вырезки, убирала журналы, занималась хозяйственными распоряжениями и изданием, но нет ни здоровья, ни энергии, ни прежней работоспособности. Я скоро умру. 1 октября. Приехал утром Гольденвейзер, играл в шахматы с Льв. Ник. вечером. Днем приезжала Саша и повезла Гольденвейзера к Чертковым. Хотела я было предложить и Льву Ник. ехать туда, но как только подумала об этом и заговорила с мужем – слезы подступили к горлу, я вся заволновалась, затряслась; кровь бросилась в голову, меня всю точно изранило что-то, особенно когда я увидала в лице Льва Ник. радость от мысли снова видеться с Чертковым. Дошла опять до отчаяния и ушла к себе плакать. Спасибо моему милому мужу, что он не поехал к Черткову, а поехал опять верхом в лес и по оврагам и очень устал. Кончила работу над «Детством» и читала корректуру «О деньгах». Льет дождь и ветрено. 2 октября. Утром приехал милый Павел Иванович [Бирюков], всегда мягкий, сочувствующий, умный и добрый. Рассказывая ему о своем горе, я плакала. Он тоже не любит Черткова и понял меня. Льву Ник. всё хуже; расстроился желудок, он никуда не ходил и всё спал. После обеда хорошо беседовали, приехал сын Сережа. Играли все в шахматы. 3 октября. Утром Лев Ник. гулял, потом недолго ездил верхом, весь окоченел, ноги застыли, и, чувствуя себя ослабевшим, он даже не снял холодных сапог, повалился на постель и заснул. Он долго не приходил к обеду, я обеспокоилась и пошла к нему. Л. Н. как-то бессмысленно смотрел, беспрестанно брал часы и справлялся, который час, поминая об обеде, но тотчас же впадал в забытье. Потом, к ужасу моему, он стал заговариваться, и вскоре началось что-то ужасное! Судороги в лице, полная бессознательность, бред, бессмысленные слова и страшные судороги в ногах. Двое и трое мужчин не могли удержать ног, так их дергало. Я, благодаря бога, не растерялась; со страшной быстротой налила мешки и бутылки горячей водой, положила на икры горчичники, мочила голову одеколоном, Таня давала нюхать соли; обложили всё еще ледяные ноги горячим; принесла я ром и кофе, дали ему выпить. Но припадки продолжались, и судороги повторились пять раз. Когда, обняв дергающиеся ноги моего мужа, я почувствовала то крайнее отчаяние при мысли потерять его, то раскаяние, угрызения совести, безумная любовь и молитва со страшной силой охватили всё мое существо. Всё, всё для него – лишь бы остался хоть на этот раз жив и поправился бы, чтоб в душе моей не осталось угрызения совести за все те беспокойства и волнения, которые я ему доставила своей ненавистью и своими болезненными тревогами. Принесла я и тот образок, которым когда-то благословила своего Левочку на войну тетенька Татьяна Александровна, и привязала его к кровати Льва Николаевича. Ночью он пришел в себя, но решительно не помнил, что с ним было. Голова и члены болели, температура была сначала 37 и 7, а потом постепенно падала до 36 и 7. Всю ночь просидела возле своего больного на стуле и молилась о нем. Он спал недурно, изредка стонал, но судороги прекратились. Приехала в ночь дочь Таня Сухотина. 4 октября. Рожденье Тани, все повеселели. Ездили к Чертковым. Льву Ник. гораздо лучше, но он не встает с постели. Память и сознание вполне восстановились, он интересуется, что с ним было и что он говорил. Язык обложен, болит немного печень, ничего не ел. Выписали из Тулы доктора, дали ревень с содой, Виши; надела ему на ночь компресс из водки. Трогательно и сердечно помирились с Сашей и решили ничего не вспоминать и вместе преследовать одну цель: сделать Льву Ник. жизнь как можно спокойнее и счастливее. Но боже мой, как мне это будет трудно, если для этого нужно возобновить отношения с Чертковым! Мне кажется, что это так для меня тяжело и невозможно. А придется, и жертва эта будет непосильная для меня. Ну, да что бог даст! Пока от радости, что Льву Ник. гораздо лучше, все стали спокойнее и добрее. 5 октября. Льву Ник. с утра гораздо лучше; он так много пил кофе с молоком и так съел сухари и целый калач, что я даже испугалась. Пил Виши, обедал с нами. Сережа уехал утром, Таня была весь день в Овсянникове. Саша и Варвара Михайловна приехали, и стало веселей и легче жить. Таня не добра и всё упрекает, грозит чем-то и потом уверяет, что больше всех желает нас умиротворить. Чувствую себя разбитой, болит под ложкой с левой стороны и голова. Приехал Сергеенко; не люблю его; фальшивый, эксплуатирует нас, сколько возможно, льстит, когда нужно ему что-нибудь, и говорит сладкие речи, когда думает, что это для чего-нибудь нужно. Лев Ник. очень со мной добр и ласков; он видел, как мне было тяжело и жаль его, как самоотверженно и полезно за ним ухаживала и как раскаивалась, что не поберегла его! 6 октября. Льву Николаевичу лучше, но он еще слаб, говорит, что болит печень и изжога. Походил немного утром, потом пошел было и днем гулять, но потянуло его к обычной верховой езде, и он тихонько от меня уехал верхом с Булгаковым, что очень меня встревожило. Приехали Страхов с дочерью, Булыгин и Буланже. Лучше, когда гости, не так тоскливо. Посоветовалась с ними насчет издания. Спокойно беседовали вечером. Днем Саша ездила к Чертковым и с моего согласия пригласила его приехать к Льву Ник. Чертков написал недоброе и, как всегда, неясное письмо и – не приехал. Не могу понять, очень ли огорчился Л. Н. Кажется – да. Но, слава богу, хоть еще один день без этого ненавистного человека! 7 октября. Опять поднялся разговор о посещении Черткова, и Таня с Сашей ездили к нему, и он обещал приехать в 8 часов вечера. Я затеяла с доктором заказать Льву Ник. ванну к вечеру: это полезно для печени и это бы сократило посещение Черткова. Так и вышло. Весь день я себя готовила к этому ненавистному посещению, волновалась, не могла ничем заниматься и когда в открытую форточку услыхала звук рессорного экипажа, со мной сделалось такое ужасное сердцебиение, что я думала, что умру сейчас же. Я побежала смотреть в стеклянную дверь, какое будет их свидание, смотрю – Л. Н. только что задернул занавес. Я бросилась в его комнату, отдернула занавес, взяла бинокль и смотрела – будут ли какие особенные выражения любви и радости. Но Л. Н. знал, что я смотрю, пожал Черткову руку и сделал неподвижное лицо. Потом они о чем-то долго говорили, Чертков нагибался близко, показывая что-то Л. Н. Но я поторопила ванной, послала Илью Васильевича сказать, что ванна готова и может остыть, и Чертков встал, они простились и – расстались. Весь вечер меня трясло ужасно; я не плакала, но мне всякую минуту казалось, что я сейчас вот-вот умру. Лев Ник. несколько раз принимался мучить и дразнить меня, что Чертков ему самый близкий человек, и я наконец заткнула уши и закричала: «Не слушаю больше, двадцать раз уж слышала это, довольно!» Он ушел, а во мне всё стонало и страдало невыносимо! Вот какие бывают муки! Не только знать этого нельзя вперед, но даже ничего подобного не предположишь. Наконец, доведенная до крайнего страданья, я устала и заснула. Каких усилий мне стоило согласиться пустить в дом этого идиота, и как я старалась взять себя в руки! Невозможно, он просто дьявол, я не выношу его никак! Л. Н. стал опять мрачен, мне жаль его, мне страшно за него, но насколько я страдаю больше него! Занималась мало, не гуляла, толклась по дому. Вставляли рамы; день удивительно красивый, ясный, солнечный и тихий. Среди дня Лев Ник. ездил верхом довольно долго и так легко и ловко вскочил на лошадь, что я удивилась. Но к вечеру походка его стала утомленная, сам он вял и, видно, досадует на меня, что я так тяжело вынесла приезд Черткова. С Таней грустно простилась, она завтра едет, и так мне больно, что я и ей, и Саше доставляю беспокойство своим отношением к Черткову, которого так любит отец и так ненавидит мать! И как тут быть? Бог разрешит как-нибудь. Лучше было бы отъезд куда-нибудь Черткова, а потом смерть его или моя. Худшее – смерть Л. Н. Но постараюсь проникнуться молитвой «Да будет воля Твоя!». Я не убьюсь теперь, никуда не уйду, не буду ни студить себя, ни терзать голодом и слезами. Мне настолько плохо и физически, морально, что я быстро иду к смерти без насилия над организмом, который, как я убедилась, ничем не убьешь по своей воле. 8 октября. Встала рано проводить дочь Таню, потом легла, чувствовала себя совсем больной и измученной. Когда встала, вошел ко мне Лев Николаевич, и так как я была уже одета, то пошла за ним. Он был взволнован и, видимо, чем-то очень недоволен. Просил меня выслушать его молча, но я невольно раза два его прервала. Речь его, разумеется, клонила к тому, что я так ревниво и враждебно отношусь к Черткову. С волнением и даже злобой он внушал мне, что я на себя напустила дурь, от которой должна сама стараться избавиться, что у него нет никакой исключительной любви к Черткову, а что есть люди и ближе по всему с Львом Николаевичем, как Леонид Семенов и какой-то совсем неизвестный Николаев, приславший книгу и живущий в Ницце. Это, конечно, неправда. Теперь я сняла с него обещание не видеть Черткова; но вчера он видел, какою ценою мне досталось его свидание с этим противным идиотом, и сегодня он упрекал мне, что он никогда не может быть спокоен, потому что над ним висит постоянно дамоклов меч моего тяжелого отношения к свиданиям с Чертковым. А зачем они? Здоровье Льва Ник., слава богу, восстановилось. Он сегодня обедал с таким аппетитом и так много, что я даже боялась за него. Но всё обошлось, и он ел вечером еще арбуз, пил чай и лег спокойный и участливый ко мне. Как хорошо и спокойно, когда не боишься свиданий с Чертковым и когда мы одни – с делами, работой и дружными отношениями друг к другу! Если б так пожить хоть месяц, я бы выздоровела и успокоилась. А теперь при одной мысли и под страхом, что Лев Ник. поедет к Черткову, – вся моя внутренность начинает болеть, и жизни нет, и счастья нет! Ездил Лев Ник. сегодня верхом с доктором, а я ходила пилить немного ветки елок и дубков. Л. Н. читал книгу Николаева, а я – «Конец века» для издания и корректуру, а потом немного вписала книг в каталог. Их набралось очень много, и это большая еще мне работа. Дела вообще много, а здоровья и спокойствия мало! 9 октября. Тихо, тихо прошел день, слава богу! Ни посещений, ни упреков, ни обостренных разговоров. Но что-то гнетет, все грустные и сонные. Лев Ник. ходил на деревню – в народную библиотеку, интересовался, что больше читают. Оттуда поехал верхом с доктором через Бабурино и Засеку. Я боялась, что он поедет к Чертковым. Вечером он много читал, потом писал дневник, как всегда перед сном, и я смотрела на его серьезное лицо через дверь балкона с любовью и вечным страхом, что он уйдет от меня, как часто грозил последнее время. Дневник он свой с нынешнего года стал от меня запирать. Да, все несчастья мои с его посещения летом Черткова! Убирала книги, скучная работа! Так устала, что спала или, вернее, лежала весь вечер. Прочла небольшую часть книги какого-то неизвестного Николаева в Ницце, и мне очень понравилось: логично, много думано. Таких людей возле Л. Н., к сожаленью, нет. В какой чистоте моральной и физической мы прожили с Львом Ник. жизнь! А теперь вся наша интимная жизнь рассказывается посредством дневников и писем Черткову и Кº, и этот противный человек по письмам и дневникам, которые писались часто ему в угоду, делает свои выводы и соображения, о чем и пишет Льву Ник., например, так: «1 октября 1909 года. Я собираю особо все ваши подобные письма о вашей жизни, чтоб в свое время составить из них объяснение вашего положения в интересах тех, которых действительно соблазняют эти всеобщие толки…» Воображаю, какие объяснения даст этот злой, противный человек и какой подбор он сделает своих обличений семьи! Особенно составляя его в минуты борьбы… 10 октября. Сегодня я немного спокойнее, о Черткове упоминания весь день не было, и Лев Ник. пока к нему еще не ездил. С утра кончала запись книг в каталоги, и приехала невестка Соня Толстая с внучкой Верочкой; я была им очень рада. Л. Н. ходил гулять и утром, и днем, один, пешком, и довольно долго. Приходила мучительная мысль, что он ходил на свидание с Чертковым. Еще мучаюсь любопытством и желанием прочесть дневник Льва Ник. Что-то он там пишет и сочиняет? Занялась немного изданием, распределяла статьи. Трудно очень! Приехали Буланже и Наживин. На людях легче живется, и Лев Ник. оживился. Пасмурно, с утра 2° мороза; потом солнечно, тихо, и к вечеру теплей. С Львом Ник. не очень близки отношения, но как будто он больше меня помнит и мягче ко мне относится. А я вся живу только им. 11 октября. Вчера я не дала Льву Ник. эти выписки из прошлогоднего письма Черткова, а сегодня положила ему на стол со своими комментариями и разоблачением всей фальши духовного общения Черткова. Должен же Лев Николаевич наконец понять свое заблуждение и увидать всю глупость и пошлость этого идиота. Но, разумеется, ему жаль расстаться с мечтой, с идеализацией своего идола, жаль оставить на месте его пустоту. Не спала ночь и очень дурно себя чувствовала весь день. Ушла в елочки, пилила ветки, сидела в изнеможении на лавочке и прислушивалась к тишине. Люблю свою посадочку! В ней еще с Ванечкой гуляли и сиживали. Делами занималась мало, слишком я вся болею и телом и душою. Лев Ник. ездил с Душаном Петровичем верхом, говорил, что хотел проехать ко мне в елочки, но я пришла раньше. Потом принес мне грушу и был очень добр со мной. Я ему говорила, чтоб он поехал к Гале Чертковой, которая, как он говорил, очень беспокоится о том, что Лев Ник. с ними прекратил отношения. Но он ни за что не хотел, говорил, что, может быть, завтра, а теперь, пока он туда не съездит, я буду волноваться. Галя, конечно, есть только предлог, чтоб повидать ее ненавистного мне мужа. Соня, невестка, уехала. Она, бедная, тоже много пережила горя с Ильей, который и увлекался, и разорился, а детей 7 человек! Мы, как две жены и матери, хорошо поговорили и поняли друг друга. Уехал и Наживин. Я ему рассказала всё, что перенесла от Черткова, от мужа и дочерей. Просматривала вечером академическое издание о Пушкине, о его библиотеке. Он сам ее составлял и выбирал книги, а вот наша библиотека в доме совершенно случайная: со всех сторон света присылают книги, разумеется, даром и с надписями, и иногда книги хорошие, а иногда такой хлам! Лев Ник. редко сам покупал книги, всё больше присылали, и образовалась самая бесформенная и безыдейная библиотека. Вернулся Булгаков, хочет завтра ехать в Москву, чтоб выйти из университета, а потом отказаться от солдатчины. Бедный! 12 октября. Понемногу узнаю еще разные гадости, которые делал Чертков. Он уговорил Льва Ник. сделать распоряжение, чтоб после смерти его права авторские не оставались детям, а поступили бы на общую пользу, как последние произведения Л. Н. И когда Лев Ник. хотел сообщить это семье, господин Чертков огорчился и не позволил обратиться к жене и детям. Мерзавец и деспот! Забрал бедного старика в свои грязные руки и заставляет его делать злые поступки! Но если я буду жива, я отмщу ему так, как он этого себе и представить не может. Отнял у меня сердце и любовь мужа; отнял у детей и внуков изо рта кусок хлеба, а у сына в английском банке миллион шальных денег, не то, что у Л. Н. – им заработанных вместе со мной, я во многом ему помогала. Сегодня я сказала Льву Ник., что знаю о его распоряжении[179]. Он имел жалкий и виноватый вид и всё время отмалчивался. Я говорила, что дело это недоброе, что он готовит зло и раздор, что дети без борьбы не уступят своих прав. И мне больно, что над могилой любимого человека поднимется столько зла, упреков, судбищ и всего тяжелого! Да, злой дух орудует руками этого Черткова – недаром Лев Ник. в дневнике своем писал: «Чертков вовлек меня в борьбу. И эта борьба очень и тяжела и противна мне». Узнала я и о нелюбви Льва Ник. теперь ко мне. Он всё забыл, забыл и то, что писал в дневнике своем: «Если она мне откажет, я застрелюсь». А я не только не отказала, но прожила 48 лет с мужем и ни на минуту его не разлюбила. Спешу выпустить издание, пока еще Лев Ник. не сделал ничего крайнего, чего каждую минуту можно от него ожидать по его теперешнему суровому настроению. Он ездил верхом Саше навстречу, но она приехала поздно, и он потом проспал и обедал один в 7 часов. Пишет письмо Тане. Он любит дочерей, ненавидит некоторых и не любит вообще сыновей. Они не подлы, как Чертков. Вечером я показывала Льву Ник. его дневник 1882 года, когда он влюбился в меня и сделал мне предложение. Он как будто удивился, а потом сказал: «Как тяжело!» А мне осталось одно утешенье – мое прошлое! Ему, конечно, тяжело. Он променял всё ясное, чистое, правдивое, счастливое на лживое, скрытное, нечистое, злое и – слабое. Он очень страдает, сваливает всё на меня, готовит мне роль Ксантиппы, что я часто предсказывала. Но что готовит он себе перед совестью, перед Богом и перед детьми своими и внуками? Все мы умрем, испустит также свой дух мой враг, но что почувствуем мы все в наши последние минуты? Прощу ли и я своему врагу? Не могу считать себя виноватой, потому что всем своим существом чувствую, что, отдаляя Льва Николаевича от Черткова, спасаю его именно от врага – дьявола. Молясь, я взываю к Богу, чтоб в дом наш вошло опять Царство Божие. «Да приидет царствие Твое», а не врага… 13 октября. Мысль о самоубийстве назревает вновь, и с большей силой, чем раньше. Теперь она питается в тишине. Сегодня прочла в газетах, что девочка пятнадцати лет отравилась опиумом и легко умерла – заснула. Я посмотрела на свою большую стклянку – но еще не решилась. Жить делается невыносимо. Точно живешь под бомбами, выстреливаемыми господином Чертковым, с тех пор как в июне Лев Ник. побывал у него и совсем подпал под его влияние. «Правда, он деспот», – сказала мне про него мать его. И вот этим деспотизмом порабощен несчастный старик, и это когда еще в молодости он писал в дневнике, что, быв влюблен в приятеля, он, главное, старался ему понравиться и не огорчить его, на что раз потратил в Петербурге 8 месяцев жизни… Так и теперь. Ему надо нравиться духовно этому идиоту и во всем его слушаться. И вот началось с того, что этот деспот отобрал все рукописи Льва Ник. и увез к себе в Англию. Затем отобрал дневники, которые я вернула (пока в банк) ценою жизни. Потом он задерживал у себя, сколько мог, самого Льва Ник. и наговаривал и в глаза и за глаза на меня всякие злые нарекания. Наконец, он убедил и содействовал Л. Н. в том, чтобы тот написал отказ от авторских прав после смерти, и этим вынул последний кусок хлеба изо рта детей и внуков в будущем. Но дети и я, если буду жива, отстоим свои права. Изверг! И что ему за дело вмешиваться в дела нашей семьи? Что-то еще выдумает этот злой фарисей, раньше обманувший меня уверениями, что он самый близкий друг нашей семьи! Ушла с утра ходить по Ясной Поляне. Морозно, ясно и красиво удивительно! А милее мысли о смерти ничего нет. Надо кончать скорей эти муки, а то завтра господин Чертков велит свезти меня, а уж не рукописи, в сумасшедший дом, и Лев Ник., чтоб ему понравиться, по слабости своей старческой, исполнит это, отрежет меня от всего мира; тогда исхода смерти – и того лишишься. А то еще от злости, что я обличила Черткова, он убедит моего мужа уехать с ним куда-нибудь, но тогда исход есть – опий, или пруд, или река в Туле, или сук в Чепыже. Верней и легче – опий. И не увижу уж я тогда ужаса раздоров, пререканий, злобы ссор, судов с врагом нашим над могилой любимого когда-то мужа, и не будет во мне постоянно жить этот упрек и отрава, которые теперь томят мое сердце, мучают меня и заставляют придумывать самые сложные и ужасные средства, чтоб не видеть зла отца и деда многочисленной семьи. Когда я вчера сказала Льву Ник., что, сделав распоряжение об отдаче после смерти всему миру своих авторских прав помимо семьи, он делает дурное, недоброе дело, он всё время упорно и злобно молчал. И вообще он теперь взял такой тон: «Ты больна, я это должен выносить, но я буду молчать, а в душе тебя ненавидеть». Подлое внушение Черткова, что во мне главную роль играет корысть, заразило и Льва Ник. Какая может быть корысть в больной, 66-летней старухе, у которой есть и дом, и земля, и лес, и капитал, и мои «Записки», дневники, письма – всё, что я могу напечатать?! Браня, по внушению Черткова, во всех своих писаниях самым грубым образом правительство, теперь со своими гнусными делами они прячутся за закон и правительство, отдавая дневники в Государственный банк и составляя по закону завещание, которое, надеются, будет утверждено этим самым правительством. В какой-то сказке, я, помню, читала детям, что у разбойников жила злая девочка, у которой любимой забавой было водить перед носом и горлом ее зверей – оленя, лошади, осла – ножом и всякую минуту пугать их, что она этот нож им вонзит. Это самое я испытываю теперь в моей жизни. Этот нож водит мой муж; грозил он мне всем: отдачей прав на сочинения, бегством от меня тайным и всякими злобными угрозами… Мы говорим о погоде, о книгах, о том, что в меду много мертвых пчел, а то, что в душе каждого, то умалчивается, то сжигает постепенно сердце, укорачивает наши жизни, умаляет нашу любовь. Я до того напугана злобой и криками на меня моего мужа, который думает, что от его крика я могу быть здоровее и спокойнее, что я уж боюсь с ним разговаривать. Много гуляла, 4° мороза, ездила в Ясенки на почту. 14 октября. С утра, проснувшись рано, написала мужу письмо. Когда я приотворила дверь к Льву Ник., в его кабинет, он тотчас же мне сказал: «Ты не можешь оставить меня в покое?!» Я ничего не сказала, опять затворила дверь и уже не ходила к нему. Он сам пришел ко мне, но опять упреки, отказ отвечать на мои вопросы, и какая-то ненависть! Приезжала Лодыженская, много я ей наговорила лишнего, но так и просятся наружу стоны моих сердечных страданий. Лев Ник. ездил верхом и заезжал на Засеку спросить, была ли я там, так как я собиралась, и мне это было приятно. Вернулся он усталый, весь потухший, забыл Лодыженских, поздоровался с ней и ушел спать. К обеду приехал Горбунов, Л. Н. встал бодрее, читает «Карамазовых» Достоевского и говорит, что очень плохо: где описания, там хорошо, а где разговоры – очень дурно; везде говорит сам Достоевский, а не отдельные лица рассказа. Их речи не характерны. Очень много занималась делами издания, но слаба, голова болит, засыпаю прямо, падая головой на книги, бумаги и тетради. Вчера вечером писала Андрюше. Прелестная погода: ясно, звездно, морозно и светло; но сегодня не выходила. 15 октября. Утром приехали Стахович, Долгоруков с Серополко осмотреть библиотеку народную, а вечером – сын Сережа. Рассказала всё Стаховичу, он старался всё так объяснить, что как будто ничего и не было и всё просто, не о чем тревожиться. Но меня не успокоишь словами. Вот то, что Лев Ник. не ездит к Черткову – это меня пока успокаивает. Но он слаб и грустен. Поехал сегодня верхом с Душаном Петровичем, лошадь не хотела прыгать через ручей и когда прыгнула, так подбросила Льва Ник., что у него сразу заболело под ложечкой и на весь вечер была изжога. День прошел в разговорах, на людях стало легче жить. Ночью читала корректуры. Наши все ходили в библиотеку с гостями. Всё та же морозная, ясная и сухая погода. 16 октября. Встала спокойная, хотя нездоровая. Утро не спалось, и всё думала, как бы выручить из банка в Туле дневники Льва Николаевича. Вышла к завтраку, и вдруг Лев Ник. объявил, что едет к Черткову. Хитрая Галя посылала за Душаном Петровичем, будто у нее невралгия, и Л. Н.к этому придрался, что надо же ее навестить и надо видеть Черткова по поводу каких-то писем; разумеется, выдуманный предлог. Не сумею выразить, что сделалось со мною! Точно во мне оторвалась вся внутренность. Вот они, угрозы, под которыми я теперь постоянно живу! Я тихо сказала: «Только второй день, как я стала немного поправляться», – и ушла к себе. Потом оделась и вышла пройтись, но вернулась, отозвала мужа и тихо, почти шепотом, ласково ему сказала: «Если можешь, Левочка, погоди еще ездить к Черткову, мне ужасно тяжело!» В первую минуту он не рассердился, сказал, что ничего не обещает, но желает сделать всё лучше, но когда я повторила свою просьбу, чувствуя себя невменяемой от внутреннего страдания, он уже с большей досадой повторил, что не хочет ничего обещать. Тогда я ушла, лазила по каким-то оврагам, где меня трудно бы было когда-либо найти, если б мне сделалось дурно. Потом вышла в поле и оттуда почти бегом направилась в Телятинки, с биноклем, чтобы видеть всё далеко кругом. В Телятинках я легла в канаву недалеко от ворот, ведущих к дому Чертковых, и ждала Льва Ник. Не знаю, что бы я сделала, если б он приехал; я всё себе представляла, что легла бы на мост через канаву и лошадь Льва Ник. меня бы затоптала. Но он, к счастью, не приехал. Видела я молодого Сергеенко и Петра, везшего воду. Под видом какого-то христианского единения Чертков набрал молодых людей, которые ему служат, как и наши люди – нам. В пятом часу я ушла и опять пошла бродить. Стало темно, я пришла в сад и долго лежала на лавке под большой елкой у нижнего пруда. Я безумно страдала при мысли о возобновлении сношений и исключительной любви к Черткову Льва Николаевича. Я так и видела их в своем воображении запертыми в комнате, с их вечными тайными о чем-то разговорами, и страдания от этих представлений тотчас же сворачивали мои мысли к пруду, к холодной воде, в которой я сейчас же, вот сию минуту, могу найти полное и вечное забвение всего и избавление от мук ревности и отчаяния! Но я опять из трусости не убила себя, а побрела, не помню даже какими дорожками, к дому. В дом я не вошла, мне было страшно, и я села на лавку под елкой. Потом я легла на землю и ненадолго задремала. Когда стало совсем темно и я увидела в окнах Льва Ник. свет (значит, он проснулся), меня пошли искать с фонарями. Алексей-дворник меня нашел. Я встала, увидала Варвару Михайловну и совсем ошалела от холода, усталости и пережитых волнений. Пришла домой, вся окоченела от холода; всё притупилось; я, не раздеваясь, села и так и сидела, не обедая, не снимая кофточки, шляпы и калош, как мумия. Вот как без оружия, но метко убивают людей. Оказалось, что Лев Ник., измучив меня и не обещав ничего, к Черткову не поехал, а поехал в Засеку, послав Душана Петровича мне сказать, что не поехал. Но Душан Петрович меня не нашел, я уже ушла в Телятинки. Когда я вечером спросила Л. Н., зачем же он меня измучил, не сказав, когда я его спрашивала, он мне со злобой начал кричать: «Я хочу свободы, а не подчиняться твоим капризам; не хочу быть в 82 года мальчишкой, тряпкой под башмаком жены!» – И много еще тяжелого и оскорбительного говорил он, а я страдала ужасно, слушая его. Потом сказала ему: «Не так ты ставишь вопрос. Не в том дело, не так ты всё толкуешь. Высший подвиг человека есть жертвовать своим счастием, чтоб избавить от страданий близкого человека». Но это ему не нравилось, и он одно кричал: «Все обещания беру назад, ничего не обещаю, что хочу, то буду делать», и т. п. Лишаться общения с Чертковым ему, конечно, невыносимо, и потому он так злится, что я не могу выносить возобновления дружбы личной с этим негодяем. Раза два я входила поздно вечером, выйдя из оцепенения, к Льву Ник. и хотела как-нибудь умиротворить наши с ним отношения. С трудом достигла этого, мы простились, поцеловались и расстались на ночь. Он сказал между прочим, что желает всё сделать, чтоб меня не огорчать и как мне лучше. Что-то будет завтра? Только что началась мирная спокойная жизнь, и опять всё омрачилось, и я еще на более долгий срок ослабею и буду хворать; и опять и Лев Ник. подкосил свои силы и здоровье и не может работать. А всё от какой-то его idee fix, что он хочет быть свободен и безумно желает видаться с Чертковым. 17 октября. День прошел мирно и хорошо. Много занималась изданием и корректурой. В Евангелии для детей, между прочим, Л. Н. пишет о гневе: «Если считаешь, что брат твой поступил дурно, то пойди к нему, выбери такое время и место, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, и тогда скажи ему кротко то, что имеешь против него. Если послушает тебя, то он вместо того, чтобы быть врагом тебе, станет твоим другом. Если же не послушает, то пожалей его и уже не имей с ним дела». Вот это самое я и желаю по отношению Черткова: не иметь нам с ним никакого дела и никаких отношений. Уехал милый Иван Иванович [Горбунов]. Был Якубовский – симпатичный, и еще противный еврей, издатель вегетарианского журнала – Перкер, кажется. Идет настоящий снег зимний. Я так утомлена душевно и физически, что сейчас и мыслей нет, писать не хочется. Мучаюсь любопытством, что пишет в дневнике мой муж. Пишет и Саша дневник. Воображаю, как она, не любя меня и вследствие своего дурного характера, старательно меня обличает и толкует по-своему мои слова и чувства! А впрочем, бог ее знает! Иногда у меня просыпается к ней нежность и жалость. И сейчас же с ее стороны опять резкость какая-нибудь, грубая несправедливость, и хочется куда-нибудь от нее уйти. Отцу она служит довольно усердно. Мне грозит своими дневниками. Бог с ней! Решила не ездить больше никуда: ни в Москву, ни в концерты, никуда. Я так стала дорожить каждой минутой жизни с Львом Ник., так его сильно люблю, как-то вновь, как последнее пламя догорающего костра, что расставаться с ним не буду. Может быть, если я буду нежна с ним, он тоже вновь привяжется ко мне и рад будет не разлучаться со мной. А бог его знает! Он очень изменился к худшему, в нем чаще слышится какая-то досада, чем непосредственная доброта. Помимо моей ревности к Черткову, я окружаю его такой любовью, заботой и лаской, что другой дорожил бы этим. А его избаловало всё человечество, которое судит его по книгам (по словам), а не по жизни и делам. Тем лучше! 18 октября. Встала поздно, вся разломанная, больная и несчастная вечным страхом какой-нибудь неприятности и протеста. Оглянувшись назад на эти четыре месяца страданий моих, я вспоминаю игру кошки с мышью, то есть Льва Николаевича со мной. Каждую минуту ждешь нового отпора, и это вечное ожидание чего-нибудь недоброго, каких-нибудь новых решений с дневниками, рукописями и завещанием делают мою жизнь нервной, тяжелой и невыносимой. А когда сегодня он перед обедом проснулся и был вял и не стал обедать, на меня напало мучительное беспокойство, и я готова была на всякие для него жертвы, на то даже, чтоб он опять видался с Чертковыми, которые теперь мне более чем когда-либо враги, после того как Лев Ник. у них не был три месяца. И точно он очнулся, стал ближе со мной, с Сашей, которая вся отдалась служению отцу, и только ей радости, что интерес к лошадям и ее маленькому именью – Телятинкам. Мало сегодня занималась; большой разлад во мне и физический, и моральный. Стала даже ослабевать в молитве. Наклеивала вечером, после сна, газетные вырезки, писала письма. Погода ужасная; вьюга, снег, к вечеру всё обледенело и 6° мороза. 19 октября. Приезжала Елизавета Владимировна Молоствова, увлекается изучением разных сект и пишет о них. Она умная и чуткая и может многое понять. Рассказывала я ей о своих горестях; она многое порицает в том смысле, что для меня Чертков рядом со мной, женой Льва Ник., представляет такую малую величину, что недостойно думать, что он может занять мое место в отношениях с мужем. Но меня это не убедило, и я продолжаю страшиться возобновления их. Все мы и Лев Ник. порознь гуляли. Вечером он увлекался чтением «Братьев Карамазовых» и сказал: «Сегодня я понял, за что любят Достоевского; у него есть прекрасные мысли». Потом стал его критиковать, говоря опять, что все лица говорят языком Достоевского и длинны их рассуждения. Вчера в ночь я была очень встревожена исчезновением дневника Льва Ник. со стола, где он всегда лежал в запертом портфеле. И когда ночью Лев Ник. проснулся, я взошла к нему и спросила, не отдал ли дневника Черткову. «Дневник у Саши», – сказал Л. Н., и я немного успокоилась, хотя обидно, что не у меня. Очень ясно и морозно; сейчас 8°, звезды и тишина. Все спят. 20 октября. Вчера Молоствова мне говорила, что когда она прошлой осенью была у Чертковых, муж ее, добрый, бесхитростный человек, старого типа барин, ко всем доброжелательный, все-таки не чаял, как поскорей выбраться от Чертковых, такой там чувствуется на всем и на всех тяжелый гнет; и точно все чем-то несчастливы, не удовлетворены и мрачны. Пишу это потому, что сегодня прошел у нас день так безмятежно тихо, радостно и спокойно, как хотелось бы подольше жить. Саша озабочена своими больными лошадьми и писаньем для отца; а еще ходила она на сходку в нашей деревне говорить о потребительской лавке в Ясной Поляне со здешними крестьянами. Лев Ник. занимался своими писаниями, пасьянсами, ездил в Засеку верхом, ко мне заходил несколько раз и участливо ко мне обращался. Приходили к нему крестьяне: Новиков, который пишет статьи, умный мужик, и двое наших молодых крестьян, из которых один просидел два года в тюрьме за революционерство. С утра было морозно, 12°, ясно и тихо, к вечеру стало теплей, но ветер и пасмурно. Всё занимаюсь изданием, наклеивала газетные вырезки. Как жадно, горячо читает Лев Ник. в газетах всё то, что пишут и печатают о нем! Видно, нельзя никогда от этого отрешиться. 21 октября. Сегодня увидала в газете «Искры» мой и Льва Ник. портрет в наш последний свадебный день. Пусть более ста тысяч человек посмотрят на нас вместе, держащихся рука об руку, как прожили всю жизнь. Сегодня долго разговаривала с Сашей. Она не знает совсем жизни и людей и потому многое, многое не понимает. Весь свет для нее сошелся клином в Телятинках, где ее любимый хозяйственный уголок и где рядом тупоумная, скучная атмосфера Чертковых. Продолжаю читать брошюры Льва Ник. для нового издания, и скучны они своим однообразием. Я горячо сочувствую отрицанию войны и всякого насилия, казней и убийств. Но я не понимаю отрицания правительств. Потребность у людей в руководителях, хозяевах, правителях так велика, что без них немыслимо никакое человеческое устройство. Весь вопрос в том, что хозяин должен быть мудр, справедлив и самоотвержен для блага подчиненных. Лев Ник. жалуется на небольшую боль в печени и, верно, оттого вял и грустен. А может быть, грустен и оттого, что не видает Черткова; хотя сегодня даже Саша говорила, что отца ее не огорчает нисколько, что он не видит этого господина, а огорчает его моя ненависть к этому человеку и несвобода его действий, так как возможность их свиданья причиняет мне такие страдания. Каждый день думаю: «Ну вот, еще день прошел, и Лев Ник. к Черткову не поехал». Усердно молюсь о том, чтобы Бог изъял из сердца моего мужа это пристрастие и обратил его ко мне, жене его. Приехал громогласный, но приятный Дунаев. Погода ужасная: 2–4° мороза, вихрь, снег, крупа ледяная бьет в окна, и тоскливо очень. Приехала еще Надя Иванова. Писала в типографию. 22 октября. Опять не спала, мучилась о дневниках в банке и примеривалась мысленно к возможности возобновления отношений Льва Ник. с Чертковым; и как ни стараюсь – не могу примириться с этой мыслью. Теперь хоть непосредственной близости посредством свиданий быть не может, а духовная – она неосязаема и долго не может быть поддерживаема с таким дураком. Когда еще он за границей печатал сочинения Л. Н., то был предлог общения, а теперь не на чем держаться этому духовному общению. Говорила с Дунаевым; то же непонимание, предложение уехать за границу, и одно, с чем я со всеми согласна, – это совет помнить года и близость смерти Л. Н. и делать ему все возможные уступки и поблажки. Но если моя уступка будет ценою моей жизни или, в меньшей мере, моего отъезда из моего дома, будет ли это Льву Ник. легче, чем не видать Черткова? Я еще не могу ручаться за себя, я не знаю, как отнесусь к этому, но чувствую, что вынести близости Л. Н. с Чертковым я уже не могу, не могу никак и никогда. Пришли Булгаков и еще какой-то юноша тоже из несчастных, попавших в сеть Черткова. Еще здесь Надя Иванова. Читала корректуру, мало работала, плохо мне вообще, и физически, и морально. Лев Ник. сегодня бодрее, ел с аппетитом, погулял по саду и как будто отдохнул. Играл в шахматы с этим юношей, игравшим плохо, и потому Льву Ник. не весело было с ним играть и его два раза обыграть. На дворе оттепель и гололед, и езда ни на чем невозможна. 23 октября. Не имея близости Черткова, Лев Ник. как будто стал ближе со мной. Начал иногда со мной разговаривать, и сегодня мне были две радости: радости внимания к моему существованию моего прежнего, милого Левочки. Когда рано утром уезжала Надя Иванова и начались ходьба и движение, Левочка думал, что это я хожу, и обеспокоился обо мне, что мне и сказал. А то днем он ел очень вкусную грушу и принес и мне, поделился со мной. Надолго ли так тихо, хорошо и спокойно, как сегодня? Ездил он с Душаном Петровичем верхом в Засеку, где солдаты гоняли лисицу; утром, как всегда, занимался. Это последнее время он всё писал и всё был недоволен. О социализме начато, и о самоубийстве, и о безумии. Не знаю, над чем он работал сегодня утром. Вечером же напряженно разбирал копеечные книжечки для раздачи и подразделял их на лучшие, средние и худшие; кроме того, какие для более интеллигентных и для менее грамотных. Ходила я с собачками Маркизом и Белкой в Заказ, по следам лошадей, где проехали Лев Ник. и доктор. Скучно осенью! Я не люблю. Прогулка меня скорей расстроила: все мои idee fix всплывали и мучили меня. Оттепель, нет дорог, серо, ветрено. Много занималась чтением для издания. Плохи глаза, утомляюсь скоро, и мучает нецензурность последних произведений Льва Николаевича. 24 октября. Приехала барышня Альмединген, редакторша детских журналов; приехал Гастев, живущий на Кавказе, давнишний толстовец, пришел Булгаков. Мне жаль нашего вчерашнего уединения, не так я чувствую Льва Николаевича. Он утром ошибкой окликнул проходившую Наталью Алексеевну, сначала сказав: «Софья Андреевна», а потом «Соня». Она мне это рассказала, а я и рада, что он хоть как-нибудь относится ко мне. Ездил верхом с Булгаковым слишком долго по такой ужасной, ледяной дороге, приехал усталый в 5 часов. Но вечером был бодр, много говорил о книгах, о слишком однообразном направлении изданий «Посредника». Гастев очень интересно рассказывал о бывшем любимце Льва Ник., сектанте Сютаеве, и Льву Николаевичу приятно было слушать эти рассказы. Ходила гулять с этой барышней, и вдруг на горке перед купальней видим верховых. Это был Лев Ник. с Булгаковым, и я очень обрадовалась, увидав его, так как думала о нем, о том, вернулся ли он домой без меня и не случилось ли чего по этой скользкой дороге. К вечеру дождь проливной и тепло. О Черткове сегодня ничего не слыхала, а каждое утро, до отъезда Л. Н. на его обычную прогулку, со страхом и ужасом жду, что он туда поедет, не могу заниматься, волнуюсь и успокаиваюсь только тогда, когда вижу, что он направляется в другую сторону, и тогда уже на весь день хорошо и спокойно. Разговоров о Черткове тоже у нас не бывает, и всё тихо, хорошо и спокойно. Господи! Надолго ли? Спаси нас Бог! 25 октября. Встала рано, утро провела с барышней Альмединген и читала шесть листов корректур. Ездила в нашу сельскую школу; у молодого неопытного учителя 84 учеников и учениц. Вечером приезжал сын Сережа, играл с отцом в шахматы, а потом на рояле. Приезд Сережи всегда приятен. Читала я барышне свои «Записки» девичьей жизни и свадьбы. Ей как будто понравилось. Сегодня Лев Ник. переписался с Галей Чертковой. Я спросила, о чем. И теперь новая отговорка его, и он злоупотребляет этим, что забыл. Я попросила письмо Гали, он сказал, что не знает, где оно, – и опять неправда. Скажи: «Не хочу показывать». А то последнее время эта вечная ложь, обман, отвиливанье… Как он ослабел нравственно! Какое отсутствие доброты, ясности и правдивости! Грустно, тяжело, мучительно грустно! Опять замкнулось его сердце, и опять что-то зловещее в его глазах. А у меня сердце болезненно ноет; опять не хочется жить, от всего отпадают руки. Злой дух еще царит в доме и в сердце моего мужа. «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!» Кончаю и надолго запечатаю этот ужасный дневник, историю моих тяжелых страданий! Проклятие Черткову, тому, кто мне их причинил! Прости, Господи! 7 ноября. 7 ноября в 6 часов утра Лев Николаевич скончался. 9 ноября. Что было 26-го и 27-го, не записано, а 28 октября 1910 года, в 5 часов утра, Лев Ник. украдкой уехал из дому с Д.П.Маковицким. Предлог его побега был будто бы, что я ночью рылась в его бумагах, а я, хотя на минуту и взошла в его кабинет, но ни одной бумаги не тронула; да и не было никаких бумаг на столе. В письме ко мне (для всего мира) предлог – роскошная жизнь и желание уйти в уединение, жить в избе, как крестьяне. Тогда зачем было выписывать дочь Сашу с ее приживалкой Варварой Михайловной? Узнав от Саши и из письма о побеге Л. Н., я в отчаянии бросилась в пруд. Меня вытащили Саша и Булгаков, увы! Потом я пять дней ничего в рот не брала, а 31 октября в 7 часов утра получила от редакции «Русского слова» телеграмму: «Лев Ник. в Астапове заболел, 40 жара». Сын Андрей и дочь Таня – мы поехали экстренным поездом в Астапово из Тулы. До Льва Ник. меня не допустили, держали силой, запирали двери, истерзали мое сердце. 7 ноября в 6 часов утра Лев Ник. скончался. 9 ноября его хоронили в Ясной Поляне.Приложение
Из предисловия старшего сына Л. Н.Толстого Сергея Львовича к первому изданию «Дневников» его матери, вышедшему в 1928–1936 годах в четырех томах. То, что в других семьях обыкновенно бывает сокрыто от посторонних глаз, – тот сор, который не выметается из избы, – всё это в семье знаменитого писателя Льва Толстого не только стало известно посторонним, но и многократно обсуждалось в печати с самых различных точек зрения. Я говорю о взаимных отношениях моих отца и матери. Дом Толстых был как бы стеклянный: чуть ли не всякий желающий мог видеть, что в нем происходило. О моей матери писали многие, большей частью осуждая ее, в чем особенно повинны В.Г.Чертков («Уход Толстого») в А.Б.Гольденвейзер («Вблизи Толстого»[180]). Да будет услышан и ее голос. Вот почему я считаю необходимым опубликование ее дневников, несмотря на то, что она в них не всегда правдива и беспристрастна и что в них отразилось болезненное состояние последних лет ее жизни. По этой же причине в нижеследующих строках я, стараясь стоять на объективной точке зрения, позволяю себе писать о таких сторонах жизни своей матери, о которых не принято говорить сыну. Как заметил М.А.Цявловский в своем предисловии к дневникам С.А.Толстой, «многое объясняется ее нервным расстройством, признаки которого увидит в ее дневнике и не специалист». Мнения врачей не вполне согласны по вопросу о том, какой именно болезнью страдала моя мать, – была ли это истерия, неврастения, психастения, паранойя или еще что-нибудь. А.Б.Гольденвейзер приводит следующий диагноз доктора Россолимо, приглашенного в Ясную Поляну около 20 июля 1910 года: «Дегенеративная двойная конституция, паранойяльная и истерическая, с преобладанием первой. В данный момент эпизодическое обострение». Первого ноября 1910 года, т. е. три дня спустя после отъезда моего отца из Ясной Поляны, когда моя мать была в отчаянии и отказалась от пищи, доктор психиатр Растегаев дал такой отзыв: «По просьбе Татьяны Львовны считаю своим долгом высказать, что вообще неустойчивая нервно-психическая организация Софьи Андреевны, благодаря возрасту (66 лет) и последним событиям, представляет ряд болезненных явлений, которые требуют продолжительного и серьезного лечения… Каких-либо психопатологических черт, указывающих на наличность душевного заболевания, ни из наблюдений, ни из бесед с С.А. я не заметил». В.Спиридонов в примечаниях к «Автобиографии С.А.Толстой» («Начала», 1921, № 1) справедливо говорит, что С.А. паранойей не страдала, что врачи (т. е. Россолимо) «ошибались в своем диагнозе, так как паранойя – неизлечимая болезнь и сравнительно скоро переходит из подготовительной стадии во вторую, бредовую стадию, характеризующуюся разными проявлениями помешательства, чем С.А. не страдала. Напротив, ее душевное и физическое состояние значительно улучшилось в годы после смерти Л. Н. Но несомненно верен диагноз врачей относительно первой болезни – истерии». Доктор Д.П.Маковицкий, постоянно живший в Ясной Поляне, также находил, что моя мать страдала расстройством нервов, а не душевной болезнью. То же подтвердят многие, знавшие ее. Вероятно, доктор Россолимо был введен в заблуждение потому, что видел ее только один раз во время обострения болезни. Как бы то ни было, нервная система моей матери во вторую половину ее жизни была расшатана, и с течением времени ее болезненное состояние обострялось все более и более. Причинами были: расхождение во взглядах с мужем, женские болезни и критический возраст женщины, смерть обожаемого меньшего сына Ванечки (23 февраля 1895 года), тяжелая операция, которую она перенесла в 1906 году, и в 1910 году – завещание отца. Она страдала некоторыми навязчивыми идеями, которые портили жизнь ей самой и окружающим ее. Такими идеями были: непреклонное убеждение, что ее муж должен получать деньги за свои писания и отдавать эти деньги семье, а не предоставлять издание своих сочинений всякому желающему; боязнь прослыть при жизни и после смерти Ксантиппой, женой, отравлявшей жизнь своему мужу; болезненное пристрастие к музыке и С.И.Танееву, и позднее – в 1910 году – болезненная ненависть к В.Г.Черткову. Я далек от мысли утверждать, что убеждение матери в том, что отец должен был отдавать свой гонорар семье, было лишь следствием болезни. Матерям свойственно заботиться о материальных благах для своих детей, но у нее эта забота проявлялась в болезненных формах – в истерических сценах, угрозах самоубийством и т. п., и она не могла помириться с фактом отказа ее мужа от своих авторских прав (на написанное им после 1881 года). Боязнь показаться в невыгодном свете в глазах потомков выражалась в том, что она всячески старалась узнать, что о ней пишет ее муж, и требовала, чтобы он вычеркнул из своих дневников некоторые места, к ней относящиеся (что он отчасти и сделал). В письме от 12 октября 1895 года (см. запись 10 августа 1903 г.) она его просила не писать о ней дурно в его дневнике; а в ее дневниках постоянно проглядывает желание оправдать себя в отношениях с мужем даже тогда, когда оправдываться было и не в чем. Отношения моей матери к музыке и С.И.Танееву особенно подчеркивают ее ненормальность. Она не была особенно музыкальна, и ее игра на фортепьяно не превышала обычного уровня любителей. Но музыка, особенно в конце девятидесятых годов, играла крупную роль в ее жизни, успокоительно действуя на ее нервы и отвлекая от действительной жизни. А действие музыки, когда она слушала игру Танеева, она перенесла на него. В.А.Жданов в своей книге «Любовь в жизни Л.Толстого»[181] говорит, что отношения ее с Танеевым не были «теми отношениями, которые могли бы поставить вопрос о достоинстве замужней женщины». Но исключительное пристрастие женщины в возрасте между 50 и 60 годами к человеку, к ней довольно равнодушному, постоянное желание видеться с ним и слышать его игру, нельзя не назвать ненормальностью. Она сама это сознавала. Седьмого марта 1903 года она записала: «Меня охватывает злая таинственность моего внутреннего состояния, хочется плакать, хочется видеть того человека, который составляет теперь центральную точку моего безумия, постыдного, несвоевременного, но да не поднимется ничья рука на меня, потому что я мучительно исстрадалась». Истеричность матери развивалась постепенно. До 1910 года отец и мы – ее дети – приписывали ее ненормальное состояние ее темпераменту или переходному периоду жизни женщины. Лишь 1910 год открыл нам глаза. До этого года отец, как это видно из его писем и дневников, считал ее более или менее здоровой и, следовательно, вменяемой. Только иногда он как будто догадывался о ее ненормальности. Это видно по некоторым записям его дневника. Так он записал 6 февраля 1898 года «С[оня] уехала в Петербург. Она всё так же неустойчива». 26 июня 1899 года он записал «С[оня] уедет нынче к сыновьям. Она была тяжело больна и теперь еще слаба. Все продолжается критическое время. Часто очень нежно жалко ее. Так было нынче, когда она прощалась». 14 мая 1898 года он писал ей: «Сережа был у нас и всё рассказал, и всё у вас очень хорошо. Только твои бессонницы и трупный запах мучают меня». В то время моя мать жаловалась на галлюцинации трупного запаха. Несмотря на неустойчивость нервной системы, моя мать в девятидесятых и девятисотых годах вела очень деятельный образ жизни. Это видно и по ее дневнику. Она заведовала хозяйством в Ясной Поляне, изданием сочинений Л. Н.Толстого и денежными делами своими и семейными; она принимала гостей и посетителей, много ездила к своим детям и знакомым, посещала вечера и концерты и кроме того находила еще время для занятий то музыкой, то фотографией, то шитьем. События, происшедшие после 28 октября 1910 года – отъезд отца из Ясной Поляны, его болезнь, во время которой моя мать не могла с ним быть, и его смерть в Астапове, – нанесли ей страшный удар. Она была глубоко несчастна, и, хотя после смерти мужа ее навязчивые идеи потеряли свою остроту, ее нервная система все же оставалась неуравновешенной. Знавшие ее в эту пору помнят ее жалобы на невралгические боли в разных частях тела, ее трясущуюся голову, ее бесконечные разговоры на одни и те же темы, ее жалобы на свою судьбу всем и каждому и ее безотрадное настроение. Нервная болезнь матери отравляла жизнь ей самой и отцу. Но, разумеется, не болезнь была причиной разлада между моими родителями, тяжело переживаемого обоими ими. Отец страдал от того, что внешние условия его жизни противоречили его убеждениям, изменить же эти условия путем разрыва с семьей он не считал себя вправе… Несмотря на то, что дневники последних лет жизни С.А.Толстой приходится признать дневниками истерической женщины, они не теряют своего значения как материал для биографии Л. Н.Толстого, не говоря уже об их интересе в бытовом отношении. Из них лучше, чем из других записей, видно, как тяжело отразилось на обоих моих родителях расхождение во взглядах, и что кажущееся противоречие между верой и образом жизни отца было вынуждено его семейной обстановкой. В спокойную минуту, уже в 1912 году, моя мать записала: «К сожалению, он всё ждал от меня – бедный милый муж мой – того духовного единения, которое было почти невозможно при моей материальной жизни и заботах, от которых уйти было невозможно и некуда. Я не сумела бы разделять его духовную жизнь только на словах, а провести ее в жизнь, сломить ее, волоча за собой целую большую семью, было немыслимо, да и непосильно».Иллюстрации
 Софья Андреевна Толстая
Софья Андреевна Толстая
 Граф Толстой перед женитьбой, 1862 год
Граф Толстой перед женитьбой, 1862 год
 Софья Берс в год свадьбы, 1862 год
Софья Берс в год свадьбы, 1862 год
 Дети Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Слева направо: Сергей, Лев, Татьяна, Илья, 1870 год
Дети Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Слева направо: Сергей, Лев, Татьяна, Илья, 1870 год
 Слева направо: Татьяна и Лев (стоят). В центре – Лев Николевич с Андреем и Михаилом, Сергей и Софья Андреевна с Алексеем на коленях. На земле сидят Илья и Мария. 1884 год
Слева направо: Татьяна и Лев (стоят). В центре – Лев Николевич с Андреем и Михаилом, Сергей и Софья Андреевна с Алексеем на коленях. На земле сидят Илья и Мария. 1884 год
 Дочь Мария, 1878 год
Дочь Мария, 1878 год
 Лев Николаевич с семьей в Ясной Поляне, 1892 год
Лев Николаевич с семьей в Ясной Поляне, 1892 год
 Ванечка, любимый сын, 1894 год
Ванечка, любимый сын, 1894 год
 Дочери Льва Николаевича и Софьи Андреевны:
Дочери Льва Николаевича и Софьи Андреевны:
 Татьяна, Мария и Александра, 1892 год
1895 год
Татьяна, Мария и Александра, 1892 год
1895 год
 Три Льва: Лев Николаевич с сыном Львом и внуком Львом,
1899 год
Три Льва: Лев Николаевич с сыном Львом и внуком Львом,
1899 год
 Мария Львовна Толстая с мужем Н.Л.Оболенским
Мария Львовна Толстая с мужем Н.Л.Оболенским
 Сыновья Льва Николаевича и Софьи Андреевны: Сергей, Илья, Лев, Андрей и Михаил, 1903 год
Сыновья Льва Николаевича и Софьи Андреевны: Сергей, Илья, Лев, Андрей и Михаил, 1903 год
 Софья Андреевна с дочерьми: Александрой, Татьяной и Марией, 1903 год
Софья Андреевна с дочерьми: Александрой, Татьяной и Марией, 1903 год
 С дочерью Татьяной во время болезни, 1902 год
С дочерью Татьяной во время болезни, 1902 год
 С дочерью Александрой, 1908 год
С дочерью Александрой, 1908 год

 Толстой в кругу семьи; слева – его сестра Мария Николаевна.
Ясная Поляна, 1908 год
Толстой в кругу семьи; слева – его сестра Мария Николаевна.
Ясная Поляна, 1908 год
 С доктором Душаном Маковицким
С доктором Душаном Маковицким
 С Владимиром Григорьевичем Чертковым
С Владимиром Григорьевичем Чертковым
 Александр Борисович
Гольденвейзер
Александр Борисович
Гольденвейзер
 Сергей Иванович
Танеев
Сергей Иванович
Танеев
 Дом в Ясной Поляне
Дом в Ясной Поляне

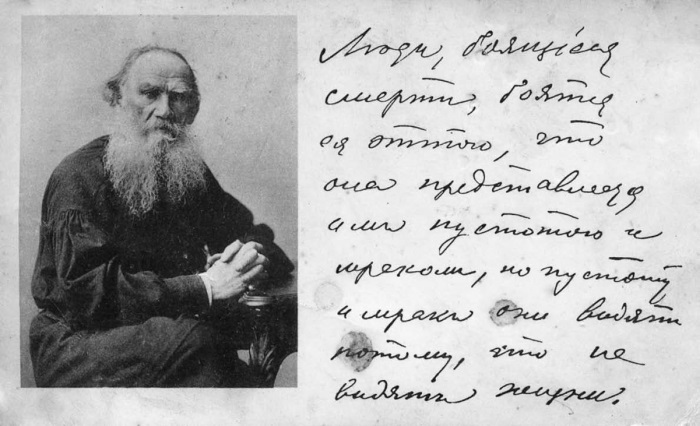 Популярные в то время открытки с изречениями Толстого
Популярные в то время открытки с изречениями Толстого
 С внучкой Татьяной Сухотиной, 1910 год
С внучкой Татьяной Сухотиной, 1910 год

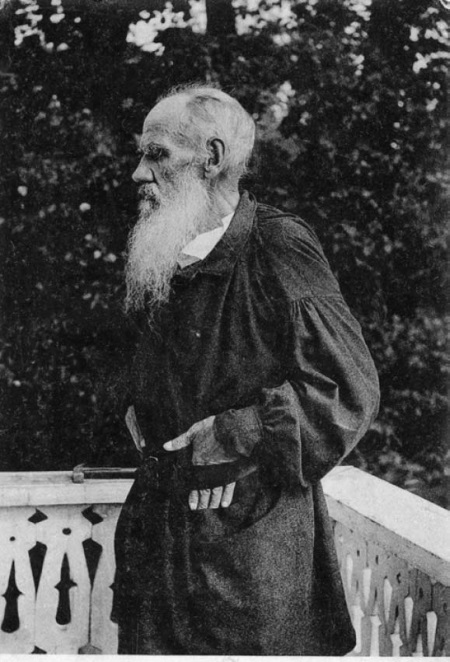 Последний год
Последний год

Последние комментарии
7 минут 37 секунд назад
26 минут 31 секунд назад
1 час 7 минут назад
9 часов 36 минут назад
9 часов 49 минут назад
10 часов 23 минут назад