История Французской революции. Том 1 [Луи-Адольф Тьер] (fb2) читать онлайн
- История Французской революции. Том 1 [litres] 10.23 Мб, 878с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Луи-Адольф Тьер
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Тьер Луи-Адольф История Французской революции. Том 1
Предисловие автора
Приступая к составлению истории достопамятного переворота, глубоко взволновавшего людей и ныне еще разделяющего их, не скрываю от себя трудностей этого предприятия, тем более что страсти, как будто придавленные военным деспотизмом, недавно вновь проснулись. Люди, удрученные трудами и годами, вдруг почувствовали в себе пробуждение гневных чувств, давно, казалось, замерших, и сообщили эти чувства нам, своим детям и наследникам. Но если нам надлежит стоять за то же дело, то мы не обязаны защищать их поступки и можем отделить свободу от тех, кто худо ли, хорошо ли служил ей; в то же время мы имеем то преимущество, что можем слушать и наблюдать этих старцев, которые, передавая нам свои живые воспоминания, свои не позабытые еще бурные впечатления, раскрывают перед нами дух и характер тогдашних партий и научают нас понимать их. Быть может, та минута, когда действующие лица известного периода близки к смерти, – самая выгодная для историка: он может записать их показания, не разделяя их страстей. Как бы то ни было, я старался укротить в своей душе всякое чувство ненависти. Я представлял себе, как, рожденный под соломенной крышей и воодушевляемый запойным честолюбием, добиваюсь того, в чем гордыня высших сословий несправедливо мне отказывает, или как мне, воспитанному во дворце, наследнику древних привилегий, больно отказываться от того, что я считаю своей законной собственностью. Таким образом я учился не впадать в раздражение. Я сочувствовал воюющим и находил отраду в поклонении великим душам.
Краткий обзор истории Франции до Людовика XVI
Франция до и во время римского владычества
Народы, населявшие Францию в самые отдаленные века ее истории, известны нам почти только по рассказам их завоевателей, римлян. Народы эти без сомнения происходили от смешения других, древнейших завоевателей с побежденными племенами. Цезарь изображает их воинственными, всегда вооруженными и готовыми решить всякий спор дракой, легкомысленными, несколько склонными к праздности, но гостеприимными, великодушными, доверчивыми и искренними. Они были до того проникнуты правом сильнейшего (как будто сила есть право!), что присваивали себе полную власть над жизнью своих жен и детей. Жрецы их, друиды, единственные хранители учености, обеспечивали всеобщее послушание, влияя на склонность людей к суевериям. Они основывали свое владычество на страхе, который внушали проклятиями; они были избавлены от тягот государственного управления, но пользовались всеми богатствами, доступными правителям. У этих народов, как и у многих варваров, человеческие жертвоприношения были обычны. В то же время они – предположительно – верили в загробную жизнь и в верховное существо; но вероятнее всего, друиды поддерживали лишь суеверия грубого политеизма или даже фетишизма. Поэты (барды) пели воинственные песни, ободрявшие воинов, и увековечивали имена героев. Эти народы, которых римляне называли галлами, но сами себя именовавшие кельтами, имели по большей части аристократический образ правления. Военачальники и воины составляли дворянство, благородное сословие, и пользовались богатством и властью; остальным предоставлялись нужда и рабство. Галлия представляла собой нечто вроде конфедерации: каждым отдельным народом управлял король, выбираемый знатью. Эти короли далеко не обладали неограниченной властью. Один из них говорил Цезарю: «Республика имеет не менее власти надо мною, нежели я над нею». Римская дисциплина вкупе с гением и удачей Цезаря в десять лет восторжествовали над храбростью галлов. Завоеватель из политических расчетов посеял раздор между соседними племенами: он умел приобретать союзников и победил одних галлов с помощью других. Галлы отличались пылкостью в нападении, но легко унывали от неудач; дело, довершенное силой, давно было начато колонизацией: галлы обратились к римлянам, и им дали новые искусства, новые нравы; их окончательно побороли цивилизацией. Римская муниципальная система и развитое земледелие вскоре привели Галлию в цветущее состояние – и тогда деспотизм начал ее грабить. Так продолжалось четыре столетия, в конце которых народ оказался в крайней бедности, пожираемый проконсулами, раздираемый крамолами, беспрестанно переходя от открытого восстания под власть недолговечных тиранов. Тем временем христианство водворялось в империи, уже терзаемой набегами варварских племен. Это была вера недовольных, угнетенных, и Евангелие – закон человеколюбия, равенства, утешения несчастных – распространилось в Галлии. В 325 году император Константин разрешил открытое исповедание христианской религии и публичное отправление ее обрядов. Епископы пользовались популярностью, и деспотизм обласкал их, чтобы через них обеспечить покорность народа. Церковная власть не замедлила постепенно освободиться из-под гражданской власти, и римский епископ, впоследствии получивший титул первосвященника, тогда уже пользовался некоторым духовным верховенством и влиянием в светских делах. Римская цивилизация, искусство и литература пребывали в упадке; империя, разъединенная и ослабленная, разваливалась; дисциплина распустилась; обаяние римского имени пропало; мрак невежества и варварства ложился на прекрасные области, жившие так счастливо под управлением Траяна, Антония, Марка Аврелия, императоров-философов.Водворение во Франции германских и готских племен
Варварские племена севера Европы, привлекаемые хорошим климатом и богатством империи, уже не раз учиняли набеги на разные области, но их всё еще изгоняли – то силой, то трактатами, а то и откупались от них подарками. Последнее средство было никуда не годным, но дряхлый римский деспотизм часто прибегал к нему. Выродившийся Рим дошел до того, что защищался против одних врагов оружием других: для охраны границ империи стали нанимать легионы варваров. Одному из племен германцев, франкам, долгое время была поручена защита берегов Рейна. Понятно, что эти варвары, научившись у римлян военному искусству, обратили его к собственной пользе. Они рассудили, что гораздо приятнее владеть империей, нежели охранять ее, и надеялись, пользуясь наполнявшими ее смутами и беспорядками, прочно в ней обосноваться. Вестготское племя поселилось в Испании и на юге Франции, бургунды – в восточной части Франции, а франки – в нынешней Бельгии. Франки чаще других сталкивались с римлянами. Они шли на войну несколькими коленами, и во главе каждого колена стоял выборный глава. Монахи, писавшие летописи о тех временах, сохранили имена нескольких из этих франкских вождей, которых почтенные монархические историки произвели в первые французские короли: Фарамунд, Хлод, Меровей, Хильдерик являлись такими более или менее могущественными вождями. Аэций (420 год), полководец Валентиниана III, несколько раз побеждал Хлода и ненадолго восстановил римское владычество в Галлии, кроме Арморики (нынешней Бретани), которая объявила себя независимой. Примерно в это время (в 451 году) татарская орда, предводительствуемая Аттилой, прозванным «бичом Божьим», налетела на Галлию. Аэций примирился с другими врагами империи, соединил свою армию с армией вестготов и победил Аттилу в шалонских равнинах, в Шампаньи. Если бы не эта великая победа, раса галлов была бы ныне смешана с расой гуннов. В то время (в 459 году) сын Меровея Хильдерик предводительствовал франками, проживавшими близ Турне, и они его низложили за то, что он обольщал девушек. Факт этот замечателен как доказательство того, что франки при случае низлагали своих королей. На его место избрали начальника римской милиции Эгидия. Эгидий же, на которого некий римский патриций, его личный враг, натравил вестготов, заключил союз с Хильдериком и вместе с ним победил вестготов при Орлеане (463 год). Хильдерик между тем опять попал в милость к своим франкам, потому что был хорошим воином. Он постоянно жил в Турне и недалеко проник в Галлию. Когда в 480 году он умер, во главе племени франков, названного салическим, остался его шестнадцатилетний сын. Я упомянул не обо всех событиях, которые представляет история Галлии того времени: не дозволяет место, к тому же они малоинтересны, заключаясь главным образом в бесконечных сражениях и союзах между римлянами и франками, вестготами и прочими варварами; а также в деяниях честолюбивых полководцев, воспитанных на интригах императорского двора, низвергавших своих бессильных государей и нередко призывавших варваров, когда это потворствовало их личным расчетам. В то время империя только развалилась: саксы заняли Анжу и Мен, бургунды – Секванию (Безансон), вестготы – юг до Луары, алеманны и франки оспаривали друг у друга север, римляне и галлы сохранили остальное, а Арморика осталась независимой.Завоевания франков при Хлодвиге – Гражданское устройство народов, населявших Францию
Сына Хильд ерика звали Хл од вигом. Его владения были не обширны и граничили с разными франкскими территориями. Он был честолюбив и имел все таланты завоевателя. Вступив в союз с одним из франкских племен, он сначала побил Сиагрия, управлявшего римлянами Северной Галлии (Суассона), а добившись его выдачи, обезглавил его. Затем он вступил в союз с рипуарскими франками[1] и еще более увеличил свое могущество и влияние в Галлии, женившись в 493 году на Клотильде, дочери короля бургундов. Она была христианкой, и Хлодвиг этим браком фактически вызывался стать покровителем христиан, составлявших большинство населения Галлии. Они ему скоро понадобились. Явились опасные соперники – алеманны, сброд, орды грабителей-германцев. Соединившись с рипуарами, Хлодвиг дал им сражение при Цюльпихе, близ Кельна, и победил (496 год). Летописец Григорий оставил об этой битве восторженный рассказ весьма сомнительной правдивости. Всего вероятнее, что, пока исход сражения был еще неверен, Хлодвиг громогласно дал обет принять христианство, чтоб воодушевить многочисленных воинов-христиан, служивших в его войске. Как бы то ни было, вскоре после того он принял в Реймсе крещение с частью своих франков. Римляне время от времени награждали варварских князей разными почетными титулами, чтоб склонить их на свою сторону при помощи тщеславия. Хлодвиг получил титул магистра римской милиции и после поражения Сиагрия действительно сделался таковым. Обращение в христианство привело к нему всех римлян, исповедовавших эту веру. Армориканцы не замедлили вступить с Хлодвигом, который долго воевал против них и в 494 году взял Париж, один из союзных городов, в переговоры. Ему оставалось победить только вестготов и бургундов; он начал с последних. Клотильда сама подстрекала его на это, желая отмстить дяде, Гундобальду, убийце ее отца. Хлодвиг, никогда не пускавшийся в предприятие без союзника, предложил поделиться трудами и плодами этой войны могущественному Теодориху, который царствовал над готами и старался восстановить римскую цивилизацию в Италии. Хлодвиг победил без него (в 500 году), однако Теодорих потребовал и получил свою долю. Поражению Гундобальда в большой степени содействовало то, что христиане отступились от него: он слишком поздно понял, что надо было делать уступки преобладавшему мнению. Гундобальд принял христианство, и Хлодвиг возвратил ему престол, обязав лишь платить дань. Вероятно, это Теодорих, боявшийся слишком скорого усиления Хлодвига, принудил его к такому умеренному поступку. Он же задержал и покорение вестготов. Однако узнав, что их король, Аларих, чем-то прогневал своих подданных, Хлодвиг соединился с Гундобальдом и в 505 году побил Алариха при Вулье, близ Пуатье. В результате этой победы был покорен весь юг Галлии, которую впоследствии и назвали в честь ее завоевателей – Францией. Хлодвиг триумфально возвратился в Тур, где получил от Анастасия, константинопольского императора, звание римского консула и августа. Впрочем, эти почести мало могли прибавить к его могуществу. Хлодвиг поселился в Париже, тогда еще называемом Лютецией и бывшем постоянным местом пребывания цезаря Юлиана в период управления Галлией. Чтобы избавиться от соперников, он разными способами умертвил королей нескольких франкских племен и заставил избрать вместо них себя. Хлодвиг умер в Париже в 511 году. Посмотрим теперь, каково было положение народов, в ту пору населявших Францию. Франки были или свободными, или рабами; но рабство у них не имело такого жесткого характера, как у римлян. Франками управлял салический закон (или закон рипуаров), составленный Хлодвигом для своего племени. Свободные люди каждый год собирались на Марсовом поле и составляли законы. Королей они избирали, но обыкновенно призывали старшего сына того короля, которого надо было заместить. Бургунды, подчинявшиеся законам Гундобальда, сохранились отдельной нацией до королей второй династии; их нравы были свирепее, чем у других франков. Вестготы по большей части ушли в Испанию. Римляне, или галлы, сохранили свое гражданское устройство, насколько это дозволяли преимущества, присвоенные себе завоевателями. К этому народу принадлежали духовные лица, и по милости этого обстоятельства он пользовался несколько большим влиянием, ибо одна только религия была в состоянии обуздать грубую силу. К несчастью, уже тогда начинали применять ее во зло, хотя она еще сохраняла остаток своей первобытной чистоты, а наивная вера варваров делала ее могучим и спасительным орудием примирения. Епископов уважали, потому что нравы их были чисты; они с пользой становились посредниками между победителями и побежденными. Когда франк вступал в духовное звание, ему отрезали длинные волосы – отличительный признак его свободных соотечественников, – и он как бы становился римлянином. Правда, за убийство римлянина платили меньше, нежели за убийство франка, но так и должно было быть у народа-завоевателя, наказывавшего всякое убийство лишь денежной пеней. Впрочем, римляне судились между собой с помощью собственных судов, а для решения спорного дела между римлянином и франком учреждался суд, состоявший наполовину из римлян, наполовину из франков. Латынь получила значительное преобладание: франки на ней составляли свои публичные акты. Наконец, франки роднились с римлянами через браки. Достаточно бегло ознакомиться с историей тех времен, в которой не упоминается ни одно восстание галлов против франков и из которой ясно видно, как епископы своим влиянием старались сохранять некоторое равенство и согласие между обоими народами, чтобы опровергнуть мнение о том, что галлы будто были обращены в рабство. Впрочем, вопрос этот для нынешнего француза лишен всякого интереса. Слияние давно совершилось, а когда именно и каким путем – ни для кого уже не важно.Преемники Хлодвига – Начало феодальной системы
Рассеянные по всей Галлии завоеватели не собрались, чтобы выбрать Хлодвигу преемника, и его четыре сына разделили владения между собой. Такие дележи потом часто повторялись, отсюда происходит большая путаница в истории тех времен. Нет надобности утруждать память именами малоизвестных королей, живших в Орлеане, Суассоне, Меце или Париже, равно как и беспрестанными войнами, возникавшими между ними из-за наследств. Летописи того времени исполнены одними бесчеловечными убийствами и бесславными драками; мы не видим ни одного царствования, ознаменованного важными переменами или обширными политическими комбинациями. В результате двух войн франки покорили бургундов, потом прогнали из альпийских областей готов. Император Юстиниан около того времени (в 537 году) формально уступил франкским королям права Римской империи на Галлию. Клотарь I, бывший сначала только суассонским королем, умирая, владел всей монархией своего отца Хлодвига. Дети его разделили ее между собой, оставив общим достоянием только Париж. Королевы Фредегонда и Брунгильда постоянно возбуждали между ними войны. Первая отличалась необыкновенной даровитостью, отвагой и коварством. Она самолично выиграла несколько сражений. Если верить летописям, исполненным противоречий и лжи, Брунгильда погибла ужасной смертью. Дагоберт, внук Фредегонды, был королем распутным и расточительным и душил Францию налогами, чтобы обогащать своих наложниц и основывать монастыри. Монахи сделали из него святого, но такие деяния, как избиение по его приказанию пятнадцати тысяч болгар, бежавших в его владения и получивших разрешение в них перезимовать, не говорят в пользу его святости. Хотя этот исторический период представляет мало интересного, но именно в нем следует искать начала феодальной системы, столь долго угнетавшей и пожиравшей Францию. Какие земли достались франкам после завоевания или были даны им королями? Вот вопрос, насчет которого историки никак не могут сойтись во мнениях. Что это были за так называемые салические земли, которые получали с условием отправлять военную повинность и не могли передавать в наследство женщинам? Откуда взялся салический закон, отстраняющий женщин от престолонаследия? Как бы там ни было, верно то, что короли по примеру римлян стали предоставлять земли, или военные бенефиции, сначала на какой-то срок, потом пожизненно. Вельможи, ленники или феоды, наиболее близкие к королям люди, сражавшиеся подле них, составлявшие королевский совет и присягавшие королям, впоследствии стали передавать дарованные им земли по наследству. Каждый из них учредил свою сеньорию, заимствуя это название из муниципальной иерархии римлян; этим словом франки обозначали верховенство данной земли над соседними землями. Тут-то и начинается феодализм – бессмысленный вид владычества земли и землевладельца над обывателем. Ленные владельцы (сеньоры) по необходимости вынуждены были становиться мелкими тиранами. С первых же пор они забрали в свои руки гражданское и политическое правосудие на своей земле и пользовались им, чтоб налагать пени и конфисковать в свою пользу имущество. Сначала ленов было немного; потом они покрыли собой всю Европу. Епископы и монахи также превращались в ленных владельцев, а военные вожди заставляли избирать себя епископами. Короли, духовенство и светская знать грабили народ сообща, но духовенство получало от этого наибольшие выгоды. Полное невежество и чудовищные суеверия держали умы в покорности, и духовенство имело возможность наживать таким образом несметные богатства. Когда какой-нибудь король совершал убийство, он мог купить отпущение, основывая монастырь. И когда от какого-нибудь короля хотели избавиться, его запирали в монастырь, постригали в монахи. С другой стороны, короли часто присваивали себе право назначать епископов, тогда как их должен был избирать народ. Если светский человек, едучи верхом, встречал духовное лицо, он должен был слезть с лошади, чтобы поклониться. Такие черты достаточно характеризуют время. Из них ясно видно, что феодализм, варварство и могущество духовенства росли и крепли вместе.Майордомы – Карл Мартелл – Лены
Важные придворные должности были заимствованы варварскими королями у византийских императоров. Последние короли меровингской династии пользовались уже только тенью власти: ими управляли их же честолюбивые и могущественные вельможи. Главным над всеми придворными чинами был майордом. Система наследственности, захватившая всё, утвердилась и в этой должности, так что фактически начиналась новая династия. Номинальные короли почти не выходили из своих дворцов, где проводили жизнь в полном бездействии. Когда этого требовали честолюбивые расчеты майордо-мов, многие из королей расплачивались жизнью за печальное отличие, доставшееся им по рождению. Майордом Пипин, человек очень ловкий, к 690 году собрал под своей властью всю Францию. Он снова ввел в употребление народные собрания на Марсовом поле. Сын его Карл был одним из величайших воинов своего времени и за это был прозван Мартеллом, то есть молотом. Он постоянно держал военное сословие под оружием и стал его кумиром. Сарацины, незадолго перед тем завоевавшие Испанию, вторглись во Францию и заняли всю ее южную половину. Карл Мартелл победил их при Пуатье в достопамятной битве 732 года и отбросил за Пиренеи. Однако эта победа, быть может, замедлила развитие цивилизации во Франции, потому что сарацины были сведущи во многих искусствах и просвещены; Испания долго процветала под их влиянием. Примечательно в царствовании Карла то обстоятельство, что он, желая награждать своих военачальников и иметь средства, необходимые для ведения этих беспрерывных войн, отобрал имения у церкви, уже владевшей почти всей Францией. (Монахи-историки предали его анафеме.) Карл раздавал множество земель с обязательством нести военную повинность и присягать ему в верности, так что первые крупные феодалы обогатились имениями, отобранными у духовенства.Пипин Короткий, первый король династии Каролингов – Духовенство – Политические порядки
Карл Мартелл не стал надевать на себя корону; сын его Пипин счел это необходимым для своих политических расчетов. Коронование он устроил с большой ловкостью. Сделавшись популярным, он расположил к себе войско, но обласкал также и духовенство, которому возвратил часть отобранных имений. Он отправил папе римскому посланника с просьбой разрешить следующий вопрос совести: «Должен ли королевский титул принадлежать лицу, неспособному царствовать, когда королевская власть уже находится в руках человека, с толком пользующегося ею?» Захария ответил, что имеющий королевскую власть должен принять и королевский титул. Законного короля постригли в монахи (шел 750 год) – и дело свершилось. Пипин I пожелал освятить свое восшествие на престол церковным обрядом и принял помазание от прелата. Царствование Пипина было славным. Он окончательно прогнал сарацин с юга и приобрел большую власть в Германии. Все важные дела и новые законы он отдавал на обсуждение народным собраниям, придерживавшимся основного принципа: закон создается с согласия народа и издается королем. Духовенство усердно превозносило короля. Папа величал его новым Моисеем и новым Давидом. Вероятно, в благодарность за покорность, оказываемую ему духовенством, Пипин решился ввести его в народные собрания на правах особого сословия. Это факт весьма важный и достойный отдельного упоминания.Карл Великий – Временное восстановление Западной Римской империи
Человек, одаренный необыкновенно деятельным духом и обладающий огромными средствами, может основать новый политический строй, но творение его будет прочно лишь настолько, насколько народы будут расположены поддерживать его и насколько его замыслы будут выражать общие потребности. Пипин в 768 году разделил королевство между своими двумя сыновьями. Один из них скоро умер; другой, Карл, получивший позже прозвище Великий, один царствовал после него. Король Лангобардский, владевший всем севером Италии, в то время был могущественным государем. Он предложил Карлу Великому свою дочь, и Карл согласился жениться, разведясь для этого со своей первой женой против желания папы. Скоро, однако, он развелся и с лангобардкой, принял сторону римлян против ее отца и сверг его с престола в 774 году, захватив его столицу, Павию. Папа Адриан возложил на Карла Железную корону лангобардов. Сделавшись римским королем, Карл захотел покорить саксов, народ бедный и храбрый, единственная вина которого заключалась в ненависти ко всякой зависимости. Ему понадобилось на покорение тридцать три года; так как сил оказалось недостаточно, он послал к саксам миссионеров и обращал их в христианство, чтоб потом притеснять с большим удобством. Он изничтожал их тысячами и переселил в другие части своих владений целые колена этих несчастных. Вождь их Видукинд явил чудеса упорства и мужества. Можно смело утверждать, что декреты Карла Великого против саксов писаны кровью. В то же время король лангобардов старался забраться и в Испанию, но его предприятия против сарацин оказались не так удачны. Тем не менее Карл Великий преуспел в замысле гораздо более обширном. В начале IX века (800 год) он возложил на себя в Риме императорскую корону. Папа Лев III содействовал осуществлению этой идеи, и римский народ кричал: «Да здравствует Карл, августейший и миролюбивый император Римский, венчанный рукою Божьей!» Любопытно, что мысль восстановить империю цезарей возымел преемник тех самых варваров, которые способствовали ее падению. Желая возродить цивилизацию, Карл учредил училища, в которых преподавались грамматика, арифметика и церковное пение. Училища эти могли располагаться только в монастырях и епископских дворцах, так как грамоте были обучены только духовные лица. Ко двору пригласили английского монаха по имени Алкуин, чтобы основать литературный институт. Карл, не выпуская из рук оружия, не забывал ни о чем и сам учился грамоте. Зиму и весну он проводил в Аахене и там созывал свои сеймы, на которых дворяне, епископы и некоторое количество свободных людей, допущенных из милости, обсуждали указы, которые он потом издавал в виде законов. Соответствовали ли законы Карла общей пользе? Вероятно, в той степени, в какой это позволял век. Восхваляющие Карла историки уверяют, что он не позволял дворянству притеснять духовенство и народ, постоянно занимая его войной. Его указы были, несомненно, полезны в ту пору, когда все народы, составлявшие его империю, придерживались разных законов. Карл Великий любил искусства и ремесла; он имел понятия о порядке и единстве, без которых нельзя ничего создать. Он был неутомим и всегда появлялся там, где требовалось его присутствие. Никто больше него не был способен к постоянной борьбе против варварства, но он не мог восстановить ни Римскую империю, ни римскую цивилизацию, поскольку являлся фактически единственным римлянином своего времени, а народы еще не созрели для новой цивилизации, которая родится только несколько веков спустя. В течение своего долгого царствования Карл Великий вел переговоры с константинопольским двором, принимал дружеское посольство от халифа Гарун-Аль-Рашида, председательствовал на соборах. Чтобы уменьшить влияние епископов, он их освободил от военной службы, но учредил в их пользу десятинный сбор. Он занимался преобразованием церковных порядков и по возможности обуздывал жадность духовенства. Он позаботился о том, чтобы право убежища, которым пользовались монастыри, не обратилось в безнаказанность. Он издал законы против роскоши, о хождении монет и торговле. Он учредил в провинциях административные собрания, куда должностные лица отправлялись для наблюдения за исполнением законов и принятия жалоб от народа. Но феодальная система утверждалась всё более. Победив саксов, баварцев, венгров (в 809 году) и сделавшись владыкой большей части тогдашней Европы, Карл разделил империю между своими детьми. Пипина [Горбатого] он сделал королем Италии, а Людовика – аквитанским королем. После смерти Пипина Карл назначил Людовика своим соправителем (в 813 году), а внука своего, Бернарда, – итальянским королем. Однако конец этого великого царствования был очень бурен и предвещал беды. Датские и шведские морские разбойники, которых тогда называли норманнами, начали опустошать берега Франции. Карл думал серьезно заняться защитой береговой линии: он посетил порты и велел построить суда, но смерть настигла его в 814 году, среди этих трудов, когда он уже мог ясно предвидеть новые бедствия, в недалеком будущем грозившие его державе. Карл Великий был человеком необыкновенного роста и силы. Все историки единодушно восхваляют его личные качества. Он был воздержен, справедлив, бережлив и великодушен; во вкусах прост и не пренебрегал ни малейшими мелочами: посылал продавать овощи из своего огорода. Непонятно, как мог такой человек изничтожить тридцать тысяч саксов!Людовик Благочестивый – Могущество духовенства – Судебные искусы – Поединки – Язык
Как только не стало Карла Великого, слабость его преемника распустила всё то, что держалось силой этой могучей руки, и здание, воздвигнутое им, в короткое время разрушилось. Людовик Благочестивый обладал прекраснейшими качествами и величайшими добродетелями: он был храбр, учен, человеколюбив. Но этого было мало, чтоб продолжать деятельность Карла Великого. Людовик начал с того, что тоже разделил империю между своими сыновьями (817 год) и одного из них сделал соправителем с титулом императора; но так как он не сумел держать сыновей в повиновении, то получил в их лице врагов. Четыре восстания против малодушного императора сделали из его царствования одну непрерывную междоусобную войну. Бернарда, короля Италии, император покорил в 818 году и, в первый раз изменив своей обычной умеренности, приказал его ослепить. (Сначала несчастный был приговорен к смерти.) Вскоре, мучимый совестью, Людовик подверг себя унижениям и покаяниям и этим возбудил новые восстания. Его вторая жена, Юдифь Баварская, упросила мужа вторично разделить империю, чтобы не оставить без наследства ее сына, Карла, но другие сыновья на это не согласились. Последовало еще одно восстание. Император уступил, смирился и позволил заключить императрицу в монастырь, но скоро опять потребовал ее к себе и попытался восстановить некоторую власть над сыновьями. Однако они снова восстали против него, в 838 году склонили папу на свою сторону, посеяли смуту в войсках императора и наконец низложили его. На престол садится старший сын Людовика Лотарь. Епископы осуждают несчастного Людовика на пожизненное покаяние. Он надевает власяницу, позволяет себя обезоружить, посыпает голову пеплом и запирается в келье. Его крайнее унижение трогает народ. Составляется партия, аквитанский и баварский короли к ней примыкают. Лотарь побежден, вымаливает у отца прощение и возвращается в свое итальянское королевство. Епископы, надругавшиеся над павшим императором, наказаны. Но честолюбивые замыслы Юдифи в пользу ее сына Карла вызывают новую войну. Император покоряет непокорного сына Людовика (840 год), но вскоре за тем умирает, удрученный скорбью. Это царствование особенно заслуживает внимания из-за роли, которую в нем играет церковь. Карл Великий использовал духовенство как политическое орудие, Людовик покорялся ему как высшей силе. Первый дал папе светскую власть, чтобы этим купить его благодарность и преданность и обеспечить покорность народов; последний валялся в ногах у римских епископов, повиновавшихся слову святого отца. Именно с этого царствования начались дерзкие притязания римской тиары на верховенство над светскими коронами и теократический деспотизм, принявший такие страшные масштабы при Иннокентии III. Епископы стали считать себя единственной законной властью. Они обладали несметными богатствами, позволяли себе безобразную роскошь и носили латы и оружие как воины; иной аббат имел до 20 тысяч крепостных. Людовик вздумал отменить злоупотребления, столь противные евангельскому учению, и только навлек на себя гнев и мщение духовенства. В это время правосудие было проникнуто самым бессмысленным варварством. Оно основывалось на предположении, что всякий раз, когда подвергается обвинению невиновный, происходит чудо. Чтобы смыть с себя обвинение, нужно было погрузить руку до локтя в кипяток или схватить голой рукой раскаленное железо. Если не возникало серьезной раны, обвиненный объявлялся оправданным. Распри и преступления судились поединком. Истец и ответчик сражались не словами, а оружием, сами или через других бойцов, и каждый монастырь держал такого бойца для защиты своих интересов. Карл Великий сумел лишь заменить в этих поединках меч палкой. (Впоследствии на палках дрались одни крепостные.) Свидетелям и даже судьям нередко приходилось прибегать к оружию. Этому так называемому божьему суду всегда предшествовали религиозные обряды. Римляне во время своего владычества ввели в Галлии латинский язык; франки и прочие варвары испортили его. Возникло новое наречие, названное романским, – смесь кельтского, германского и готского с преобладанием латыни. Из этого языка в течение восьми веков и выработался нынешний французский язык.Падение империи при Карле Лысом – Развитие феодальной системы
При Людовике Благочестивом монархия, изнутри расшатанная, внешне еще стояла; при сыне его, Карле Лысом, рухнуло всё. Карл был малодушен и бессилен; царствование его стало непрерывным рядом бедствий. После смерти отца три брата воевали между собой. Тот, который получил титул императора, был побит двумя другими в знаменитой битве при Фонтене, в Бургундии, в которой полегло сто тысяч человек. Епископы, в то время распоряжавшиеся короной, низложили его и постановили новый раздел. К тому времени норманны сделались ужасным бичом для Франции, которую наполовину опустошили и разграбили. Они сожгли Париж, и Карл, по примеру императоров павшего Рима, откупился от них богатыми дарами. Это, конечно, заставило их тем скорее вернуться. Каждый год целые флоты разбойничьих судов причаливали к берегам, и король душил народ налогами, чтобы удовлетворить их требования. Среди всех этих неурядиц епископы и вельможи оспаривали друг у друга власть, и в 846 году последние взяли верх на собрании, на которое не были допущены представители народа. Епископы отмстили тем, что низложили короля и отдали корону его брату, Людовику Немецкому, а потом и этого отлучили от церкви. Таким образом, у духовенства и светских властей было одно общее занятие: грабить народ с одной стороны, пока его с другой одолевали разбойники. Остановимся здесь на развитии феодального образа правления, ввергшего народы в столь жалкое, бедственное положение. Во время завоевания франками области управлялись сановниками, называвшимися комесами (comes), то есть товарищами императора, а иногда дюками (dux), то есть полководцами. Франкские короли впоследствии сами назначали этих гражданских и военных сановников, которые на французском языке сохранили свое латинское название – comte, due, – а на германском получили наименования графов и герцогов. В хаосе, водворившемся при Карле Лысом, они сделались независимы от королевской власти и даже вырвали у нее признание наследственности их должностей. Таким образом, учредилось новое правительство, или, вернее, правительство разделилось на столько же равноправных членов, сколько прежде у него было представителей, на столько же монархий, сколько прежде было провинций. Король в теории признавался верховным главой, но его власть была не более чем мифом; сила по необходимости должна была всегда брать верх, а сила – это постоянная война. Эта политическая система основывалась на так называемой верности. Подчиненный назывался вассалом, глава его – сюзереном. Король не был ничьим вассалом, кроме Бога, а его вассалы в свою очередь имели своих вассалов. Лен давался как бы в условное пользование: сюзерен наделял им вассала с тем, чтоб последний сопровождал его на войну, со своей стороны он обеспечивал вассала своим покровительством. Порядок в такой системе соблюдался лишь настолько, насколько соблюдались взаимные обязательства договора, поэтому на деле получалась организованная анархия. Простолюдины, или вилланы, были подданными не вассала, а сюзерена и были обязаны по его требованию идти на войну под его знаменем. В этой политической иерархии каждая ступень имела власть лишь над ступенью, находившейся непосредственно под нею. Такова – насколько возможно изложить на двух страницах то, что едва умещается в нескольких книгах, – сущность безобразной политической системы, именуемой феодальною.Упадок королевской власти и династии Каролингов – Поселение норманнов
Понятно, что при таких условиях королевская власть не могла продержаться долго. Преемники Карла Лысого превзошли его слабостью характера. Людовик Косноязычный, сын Карла Лысого, царствовал после него. За ним последовали (в 879 году) его сыновья Людовик III и Карломан. Оставался еще сын Людовика Косноязычного от второго брака, пятилетний Карл. После смерти старшего брата Карломана (и поскольку Карл был еще слишком мал) корону предложили Карлу Толстому, царствовавшему в Германии императору. В то же время норманны, не прекращавшие своих набегов, осадили Париж. Эд, граф Парижский, храбро защищал город. После двухлетней осады подошел на помощь император с армией, но норманны застращали его, и он купил мир. Вскоре после того Карл Толстый умер, некоторые говорят – в состоянии умопомешательства. Эд принял корону в 888 году в качестве опекуна маленького Карла; он легко мог бы и вовсе овладеть ею. По смерти его в 898 году Карл III, прозванный Простоватым, стал управлять один. Около этого времени северные разбойники поселились в части Франции, дотоле называемой Нейстрией и теперь принявшей от них имя Нормандии. Таким образом, потомки франков, раздробленные феодализмом, претерпели ту же участь, которой предки их подвергли римлян. Король Карл в 911 году послал к вождю норманнов Рольфу[2] свою дочь с приглашением принять христианство. Норманн охотно согласился, но, присягая на верность королю, отказался исполнить обряд целования ноги сюзерена, а поручил исполнить его одному из своих охранников, который так грубо приступил к Карлу, что тот чуть не упал навзничь. Это нахальное непочтение только возбудило общий хохот. Впрочем, король, принявший в крещении имя Роберта, оказался превосходным государем, Нормандия при нем расцвела. Между тем советник Карла Простоватого возбудил неудовольствие вельмож, они выместили это неудовольствие на короле и свергли его с престола в 922 году. Его место занял Роберт, граф Парижский, но вскоре пал в сражении от руки Карла и его сторонников. В другом сражении победа осталась за Гуго Белым, сыном Роберта, и Карл бежал к одному из вельмож, который до смерти держал его у себя в плену. Гуго, французский герцог, не пожелал принять королевский титул и предоставил его Раулю, герцогу Бургундскому, царствование которого было исполнено междоусобиц. По смерти Рауля в 936 году Гуго посадил на престол сына Карла Простоватого Людовика IV, прозванного Заморским, потому что он воспитывался в Великобритании. Молодой король хотел было освободиться от опеки своего честолюбивого покровителя, но Гуго не замедлил доказать ему, что быть королем феодальной Франции еще не значит пользоваться властью. В это время в Германии подняли вопрос о престолонаследии: должно ли право на престол передаваться по прямой линии – так, чтобы право внука устраняло право на престол его дядей? Вопрос этот был разрешен поединком. Сторонник прямого престолонаследия победил, и с тех пор право на престол утвердилось по прямой линии. По смерти Людовика IV в 954 году сын его Лотарь принял корону, также с согласия Гуго Белого, который, впрочем, умер два года спустя, передавая власть сыну своему, Гуго Капету. Лотарь, имевший характер более решительный, нежели его предшественники, добился некоторой власти над своими вельможами. В его царствование Лотарингия, сто лет бывшая поводом к беспрерывным войнам между французскими и германскими государями, досталась императору Оттону, который признал ее леном от Лотаря и присягнул ему как своему сюзерену. За Лотарем следовал Людовик V, процарствовавший всего год. Он был последним королем Каролингской династии. По правилам престолонаследия преемником его должен был стать дядя, брат Лотаря, но Гуго Капет в 987 году заставил своих вассалов и приверженцев провозгласить себя королем. Прочие графы и герцоги, не очень дорожившие королевским достоинством, обратившимся в призрак, не препятствовали ему и не менее прежнего считали себя равными ему.Начало династии Капетингов – Деспотизм пап – Вновь феодальная система
Гуго Капет был, как мы видели выше, правнуком Эда, графа Парижского. Этот же Эд был сыном некоего Роберта Сильного, графа Анжуйского, человека необыкновенно храброго, который был послан Карлом Лысым в Анжу защищать эту область от норманнов и убит в славном бою. Гуго торжественно короновался в Реймсе и с дальновидной осторожностью, свойственной всем основателям новых династий, сделал сына своего, Роберта, своим соправителем, чтобы к нему привыкли как к будущему королю. Законный претендент [Карл] пытался было вооруженной рукой отстоять свое право, но был взят в плен в Лаоне и умер два года спустя, в 996 году. Гуго умер в Париже, оплакиваемый духовенством и военными, которым он потворствовал одинаково; народ в счет не шел. Капетинги были обязаны своим возвышением феодальной анархии: феодализм взошел на престол вместе с Гуго. Он однажды послал спросить возмутившегося против него вельможу: «Кто тебя сделал графом?» – и тот ответил ему таким же вопросом: «Кто тебя сделал королем?» Роберт был государь крайне благочестивый и крайне несчастный. Он чрезвычайно любил свою жену, но оказалось, что он приходится ей родственником в четвертом колене. Папа, несмотря на разрешение, данное епископами, нашел брак этот преступным, объявил его недействительным, а епископов даже временно отстранил от должности. Тогда последние отлучили Роберта от церкви, хотя он был чрезвычайно набожен и постоянно пел на клиросе. С этой минуты Роберта покинули все вельможи, а слуги избегали его как прокаженного, боялись дотронуться до него и сжигали всё, что оставалось от его стола. Для своих ослепленных фанатизмом подданных он уже не был не только королем, но даже человеком. Могло ли при таких представлениях существовать правильное, прочное правительство? Принужденный развестись с женой [Бертой Бургундской], Роберт вступил в брак еще раз; но жена его, Констанция, оказалась настоящей фурией и восстановила против него двух его сыновей. Однако одного из них, Генриха, Роберт короновал в Реймсе. В это печальное царствование случился голод такой ужасный, что голодные ели человеческое мясо. Генрих I по восшествии на престол прежде всего вынужден был бороться против вдовствующей королевы, которая восстановила против него его брата. Затем он решил отнять Нормандию у молодого герцога, у отца которого брат его нашел убежище, но был побит. Замечательная черта этого царствования заключается в том, что при Генрихе I всемирное верховенство папской власти было провозглашено торжественно. Лев IX созвал во Франции против воли короля собор. Когда Генрих захотел короновать в 1059 году своего сына, он сначала созвал епископов, монахов и вельмож, чтоб те его утвердили, илегаты заявили от имени папы согласие. Из этого видно, что французская корона тогда еще была в некоторой степени избираемой. Приостановимся тут, на пике развития и процветания чистого феодализма, этой ужасной системы, угнетавшей Францию на протяжении трех веков и доведшей несчастных жителей до последней степени нищеты и страдания. Народ весь был обращен в рабство. Состояние его мало отличалось от скотского. Каждый мог безнаказанно избить, покалечить, даже убить своего раба. Между тем многие свободные люди добровольно отказывались от своей свободы, чтобы вельможи не так их притесняли и грабили. Конечно, люди того времени были не хуже других, но таким уж был век. В этом хаосе приходилось становиться либо притеснителем, либо притесненным. Середины не было. Духовные лица, вечно ссорясь с военными, обирали народ, однако, не менее усердно. Физическая сила да церковники – вот и вся власть. А чего можно было ждать от правосудия, когда все распри судились оружием! Образовалась боевая конница (gendarmerie), явление почти неизвестное франкам; иметь оружие и держать боевых коней являлось исключительным правом благородных рыцарей и вельмож. Рыцарь верхом, в железных латах, заставлял трепетать целый околоток. Простолюдины, силой уводимые на войну, сражались пешими. Мучимые барщиной, повинностями, дорожными, мостовыми и другими пошлинами в пользу рыцарей или церковных лиц, оскорбляемые правами своих господ, возмущающими природу и человеческое достоинство, несчастные могли и умели только повиноваться, хотя этим еще крепче заковывали себя в кандалы. Простолюдинов, живших в селах и деревнях, называли вилланами, живших в городах – мещанами или буржуа. Произведения труда тех и других по праву принадлежали их господам, которые нередко жаловали к ним жить на неопределенное время со всей своей свитой. Господа, со своей стороны, дрались между собой не на жизнь, а на смерть, несмотря на родство. Какая-нибудь семейная ссора на тридцать лет затопляла кровью целую область. Война была нормальным состоянием. Все замки, все аббатства являлись и крепостями или, вернее, разбойничьими притонами. Франция обратилась в необозримое поле битвы. Наконец непрерывная резня наскучила даже этим свирепым людям. На одном из соборов решено было постановить мир от имени самого Бога – мир Божий. Епископы наложили на всех рыцарей и вельмож епитимьи, посты, молитвы и покаяния, и народ на время вздохнул свободнее. Но это не могло продолжаться долго. Мир Божий заменили Божьим перемирием, то есть запрещением сражаться и разбойничать с вечера субботы до утра понедельника. И даже это было большим облегчением.Первый крестовый поход – Могущество монахов
1060 год. Долгое царствование Филиппа I, сына Генриха I, ознаменовалось множеством замечательных событий. Вильгельм, герцог Нормандский, переправился через пролив Ла-Манш в 1066 году и завоевал Англию, где учредил феодальный деспотизм. Он имел даже твердость духа отказаться от присяги папе. Вследствие шутки французского короля, подтрунивавшего над непомерной тучностью Вильгельма, вспыхнула война; с этой-то поры и ведется неугасимая вражда, так долго существовавшая между Англией и Францией. Около этого же времени начались распри между императорами и папами насчет инвеститур. Пылкий и надменный Гильдебранд (или Григорий VII) первым поднял этот вопрос, постановив, что все государи должны смириться перед папским престолом и от него получать право владеть своими государствами, без чего власть их будет считаться недействительной и незаконной. Король Филипп, разлюбив жену свою, Берту, доказал, что она в какой-то ничтожной степени приходится ему родственницей, и развелся с нею по тогдашнему обычаю. Влюбившись в Бертраду, графиню Анжуйскую, он похитил ее и женился на ней. Отлученный от церкви Урбаном II в 1095 году, он развелся и с нею, но потом сошелся опять. Папа предал анафеме и Бертраду, вследствие чего произошли величайшие беспорядки. Другой папа подтвердил анафему на соборе в Пуатье (этот собор примечателен тем, что на нем епископы бросали друг в друга камнями). Папская анафема давала полное право бунтовать против короля, что и воспоследовало. Вельможи, разводившиеся с женами и женившиеся на других, приняли сторону короля. Король, храбрый и умный, короновал сына своего Людовика, чтобы вернее отразить восстание, но Бертрада приревновала его к сыну и старалась отравить. Наконец, в 1104 году, епископы рассудили, что для них выгоднее будет снять с короля анафему и отлучение, конечно, с согласия папы; однако Филипп должен был лично явиться вымаливать прощение на собор в Париже – зимой и босым. В том состоянии полного отупения, в котором феодализм держал европейские народы, нужен был сильный толчок, чтоб их расшевелить. Этот толчок последовал благодаря религиозной экзальтации. Папе пришла мысль завоевать святые места, то есть Палестину, а простой пустынник [Петр Пустынник] осуществил ее. Побывав в Иерусалиме на богомолье, Петр, возвратившись, объехал всю Европу, проповедовал при дворах, в городах, на соборах, разжигая умы против мусульман, обиравших христиан-богомольцев. Жилось так худо, что нельзя было не обрадоваться новизне. Простолюдины – чтоб избавиться от рабства, вассалы – чтоб избавиться от деспотизма сюзеренов, должники – чтоб избавиться от долгов посредством индульгенций, – словом, все поднялись, вдобавок подстрекаемые надеждой на вечное блаженство. С криками «Бог этого хочет!» двинулись старцы, женщины, дети, вельможи, государи, монахи, епископы. Они нашили на свои платья кресты из красной материи, отчего и произошло название крестоносцы. Эта беспорядочная толпа, предводительствуемая Петром Пустынником, опустошала всё на пути своем, вступала в конфликты с жителями и была разбита в Венгрии. Осталось только тысяч сорок регулярного феодального войска; эта небольшая рать дошла до пункта назначения, в 1099 году взяла Иерусалим и поставила там королем одного из своих вождей, Готфрида Бульонского. Этот поход и назван Первым крестовым походом. Эти сумасбродные экспедиции принесли в свое время большую пользу, хотя и стоили много крови. Народ избавился от присутствия множества вельмож; вельможи же продали королю часть своих земель для покрытия путевых и военных расходов. Это их ослабило и дало возможность королевской власти несколько утвердиться. Подвиги норманнских и прочих рыцарей на Востоке граничат с чудесным и невероятным, даже помимо преувеличенных повествований и восхвалений поэтов. Горсть норманнских рыцарей завоевала юг Италии и основала королевства Неаполитанское и Сицилийское. К крестовым походам относят первое применение геральдических гербов, придуманных для отличия рыцарей в бою. Тогда же начали употреблять арабские цифры, нововведение несравненно более полезное, нежели геральдика. В это время церковная власть пребывала почти исключительно в руках монахов-бенедиктинцев, провозгласивших в результате реформы, объявленной в обители Клюни в 910 году, что они признают над собой одного только папу. Это было собственное воинство Рима. Многие аббаты Клюни делались потом папами. Около того же времени для всех католиков стали применять исповедь, до тех пор обязательную только между духовными лицами.Начало общин при Людовике Толстом
Владения французских королей в то время простирались не далее пятнадцати или двадцати лье вокруг Парижа. Людовик VI, прозванный Толстым (1108 год), должен был воевать сначала в Орлеане, потом в Нормандии и в Иль-де-Франс. Он воевал против своих соседей, могущественных баронов, грабивших путешественников, и чтобы покорить одного из них, вынужден был три раза осаждать его замок. В войне против английского короля Людовик также выказал большое мужество. Германский император принял сторону своего тестя, английского короля, и в 1124 году хотел вторгнуться во Францию. Людовик созвал своих главных вассалов, обязанных идти под королевским знаменем против иноземцев: за короткое время набралось двести тысяч человек. Тогда немцы перешли Рейн обратно. Французы могли бы тотчас напасть на англичан, соединившихся с норманнами, но графы и герцоги, не желая слишком усиливать власть короля, возвратились каждый к себе и оставили его без войска. Несмотря на свое благочестие, Людовик не миновал отлучения от церкви; отлучил его парижский епископ. Он умер, короновав в 1137 году, почти перед самой смертью, своего сына. Это царствование замечательно некоторым улучшением в судьбе несчастного народа. Случилось несколько восстаний в городах, принадлежавших духовенству или баронам и подчиненных королю, который, не будучи в состоянии или не желая усмирить инсургентов, предпочел превратить их в своих помощников. Вечно занятый войной и не имея возможности защищать эти города от набегов соседей, он предпочел разрешить им защищаться самим. Горожане получили право собираться, сами управлять своими городами, назначать из своей среды должностных лиц и так далее. Но они всё равно не могли переезжать с места на место и вступать в брак без разрешения сюзерена. Горожане сами обложили себя налогами, образовали собственную милицию и, запершись в своих укрепленных городах, наконец могли вздохнуть спокойно. Эти маленькие, до известной степени независимые демократии получили название общин. Правда, король за деньги продал им хартии, даровавшие им эти права и льготы, но люди рады были получить их на любых условиях, а бароны, епископы и монахи остались крайне недовольными, считая подобную сделку прямым посягательством на их собственность со стороны короны. Тем не менее многие феодальные владетели стали подражать королю и, чтобы поправить свои финансы, тоже продавали свободу поселянам и горожанам, жившим в их владениях. Во многих городах жители прямо восстали против своих господ и сами устраивали у себя общины. Свобода не имела убежища, кроме стен избавленных от рабства городов, а чтобы вернее сохранить ее, общины по возможности искали покровительства короля. Король, со своей стороны, находил новые силы в союзе с общинами. Чтобы привязать их к себе еще сильнее, он учредил королевские апелляционные суды с правом отменять решения вельмож. Веком ранее епископы привлекали большинство дел к духовным судам, которые, как ни были плохи, всё же были лучше феодальных.Сугерий – Завоевания Филиппа Августа – Альбигойцы – Обзор XII века
Людовик VII Юный, родившийся в 1137 году, браком с Алиенорой, наследницей Аквитании и Пуату, значительно расширил владения французской короны. В войне против графа Шампанского он поджег церковь, в которой сгорели тысяча триста человек. Вскоре после этого им овладело глубокое раскаяние, и, когда гениальный фанатик святой Бернард стал проповедовать Второй крестовый поход, Людовик воспылал благочестивым рвением и возложил крест на себя, на королеву и весь свой двор; их примеру последовали двести тысяч человек. Этот крестовый поход не имел других результатов, кроме беспрерывных грабежей на всем пути. В отсутствие Людовика регентом королевства остался Сугерий, аббат обители Святого Дионисия, продолжавший дело, начатое Людовиком VI, чьим советником был много лет. Он ратовал за интересы народа и дал Франции всё возможное в то время и при тех условиях благоденствие. Король, возвратившись в ссоре с женой, был настолько неосторожен, что вопреки советам этого мудрого государственного человека развелся с нею. Она вышла замуж за Генриха Плантагенета, английского короля, и принесла ему в приданое почти треть Франции. Впоследствии, когда сыновья Генриха восстали против отца, Людовик их поддерживал, но неудачно. Он оставил о себе память как о государе богомольном, но неразумном, вспыльчивом, жестоком в гневе и в то же время слабом. Сын его Филипп Август начал свое царствование мерой неудивительной в те хищные времена: изгнал из Франции евреев, присвоив себе большую часть их богатств. В распре с графом Фландрским он выказал большую твердость, истребил разбойников, ходивших шайками и называемых брабансонами, и противился требованиям папского легата. Он победил английского короля, владевшего почти половиной Франции, и пошел в крестовый поход с его преемником, Ричардом Львиное Сердце, с целью отбить Иерусалим у знаменитого Саладина; но королям удалось взять только Сен-Жан-д’Акр. Филипп, первым возвратившись из похода, напал на Нормандию в отсутствие Ричарда. Он развелся с женой и за это не только сам был отлучен папой от церкви, но и всё королевство подвел в 1200 году под интердикт: запрещено было отравлять какие бы то ни было богослужения, при всеобщем строжайшем посте и запрещении даже говорить друг с другом на улицах. Филиппа это не смутило, он просто забрал в казну имущество епископов. Филипп совершил еще один смелый поступок. Джон Безземельный, король Английский, приказал умертвить другого претендента на английский престол – своего племянника, юного Артура, герцога Бретани. Филипп предал его суду как своего вассала, и суд объявил, что Нормандия, Анжу, Турень и прочие земли должны быть отняты у него в пользу короны. Этот приговор Филипп привел в исполнение вооруженной рукой. Таким образом, владения французской короны, раздробленные феодализмом, снова начали понемногу объединяться. Около того времени (в 1204 году) составился новый крестовый поход, который закончился молниеносным завоеванием Византии. Крестоносцы короновали своего предводителя Балдуина в Константинополе. Другой, плачевнейший крестовый поход (1208 год) был направлен против возникшей на юге Франции и сильно распространившейся религиозной секты – альбигойцев[3]. Их избивали и жгли тысячами как еретиков. Папа Иннокентий III почему-то нашел нужным предложить английскую корону Филиппу. Тогда Джон поднес свое королевство в дар папе, который вследствие этого сделался его покровителем. Против Филиппа образовался грозный союз. Джон, граф Фландрии и германский император собрали 200 тысяч человек. Филипп, имея под рукой всего 50 тысяч, победил их при Бувине в 1214 году. Англичане, заставив Джона подписать Великую хартию вольностей, низложили его за несоблюдение оной и поднесли корону Людовику, сыну Филиппа Кривого. Этот молодой, храбрый и воинственный принц, однако, недолго продержался в Англии. Приостановимся здесь, чтобы сделать обзор XII века, в течение которого человеческий ум совершал много усилий, чтоб вырваться из тьмы. С одной стороны, возникает множество новых монашеских орденов, особенно нищенствующих, а множество светских людей вследствие ложного толкования Апокалипсиса, возвещавшего конец света к 1200 году, отдают церкви всё свое имущество. Но, с другой стороны, несколько честных людей, доведенных до крайнего негодования пышностью, гордыней, алчностью и всяческими излишествами и беззакониями духовенства, становятся преобразователями и стряхивают с себя иго суеверий. Заметим в истории следующее неизбежное чередование: духовенство, сначала бедное, богатеет, пользуясь суеверием народа; навлекает на себя презрение и, разбогатев, доходит до последней степени испорченности, вредя этим самой религии; у духовенства отнимают его богатства, но оно снова разживается и снова лишается своих сокровищ. Эти-то безобразия и подали повод к проповедям Арнольда Брешианского, предтечи великой религиозной реформы. При Лютере те же причины возымели те же последствия. Начали учреждать училища, и, конечно, это происходило во владениях епископов. Парижское училище вскоре сделалось знаменитейшим в Европе, хотя преподавание в нем было крайне несовершенно. Три тысячи учащихся под открытым небом слушали лекции диалектика Абеляра, имя которого, неразлучное с именем Элоизы, обессмертило высокую любовь, казавшуюся почти неестественной в тот грубый век. В то время истину искали не в природе или разуме, а в исковерканном учении Аристотеля; ученые не рассуждали, а умничали. Между тем в замках процветало рыцарство. Трубадуры воспевали любовь и красоту, приуготовляя путь Данте и Петрарке, отцам новейшей литературы в Италии, где республики основались тем же способом, как во Франции – общины. Крестоносцы принесли из Азии ужасную болезнь: Франция заполнилась прокаженными. Что касается заразных болезней и эпидемий, то они тогда были таким же обыкновенным делом, как голод. Беспрерывная война, препятствуя правильному возделыванию земли, становилась причиной неурожаев и высокой смертности. Непогребенные трупы заражали воздух и вызывали чуму. Так одно бедствие порождало другое. Бедное человечество!Царствование Людовика IX – Правосудие начинает заменять феодальные порядки
Людовик VIII, прозванный Львом, в 1223 году побил английского короля во Франции, где тот старался утвердиться, потом воевал против графа Тулузы под предлогом его потворства еретикам, а на самом деле желая присвоить себе его владения. Это ему не удалось. Умер Людовик VIII в 1226 году, оставив своим преемником двенадцатилетнего сына под опекой матери, Бланки Кастильской. Эта государыня прежде всего умиротворила неспокойных вассалов, и вообще управление ее отличалось необыкновенной твердостью и мудростью; в одном только заплатила она дань своему грубому, фанатическому веку: продолжала войну против несчастного графа Тулузского, который вынужден был в конце концов покориться, и возобновила преследования альбигойцев. Юный Людовик IX, впоследствии причисленный католической церковью к лику святых, действительно был государем настолько совершенным, насколько этого можно ожидать от того века. Обладая большой личной храбростью и политическим мужеством, он оставался при этом истинным христианином. Дважды победил он англичан, поддерживавших в Сентонже взбунтовавшегося вассала. Папа, отлучив от церкви германского императора и вынужденный бежать из Рима, искал во Франции убежища; но у Людовика хватило твердости не пустить в свои владения неугомонного прелата, который укрылся в Лионе, городе, в то время (в 1245 году) подвластном епископу. Не умолчим, однако, и о слабых сторонах этого великого государя. Опасно заболев, он дал обет снарядить крестовый поход. Ни королева, ни епископы не смогли отговорить его от этого намерения. Крестовый поход в то время не приносил ничего, кроме бедствий, а продолжительное отсутствие короля стало бы всенародным несчастьем. Людовик совершил в Египте подвиги невероятные, но бесполезные, а болезни и голод извели его армию. Взятый в плен со всем войском, он привел в изумление мусульман своей покорностью и твердостью духа и отдал за себя и своих воинов громадный выкуп. Узнав о смерти матери в 1154 году, Людовик вернулся во Францию и целиком отдался управлению государством. Он делал всё, чтобы примирить своих вассалов, и часто уступал притязаниям соседних королей ради спокойствия своих граждан. Людовик IX отличался необыкновенно щепетильной совестью и склонностью к доброму согласию. Он заставил вельмож, бывших вассалами и французского, и английского королей, выбрать между ними, и они решили в его пользу. Английские бароны хотели низложить своего короля за нарушение Великой хартии и избрали Людовика третейским судьей: его приговор склонялся к сохранению дарованных хартией вольностей в соединении с королевской властью. Папа римский в 1266 году наложил на короля Обеих Сицилий интердикт и предложил эту корону брату Людовика IX, Карлу, графу Анжуйскому, требуя себе за это ежегодную дань под страхом отлучения от церкви. Граф принял предложение и отправился в Италию с толпой добровольцев, возложивших на себя крест, потому что они шли на дело, на которое призывал их святой отец, и были убеждены, что совершают богоугодный подвиг, отнимая престол у государя, отлученного от церкви. Неаполь был завоеван в непродолжительное время, и похититель короны публично казнил законного короля, юного Конрадина Гогенштауфена. Состояние Франции изрядно поправилось благодаря мудрой заботливости Людовика IX, который забирал в казну имущество епископов, когда они слишком притесняли народ, хотя сам постригся бы в монахи, если бы не мольбы жены. Людовик всё же не снимал с себя креста, не отказывался от надежды предпринять Второй крестовый поход и в конце концов исполнил свое намерение, несмотря на немолодые уже годы и вопреки советам друзей. С целью обратить в христианство тунисского царя он высадился на берегу Африки в 1270 году и умер в пути вместе с большинством своего войска от зноя и болезней. Царствование Людовика IX богато важными и полезными политическими нововведениями. С тех пор как капитулярии Карла Великого перестали соблюдаться, законов не было никаких; каждым феодальным впадением управляли прихоть владельца или устное предание и обычаи. У каждого вельможи был свой суд, в котором дела разбирались с помощью оружия. Людовик IX составил свод установлений для подвластной непосредственно ему части Франции, отменил судебные поединки и сам определял разные степени наказаний, хотя, конечно, его судопроизводство всё еще было далеко от совершенства. Он требовал доказательств, улик, свидетельских показаний и достойных выступлений при разбирательстве дел и говаривал, что следовало бы написать везде, где решается вопросе о свободе и жизни людей: «Закон всегда более склонен оправдать, чем осудить». Людовик учредил суд равных {pair), или присяжных, во всех городах, образовавших общины, и обеспечил их независимость от феодального ига новыми гарантиями. Высшей судебной инстанцией он сделал королевскую власть, так что очень многие дела окончательно решались им самим. Это было равно полезно для короны и для народа. Один небогатый дворянин, заключенный в темницу графом Анжуйским, с которым у него шел процесс, апеллировал к королю: он был оправдан, а брат короля осужден. Такое правосудие было неслыханной новостью. Феодальные семейные войны с обязательством для родственников принять ту или другую сторону под страхом лишения своей доли наследства также были воспрещены. Право чеканить монету, присвоенное многими вельможами, было ограничено. Установления послужили полезным примером: в провинциях наконец записали местные обычаи. Юстинианов кодекс[4] начинал приобретать во Франции известность, но был запрещен духовенством. Так как духовные лица одни лишь были обучены грамоте, то должность адвокатов исправляли они; они же занимались и медициной. Словом, это были люди необходимые. Когда кто-нибудь умирал, не оставив духовного завещания и тем лишив церковь доли имущества, которая непременно отписывалась ей в каждом случае, то обыкновенно конфисковали всё наследство и разоряли семейство: установления положили конец этому гнусному злоупотреблению. Людовик IX оказался в полном смысле слова создателем системы правосудия. Жаль только, что он установил слишком бесчеловечные наказания против некоторых проступков, например против тех, кто всуе произносил имя Бога или святых. В то же время он с большой твердостью сопротивлялся папскому деспотизму: в своем знаменитом указе, называемом Прагматической санкцией, он заявил, что королевство подвластно лишь одному Богу.Восстановление народных собраний при Филиппе Красивом – Храмовники – Парижский парламент – Обзор XIII века
По смерти Людовика IX в 1270 году сын его продолжал войну против тунисцев и даровал им мир лишь с условием уплаты дани. Это была последняя из череды далеких и бесплодных экспедиций. Молодой король Филипп III, прозванный Смелым, вернулся во Францию, где присоединил к короне обширный удел своего дяди, графа Пуатье, умершего бездетным. Несколько не слишком блестящих войн заняли часть его царствования. Он было подчинился влиянию фаворита, цирюльника своего отца [Пьера де ла Броса], но когда этот низкий человек был уличен в злокозненном возбуждении несправедливых подозрений против королевы, велел его повесить. Самое замечательное событие этого царствования произошло вне Франции в 1282 году. Сицилийцы, решившись сбросить тяжкое иго Карла Анжуйского, поднялись в Палермо в условленный день, в час вечерни, и перерезали всех французов, большей частью провансальцев и анжуйцев, составлявших дружину короля. То же самое устроили по всей Сицилии[5]. Карл был в это время в отсутствии. Король Арагонский пытался было овладеть островом, но папа отлучил его от церкви и призывал других государей в крестовый поход против него. Филипп пошел на него войной и умер в Перпиньяне, взяв Жиронду после продолжительной осады в 1285 году. Сын его Филипп IV, прозванный Красивым, приобрел печальную известность. Эдуард I, английский король, присягнул ему за Гиень, признавая себя как владетеля этой области вассалом французской короны. Но когда король, вследствие столкновений, бывших между обоими народами, пригласил Эдуарда явиться перед его судом, тот отказался, и Филипп напал на Гиень и завладел ею (в 1295 году). Затем война перешла во владения графа Фландрского, вступившего в союз с Эдуардом. Французы победили англичан и завоевали Фландрию. Вторым противником Филиппа был папа Бонифаций III, надменностью не уступавший ни одному из своих предшественников. Сильно нуждаясь в деньгах и не надеясь отобрать их у народа, и без того уже обремененного свыше всяких мер, Филипп попробовал наложить небольшой налог на духовенство. Папа тотчас же издал буллу, запрещавшую духовенству платить что бы то ни было светским властям без разрешения Святого престола. Филипп ответил таким же запрещением светскому сословию относительно духовенства. Папа в другой булле оскорбительно выразился о короле, однако вынужден был уступить, помирился с Филиппом, причислив Людовика IX к лику святых, и в виде вознаграждения получил право взимать небольшую пошлину. Но скоро надменные выходки папы возобновились. Один французский епископ, его легат, позволил себе такие дерзости в разговоре с королем, что Филипп велел ему выйти. Взбешенный Бонифаций метал одну громоносную буллу за другой и приказал Филиппу, угрожая в противном случае интердиктом всему королевству, признать себя королем «милостью римского первосвященника». Филипп, нимало не смущенный, послал гордый ответ, искал поддержки в народе и созвал национальное собрание. Это одно из важнейших событий французской истории, так как такие народные собрания в то время давно вышли из употребления. По примеру английских королей, Филипп допустил в это собрание депутатов общин, тогда уже называвшихся средним сословием. Все три сословия отдельно постановили отстоять независимость короны. Духовенство сначала требовало некоторых уступок папе, но дворянство на это не согласилось. Среднее сословие, вероятно, весьма изумилось оказываемой ему чести, но нужны были деньги, а платил всегда народ. Один французский историк совершенно верно заметил по этому поводу: «Сеймы составляют превосходное средство для наложения новых податей». Папа, со своей стороны, созвал собор, который по его приказанию провозгласил всемогущество римской тиары. Французский король опять созвал собрание из вельмож и епископов, которое объявило папу обманщиком и еретиком. Тогда папа отлучил Филиппа от церкви и предложил французскую корону принцу Австрийского дома, но группа французских дворян похитила папу и увезла. Вскоре, впрочем, его опять освободили, однако всего через месяц он умер, всё еще снедаемый яростью. В это время возмутились фламандцы и, под предводительством одного старого ткача, перебили нескольких французов. Граф д’Артуа пошел против них с армией; он очень уж легко отнесся к этим инсургентам и проиграл битву при Куртре (в 1302 году). Тогда король сам отправился усмирять фламандцев, но не имел успеха. Пришлось возвратить престол графу Фландрскому, оставив за собой только несколько городов. Вскоре после того преемник умершего папы снял с Филиппа отлучение. Самое знаменитое событие этого царствования – судебный процесс, а затем казнь рыцарей-храмовни-ков военно-монашеского ордена, основанного во время крестовых походов. Филипп Красивый преследовал их с ожесточением, не объяснимым ничем, так как он даже не конфисковал их имущества. Папа выказывал против них не меньшее ожесточение. Внезапно, в 1307 году, их начали арестовывать по всей Франции и допрашивать, подвергая пыткам; побежденные истязаниями, они признавались во всем, чего от них хотели, потом, правда, брали свои признания назад. В 1312 году орден уничтожили, а имущество его отдали Странноприимному ордену (впоследствии превратившемуся в Мальтийский). Великого магистра и всех главных сановников ордена по приговору папской комиссии сожгли на костре. Все до последнего мгновения, среди пламени, клялись в своей невиновности. Чем объяснить такую бесчеловечность? Храмовников обвиняли в ужасных преступлениях, но достоверно о них известно только то, что они были богаты, надменны, пользовались многими преимуществами и вели распутную жизнь: чем же лучше были те, кто сожгли их? Филипп Красивый совсем истощил народ налогами. Он ощутимо подорвал кредит, испортив металлические деньги сильной примесью к серебру и золоту; кроме того, он снова изгнал евреев и конфисковал их богатства. Общее неудовольствие приняло такие размеры, что король стал опасаться восстания и вскоре умер от горя и хандры. Франция обязана ему созывом Генеральных штатов (впервые в истории страны), присоединением Лиона и водворением парламента в Париже. Прежде это был странствующий суд из вельмож, назначаемых королем, который всюду следовал за двором. Так как члены парламента были людьми военными, не умевшими ни читать, ни писать, то к ним приставлялись законники, называемые по должности, исправляемой ими, советниками. Понемногу все дела стали поступать к этим советникам. Пэры, все крупные землевладельцы и высшие придворные чины – то же, что ленники при первой династии и крупные вассалы при чисто феодальной системе, – получили право заседать в парламенте. Это был первый по-настоящему королевский суд. Со времен Людовика IX в парламент поступали все апелляционные дела со всего королевства. Малоизвестно, что Юстиниановы пандекты нанесли по феодализму сильнейший удар. Если мы бросим взгляд на весь XIII век, то найдем, что человечество сделало несколько шагов на пути к просвещению. При Людовике IX составилась первая библиотека. Английский монах Роджер Бэкон, чудо учености по тому времени, указал пути изучения естественных наук и изобрел камеру-обскуру; современники считали его колдуном. Мистерии, разыгрываемые на подмостках под открытым небом, были первыми неуклюжими попытками позднейшей драмы. Богословские прения и схоластическое умничанье, правда, продолжались, но основали Сорбонну, и буржуазия в университетских беспорядках всё же приобретала привычки независимости, противодействовавшие феодализму, а братства, или цеха, или корпорации, в то время крайне полезные, придавали Сорбонне силу политической организации. Провосты (прево) и эшевены[6] привыкали сопротивляться произволу; в то же время начинали возводить в дворянское достоинство, что должно было сильно подорвать это звание. Среднее сословие, сделавшись признанной политической силой, сплачивалось, укреплялось, и королевская власть отлично сознавала пользу союза с ним. Созыв собраний, впоследствии названных Генеральными штатами, стало еще одним средством к возобновлению этого союза. Около этого времени три швейцарских кантона [Ури, Швиц и Унтервальден] одновременно сбросили с себя феодальное иго и австрийское владычество. Горсть поселян-горцев, предводительствуемая тремя героями, основала славную республику [Швейцарский союз]. Это первые люди, на которых в эту темную, печальную пору пал солнечный луч освобождения.Освобождение поселян – Бедствия при Филиппе Валуа
Королевская власть, преуспевшая при Филиппе Красивом, в течение нескольких лет перешла поочередно к его трем сыновьям. Людовик X приговорил в 1314 году к смерти своего министра финансов Ангеррана де Мариньи: не имея данных, чтоб уличить его в ограблении казны, его обвинили в колдовстве. Впоследствии король раскаялся в этом поступке. Самым достопамятным событием его царствования было освобождение из рабства в 1315 году большей части поселян. Король освободил их в своих владениях, а вельможи стали понемногу подражать ему. Во вступлении к королевскому указу по этому предмету сказано: «Так как по праву природы каждый человек должен родиться свободным…» Впрочем, свободу поселянам продали, как некогда горожанам. Многие из них, привыкшие к рабству, отказывались от свободы, находя, что она не стоит, при тогдашних условиях, цены, которую за нее требовали. Таким образом, нужда заставляла не только совершать, но и отменять несправедливости. В 1316 году возвратили евреев – в надежде вновь брать с них огромные подати. Людовик много занимался общественным благом, отменил некоторые устаревшие обычаи и покровительствовал земледельцам. Брат его, Филипп V, по прозванию Длинный, правивший с 1319 года, провел много административных реформ. Он исключил епископов из парламента, где они сохраняли слишком большое влияние. Хотел установить для всей Франции одну систему монет и мер. Отнял оружие у городских жителей, чтобы вернее прекратить междоусобные распри. Впрочем, это, вероятно, было лишь предлогом, а настоящая цель этой меры заключалась в том, чтобы лишить общины средств к сопротивлению. Вообще с этих пор короли, долго пребывавшие в союзе со своим народом, начинают использовать его как орудие для достижения неограниченной власти. Филипп назначил в каждой общине военного начальника, или капитана, обязанного от имени короля командовать общинной милицией. Эта милиция стала чем-то вроде национальной гвардии и часто упоминалась в составе тогдашних войск. Но при этом же короле совершались ужасные жестокости в отношении несчастных евреев и прокаженных: на тех и других возводили нелепейшие обвинения и жгли их сотнями. Тогда-то евреи изобрели векселя и с помощью них стали переводить свои состояния из одной страны в другую. Карл IV, по прозванию Красивый, коронованный в 1322 году, наказал многих финансистов, грабивших казну, равно как и частных лиц, разорявших народ. Он воевал с англичанами в Гиени. Сестра его была женой английского короля Эдуарда II, которого она свергла с престола. Когда Карл IV в 1328 году умер бездетным, сын ее, знаменитый Эдуард III, заявил притязание на французский престол в качестве племянника покойного короля по матери. Салический закон, лишавший женщин престолонаследия, был против него. Пэры решили отдать предпочтение Филиппу Валуа, потомку Людовика Святого по младшей линии. Царствование Филиппа VI стало рядом бедствий. Сначала он вынужден был усмирять фламандцев, восставших против своего графа. Затем ему удалось заставить Эдуарда III присягнуть ему за Гиень: этот государь еще не был готов к войне. Но интриган Роберт д’Артуа, родственник Филиппа, которого тот справедливо изгнал из Франции, переправился в Англию и разжег там страшную войну. Эдуард III повел в 1335 году переговоры с фламандцами и с Германской империей и объявил Франции войну, требуя ее престола. Владетельный граф Геннегауский примкнул к нему, кроме того, у Эдуарда завязались интриги и с несколькими другими французскими вельможами. Французский флот, состоявший из ста двадцати кораблей и сорокатысячного войска, был разбит в 1341 году английским флотом, которым командовал сам Эдуард, в то же время поддерживавший в Бретани графа Монфора, воевавшего против племянника короля. Пользуясь советами другого изменника, Жоффруа д’Аркура, Эдуард высадился в Нормандии. Нарушив под каким-то предлогом заключенное перемирие, он подошел к самому Парижу, потом отступил в Пикардию, преследуемый французами, которые неосторожно напали на него при Креси (1346 год). Исход этой знаменитой битвы известен: французы были разбиты и потеряли тридцать тысяч человек. Говорят, что у англичан было несколько пушек. Летописи впервые упоминают об этом новом тогда изобретении. Вслед за этой блестящей победой Эдуард осадил Кале (в 1347 году), который сдался, претерпев страшный голод. Жители опустошили город, но король щедро вознаградил их за убытки. Ко всем этим бедствиям присоединились еще голод и чума. Чума, впрочем, свирепствовала во всей Европе и унесла, как уверяют историки, около четверти населения. Уныние достигло крайней степени. Никто более не хотел ни платить, ни сражаться. Финансами в то время заведовали по большей части итальянцы и бессовестно грабили всех – их прогнали. Образовалась секта фанатиков, называемых флагеллантами, которые толпами ходили по городам и селам, бичуя себя до крови, думая этим умилостивить разгневанные небеса. Король умер в 1350 году, глубоко огорченный, ненавидимый подданными, особенно за то, что учредил акциз на соль. При нем Франции было подарено герцогство Дофине, с условием, чтобы наследник престола носил титул дофина, а Иоанна Анжуйская продала Авиньон папам.Король Иоанн – Его плен – Генеральные штаты управляют делами – Жакерия
Иоанн, сын Филиппа VI, был еще несчастнее отца, к тому же не отличался рассудительностью. Он начал с того, что по неизвестным причинам велел обезглавить графа д’Э, своего коннетабля. Затем он терпел всякие напасти от деятельного и могущественного злодея Карла Злого, короля Наваррского, в то время как имел возможность его усмирить. Эдуард III возобновил военные действия во Франции; тогда Иоанн, из необходимости добыть денег, созвал очередные Генеральные штаты (в 1355 году). Это одна из замечательнейших эпох в истории Франции; следует на ней остановиться. Филиппу Красивому удалось значительно усилить королевскую власть: он ее освободил от владычества пап и укрепил созывом Генеральных штатов, тогда еще не имевших понятия о своих правах. Соперничество трех сословий должно было утвердить превосходство королевской власти; притом Штаты считали себя лишь советом, единственное назначение которого состояло в утверждении воли государя. Теперь же они становились на совсем другую высоту. Не станем говорить о знаменитых Штатах Лангедока, созванных на юге Франции. Северные штаты получили несравненно большее влияние. Они действовали, руководствуясь следующим принципом: король не вправе требовать налога без согласия народа в их лице как его представителей. Они настаивали на том, чтоб самим взимать налоги и использовать их на месте; отправили по всем провинциям своих депутатов собирать налоги; назначили постоянную комиссию из трех членов каждого сословия для надзора за административными действиями в промежутках между сессиями; приняли величайшие предосторожности для обеспечения разумного использования остаточных сумм и ограничения расходов короля; наконец, они постановили снаряжение общинной милиции и набор большого войска. Принц Уэльский Эдуард, сын Эдуарда III, или, как его обыкновенно называют, Черный Принц, один из знаменитейших героев того времени, вступил с Францией в войну. Укрепившись с войском из 8 тысяч человек в выгодной позиции близ Пуатье, он жестоко разбил и взял в плен Иоанна, напавшего на него с 60-тысячной армией. Дофин Карл созвал Генеральные штаты, которые и в этот раз выказали большую твердость и сознание своих прав как представителей нации; всеобщее неудовольствие придавало им большую силу. Штаты снарядили представителей для расследования народных жалоб под председательством епископа Ланского Роберта Лекока и Этьена Марселя, прево торговцев. Субсидии они соглашались давать лишь на строгих условиях: требовали удаления королевских советников и замещения их депутатами, назначенными из всех трех сословий. Оскорбленный двор попробовал собрать подати без разрешения Штатов, но народ не стал платить. Пришлось согласиться на все условия. Дофин прибег к средству, испытанному его предшественниками для пополнения финансов, но разорительному для народа: к порче денег. Париж под предводительством всё того же Марселя восстал. Король Наваррский, находившийся в плену, бежал и поддержал восстание. Перед народом держали речи поочередно то он, то дофин, то Этьен Марсель. Последний был популярнее всех, потому что слыл известным патриотом и принадлежал к буржуазии. Карл Злой был интриганом и честолюбцем и служил только временным орудием народа. В Париже водворилась настоящая демократия. Инсургенты носили в виде знака отличия шапку, выкрашенную в красный и синий цвет. Марсель уже начинал составлять федерацию французских городов, когда дофин бежал в Компьень, принял титул регента и созвал новые Генеральные штаты. Франция находилась в крайнем смятении. Пользуясь неурядицами и безначалием, дворянство попыталось снова возложить на крестьян прежнее железное ярмо. Но времена были уже не те, крестьяне, вооруженные палками и вилами, нападали на замки, жгли и грабили их, а владельцев избивали; потом они рассеялись партизанскими отрядами по всей стране и перебили и перерезали много народу. Эта дикая война известна под названием Жакерии[7]. От излишеств, анархии и бедствий междоусобной войны до полного деспотизма – один шаг; от усталости люди готовы всё бросить, всё уступить. Компьенские штаты это доказали. Субсидии, правда, они предоставили, но отменили всё сделанное предыдущими Штатами как затею бунтовщиков и изменников. Несколько депутатов были приговорены к смерти. Париж, обложенный блокадой, покорился, Этьен Марсель был убит, и регент въехал в столицу. По договору, заключенному с Англией в 1360 году, Иоанну возвращали свободу с условием отдать половину королевства и четыре миллиона золотых экю; однако Эдуарда упросили взять только треть Франции и три миллиона экю. Убедившись, что нет возможности собрать такую громадную сумму с разоренной страны, Иоанн вернулся в Лондон, где вскоре умер. При всех своих недостатках он был храбр и честен. Получив по наследству Бургундию, Иоанн отдал ее одному из своих сыновей: таково было начало знаменитого Бургундского дома. Эта несчастная удельная система долго вредила Франции, дробя и ослабляя ее, и без того уже изнуренную.Карл V – Дюгеклен – Королевская власть вновь усиливается – Обзор XIV века
Когда Карл V в 1364 году вступил на престол, всё требовало исправлений, и он сумел многое изменить, будучи умен и осторожен. Карл [Мудрый] умел выбирать людей и применять их там, где они могли принести больше пользы. Карл Злой не переставал интриговать и вредить. Против него был послан превосходный полководец Дюгеклен, который и разбил его. В Бретани продолжалась яростная война. Монфор, поддерживаемый англичанами, одержал победу и взял в пленДюгеклена, после чего был заключен мир. В то время военное сословие стало истинным бичом для населения. Когда распускали отряды – точно хищных зверей спускали с цепи; надо было против них воевать, так что самый мир делался причиной и началом новой войны. Надо было идти походом в Испанию, и Дюгеклен отправился туда с нарочно для этого нанятыми отрядами, избавив от них таким образом Францию. К сожалению, он опять был взят в плен Черным Принцем. Карл V, будучи экономным, своей бережливостью поправил финансы. Жители Гиени были недовольны англичанами, и он воспользовался случаем, чтобы объявить Англии войну (в 1361 году). Благодаря Дюгеклену она окончилась счастливо. Суд пэров приговорил английского короля и принцев, как мятежных вассалов, к конфискации их французских владений. Дюгеклен, назначенный коннетаблем, исполнил этот приговор, выгнал англичан из Франции и разбил их в Бретани, несмотря на то, что герцог Бретонский был с ними в союзе. В одной Аквитании англичане очистили тысяча четыреста городов и три тысячи крепостей. Новые предательства короля Наваррского, долгая война против герцога Бретани, усердно поддерживаемого своими подданными и Англией, составляют конец царствования Карла V. При нем же произошел распад церкви на восточную и западную. Когда папский престол был перенесен из Авиньона обратно в Рим, три папы были избраны единовременно; государи принимали сторону того или другого, и из этого вышли споры, войны и всякого рода скандалы. Карл V, став королем, уже не созывал Генеральных штатов: он не забыл их сопротивления. Ограничившись тем, что иногда присутствовал на заседаниях парламента, он заставлял принимать законы, сначала посоветовавшись о них с ним. Управлял он, как утверждают, по-отечески. Однако следует признать, что Карл больше заботился об усилении королевской власти, нежели о расширении свободы народа. В этом веке ум человеческий достиг не слишком много. Пока капуцины спорили и даже дрались из-за решения вопроса о том, какие капюшоны им носить, – круглые или острые, один неаполитанец изобрел компас. Карл V покровительствовал образованию и собрал до девятисот книг, впрочем, всё больше об астрологии. Университеты множились, но в них занимались только богословием и диалектикой. Переводили на французский язык Саллюстия, Цезаря и других латинских авторов, произведения которых случайно сохранились в некоторых монастырях. Монахи средних веков оказали науке большие услуги в качестве библиотекарей и переписчиков.Штаты – Малолетство Карла VI – Его умственное расстройство
Мы дошли до одного из самых бедственных периодов французской истории, до 1380 года. Карл VI вступил на престол малолетним. Дяди его, братья покойного короля, оспаривали друг у друга регентство. Герцог Анжуйский, получив его, использовал свою власть, чтобы обогатиться. Он опустошил казну к тому времени, как король достиг совершеннолетия. Парижане восстали и отказались платить налоги. Правительство для вида отменило налоги указом и созвало Генеральные штаты. Штаты согласились дать субсидии, но двор хотел произвольно собрать большую сумму: народ перебил присланных чиновников. Призвали войска, и окрестности столицы были преданы опустошению. Сам Париж откупился. Король, в 1383 году возвращаясь из Фландрии, где кровопролитно усмирял восстание против герцога, въехал в Париж во главе своей армии, велел арестовать наиболее богатых представителей буржуазии, нескольких казнил, в том числе и одного почтенного семидесятилетнего старца, объявил, что все поголовно заслуживают смерти, и насилу удовлетворился огромной контрибуцией. Война во Фландрии продолжалась и едва не была перенесена в Бретань, в отмщение за взятие в плен коннетабля Клиссона. Желая освободиться от власти своих двух дядей, король в 1388 году попытался сам заняться государственными делами, назначив этого коннетабля своим главным помощником. Герцог Бурбонский, потомок Людовика IX по младшей линии, возвратившись из блестящей, но бесполезной экспедиции в Африку против мусульман, разжег воображение молодого короля, который некоторое время спустя носился с фантастической идеей крестового похода, но ограничился тем, что пошел в Италию помогать одному из пап. Примерно в это же время (в 1392 году) барон Краонский, один из многих могущественных злодеев, пользовавшихся тогда полной безнаказанностью, предательски убил Клиссона и бежал в Бретань. Его не выдали, и король пошел на Бретань с войском. Когда он однажды проезжал густым лесом, какой-то человек, безобразный собою, в белых одеждах, выскочил из кустов, схватил лошадь короля за узду и крикнул: «Король, не ходи дальше, – тебя предали!» Этого было достаточно, чтоб расстроить слабый мозг Карла VI: он окончательно лишился рассудка. Некоторое время спустя король как будто излечился, но опять помешался после того, как на выходе с маскарада платье на нем внезапно загорелось. Тщетно мнимый колдун лечил его: сознание Карла светлело только временами. К счастью, в 1395 году с англичанами заключили перемирие, и король их, Ричард II, женился на дочери Карла. Два монаха, взявшиеся исцелить короля, но вместо того только ухудшившие его состояние, были казнены за то, что возвели ужасные подозрения на герцога Орлеанского, его единственного брата. Подозрения эти, однако, возобновились: герцогиню, уроженку Милана, обвинили даже в попытке отравить дофина, а герцога – в покушениях на брата посредством чернокнижия и в преступной связи с королевой Изабеллой Баварской. Королева, со своей стороны, совершенно прибрала к рукам больного мужа и бесчеловечно с ним обращалась: он с детьми нередко терпел нужду. Между тем герцог Орлеанский был назначен наместником королевства и возбудил тем зависть Иоанна Бесстрашного, герцога Бургундского. Между ними началась смертельная вражда, у каждого появилась своя партия. Однажды (в 1404 году) герцог Орлеанский предложил новый налог. Иоанн, бывший в совете, восстал против налога ради своей популярности, уехал из Парижа и вернулся к столице с войсками. Королева и наместник бежали, а Иоанн задержал дофина. Однако после этого, в 1404 году, враги, по-видимому, помирились: вместе причастились, проспали ночь в одной постели. И вдруг на герцога Орлеанского напали убийцы, и герцог погиб. Вероломный Иоанн не мог отпереться от обвинения в убийстве, ушел из Парижа, но опять вернулся с войском и везде появлялся с наглой самоуверенностью. Наместника, впрочем, ненавидели и не жалели о нем. Нашелся даже один монах, который оправдывал это убийство, уверяя, что вполне позволительно лишить жизни тирана, – учение, не раз впоследствии возобновленное иезуитами. Тем временем Иоанн Бесстрашный, усмирив люттих-цев, восставших против своего епископа и владетельного государя, триумфально вернулся в Париж и с тех пор деспотически управлял государством, имея в своем подчинении короля и весь двор. Сын герцога Орлеанского, поддерживаемый графом д’Арманьяком, взялся за оружие, чтоб отомстить за отца; сражения происходили тут и там. Враждебные партии назывались: одна – арманьяки, другая – бургундцы (бургиньоны). Король, в один из своих светлых промежутков, принял сторону племянника, пошел на Иоанна с войском, а потом подписал несколько договоров, впрочем, никогда не соблюдавшихся.Продолжение междоусобиц – Англичане в Париже – Постоянный парламент
Ясно, что Францией в то время распоряжалось честолюбие вельмож. Эта олигархическая анархия продолжалась в XIV, XV и XVI веках. Отметим характеристики этого периода. При чисто феодальной системе вельможи были самостоятельными государями и вырывали друг у друга владения, но, с тех пор как усилилась королевская власть, те же вельможи, по большей части принцы крови, начали оспаривать друг у друга управление всем государством и казну всей нации. Ничто так губительно не действует на нравственность народа, как дробление на партии, имеющие главами того или другого принца. Народ забывает о своих интересах, чтоб служить чужим страстям, которые он бессмысленно усваивает себе; в выигрыше одни злодеи, все остальные – жертвы. Занятые исключительно бесцельной междоусобной войной, французы забыли и думать о Генеральных штатах и вскоре подверглись одному из неминуемых последствий придворных партий – иностранному владычеству. В 1415 году английскому королю Генриху Y обстоятельства показались благоприятными. Высадившись с незначительным войском, он перешел реку Сомму; французы, несравненно более многочисленные, дали ему при Азенкуре сражение и были разбиты; но эта победа осталась без дальнейших последствий: англичане, чувствуя себя недостаточно сильными, переправились через Ла-Манш обратно. Партии разошлись пуще прежнего. Д’Арманьяк вступил в переговоры с Генрихом V и признал его французским королем. Королева [Изабелла Баварская] приняла сторону Иоанна Бесстрашного, освободившего ее из заключения, которому Карл подверг ее за распутство. Иоанн хитростью вошел в Париж и перерезал почти всех своих врагов: за три дня погибло три тысячи пятьсот человек. Сам Иоанн вскоре после того, в 1419 году, в свою очередь погиб от руки убийцы. Королева объединилась против дофина[8] с сыном Иоанна. Генрих V приехал к ним в Труа и был признан регентом. Он въехал в Париж с большим великолепием и женился на дочери Карла VI [Екатерине Валуа]. Вскоре после того, в 1422 году, он умер. Карл VI пережил его ненамного. Говорят, народ искренне оплакивал Карла, хотя никогда не видал от него добра; но бедный король был уж очень несчастлив, а народ от природы добр. Схизма в католическом мире продолжалась: всё еще правили двое пап. Наконец Констанцский собор решил спор в пользу одного из пап, а другого низложил. По приказанию этого же собора были сожжены знаменитый чешский проповедник Ян Гус и ученик его Иероним Пражский. Парламент, прежде созывавшийся на один год, стал постоянным. Советники получили право представлять королю на утверждение новых членов. Так начало усиливаться влияние этого собрания, которое до тех пор внушало уважение своими правами и неподкупностью, но впоследствии тоже стало применять это влияние во зло. При общем неблагополучии особую силу составлял университет. Благодаря одной из дарованных ему вольностей преступления, совершенные его членами, не подлежали ведению гражданского суда. Это, конечно, являлось злоупотреблением, часто имевшим своим следствием безнаказанность, но такое уж было время: куда ни повернись, у всех разные преимущества и исключительные права.Орлеанская дева – Карл VII – Освобождение Франции
Дофин Карл VII, изгнанный королевой и Генрихом V, перенес, в качестве регента, парламент из Парижа в Пуатье. Маршал Лафайет одержал для него победу над англичанами при Боже. Герцог Бедфордский, со своей стороны, провозгласил себя в Париже регентом Генриха VI, младенца. Таким образом, англичане владели более чем половиной королевства; кроме того, они имели союзниками герцогов Бургундского и Бретонского. Карл VII был храбр, но слаб характером и предан удовольствиям: он легко подчинялся влиянию своих собутыльников и фавориток. Сначала Карл VII взял несколько крепостей, но при Вернейле в 1424 году потерпел поражение. Знаменитые Дюнуа[9], Да Гир[10], Да Тремуйль[11] были доблестными рыцарями, но неудачливыми полководцами. Положение становилось отчаянным. Осажденный Орлеан уже готов был сдаться, когда молодая пастушка, побуждаемая религиозной экзальтацией, взялась спасти Францию, убежденная, что она на то назначена Небом. Сперва над нею смеялись, потом заразились ее восторженностью и поверили ей. В латах, со знаменем в руке, она идет к Орлеану с войском и снимает осаду. Убежденная в том, что ее задача будет исполнена тогда, когда короля коронуют в Реймсе, она провожает его через неприятельские земли на протяжении восьмидесяти миль и благополучно довершает свое невероятное предприятие. Но после этого счастье изменяет героине. Раненая, она попадает в плен к англичанам; безбожный суд монахов и аббатов, председательствуемый братом Мартином [Ладвеню], викарием инквизиции, и епископом Бовесским, Кошоном, обвиняет ее в колдовстве и приговаривает к сожжению. Приговор был исполнен в Руане в 1431 году. Между тем малютку Генриха VI тоже короновали в Париже, а Карл VII продолжал истощать свои скудные средства на празднества. Но дела приняли новый оборот, и его характер проявил себя с новой стороны. Герцог Бургундский [Филипп], наскучивший деспотизмом Бедфорда, устыдился союза с врагами своего отечества и в 1435 году вступил с Карлом VII в переговоры. Париж отворил королю ворота, англичане очистили столицу, и Карл с триумфом въехал в нее. В добрый час полюбил он Агнессу Сорель – она закалила его душу и имела на него благотворное влияние. Он отличился в сражениях, завоевал Нормандию, победил [знаменитого английского полководца] Толбота – и англичане вынуждены были в 1451 году окончательно покинуть Францию. Нация почерпнула в согласии новые силы. Последние годы царствования король посвятил восстановлению порядка, но и эти годы были отравлены восстанием дофина, будущего Людовика XI. Этот бессовестный интриган сумел склонить к измене даже старых друзей отца. Он удалился в свою область, Дофине, а потом к герцогу Бургундскому, который с удовольствием его принял. Король умер в 1461 году, снедаемый горем и беспокойством. Мать его, безбожная Изабелла, умерла в нужде Париже, еще в бытность в этом городе англичан. В народных нравах и политическом устройстве государства в это царствование произошли значительные перемены. Вельможи усиливали королевскую власть, потому что эксплуатировали ее в свою пользу. Создали жандармерию, то есть постоянную кавалерию, и корпус пеших стрелков. В прежние времена, когда не было средств платить наемным войскам, их ставили по нескольким общинам гарнизонами. Теперь же появилась постоянная подать на плату солдатам; она взималась без согласия Штатов. Местные судебные обычаи каждой области были записаны. Базельский собор в 1431 году ограничил папскую власть, а собрание французского духовенства в Бурже составило в том же духе знаменитую Прагматическую санкцию – основную хартию независимости галликанской церкви. Парламент утвердил ее. Одним из замечательных людей этого царствования был Жак Кёр, купец, помогавший казне своим состоянием и назначенный королевским казначеем. Впоследствии он был приговорен к изгнанию и лишен всего состояния. За что – осталось неизвестным; всего вернее, его преследовали из зависти.Людовик XI – Угнетение народа и унижение вельмож
Людовик XI, несмотря на свою хитрость, начал с того, что дал себя провести папе и отменил в угоду ему ненавистную Риму Прагматическую санкцию. Впрочем, в значительной мере этот закон соблюдался и после отмены. Король весьма скоро дал заметить свое намерение унизить вельмож. Они составили против него коалицию, которую назвали Лигой общественного блага – предлог и ширма, удобные для всех партий. Карл Смелый, наследник Филиппа Бургундского, герцог [Франциск] Бретонский, герцоги Бурбонский [Жан] и Беррийский [Карл] дали Людовику в 1465 году при Монлери кровавое сражение, исход которого, однако, остался сомнителен. Но король, ловкий политик, затянул войну переговорами, делал вид, что готов уступить, чтоб выиграть время, и наконец отнял у брата, Карла Беррийского, Нормандию, переданную ему в удел совсем недавно в результате переговоров после битвы. Созванные в Туре Генеральные штаты утвердили эту меру, заявляя со своей стороны, что дробление Франции на уделы вредит интересам всего государства. Спустя совсем недолгое время король попался в собственные сети. Во время свидания с Карлом Смелым, которого он, по обыкновению, и ласкал, и обманывал, герцог Бургундский вдруг узнал, что французские эмиссары подняли против него жителей города Люттиха. Карл задержал коварного Людовика и принудил его вместе с ним идти усмирять люттихцев. Королю очень хотелось поладить с Карлом, но его же советник, презренный Ла Балю, назначенный кардиналом по его ходатайству, своими интригами помешал успеху дела. Примерно в это время брат короля был отравлен; подозрение справедливо пало на Людовика, и Карл воспользовался этим предлогом, чтоб объявить ему в 1472 году войну, но не имел большого успеха. Англию давно уже терзали разные партии. В один из периодов спокойствия английский король вздумал возобновить свои притязания на французскую корону, но Людовик купил у него мир и еще остался в выигрыше. Ему очень хотелось также прибрать к рукам владения Рене Анжуйского, короля Сицилийского, но Рене вступил в сношения с герцогом Бургундским. Тогда Людовик пригрозил его дяде потребовать его на суд парламента. Рене уступил, и Анжу был присоединен к короне. Прованс впоследствии тоже поступил в коронные владения по духовному завещанию преемника Рене. Людовик XI пером и хитростью приобрел много земель. Однако его расчеты были весьма расстроены браком дочери и наследницы Карла Смелого с Максимилианом Австрийским, сыном императора: этот союз создавал Людовику еще одного могущественного врага. Бургундия, согласно закону об уделах, возвращалась под французский скипетр, но Фландрия отказалась подчиниться Людовику. Сразились. Французы взяли Франш-Конте и временно присоединили к этой области Артуа. Так кончилась история удельной бургундской монархии, причинившей Франции много зла. Но Фландрия, осколок этой монархии, еще долго служила поводом к войнам с Австрийским домом. Упомянем о смерти Карла Смелого. Пожираемый своей беспокойной натурой и не зная уже, на кого бы наброситься, он отправился воевать со швейцарцами, у которых и взять-то было нечего. Но Карл не знал, с кем имеет дело, и поплатился за безумное предприятие жизнью и уничтожением почти всей своей армии. Последние годы жестокого и коварного Людовика XI были наполнены преступлениями и всяческими ужасами. Он заперся в крепости, боялся своих слуг, родного сына, даже своего врача. Скупой, вероломный, суеверный, он весь был увешан образами и ладанками и беспрестанно нарушал свои же обеты и клятвы. Людовик до ужаса боялся смерти, хотя жизнь сделалась для него постоянной пыткой. Он умер в 1483 году. Многие историки считают Людовика XI популярным и прогрессивным королем за то, что он казнил и сажал в железные клетки вельмож и принцев, а буржуазию поддерживал. Но это мнение едва ли не ошибочно. Злодеяния непременно извращают и притупляют нравственное чувство народа. Притом же Людовик XI если к сильным был жесток, то и для слабых оставался деспотом. Если он и покровительствовал буржуазии, поощрял промышленность, то прежде всего из жадности, чтоб было с кого брать подати. Почту он учредил единственно для того, чтоб скорее и дальше доставала его железная рука. Единственное, за что можно его похвалить, это за права, дарованные общинам, да за следующую статью одного из его судебных постановлений: «Ни один буржуа не может быть задержан, если представит поруку в том, что явится к суду». Это и есть самая сущность английского Habeas Corpus. Странно, что французы XIX века не пользуются теми гарантиями, которыми Людовик XI наделял буржуазию в веке XV! Мало того, мы находим такие же положения для обеспечения личной свободы в установлениях Людовика Святого и в капитуляриях Карла Великого. Людовик XI первым принял титул христианнейшего короля: он, который казнил за свою жизнь сорок тысяч человек и под эшафот Жака д’Арманьяка поставил его малолетних сыновей, так что их облило горячей кровью отца, а потом посадил их в железные клетки, где нельзя было ни сесть, ни встать, ни лечь!Карл VIII – Штаты – Война в Италии – Обзор XV века – Людовик XII
Карлу VIII было тринадцать лет, когда умер его отец, Людовик XI. Его старшая сестра была назначена регентшей. Герцог Орлеанский, тоже потомок Карла V, рьяно добивался регентства, но Генеральные штаты, созванные в Туре в 1484 году, решили против него. Возникли сомнения насчет компетентности Штатов решать такой вопрос. «Кому же еще подобает решать его, – воскликнул По, депутат от дворянства, – как не самому народу, тому народу, который в былое время избирал своих королей и облекал их властью, тому народу, в котором пребывает верховная сила?! Когда я говорю “народ”, я разумею совокупность всех граждан, какого бы ни было звания». Такие речи являлись тогда новостью и производили глубокое впечатление. Генеральные штаты занялись нуждами народа, которые в красках были описаны в их отчетах. Во многих провинциях голодные люди бродили по лесам; мужчины, женщины, дети запрягались в плуги по ночам, потому что днем их ограбили бы или схватили рыскавшие везде сборщики податей. Штаты убавили налоги на две трети. Министры протестовали, говорили, что это значит подпиливать королю когти, но им отвечали, что выгоды короля тождественны выгодам народа и облегчить положение последнего – значит служить первому. Между тем герцог Орлеанский (будущий Людовик XII) удалился в Бретань и набирал себе там партию, но был разбит в сражении [в Сент-Обен-дю-Кормье]. Анну, наследную герцогиню Бретани, в 1491 году выдали замуж за Карла VIII; таким способом Бретань была окончательно присоединена к Франции. Герцог Орлеанский был прощен[12]. Молодому Карлу однажды вздумалось пуститься в завоевания; придворные поспешили предсказать ему успех. Он вспомнил, что как наследник Анжуйского дома может предъявить какие-то воображаемые права на Неаполь, и отправился в поход с намерением завоевать сначала Королевство Обеих Сицилий, а потом Константинополь. Он вступил во Флоренцию и в Рим. Ему то помогал, то предавал его Александр VI Борджиа, папа-отравитель. Неаполь Карл действительно взял и устроил там празднества и турниры. В Ломбардии между тем образовался могущественный союз. Французская армия вернулась через Апеннины и разбила итальянскую при Форново в 1498 году, но Неаполь уже был потерян. Испанский король Фердинанд послал туда своего лучшего полководца, знаменитого Гонзальво Кордуанского, который изгнал оставленное там небольшое войско. Вскоре после этой бесполезной экспедиции Карл VIII умер от удара. Летописец Коммин говорит, что он был далеко не умен, но имел очень доброе сердце. Мы дошли до конца XV века. Колумб открыл Америку, Гама обошел мыс Доброй Надежды. Компас открыл путь в новый мир, торговля и честолюбие устремились туда. Торговля, дотоле вращавшаяся в тесных пределах, распространилась на оба полушария. Но изобретение печати приносит человечеству гораздо большую пользу. Это изобретение можно назвать решительным шагом из мрака к свету. Так как Карл VIII не оставил детей, то корона перешла к ближайшему его родственнику, герцогу Орлеанскому. Людовик XII был чуть ли не лучшим из французских королей. Он искренне любил народ, а вельмож удерживал в границах, не притесняя их. «Король, – сказал он при вступлении на престол, – не мстит за обиды, нанесенные герцогу Орлеанскому». Это был уже не тот пылкий честолюбец, который в молодости с оружием в руках добивался регентства. С летами он приобрел зрелость. К несчастью, страсть к завоеваниям, всегдашний недуг французов, увлекла и его. Политические сношения в Европе расширялись. Людовик XI ввел в обиход коварство и вероломство, все тайны которых раскрыл нам Макиавелли. Новейшая европейская политика, не известная ранее, которая обращается с народами как с вещью, приданым, наследством, ходячей монетой для вознаграждения убытков, была в полном разгаре. Людовик XII развелся с женой, чтоб жениться на вдове Карла VIII и тем сохранить Бретань; тут он поступил умно. Но он имел право на Ломбардию, наследство от бабки [Валентины Висконти], и отправился завоевывать Миланское герцогство. Задуманное было исполнено в двадцать дней. Французы вновь взяли Неаполь и вновь были изгнаны войсками Фердинанда. Потом пришлось бороться против папы, воинственного Юлия II, который сам командовал войсками и ходил на приступы. В то время почти вся Европа объединилась в Камбре против могущественной Венецианской республики. Людовик XII первым пошел против венецианцев и разбил их, но лига скоро расстроилась. И тогда, оставленный папой и испанским королем, Людовик с согласия французского духовенства объявил Юлию II войну. По случаю недостатка в деньгах французам пришлось уйти из Миланского герцогства. Ла Тремуйль скоро воротился туда, но был разбит швейцарцами, несмотря на подвиги знаменитого Байарда. В то же время англичане соединились с императорскими войсками и разбили французов в Пикардии. Наконец Людовику удалось заключить мир с Генрихом VIII, английским королем, и жениться на его сестре (овдовел он незадолго до того). Людовик XII умер в 1515 году, не сделав Франции столько добра, сколько ему хотелось. Он берег казну и уменьшил налоги. Он умел отыскивать умных и достойных людей и привлекать их к себе, он покровительствовал земледелию и промышленности, наблюдал за правосудием и требовал безусловного исполнения законов. Людовик имел достойного помощника в лице своего министра, кардинала д’Амбуаза. К несчастию, Генеральные штаты при нем собирались только один раз. Единственным учреждением, возвышавшим голос за народ, оставался парламент, хотя, по существу, это было судебное место. Но народ, не имея других представителей, радовался, что такое уважаемое и притом постоянное собрание принимает на себя роль его защитника. Судьи иногда противились королевской власти, отказываясь записывать в архив королевские указы; это равнялось косвенному участию в законодательстве. Такое подобие совещательного собрания, иногда прекословившее сильным мира сего, в свое время принесло много пользы.Франциск I – Карл V – Лютер и Кальвин – Эпоха Возрождения
Людовика XII называли королем-мещанином. Франциск I прославился как король-рыцарь. Он тоже был потомком Карла V, только по другой линии. Он был красив, храбр, щедр до крайности, самоуверен – вообще был блестящей личностью, но, увы, весьма плохим политиком. «Мы напрасно трудимся, – говаривал Людовик XII, – этот молодец всё испортит». Он не ошибался. Чтобы добыть денег на поход в Италию, Франциск начал с того, что стал продавать судейские места. Набрав нужные суммы, он перешел через Альпы и разбил швейцарцев при Мариньяно. Потом (в 1516 году) он заключил с папой Львом X конкордат, отменявший Прагматическую санкцию. По смерти германского императора он явился в качестве кандидата на престол, соперничая с прямым наследником покойного императора и испанского короля, которого и избрали: это был знаменитый Карл V. Из соперника он превратился в опасного врага: Франциск, при своем легкомыслии и неосторожности, никак не мог успешно помериться с тонкой политикой своего противника. К примеру, он заключил союз с Генрихом VIII, но Карл сумел его расторгнуть. Другой враг Франциска, папа Лев X, помог императору отнять Миланское герцогство у французов, которых там ненавидели. Вся Европа объединилась против Франции, и один из ее лучших полководцев, коннетабль Бурбонский, перешел на сторону неприятеля. Франциск не смутился. Он сам отправился в Италию, дал в 1525 году, наперекор советам своих опытнейших воинов, роковую битву при Павии, был взят в плен и отправлен в Мадрид. В виде выкупа ему пришлось уступить Бургундию и другие менее значительные земли, но этот договор не был исполнен, потому что Бургундские штаты наотрез отказались подчиниться иностранному владычеству. Объединившись против императора с новым папой Климентом VII, Генрихом VIII и Венецией, французский король снова перешел Альпы, осадил Неаполь, но в армии его началась чума, и он опять вынужден был уйти из Италии. Мир подписали в Камбре, и вопрос о выкупе был решен с помощью двух миллионов золотых экю. Примерно в то же время герцог Бурбонский, не будучи в состоянии платить своим наемным войскам, повел их грабить Рим. Папа, не успевший оставить города, заплатил большую сумму Карлу V[13], который взял дань, но, впрочем, просил прощения у его святейшества за причиненное беспокойство. В это время в Германии готовился великий религиозный раскол, давший новый толчок мысли и послуживший поводом к громадному перевороту, бытовому и политическому. Льву X нужны были деньги, чтобы достроить собор Святого Петра в Риме; для этого он разослал по всей Европе доминиканских монахов: они предлагали народу покупать индульгенции и проповедовали, или, вернее, торговали, не только в церквах и на улицах, но даже по кабакам. Скандал вышел ужасный. Мартин Лютер, тогда еще августинский монах, ученый и пылкий богослов, начал громить в проповедях папу и всё духовенство. Затем, вооруженный текстом Священного Писания, он стал нападать на католические догматы и всё церковное устройство; он доказывал, что следует молиться на своем, живом языке, а не на мертвом, непонятном никому; он отвергал исповедь и монашеские обеты – словом, требовал коренных преобразований. Папа отлучил его от церкви, но это не помешало новому учению в несколько лет охватить весь север Германии. Генрих VIII, отлученный от церкви за то, что развелся со своей первой женой, принцессой Арагонской, с досады отрекся от католичества и стал во главе английских протестантов. Последователи нового учения приняли это название, потому что протестовали против Шпейерского сейма[14], осудившего их. Император Карл V сначала преследовал их, но потом, из политической осторожности, пощадил. Франциск I между тем в Германии вступал с ними в союз, а во Франции жег на кострах. В 1535 году в Италии возобновились военные действия; предлогом послужил какой-то ничтожный поступок герцога Миланского, Сфорцы. Император, со своей стороны, хотел вторгнуться во Францию, но это ему не удалось. Обвиненный в отравлении дофина, он был затребован к суду парламентом, который конфисковал Артуа и Фландрию по причине неявки ответчика. Хитрый Карл выговорил себе перемирие с правом проехать через Францию в Гент, восставший против него. После этого король с императором опять поссорились, и в 1542 году война вспыхнула снова. Корабли короля соединились с кораблями турецкого корсара Барбароссы; сражения проходили на всех границах. Граф Энгиенский одержал в Италии большую победу, но безо всякой для Франции пользы. Карл V в союзе с Генрихом VIII проник до Суассона, в Креспи опять был подписан мир, но он не принес даже недолгого спокойствия. Жители части Прованса, где сохранились традиции альбигойцев, приняли лютеранство, и прованский парламент приговорил их к сожжению. Войска, возвратившиеся из Италии, привели этот приговор в исполнение, и более трех тысяч человек погибли за веру от руки хищников, называвших себя, весьма неосновательно, христианами. Это не помешало Кальвину поучить множество учеников, хотя проповедуемая им религиозная реформа была гораздо суровее лютеранской. Его учение, основанное в Женеве, где он жил постоянно, с изумительной быстротой распространилось по Швейцарии, Франции, Голландии и Англии. Франциск I умер в 1547 году. Это был один из самовластнейших французских королей. Он душил народ налогами, ни с кем не советуясь. Вместо Генеральных штатов он созывал собрания нотаблей, то есть придворных, которых выбирали нарочно и которые только со всем соглашались. Он подчинил галликанскую церковь папе и своим поведением в частной жизни развратил своих подданных. В то же время его царствование было самой цветущей эпохой искусства и литературы, и надо отдать Франциску должное: он действительно им покровительствовал. Он основал Парижский университет и ввел в делопроизводство французский язык.Генрих II – Продолжение войны
Генрих II характером весьма походил на отца. В их царствованиях тоже заметно некоторое сходство. Генрих продолжал войну против Карла V и взял у него Мец, Туль и Верден (в 1553 году). Германский император обложил Мец стотысячным войском. Герцог Гиз, первый прославившийся член Лотарингского дома, впоследствии столь могущественного, отбил его. Карл отмстил, разорив дотла два города, но в 1555 году Европа вдруг с удивлением узнала, что он отрекается от престола и удаляется в монастырь. Брат его Фердинанд сделался императором, а сын Филипп – испанским королем. Этот последний был Людовиком XI своего времени и самым могущественным государем Европы. Он ее двигал могучим рычагом – золотом Мексики и Перу. Пока французы без успеха вели новую войну в Италии, герцог Савойский, командовавший испанскими войсками, одержал бедственную для Франции победу при Сен-Кантене (в 1557 году). Началась паника, стали укреплять Париж, потому что испанцы легко могли войти в него. Филипп счел за лучшее отступить. Вскоре герцог Гиз, назначенный наместником королевства, исправил положение, захватив у англичан Кале. Наконец был заключен мир. В Англии начиналось царствование дочери Генриха VIII, знаменитой Елизаветы. Через некоторое время (в 1509 году) Генриха нечаянно убил на турнире один из его рыцарей. В это царствование, как и в предыдущее, женщины пользовались при дворе огромным влиянием. Придворные интриги причинили Франции много бед. Генрих II подчинялся своей знаменитой фаворитке, Диане де Пуатье, которая уже властвовала над его отцом. Всеобщая распущенность нравов достигала едва представимых размеров, как это видно из сатирических сочинений Рабле и наивно-правдивых мемуаров Брантома. В 1558 году были созваны Генеральные штаты, и в сессии их участвовал и парламент, представляя нечто вроде четвертого сословия. Эта странная модель более не повторялась.Религиозные партии при Франциске II
Вельможи, униженные при Людовике XI, при его преемниках обратились в царедворцев. Придворный блеск и роскошь привлекали их к королю, а дальше они обучались покорности. Когда прекратились иностранные войны, в вельможах опять проснулся дух независимости – и снова возобновились партии. Поводом или предлогом теперь служила религия. Принц Конде и брат его, король Наваррский, стали главами протестантской партии. Герцог Гиз, дядя Марии Стюарт, жены короля, руководил партией католиков. У коннетабля Монморанси тоже была своя партия. Королева-мать, Екатерина Медичи, женщина фальшивая и властолюбивая, то привлекала к себе каждую партию, то предавала, стараясь удержать между ними равновесие. Одного судью повесили за то, что он был протестантом, и его единоверцы составили в Амбуазе заговор с целью отмстить за него. Дело было в 1560 году. Гиз помешал затее, и заговорщики умерли с оружием в руках. Решено было созвать Генеральные штаты в Блуа, чтоб заманить туда Бурбонов. Конде там арестовали и приговорили к смерти. Уже готовились его казнить, когда король неожиданно умер. Франциск II был юношей превосходной души, но личность его совершенно исчезает в истории его царствования. Преемником его был его десятилетний брат – Карл IX.Карл IX – Междоусобная война – Варфоломеевская ночь
Штаты не принесли мира. Канцлер Лопиталь, почтенный гражданин, философ, мудрый и честный государственный деятель, тщетно старался склонить обе стороны к умеренности и согласию. Впрочем, снова ввели в силу статьи Прагматической санкции, касавшиеся избрания епископов, но этим и ограничились. Екатерина на время склонилась на сторону кальвинистов, или, как их называли во Франции, гугенотов, и предложила в 1561 году их главам свидание в Нуасси – с целью разрешить все споры. Однако свидание только более растравило вражду. В это самое время во Франции поселились иезуиты, хотя королева-мать, со своей стороны, декретом провозгласила свободу совести. Дерзкое насилие, совершенное людьми герцога Гиза в Шампаньи, послужило поводом к избиению множества гугенотов, и в 1563 году вспыхнула междоусобная война. Протестантов разбили при Дрё роялисты; предводители обеих армий попали в плен. Герцог Гиз осадил Орлеан и был убит в этом городе. (Это был честолюбец, которому религия служила только в качестве средства к собственному возвышению.) Последовал краткий мир. Опять начались безнаказанные притеснения со стороны католиков, и гугеноты опять были доведены до отчаяния. Конде задумал похитить короля, чтоб забрать в руки всю власть, но это ему не удалось. При Сен-Дени произошла битва, в которой погиб Монморанси, но исход которой остался сомнительным. После краткого перерыва война вновь возобновилась. Получив помощь от немцев и англичан, гугеноты в 1569 году дали сражение при Жарнаке и были побеждены герцогом Анжуйским, братом короля. Принц Конде был предательски убит на поле битвы, в минуту, когда сдавался. Колиньи, опытный и осторожный полководец, поправил дело и собрал все свои силы. Юный Генрих Наваррский, которого он воспитывал и приучал к войне, стал главой кальвинистской партии. В это время герцог Анжуйский одержал победу еще и при Монконтуре. Несмотря на эти две неудачи, протестанты опять заключили выгодный для себя мир, но под сговорчивостью католической партии таилась черная измена. Предоставив гугенотам четыре города, в которых они пользовались бы полной безопасностью, даровав им гражданские свободы и свободу совести, Екатерина привлекла их предводителей ко двору и сумела совершенно успокоить их. В 1572 году Генриха даже женили на сестре короля. Но едва закончились свадебные празднества, как вдруг ночью роялисты стали ломиться в дома гугенотов и избивать их без различия пола и возраста. Лувр был залит кровью; сам король стрелял в беглецов со своего балкона. В тот же час такие же ужасы совершались в большинстве провинций. Ум мутится от такой бесчеловечности, и едва верится, что нашлись только два порядочных человека, которые отказались стать палачами[15]. Доблестный старец Колиньи был убит; Генриха и молодого Конде принудили к немедленному отречению от протестантства. Король не стесняясь говорил, что всё это сделано по его приказанию, а парламент всё одобрил и учредил ежегодную благодарственную процессию по поводу истребления 100 тысяч своих соотечественников. Известно, что папа римский, получив известие о резне, публично благодарил Бога и отслужил торжественное благодарственное молебствие. Действие гонений и жестокостей всегда одно и то же: мученики порождают прозелитов[16]. Война снова вспыхнула в 1573 году, и на этот раз герцог Анжуйский потерял 24 тысячи человек, осаждая Ла-Рошель. Даже женщины сражались до последних сил. Король Карл умер в 1574 году. Странной аномалией кажется то, что он был остроумен, писал стихи и покровительствовал литературе. В это царствование закрылся длившийся много лет Тридентский собор, который занимался вопросами дипломатического этикета и осуждением протестантов. Лопиталь оказался ангелом-хранителем в эти бедственные времена. Среди кровопролитных распрей он усовершенствовал гражданское законодательство, но умер в немилости. Нравы этой эпохи представляют странную смесь изысканности и грубости. До 1564-го год начинался в Светлое Христово воскресенье, следовательно, не в один и тот же день, и только в 1564-м был издан декрет, утвердивший начало года с 1 января. Однако парламент целых три года отвергал эту реформу – он всегда испытывал какую-то необъяснимую антипатию ко всяческой новизне.Лига – Шестнадцать кварталов – Генрих III
Герцог Анжуйский, только недавно уехавший в Польшу, где он был избран королем, вернулся во Францию и вступил на престол под именем Генриха III. Счастье сопутствовало ему, пока он находился во главе армии, но как король он оказался весьма бесталанным и очень ленивым и предавался, с одной стороны, ханжеству, с другой – самому низкому разврату. Ему советовали щадить кальвинистов – он поступил наоборот. Брат его, герцог Алансонский, и Генрих Наваррский, впоследствии Генрих IV, объединились против него. Кальвинистам, однако, сделали несколько политических уступок: в 1576 году издали эдикт, призванный всех примирить. Тогда образовалась так называемая Католическая лига, коалиция ультракатоликов: они обязывались защищать веру и короля, слепо повинуясь своему предводителю – Генриху Гизу по прозванию Меченый. Когда в Блуа созвали Генеральные штаты, Лига получила в них перевес. Сам король разрешил эту коалицию. Обе партии взялись за оружие и сохраняли положение взаимных наблюдателей. Между тем члены Лиги начинали уже ослушиваться короля. Они даже сделали запрос папе о том, позволительно ли ослушание монарха ради блага религии. Папа ответил утвердительно. Гиз выставил в качестве номинального главы Лиги старого кардинала Бурбонского, который издал манифест ко всем католическим государям, и перепуганный двор начал во всем уступать Лиге. Папа Сикст V отлучил от церкви Генриха Наваррского и Конде, которые, впрочем, не очень этим смутились. Вспыхнула война, названная войной трех Генрихов. Казнь Марии Стюарт, последовавшая в Англии по приказанию протестантки Елизаветы, еще больше ожесточила католиков. Генрих Наваррский разбил при Кутра роялистов, но Гиз в тоже время разбил немецких кальвинистов, спешивших на помощь Генриху. В это время в Париже организовалось так называемое восстание шестнадцати. Оно охватило шестнадцать кварталов общины, которые были вполне равносильны секциям 1792 года. Сорбонна перешла на сторону инсургентов и поддерживала их своим авторитетом. Собравшись в Нанси, главные члены Лиги предъявили королю свои требования. Он не хотел уступать и вызвал в Париж швейцарцев. Тогда буржуазия схватилась за оружие, загородила улицы, ведущие к Лувру, и оцепила войска. Король бежал, оставив столицу Гизу с Лигой. Этот день был назван Днем баррикад[17]. Опять в Блуа собрались Штаты (1588 год), члены Лиги опять оказались в большинстве. Занялись преимущественно Тридентским собором, а отнюдь не восстановлением порядка: партии всегда забывают об общих интересах. Гизы достигли высшей степени могущества: они легко могли играть роль Пипина или Гуго Капета. Король это понял и, не будучи в состоянии открыто им сопротивляться, тайно подослал к ним убийц. Но после них остался еще третий брат, герцог Майенн: он сделался главой Лиги. Ярость этой сильной партии не знала пределов: королю осталось всего несколько городов. Тогда, уже в 1579 году, он понял необходимость помириться с Генрихом Наваррским. Они обнялись, и прошлое было забыто. Отлученный от церкви, король, увлекаемый Генрихом, пошел на Париж. Они были уже в Сен-Клу, когда вдруг некий монах, слабоумный юноша, экзальтированный и подпавший под влияние иезуитов, зарезал короля. Парижане радовались убийству и прославляли убийцу, Жака Клемана, как святого. К этому царствованиюследует отнести преобразование календаря и введение нового стиля папой Григорием XIII. Генрих III основал орден рыцарей Святого Духа, предназначенный исключительно для католиков. Екатерина Медичи умерла в 1589 году, ненавидимая всеми партиями.Конец Лиги – Вступление Генриха IV в Париж – Обзор XVI века
С Генрихом III угасла ветвь Валуа. Корона по наследственному праву перешла к Генриху Бурбону, королю Наваррскому, – как к ближайшему потомку Людовика IX. По качествам своим Генрих был достоин своего великого предка. Он вырос в горах, между пастухами, далеко от всех развращающих влияний, а теперь должен был вооруженной рукой отстаивать свое законное право. Испытанный в несчастьях, разделяя как равный труд своих товарищей, он был прежде всего хорошим человеком. Признаваемый лишь несколькими провинциями, нуждаясь в поддержке и финансах, он боролся против давнего врага герцога Майенна, который в своем многочисленном войске имел и испанскую пехоту – лучшую в Европе. Генрих уже хотел ехать в Англию, когда неожиданно встретил Майенна при Арке (в 1589 году) и разбил его, имея в своем распоряжении всего пять тысяч человек. Тогда он пошел прямо на Париж и чуть не взял его. В Париже между тем только что объявили королем (под именем Карла X) его родственника, старого кардинала Бурбонского. Генрих еще раз победил Майенна при Иври и во время этой знаменитой битвы беспрестанно кричал: «Спасайте французов!» Зятем он обложил Париж блокадой. Лига защищалась с ожесточением: полки составлялись даже из священников и монахов. Наступил ужасный голод, доходивший до того, что муку и хлеб делали из костей, часто человеческих. Но Генрих пропускал в город припасы. Герцог Фарнезе, знаменитый полководец [испанского короля] Филиппа II, подошел к Парижу с большим войском и заставил Генриха снять осаду. Тем временем герцог Савойский вторгался в Дофине и Прованс, новый папа предал Генриха анафеме, а Филипп II прилагал все старания, чтоб французским королем избрали его, в чем ему помогали парижские инсургенты. Генрих осадил Руан[18] в 1591 году, но Фарнезе освободил и этот город. В Париже составилась новая партия – политиков. Эта партия состояла из умеренных католиков, желавших мира и готовых признать короля. Наскучив кровавой борьбой, враждебные партии наконец сошлись на конференцию. Генрих решился на торжественное отречение от протестантизма, произнеся свою знаменитую фразу: «Париж стоит мессы». Майенн подписал перемирие; Лига пала под общим презрением, выместив последнюю ярость в покушении на жизнь Генриха; и король вступил в Париж 22 марта 1592 года. Заканчивался XVI век, один из самых славных в истории человеческого ума. Во всех отраслях науки и искусства рождались гении. Галилей, Коперник, Торричелли, несмотря па инквизицию, приложили к так называемой философии разум и опыт, между тем как педанты Парижского университета дрались из-за произношения буквы Q. Бэкон внес стройный порядок в систему человеческих знаний, Монтень привнес независимый взгляд на изучение человека; но к политическим вопросам приступали еще слишком робко. Гроциус[19] искал ответы у древних авторов или в Библии, а не в природе. Религиозная реформа, однако, породила некоторый республиканский дух. Кальвинистские политики, тогдашние либералы, пытались еще в 1675 году устроить конституционное правление, но общественное мнение пока для этого не созрело. Голландия боролась против Океана и испанского владычества и победила. Генеральные штаты этой республики призвали было брата Генриха III, но тот принял слишком высокомерный тон; французы имели глупость кричать: «Vive la messe!» («Да здравствует месса!») – их и прогнали.Царствование Генриха IV
В 1594 году Генрих восстановил парламент, а потом решился устроить некоторого рода слияние между кальвинистами и членами Лиги. Два раза было совершено покушение на его жизнь: уж очень его не любили иезуиты. Их изгнали из Франции, с общего согласия парламента, Университета и церкви, и папа простил королю эту дерзость. Однако герцог Майенн не унимался. Генрих разбил его при Фонтен-Франсез и простил его. Потом он объявил воину Филиппу II, армия которого взяла Кале, но Генриху не хватало денег на эту войну. Он созвал в Руан нотаблей и просил у них совета, то есть денег. И в 1597 году испанцы были побиты. Меркер, губернатор Бретани, всё еще держался за Лигу, но так же был покорен в 1598 году. Мир заключили и с Филиппом, который вскоре после того умер. Кальвинисты громко роптали на недостаточность оказываемого им покровительства и открыто заявили свое неудовольствие на собрании в Сомюре. Тогда Генрих издал в их пользу знаменитый Нантский эдикт, которым, впрочем, право открыто исповедовать протестантскую веру подчинялось еще довольно стеснительным условиям. До полной свободы совести было еще далеко, однако ревностные католики остались весьма недовольны и этой уступкой. Одно событие, происшедшее около этого времени (в 1600 году), заставляет нас подробнее рассмотреть, каким тогда было положение вельмож и каким образом пало могущество пэров. Один из принципов феодализма – единственно справедливый – заключался в том, что каждый должен быть судим равными себе, своими пэрами. Пэрами, судившими проступки крупных вассалов, были: герцоги Нормандский, Бургундский и Аквитанский, графы Тулузский, Шампанский и Фландрский. Они, кроме того, имели право заседать в совете короля, сами будучи владетельными государями; понятно, как стеснительны должны были быть для королевской власти такие советники. Филипп Красивый создал новых пэров с целью ослабить это учреждение, которое было до того сильным, что пэр считался выше принца крови. Во время междоусобных войн пэрство ослабло само собою; разделенные пэры были уже не так страшны. Генрих IV нанес сильный удар их притязаниям одной только энергией, с которой он при каждом случае проявлял свою королевскую волю. Но губернаторы провинций во времена анархии присвоили себе громадную власть и задумали сохранить эту власть на манер графов времен Карла Лысого. Майенн, Меркер, Немур хотели обеспечить себе наследственные самостоятельные княжества. Маршал Бирон вступил в переговоры с герцогом Савойским с той же целью. План их состоял в том, чтоб сделать из Франции феодально-избирательную федерацию по примеру германской. План был открыт, и Бирон, хоть и являлся товарищем короля по оружию, был казнен (в 1602 году) по приговору парламента. Последние события этого царствования – возвращение иезуитов по просьбе папы; заговор, составленный Генриеттой д’Антраг, на которой Генрих когда-то обещал жениться; посредничество между папой, венецианцами, Испанией и Голландией. Генрих IV готовился к войне с Австрией и обдумывал «План вечного мира» и европейской федерации – тот самый, который еще долго будет мечтой всех филантропов, – когда погиб под ножом фанатика Равальяка. С помощью Сюлли, своего министра и друга, Генрих IV внес порядок и экономию в финансы: до того в государственное казначейство поступало не более пятой доли налогов и податей. Генрих был истинно добрый человек и умел внушать к себе любовь, но он всё гнул и ломал под себя, даже сопротивление парламента. Трудно понять, каким образом государь, говоривший, что каждый селянин должен иметь возможность в воскресенье сварить курицу к обеду, мог подписать возмутительный по своей жестокости приказ, приговаривавший тех же поселян к каторге за убиение кролика. Надо признаться, что деспотизм Ришелье и Людовика XIV получил свое начало именно в царствовании Генриха IV. Однако ему принадлежит великая, несомненная слава: он один из всех французских королей доселе живет в памяти простого народа.Людовик XIII – Ришелье
Шел 1610 год. Так как Людовику XIII было всего девять лет, то парламент назначил мать его, Марию Медичи, регентшей, опять же присваивая себе право, принадлежавшее Генеральным штатам. Всё, что было сделано в предыдущее царствование, уничтожили разом: Сюлли был отставлен, накопившиеся остаточные суммы без толка растрачены; флорентийский авантюрист Кончини – впоследствии маршал д’Анкр – и жена его, Леонора Галигаи, разоряли Францию, пользуясь безграничным влиянием на регентшу. Вельможи и партии вновь встрепенулись. Хотя в 1614 году и были созваны Генеральные штаты, но им задали лишь церковные вопросы. С тех пор и до самой Революции Штатов более не созывали. Жалобы парламента на злоупотребления оставили без внимания; Конде, стоявший во главе недовольных и кальвинистов, был арестован. Один из пажей Людовика по имени Люинь, сделавшийся его любимцем, посоветовал королю отделаться от министра, чтоб потом стряхнуть с себя и власть регентши. Король, слабохарактерный и потому жестокий, приказал убить Кончини. Жену его обвинили в колдовстве и сожгли на костре, а их громадные богатства получил новый фаворит. Людовик XIII был из людей, энергично исполнявших то, что им подсказывают другие, и мстивших за свою обычную покорность вспышками жестокости. Он изгнал свою мать и обошелся с нею очень сурово. Она два раза восставала против него, поддерживаемая несколькими вельможами. Кальвинисты тоже восставали несколько раз и получали выгодные для себя условия. Именно тогда, в 1624 году, явился на сцену Ришелье, привлеченный еще покойным Кончини и живший в уединении с самого его падения. Этот человек обладал непреклонной волей, которой стремился подчинить всех людей. Это был совершеннейший тип деспота: он всё подмял своей железной рукой. Прежде всего он решил нагнать страху на вельмож и для этого, подобно Людовику XI, приговорил нескольких из них к смерти. Он окружил себя собственной гвардией, уничтожил высокие должности адмирала и коннетабля, облекавшие громадной властью тех, кому они вручались. Сначала он как будто щадил кальвинистов, но вскоре нанес им чувствительный удар, отняв города, где им была обеспечена личная безопасность. Целый год Ришелье осаждал Ла-Рошель и в конце концов взял крепость (в 1627 году), хотя город защищал английский флот и ларошельцы держались геройски, несмотря на все ужасы голода. Ришелье до основания срыл эту твердыню кальвинизма и победил Рогана, предводителя армии реформатов. Говорят, намерением реформаторов было основать федеративную республику наподобие нидерландской. Если бы они имели успех, история Европы сложилась бы совершенно иначе. Речь идет о царствовании собственно не Людовика XIII, а кардинала Ришелье, перед которым все преклоняли колена. [Испанский] Руссильон завоевали в 1628 году. Австрия была унижена. Последовало несколько войн с Испанией, с переменным успехом. Каталония также отдалась Франции. Гениальный Ришелье ловко управлял пружинами политики и отстоял достоинство Франции в Европе. Несмотря на это, вся его эпоха носит печать скуки и угрюмости. Изредка вспыхивали слабые попытки сопротивления, всегда усмиряемые казнями: маршал Марильяк был казнен в 1630 году; герцог Монморанси, взятый с оружием в руках, был приговорен к смерти тулузским парламентом и казнен в 1632 году, несмотря на то, что король его помиловал; Сен-Марс и де Ту были обезглавлены в 1642 году за то, что составили заговор против кардинала с разрешения и согласия самого короля, которому наскучили самовластие и надменность министра. Наконец кардинал умер. Людовик XIII едва успел вздохнуть свободно, как тоже скончался, в 1643 году, точно Ришелье увлек его за собою, чтоб не дать ни минуты пожить на свободе. Правление Карла V и Генриха IV, при всей жестокости, не забивало и не унижало французский характер, как это делал мрачный деспотизм Людовика XI и Ришелье. Притязания парламента, некогда объявившего себя частью государственной власти, оказывались весьма не к месту при таком правителе. Однажды, когда члены парламента отказались внести в архив какой-то приказ, Ришелье заставил короля потребовать их к себе и продержал на коленях всю аудиенцию. Он учредил Академию, но не признавал таланта за Корнелем, а философ Декарт, преследуемый ханжами, вынужден был уехать в Швецию.Мазарини – Малолетство Людовика XIV – Фронда
Людовику XIV в год смерти отца исполнилось всего пять лет. Парламент самовластно назначил регентшей его мать, Анну Австрийскую, женщину кокетливую и бесхарактерную. Ее фаворит, итальянец Мазарини, воспитанник Ришелье, управлял страной вместо нее. Это был человек ловкий и гибкий, прикрывавший свой деспотизм хитростями и, по-видимому, считавший, что искусство управлять сводится к искусству обманывать. Война с Австрией продолжалась безо всякой цели. В ней отличился молодой герцог Энгиенский, впоследствии Великий Конде. Он одержал победы при Рокруа и Фрейбурге. Тюренн победил при Нердлингене (в 1644 году) и взял Дюнкерк, а Конде опять победил при Лансе. Эта война, во время которой шведы оказались полезными союзниками, окончилась выгодным для Франции Вестфальским миром. Едва был заключен мир, как неудовольствие вельмож против Мазарини усилилось. Они объединились с парламентом, а народ иногда поддерживал их и, в частности, заставил двор освободить двух арестованных членов парламента, построив несколько баррикад. Однако народу, собственно говоря, вовсе не было дела до этих ссор: он не мог ожидать выгод от их разрешения в любом случае. Борьба эта, получившая название Фронды, вообще была несерьезной. Это были не партии, а как будто клики: дрались и в то же время сплетничали, острили и смеялись. Мемуары того времени исполнены забавных рассказов об этой оригинальной междоусобной войне. Конде, недовольный двором, уехал. Мазарини его арестовал, потом выпустил, и герцог, видя, что гроза собирается не на шутку, уехал из Франции и вернулся с семью тысячами солдат, что не помешало назначить за его голову награду. Конде и его партию поддерживали испанцы. Сражения происходили даже в самой столице, в предместье Сент-Антуан (в 1653 году). Парламент назначил нерешительного Гастона, герцога Орлеанского, наместником королевства, и Мазарини как будто удалился от дел. Фронда, не имея более предлога воевать, рассеялась. Тогда, в 1653 году, Мазарини вернулся в Париж вместе с молодым королем. Единственным результатом этой легкомысленной вспышки стало укрепление его власти. Конде отправился в Нидерланды, где его ждали испанцы; война между ним и Тюренном продолжалась еще долго; Пиренейский мирный договор положил ей конец в 1659 году: в силу этого договора Франции оставлялись Артуа, Руссильон и Эльзас, а Людовик XIV женился на инфанте Марии Терезии. Мазарини, умирая, оставил власть в надежных руках. Людовик еще шестнадцатилетним юношей однажды вошел в парламент в охотничьем костюме, в высоких сапогах со шпорами и с арапником в руках: он желал категорически запретить парламенту вмешиваться в государственные дела. Пока французы занимались фрондированием, в Англии совершился страшный политический переворот: последовали междоусобная война, казнь короля Карла I и провозглашение республики под протекторатом Кромвеля.Пышный период царствования Людовика XIV
Людовик XIV задался целью стать самым могущественным государем в Европе и достиг ее при помощи нескольких даровитых людей, которых сумел привлечь к себе. Кольбер поправил финансы, дал сильный толчок торговле и промышленности, покровительствовал ученым, заново организовал всю администрацию. Гениальный инженер Рике посвятил свою жизнь и всё свое состояние сооружению Лангедокского канала. Был создан флот, могущий помериться с флотами Англии и Голландии. Король заставил иностранные державы уважать его посланников, а по смерти испанского короля Филиппа IV, в 1688 году, объявил Испании войну, основываясь на мнимых правах его дочери, королевы Марии Терезии. Фландрия была завоевана в короткое время, Франш-Конте – в три недели. Тогда Голландия, Англия и Швеция составили союз в пользу Испании, и по условиям Аахенского договора Франция возвратила Франш-Конте, но оставила себе Фландрию, которую Вобан хорошенько укрепил. Людовик XIV был раздражен против Голландии, он не мог не чувствовать антипатии к этой цветущей республике, не уступавшей ему в гордости. Он собрал против нее 200-тысячное войско и сам отправился в поход с Тюренном, Конде и Люксембургом, с помощью которых и совершил знаменитый переход через Рейн, прославляемый как чудо военного искусства в то время, когда, не стесняясь, сравнивали с Цезарем короля, ездившего на войну в карете, со всем придворным штатом. Вторгнувшись в Голландию, Людовик предложил ей убийственные условия. Отчаяние породило геройство, и Рюйтер, знаменитый голландский адмирал, одержал в 1673 году несколько побед над английским и французским флотами. Голландцы затопили свою землю, чтоб сохранить свободу, и Людовик XIV вынужден был отступить. Он снова завоевал Франш-Конте и приказал Тюренну опустошить Пфальц. Конде сражался с голландским штатгальтером при Сенефе (в 1678 году), но единственным результатом этой битвы стало убиение 25 тысяч человек. Адмирал Дюкен прославил французский флот тремя победами на Средиземном море, и Неймегенский мир утвердил за Францией ее завоевания. Скоро, однако, штатгальтер [принц Оранский] пытается вторгнуться во французские владения; маршал Люксембург отбивает его атаку. В 1681 году взят Страсбург. Король послал бомбардировать Алжир, чтобы научить пиратов уважению к французской торговле. По его приказанию начали бомбардировать и Геную – за то, что эта республика помогала Алжиру. Людовик XIV был на вершине могущества. Ни одному королю не курилось столько фимиама. Неслыханное великолепие Версаля, поглощавшее все ресурсы Франции, еще усиливало его упоение. Он вздумал истребить ересь: придворные дамы и иезуиты рукоплескали. Он послал в Севенны миссионеров с драгунскими отрядами для обращения кальвинистов огнем и мечом[20]. Нантский эдикт был отменен (1685 год), храмы разрушены, детей отнимали от отцов, чтоб сделать их католиками. Восемьсот тысяч мирных жителей увезли с собой в добровольную ссылку свою ненависть и свои ремесла; имения их послужили наградами их гонителям. Негодовавшая Европа объединилась против этого невыносимого деспотизма в 1687 году в Аугсбурге. Голландский штатгальтер стал душой этой коалиции, но именно в это время был призван англичанами, окончательно прогнавшими Стюартов, и вступил на английский престол под именем Вильгельма III. Людовик XIV поспешил предложить свое покровительство изгнанному Якову II. Вспыхнула ужасная война. По приказанию Лувра опять запылал несчастный Пфальц. Люксембург победил Вильгельма в нескольких битвах. Катина, полководец-философ, одержал важные победы над Савойей. С другой стороны, Турвиль, сначала с успехом воевавший против англо-голландского флота, потерял четырнадцать линейных кораблей при Ла-Хог. Наконец в 1697 году при Рейсвейке заключен мир – просто от усталости. Людовик XIV подписал его уже не триумфатором, как прежде: Франция была разорена.Бедствия в последние годы правления Людовика XIV – Обзор XVII века
Испанский король, не имея прямых наследников, решился в 1700 году, после долгих колебаний между Французским и Австрийским царствующими домами, составить духовное завещание в пользу одного из внуков Людовика XIV. Это, увы, подало повод к новой ужасной войне. Людовик имел в то же время неосторожность раздразнить Англию, открыто приняв сторону сына Якова II. Посылая внука своего, Филиппа V, в Испанию, Людовик произнес знаменитую фразу: «Нет более Пиренеев!» Принц Евгений, лучший полководец императора, несколько раз разбивал в Савойе старика Вильруа. Герцог Савойский, Виктор Амадей, отступился от Людовика, несмотря на родственные связи с Бурбонами. Герцог Мальборо торжествовал в Нидерландах[21], зато Виллар в 1703 году разбил императорскую армию при Гохштете, где на следующий год французы, в его отсутствие, в свою очередь были разбиты Евгением и Мальборо[22]. Англичане захватили Гибралтар и Барселону. Герцог Ванд ом с успехом отбивался от Евгения в Италии в 1706 году, когда Мальборо одержал над Вильруа решительную победу при Рамийи[23]. Тогда и на юге счастье изменило французским войскам: они были разбиты под Турином, неприятель осадил Тулон: эрцгерцог[24] короновался в Мадриде, и внук Людовика XIV потерял бы Испанию, если бы Бервик не одержал за него победу при Альмансе (в 1707 году). Людовик просил мира; ему предписывали самые тяжкие условия: требовали, в частности, чтобы он сам отозвал своего внука с испанского престола. Людовик предпочел продолжать войну, несмотря на крайнее обеднение народа, который был уже не в состоянии платить подати. Увы, французская армия опять была разбита (при Мальплаке в 1709 году), и король опять смирился, но его предложения были отвергнуты. Вандом тем временем поправил дела в Испании; Мальборо, попав в немилость, удалился; с Англией заключили перемирие, а Виллар, застигнув Евгения врасплох при Денене, одержал над ним блистательную победу. Последствием ее был Утрехтский мир, заключенный в 1713 году. Потом Виллар перешел Рейн, разбил еще и императорские войска и подписал с Евгением Раштадтский мир (1715 год). Исход этой разорительной войны был не так бедственен для Франции, как ожидали. Самым унизительным условием оказалось срытие Дюнкерка[25]. Почти одновременная смерть дофина и герцога Бургундского довершила несчастья Людовика XIV. Он умер в 1715 году семидесяти семи лет от роду, процарствовав семьдесят два года. Он оставил Франции два миллиарда шестьсот миллионов долга и стал причиной смерти более миллиона человек. Боготворимый при жизни, он умер в унынии и одиночестве; народ проклинал его. Семнадцатый век принято называть веком Людовика XIV, потому что этот государь придал ему блеск, великолепие и величавую пышность; но пользы он своему народу не принес никакой. Он сделал Францию могущественной в Европе, но поработил ее дома, он стал виной тому, что в течение целого века у французов не было национального духа. Нация забывала себя и смотрела только на него, слушала только его, а когда он сказал свое знаменитое «Государство – это я!», она ему поверила на слово. Суетный блеск ослепил народ, и без того уже слишком склонный боготворить какого-нибудь одного человека и одному ему вверять себя и свою судьбу. С другой стороны, это был золотой век французской литературы. Однако философская мысль поневоле пришла в застой, потому что на всякую свободную мысль накидывались иезуиты: они клеймили ее именем ереси и преследовали. О свободе совести тоже не могло быть речи: янсенисты подверглись жестоким гонениям, не столько за свои религиозные убеждения, собственно говоря, даже не установившиеся на чем-нибудь определенном, сколько за то, что нарушали единство. Ведь требовалось, чтобы вся Франция мыслила одинаково с королем. Этим объясняется густой слой лицемерия, покрывавший тогдашние, в действительности крайне распущенные, нравы. Непостижимо, как могло быть дозволено представление Мольерова «Тартюфа» при таком дворе.Регентство – Людовик XV – Обзор XVIII века
Правнук Людовика XIV сделался королем тоже пяти лет. Парламент отменил духовное завещание покойного короля и назначил его племянника, герцога Орлеанского, регентом с неограниченной властью. Это был человек весьма остроумный, но отъявленный кутила, чрезвычайно легкомысленный по части государственных дел. Французам наскучила однообразная величавость предыдущего царствования, особенно с тех пор, как начались бедствия последних годов. Избавленные от скучного придворного церемониала и религиозной нетерпимости, они предались веселому разгулу с необузданностью школьников, вырвавшихся из-под надзора угрюмого наставника. По поводу войны с Испанией вспомнили, что не худо бы заплатить долги, сделанные Людовиком XIV. Авантюрист [Джон] Ло привез из Шотландии финансовую систему, на которую с жадностью набросились. Правительство расплатилось деньгами обманутых спекулянтов, которые получили только килограммы бумаги и громадные надежды. Биржевая игра кружила всем головы, пока не разразилась страшная катастрофа[26]. Король только еще достиг совершеннолетия, когда в 1723 году регент умер. Новый министр герцог Бурбонский запомнился только гонениями на протестантов. Преемник его, аббат Флёри, 73-летний старец, умеренный и осторожный, сумел воздействовать на всех примирительно. Он доставил Франции продолжительный мир, который был нарушен лишь изгнанием польского короля Станислава Лещинского, тестя Людовика. Тогда вновь были заключены союзы и началась война против императора, состоявшего в союзе с Петром Великим, благодаря которому Европа в первый раз заговорила о России. Кампания произошла в Италии в 1734 году и имела решительный результат. Мир подписали в Вене: Лотарингия осталась за Францией, а Станислав был пожизненно назначен королем Лотарингским. Начавшаяся в 1740 году война за наследство императора, которое дочь его Мария Терезия хотела сохранить в целости, кончилась для Франции менее счастливо. Несколько французских армий погибли почти целиком. Знаменитый прусский король Фридрих, великий политик и великий полководец, завоевал Силезию. В этой войне Франция была союзницей Пруссии и баварского курфюрста, добивавшегося императорской короны; а боролась она против Англии, Голландии и Пьемонта. Маршал Саксонский, командовавший французскими войсками, одержал победу при Фонтенуа (в 1745 году). Людовик XV лично оставался при армии. В Италии победа колебалась, Аахенский мир 1748 года в конце концов увенчал мужество и твердость Марии Терезии. Война свирепствовала также на море. В то время французские торговцы овладели Мадрасом в Индии и основали в этой части света блестящие торговые колонии. Около того же времени Эдуард Стюарт, претендент на английский и шотландский престолы, получив от Франции вспоможение, высадился в Шотландии, но вынужден был бежать, одержав, впрочем, сначала несколько побед. Война скоро началась опять (в 1749 году), на этот раз из-за Канады, которая потребовалась Англии. Успех сначала был на стороне Франции – как в Америке, так и в Европе, – она даже завоевала Ганновер. Война эта послужила поводом к совершенно новым комбинациям. Так, например, Франция объединилась с Австрией против Пруссии, но Фридрих жестоко разбил всю союзную армию при Росбахе (в 1757 году). Однако война тянулась до 1763 года, когда был заключен Парижский мир, отнявший у Франции ее американские владения, кроме Нового Орлеана. Союз, тогда же заключенный с Испанией против Англии под названием Семейного договора, не принес Франции выгод. Лорд Четэм управлял в это время Англией и взрастил ее могущество до высшей степени. В дополнение к общей картине этого царствования следовало бы упомянуть о религиозных и политических интригах, вращавшихся вокруг знаменитой буллы Unigenirus (лат. Единородный Сын), провозглашавшей непогрешимость папы; о новых гонениях, начатых иезуитами и правительством против янсенистов и парламента; о придворном разврате, скандалах и оргиях, которые происходили непрерывно, в то время как народ голодал; о произвольных арестах и заключении в Бастилию невинных; о бесстыдстве, с которым канцлер Мопу сменял честных, неподкупных судей и замещал их самыми презренными негодяями. Но к чему останавливаться на этой прискорбной и отвратительной картине! Мы еще увидим плоды этой позорной эпохи. Царствованию Людовика XV Франция обязана многим: оно заставило ее глубоко задуматься, оно раскрыло ей глаза, оно ускорило становление национальной зрелости. Упомянем, однако, о министре Шуазёле, который отчасти укрепил внешнее достоинство Франции, завоевав Корсику. Напомним об изгнании иезуитов, заподозренных в подстрекательстве против жизни Людовика XV. В благодарность за согласие на эту меру папе был возвращен Авиньон. Следует тоже упомянуть о патриоте [бретонском прокуроре] Ла Шалотэ, который осмелился изобличить от имени парламента Бретани тиранство и взяточничество местного губернатора. Обратим теперь внимание на развитие мысли в XVIII веке, на предмет проклятий всех сторонников невежества, фанатизма и рабства. При всем разврате, характеризовавшем эпоху регентства, следует признать, что именно в это время началось освобождение французской мысли. Литературные парадоксы Ламота свидетельствовали о независимости ума и желании проложить разуму новые пути. Фонтенель популяризировал науку. Монтескье бросил первый смелый взгляд на нравы, вероисповедания и законы различных народов. Вольтер внес философский дух в литературу, а Массильон[27] – на церковную кафедру. Беглые протестанты и раньше уже более или менее содействовали освобождению мысли; англичане в исследовании религиозных вопросов выказали смелость и независимость взглядов, лишь подражателем которых выступал Вольтер; Фридрих Прусский, дилетант в философии, призвал к себе Вольтера и открыто покровительствовал ему. Во Франции образовалась ассоциация ученых философов, которые взялись составить Энциклопедию, то есть осуществить великую мысль Бэкона, только подчинив ее алфавитному порядку. Другая ассоциация, гораздо менее восхваляемая, оказала человечеству чуть ли не большие услуги: я говорю об экономистах, осмеянных и потому недостаточно оцененных. Несмотря на догматический тон, на напыщенность слога и слишком категоричные выводы из начал, ныне оспариваемых, они заслуживают благодарности за то, что направили внимание и любопытство публики к исследованию общественных вопросов. Затейливых систем наплодилась тьма, но полезное направление наконец привлекло к себе внимание, отыскались причины бедности и тяжкого состояния народов, сформировался общественный дух. Адам Смит и его шотландские собратья приложили к этому филантропическому изучению ту же прямоту ума, какую они внесли в философское изучение истории. Итальянцы тоже отличились в этой науке своей прозорливостью и честностью в исследованиях. Пока неутомимые Вольтер, д’Аламбер, Дидро, Дюкло, Мабли, Кондильяк, Мармонтель, Гельвеций вырывали с корнем предрассудки, мешавшие движению человеческого разума, один человек, шедший своим путем, черпал в своем сердце и в общении с природой ту мягкую, духовную, так сказать, философию, которая должна была предохранить нравственное чувство от нападок убийственного безверия. Руссо чувствовал, что философы разрушали, а не строили. И действительно, их школы уже не существует, его же школа уцелела и обогатилась многими превосходными писателями. Вводимый в заблуждение своим тщеславием, часто обманываемый своим мнительным характером, Руссо нередко увлекался парадоксами, но еще чаще не удалялся от правды, ведомый верным нравственным чутьем. Он содействовал преобразованию нравов, представив заманчивую картину семьи и равенства; он решился показать обществу, развращенному двором и подобострастием, неприукрашенную природу; он обратил на детей заботу родителей, прежде едва обращавших на них внимание; он возвысил душу женщин, повлияв на них античной силой и добродетелью. Он сделал больше того: он не только предсказал революцию, он направил к ней умы, написав свою знаменитую книгу «Общественный договор».
Царствование Людовика XVI

Глава I
Политическое и нравственное состояние Франции в конце XVIII века – Морена, Тюрго, Неккер – Калонн – БриеннВсем известны вехи, которые пережила французская монархия; известно, что греки, а потом римляне принесли полудиким галлам войну и цивилизацию; что после них варвары в той же стране устроили свою военную иерархию; что эта иерархия, перенесенная от людей к землям, застыла в виде феодальной системы. Власть разделилась между высшим феодальным главою – королем, и второстепенными главами – вассалами, которые, в свою очередь, были королями для своих подданных. В наше время, когда потребность обвинять друг друга привела к раскрытию взаимных обид, нам достаточно наговорили о том, что сначала вассалы оспаривали друг у друга власть, как это всегда делают люди наиболее к ней близкие; что власть эта впоследствии оказалась раздробленной между ними, что повлекло феодальную анархию; что, наконец, власть вернулась к престолу и сосредоточилась в деспотизме Людовика XI, Ришелье и Людовика XIV. Французское население освободилось постепенно и с помощью труда, этого рычага богатства и свободы. Сначала земледельческое, потом торговое и производственное, оно приобрело такую значимость, что образовалась французская нация. Введенная в Генеральные штаты в качестве просительницы, нация являлась лишь коленопреклоненной и только платила и платила; Людовик XIV объявил, что не хочет допускать даже этих, столь покорных собраний. С этих пор мы видим во главе государства короля, облеченного властью, в точности не определенной в теории, но безграничной на практике; вельмож, отказавшихся от своего феодального достоинства из-за королевской милости и интригами отбивавших друг у друга предоставляемую им долю народного богатства; ниже – огромное население, не имевшее другой связи с этой властвовавшей аристократией, кроме обратившейся в привычку покорности. Между двором и народом стояли парламенты, пользовавшиеся судебной властью и правом превращать королевскую волю в закон. Известно, что, отказываясь занести приказ в сборник законов, парламенты останавливали действие королевской воли, что кончалось личным появлением короля на заседании и обоюдными уступками, если король был слаб, или полной покорностью, если король был силен. Людовику XIV ни разу даже не пришлось вступать в переговоры, ибо при нем ни один парламент не осмелился протестовать; он увлек нацию за собой, и она прославляла его за свои же подвиги на войне, в науках и в искусствах. Между монархом и подданными господствовало полное единодушие, и обе стороны дружно стремились к одной цели. Но едва Людовик XIV скончался, как уже регент представил парламентам случай отмстить за свое долгое бессилие. Воля монарха, беспрекословно чтимая при его жизни, была нарушена тотчас после его смерти: парламент уничтожил его духовное завещание. Власть опять сделалась спорным пунктом, и началась продолжительная борьба между парламентами, духовенством и двором, перед лицом нации, изнуренной долгими войнами и уставшей нести на своих плечах мотовство своих повелителей, предававшихся поочередно то всяким излишествам, то военному делу. Дотоле нация весь свой гений тратила лишь на службу или увеселения монарха, теперь она начала обращать его на собственную пользу, начала изучать свои интересы. Человеческий ум беспрестанно переходит от одного предмета к другому. От церковной кафедры французская мысль обратилась к нравственным и политическим наукам – и всё изменилось. Пусть читатель представит себе расхитителей всех народных прав, в течение целого столетия споривших из-за обветшалой власти: парламенты, преследовавшие духовенство; духовенство, преследовавшее парламенты; парламенты, оспаривавшие власть двора; двор, беспечный и спокойный среди этой борьбы, пожиравший народное богатство в невероятном распутстве; нацию, разбогатевшую и пробудившуюся, взиравшую на эти раздоры, вооруженную обличениями одних против других, лишенную всякой политической деятельности, мудрствовавшую вкривь и вкось, потому что должна довольствоваться теориями, а главное – жаждавшую восстановить свое достоинство в Европе и тщетно отдававшую кровь свою и золото, чтобы вновь занять место, утраченное ею по милости правителей. Вот картина восемнадцатого века. Скандал был доведен до высшей степени, когда Людовик XVI, правосудный, умеренный в своих вкусах, небрежно воспитанный, но от природы склонный к добру, вступил на престол еще очень молодым (в 1774 году). Он призвал к себе старого придворного, чтобы поручить ему попечение о государстве, и разделил свое доверие между Морена и королевой, молодой австрийской принцессой, живой, привлекательной и имевшей на него большое влияние. Морена и королева друг друга не любили. Король, уступая то министру, то жене, рано приступил к своим многолетним колебаниям. Он не скрывал от себя плачевного положения государства и в этом верил философам; но он был воспитан в самом набожном духе и потому чувствовал к философам сильнейшее отвращение. Общественное мнение, тогда громко высказывавшееся, указало Людовику на Тюрго, члена кружка экономистов, человека честного, простого, одаренного твердым характером, умом медленным, но упорным и глубоким. Убежденный в его честности и восхищенный его проектами реформ, Людовик XVI часто повторял: «Я да Тюрго – мы одни любим народ». Реформы эти разбились о сопротивление высших сословий, заинтересованных в сохранении всех привилегий, которые суровый министр хотел уничтожить. Людовик XVI с сожалением отпустил его. В течение всей своей жизни, или, вернее, своего долгого мученичества, он всегда имел несчастье смутно различать вдали добро, искренне стремиться к нему и не иметь достаточной силы, чтобы достичь его.
 Людовик XVI
Людовик XVI
Поставленный между двором, парламентами и обществом, окруженный всякого рода интригами и подсказчиками, король часто менял министров. Еще раз уступая общественному мнению и необходимости реформ, он вручил портфель министра финансов Неккеру (в 1777 году), женевцу, обогатившемуся банкирскими оборотами, приверженцу и ученику Кольбера, как Тюрго был приверженцем и учеником Сюлли, честному и бережливому финансисту, но человеку тщеславному, имевшему претензию быть арбитром во всем – в философии, религии, свободе, – введенному в заблуждение похвалами, расточаемыми ему друзьями и публикой, и потому воображавшему, что он в состоянии вести умы и остановить их на том самом пункте, на котором останавливался его собственный ум. Неккер восстановил порядок в финансах и нашел средства к покрытию значительных расходов, требуемых американской войной. Обладая умом менее обширным, но более гибким, нежели его предшественник Тюрго, а главное – доверием финансистов, он нашел неожиданные источники и возродил кредит. Но для того, чтобы радикально помочь казначейству, мало было финансовой изворотливости – и Неккер попробовал взяться за реформы. Высшие сословия не легче подались ему, нежели Тюрго. Даже парламенты, узнав о его планах, объединились против него и принудили выйти в отставку. Все соглашались с тем, что существовали злоупотребления, все были в этом убеждены; король это тоже знал и жестоко этим мучился. Придворные, имевшие выгоды от этих злоупотреблений, весьма бы желали, чтобы прекратились затруднения казначейства, но так, чтобы это им не стоило ни одной жертвы. Они разглагольствовали при дворе, изрекали философские сентенции; они даже радовались освобождению Америки и с почетом принимали молодых французов, возвращавшихся из-за океана. Парламенты тоже толковали об интересах народа, свысока упоминали о страданиях бедняков и в то же время препятствовали равномерному распределению налогов и истреблению остатков феодального варварства. Все говорили об общественной пользе, но немногие действительно ее желали, а народ, еще не умевший хорошенько разобрать своих настоящих друзей, превозносил всех, кто только противился власти – его самому видному врагу. От устранения Тюрго и Неккера ничто не изменилось, казначейство оставалось всё в том же бедственном положении. Высшие сословия весьма охотно еще долго бы обходились без вмешательства нации, но надо было как-то существовать: расточительность двора требовала капиталов. Нужда, устраняемая на мгновение отставкой какого-нибудь министра, займом, принудительной податью, вскоре являлась в увеличенном объеме, как всякое запущенное зло. Начинались колебания, как всегда, когда нужно принять решение ненавистное, но необходимое. Придворная интрига в 1783 году сделала министром де Калонна, нелюбимого публикой за то, что он содействовал преследованиям Ла Шалотэ[28]. Калонн, остроумный, находчивый, изворотливый, полагался на свой ум, на удачу, на людей и вообще относился к будущему с крайней беззаботностью. Он считал, что не следует заранее пугаться и достаточно открыть зло накануне того дня, когда нужно его исправить. Он обворожил двор своими манерами, тронул усердными стараниями всё согласовать, доставил королю и всем несколько сравнительно легких минут, и по его милости за мрачными предзнаменованиями последовало мгновение светлого спокойствия и слепого доверия. Однако будущее, которого так опасались, приближалось; надо было наконец принять решительные меры. Не следовало обременять народ новыми податями, а казна опустела окончательно. Пособить можно было лишь одним способом: сокращением расходов, особенно пенсий и подарков, а если бы этого оказалось мало, то распространением податей на большее число плательщиков, то есть на дворянство и духовенство. И Тюрго, и Неккер предлагали эти меры; теперь за них взялся Калонн, но исполнить их удачно он считал возможным лишь в том случае, если добьется согласия привилегированных сословий. Он придумал созвать их на так называемое собрание нотаблей, чтобы изложить свои планы и выпросить у них согласие – либо ловкостью, либо уговорами. Собрание это состояло из сановных лиц, отобранных из дворянства, духовенства и высшего судебного сословия, множества рекетмейстеров[29] и нескольких провинциальных судей. При помощи этого состава и главным образом при помощи популярных вельмож-философов, которых он не забыл ввести в собрание, Калонн льстил себя надеждой достичь цели. Но чересчур доверчивый министр ошибся в расчетах. Общественное мнение не простило ему того, что он занял место Тюрго и Неккера. В восторге от одной мысли заставить министра дать отчет в своих действиях, общество поддержало сопротивление нотаблей. Начались оживленные прения. Калонн имел неосторожность обвинить своих предшественников и отчасти Неккера в состоянии финансов. Неккер возразил, был сослан, и оппозиция усилилась еще больше. Калонн выказал замечательное присутствие духа и спокойствие. Он отрешил от должности хранителя печати[30] Миромениля, состоявшего в заговоре с парламентами. Но торжество его длилось всего два дня. Король, любивший его, обещал Калонну более того, что был в состоянии исполнить. Положение министра пошатнули представления нотаблей, которые обещали согласиться на планы, предлагаемые Калонном,но с тем, чтобы исполнение их поручили министру более нравственному и более достойному доверия. Королева, под влиянием [своего советника] аббата Вермона, в апреле 1787 года предложила Людовику нового министра – [Ломени де] Бриенна, тулузского архиепископа, одного из нотаблей, наиболее способствовавших падению Калонна. Архиепископ Тулузский, имея упрямый ум, но слабый характер, с юности мечтал о министерстве и всеми способами домогался назначения. Главным образом он при этом опирался на протекцию женщин, которым старался и умел нравиться. Бриенн устраивал так, чтобы везде расхвалили его управление в Лангедоке. Сделавшись министром, он если и не был встречен с таким восторгом, как Неккер, но все-таки имел в глазах публики ту заслугу, что сменил Калонна. Пользуясь поддержкой Ламуаньона, нового хранителя печати, заклятого врага парламента, он довольно благоприятно начал работу на министерском поприще. Нотабли, связанные своими обещаниями, поспешили согласиться на всё, в чем сначала отказывали: земельный налог, гербовая подать, отмена барщины, провинциальные собрания. Нотабли соглашались даже с удовольствием, давая этим понять, что противились ранее не самым мерам, а предлагавшему их министру. Общественное мнение торжествовало. Калонна преследовали проклятия, а нотабли, чествуемые и восхваляемые, не слишком радовались почестям, купленным такими большими жертвами. Если бы Бриенн сумел воспользоваться своим положением, если б деятельно приступил к исполнению мер, на которые нотабли только что согласились, если бы он их все вместе и безотлагательно представил парламенту в минуту, когда содействие высших сословий казалось очевидным, дело, быть может, было бы сделано: теснимый со всех сторон, парламент согласился бы на всё, и эта сделка, хоть и не полная и практически принудительная, вероятно, еще надолго замедлила бы борьбу. Ничего подобного не произошло. По причине самого неблагоразумного затягивания скоро появились первые признаки раскаяния и двоедушия: эдикты были представлены один за другим; парламент получил возможность спорить, собраться с силами, опомниться от неожиданного нападения на нотаблей. После долгих прений в сборник законов занесли, наконец, эдикт, вторично отменявший барщину, и другой, дозволявший беспошлинный вывоз хлеба. Всех ненавистнее был земельный налог, но парламент боялся отказом раскрыть глаза обществу и дать заметить, что его сопротивление объясняется лишь своекорыстными соображениями. Парламент колебался, но его выручили из затруднения тем, что одновременно представили два эдикта – о гербовом сборе[31] и земельном налоге, – и прения были начаты с первого. Таким образом, парламент мог отказать в утверждении первого, вовсе не входя в объяснения относительно последнего, а нападая на гербовый сбор, затрагивавший большинство плательщиков, он как будто защищал общественные интересы. Во время одного из заседаний, на котором присутствовали пэры, парламентские ораторы громили злоупотребления, скандалы, расточительность двора и требовали финансовых смет. «Не сметы нам нужны, а Генеральные штаты», – сострил один из депутатов[32]. Это неожиданное упоминание всех поразило. До сих пор общество сопротивлялось потому, что слишком много терпело и поддерживало всякого рода оппозицию, будь она в пользу народного дела или нет, лишь бы была направлена против двора, который обвиняли во всех бедах; но, в сущности, никто хорошенько не знал, чего именно желать: общество всегда было так далеко от влияния на правительство, так привыкло ограничиваться жалобами, что и теперь только жаловалось, не помышляя о том, чтобы совершить хоть что-нибудь, тем более революцию. Одно нечаянно произнесенное слово представило взорам цель; все подхватили это слово и стали в один голос требовать созыва Генеральных штатов. Д’Эпремениль, молодой советник (то есть член парламента), пылкий оратор, бесцельный агитатор, демагог в парламенте и аристократ в Генеральных штатах (впоследствии декретом Учредительного собрания объявленный помешанным), – так вот д’Эпремениль при этом явился одним из самых необузданных декламаторов. Но оппозицией тайно руководил Дюпор, молодой человек, одаренный обширным умом и твердым и упорным характером; он один, быть может, среди всех этих смут имел в виду определенную будущность и хотел вести свой кружок, двор и нацию к цели, вовсе не похожей на парламентскую аристократию. Парламент разделился на старых и молодых депутатов. Первые хотели составить противовес королевской власти, чтобы придать своему собранию важности; последние, более искренние и пылкие, хотели ввести в государстве свободу, не разрушая, однако, системы, при которой родились. Парламент сделал одно важное признание: он постановил, что не имеет права назначать подати и налоги, поскольку это право принадлежит Генеральным штатам, и только просил у короля разрешения представить сметы приходов и расходов. Это признание в собственной некомпетентности и даже незаконном присвоении чужого права (так как дотоле парламент не стеснялся налагать подати) должно было всех удивить. Министр, раздраженный таким сопротивлением, тотчас же вытребовал парламент в Версаль и заставил его в присутствии короля занести оба эдикта. Парламент, возвратившись в Париж, стал протестовать и распорядился начать против Калонна дело за расточительность. Решением совета постановления парламента были объявлены недействительными, а сам парламент перемещен в Труа.
 Принц Конде и граф д’Артуа
Принц Конде и граф д’Артуа
В таком положении были дела 15 августа 1787 года. Оба брата короля, граф Прованский и граф д’Артуа, были посланы один в счетную палату, другой в податную, чтобы заставить при себе записать эдикты. Первый, сделавшийся популярным вследствие мнений, высказанных на собрании нотаблей, был радостно встречен огромной толпой народа, которая проводила его до Люксембургского дворца. Графа д’Артуа, напротив, известного как покровителя Калонна, встретили ропотом, на людей его напали, и пришлось даже прибегнуть к вооруженной силе. Парламенты постоянно находились в сношениях с мелкими клиентами, юристами, судебными чиновниками и служителями, писцами, студентами. Всё это был народ деятельный, неспокойный, всегда готовый на любое буйство. К этим природным союзникам парламентов следует прибавить промышленников, которые боялись банкротства, просвещенные классы, готовые поддержать всякую оппозицию, наконец, толпу, которая всегда идет следом за агитаторами. Смута случилась весьма серьезная, и усмирить ее удалось с трудом. Парламент, заседая в Труа, собирался каждый день. Но не являлись ни адвокаты, ни прокуроры, и правосудие было приостановлено, как это случалось уже не раз в течение этого времени. Однако судьям наскучила ссылка, а Бриенн сидел без денег. Он уверял, что деньги есть, только чтобы успокоить двор, лишь об одном этом и тревожившийся; но их не было и, не будучи в состоянии покончить со всеми затруднениями энергичным образом, Бриенн вступил в переговоры с некоторыми членами парламента. Он требовал займа в 440 миллионов, с разбивкой на четыре года, с тем чтобы по истечении этого срока созвать Генеральные штаты. Выдвигая такие условия, Бриенн отказывался от двух эдиктов, причинивших столько вреда. Уверившись в нескольких членах, он надеялся на согласие всего собрания, и парламент был вызван обратно в Париж 10 сентября. Двадцатого числа того же месяца состоялось заседание в присутствии короля. Король лично представил эдикт о займе и созыве Генеральных штатов. Никаких объяснений насчет характера этого заседания предварительно не давали, и члены парламента не знали, как себя держать. Лица были мрачны, господствовало полное молчание, пока герцог Орлеанский, с расстроенным лицом и всеми признаками сильного волнения, не встал и не спросил короля, будет ли заседание lit de justice (то есть обязывает ли присутствие короля к беспрекословному повиновению), или это обычное заседание в присутствии короля с правом вести свободные прения? «Это обычное заседание», – отвечал король. Фрето, Сабатье, д’Эпремениль говорили с присущим им неистовством, однако эдикты были записаны по формальному приказанию короля. Фрето и Сабатье были сосланы на Йерские острова[33], а герцог Орлеанский – в Виллер-Коттере. Созыв Генеральных штатов отложили на пять лет. Таковы были главнейшие события 1787 года. Год 1788 начался новыми враждебными действиями. Четвертого января парламент издал постановление против королевских бланков[34] и за возвращение сосланных лиц. Король отменил это постановление, но парламент вторично утвердил его. Между тем герцог Орлеанский [Филипп], обязанный безвыездно оставаться в Виллер-Коттере, не мог примириться со своей ссылкой. Рассорившись с двором, он склонил на свою сторону общественное мнение, сначала неблагоприятное. Не обладая ни достоинством принца крови, ни твердостью трибуна, он не сумел снести даже такое легкое наказание и, чтобы добиться возвращения из ссылки, унизился до просьб и обращений к королеве, своему личному врагу. Бриенна препятствия раздражали, но он не имел достаточной энергии, чтобы преодолеть их. Он оказался слаб во внешней политике относительно Пруссии, которой жертвовал Голландией; он был слаб и во Франции, так как подчинялся парламенту и вельможам, и королева оставалась его единственной опорой, а кроме того, ему часто мешало работать плохое здоровье. Бриенн не умел ни усмирять бунтов, ни настоять на сокращении расходов и, несмотря на предстоявшее в самом непродолжительном времени совершенное истощение казны, демонстрировал непостижимую уверенность в завтрашнем дне. Однако среди всех этих затруднений он не забывал ни себя, ни своих родных. Хранитель печати Ламуаньон, менее слабый, но и менее влиятельный, сговорился с Бриенном о новом плане с целью нанесения удара по политическому могуществу парламентов, так как в этом пока заключалась главная цель властей. Было очень важно сохранить тайну плана. Всё было подготовлено молча: военным начальникам провинций были разосланы запечатанные письма; к типографии, где печатались эдикты, был приставлен караул. Этот план должен был сделаться известен лишь в самую минуту сообщения его парламентам. Срок приближался, и стали разноситься слухи о том, что готовится важный политический акт. Д’Эпремениль подкупил одного наборщика и достал у него экземпляр эдиктов. Он тотчас же созвал своих товарищей и смело сообщил им министерское решение. Этим решением в округе парижского парламента учреждалось шесть новых провинциальных судов, имевших целью ограничить его слишком обширную юрисдикцию. Право судить в последней инстанции и записывать законы и эдикты переносилось на Пленарный суд («Cour pleniere»), состоявший из пэров, прелатов, судей и военных начальников, назначаемых королем. Даже начальнику гвардии в этом собрании давался совещательный голос. Этим планом урезалась судебная власть парламента, а политическое значение его вовсе уничтожалось. Парламент, пораженный, не знал, на что решиться. Он не мог рассуждать о том, что ему еще не сообщили, а между тем никак не хотелось попадать впросак. В этом затруднительном положении члены парламента придумали средство и решительное, и ловкое: составили постановление, в котором коротко излагалось и освещалось всё то, что парламент называл учредительными законами монархии, не забывая включить в их число свое существование и свои права. Эта общая мера нисколько не забегала вперед предполагаемых намерений правительства и оберегала всё, что требовалось оберегать. Итак, 5 мая парижский парламент объявил, что «Франция есть монархия, управляемая королем согласно законам, и что из сих законов некоторые суть основные, учредительные: 1) право на престол царствующего дома, в мужском колене, в порядке первородства; 2) право нации свободно выдавать субсидии через Генеральные штаты, созываемые в правильном составе; 3) подчинение и особые привилегии провинций; 4) несменяемость судей; 5) право парламентов проверять в каждой провинции волю короля и постановлять внесение оной в сборник законов лишь в том случае, если она окажется согласной не только с основными законами государства, но и с учредительными законами данной провинции; 6) право каждого гражданина ни под каким видом не быть отданным на суд иных судей, кроме полномочных; 7) право, без коего все прочие права не имеют значения: не быть арестованным по чьему бы то ни было приказу иначе как для того, чтобы быть безотлагательно переданным в руки компетентных судей. При сем вышеозначенный парламент протестует против всякого посягательства на вышеизложенные начала». На это энергичное решение министр ответил своим обычным способом, как всегда бесполезным: он принял строгие меры против нескольких членов парламента. Д’Эпремениль и Гослар де Монсабер, узнав, что им грозит беда, укрылись в здании парламента. Офицер д’Агу отправился туда во главе отряда солдат и, не зная в лицо указанных ему депутатов, вызвал их по имени. Сначала собрание хранило полное молчание, затем все члены стали называть д’Эпременилем каждый себя. Наконец настоящий д’Эпремениль сам последовал за офицером, присланным арестовать его. Поднялся страшный шум: народ с рукоплесканиями и восторженными криками провожал членов парламента. Три дня спустя король во время торжественного заседания заставил парламент записать эдикты, и собравшиеся по этому случаю принцы и пэры представили образ того нового суда, который долженствовал заступить на место парламентов. Суд Шатле немедленно составил заявление против эдиктов. Ренский парламент объявил бесчестными тех, кто войдет в состав Пленарного суда. В Гренобле жители защитили своих судей от двух полков, сами войска, подстрекаемые к ослушанию военным дворянством, отказывались действовать. Когда военный начальник Дофине собрал своих полковников и спросил их, может ли рассчитывать на солдат, все промолчали. Самый молодой, которому приходилось отвечать первому, объявил, что не следует рассчитывать на его солдат, начиная с их полковника. На это сопротивление министр ответил постановлениями большого совета, которыми отменялись решения парламентов, а восемь из них подвергались ссылке. Двор, тревожимый высшими сословиями, которые боролись против него, ссылаясь на интересы народа и призывая народ вмешаться, прибег, со своей стороны, к тому же средству: решился призвать на помощь среднее сословие, как это некогда делали французские короли, чтобы обессилить феодализм, и стал всеми силами торопить созыв Генеральных штатов. Были предписаны исследования о способе их созыва, писатели и ученые приглашались заявить свое мнение, и, пока собравшееся духовенство объявляло, что следует ускорить срок созыва, двор принял вызов, приостановил открытие Пленарного суда и назначил первое заседание Генеральных штатов на 1 мая 1789 года. Тогда, 24 августа 1788 года, последовала отставка архиепископа Тулузского, своими смелыми, но слабо исполняемыми планами вызвавшего сопротивление, которое следовало или не вызывать, или победить. Удаляясь от дел, Бриенн оставил казну в совершенном истощении, уплату доходов по обязательствам ратуши приостановленной, все власти в борьбе между собой, все провинции вооруженными. Что касается его самого, то министр получил награду в восемьсот тысяч франков, архиепископство Санское и кардинальскую шапку, так что он точно поправил дела, если не государства, то свои собственные. Последним советом Бриенна королю было вернуть Неккера, чтобы при помощи его популярности преодолеть сопротивление, уже непобедимое силой. В течение этих двух лет французам впервые захотелось перейти от пустых теорий к практике. Борьба между высшими властными органами раззадорила их и представила им к тому случай. Во всё продолжение этого века парламент нападал на духовенство и изобличал его ультрамонтанские склонности; потом он напал на двор, разоблачая совершаемые им беспутства и непрерывное превышение власти. Когда парламенту стало грозить то же и самое существование его стало подвергаться опасности, он наконец возвратил нации права, которые двор собирался отнять у него, чтобы перенести в чрезвычайный суд. Указав таким образом нации ее права, парламент дал ей случай испытать и свои силы, возбуждая мятеж и потворствуя ему. С другой стороны, высшее духовенство своими приказами, а дворянство подстреканием войск к ослушанию объединили свои усилия с усилиями судебных властей и призвали народ к оружию в защиту его собственных прав. Двор, теснимый столькими врагами, сопротивлялся вяло. Сознавая необходимость хоть каких-то действий, но постоянно откладывая решительную минуту, двор изредка начинал бороться с какими-нибудь злоупотреблениями, а потом опять впадал в бездействие. Когда, наконец, на него напали со всех сторон, когда он увидел, что высшие сословия призывают на сцену народ, он сам вывел его вперед, созывая Генеральные штаты. Весь век двор противился философскому духу, а теперь вдруг обратился к нему и отдал ему на рассмотрение государственное уложение. Высшие государственные власти представляли собой странное зрелище, похожее на то, как если бы люди, несправедливо присвоившие себе какой-нибудь предмет, заспорили о нем в присутствии законного владельца и наконец призвали бы самого владельца рассудить их. В таком положении находились дела, когда Неккер вторично стал министром. Он пользовался полным доверием, и потому кредит был тотчас восстановлен, а самые вопиющие затруднения – устранены. Он сумел извернуться так, чтобы покрыть необходимейшие расходы, впредь до собрания Генеральных штатов, требуемого всеми без исключения. Начали обсуждать важные вопросы об организации штатов. Какую роль должно было играть в них среднее сословие, должно ли оно явиться как равное другим или просителем, должно ли число представителей его равняться числу представителей двух высших сословий, должны ли совещания происходить поголовно или по сословиям и не следует ли дать среднему сословию лишь один голос против двух голосов дворянства и духовенства – вот вопросы, которые волновали всех. Первым на очереди был вопрос о числе депутатов. Никогда еще ни одна философская полемика не возбуждала такого волнения. Животрепещущая важность вопроса разгорячила умы. Писатель – лаконичный, энергический, едкий – занял в этом споре место, которое великие гении того века занимали в философских спорах. Аббат Сийес в книге, давшей толчок общественному мнению, спрашивает: «Что такое среднее сословие? – и отвечает: – Ничто». «Чем оно должно быть? – продолжает он. – Всем!» В Дофине штаты собрались наперекор двору. Два высших сословия, более ловкие и популярные в этой провинции, чем во всех других, решили: среднему сословию следует иметь столько же представителей, сколько имеют дворянство и духовенство. Парижский парламент, уже смутно предвидя последствия неосторожных заигрываний, очень хорошо понял, что третье сословие явится ему не помощником, а повелителем, и поэтому, записывая эдикт о созыве Генеральных штатов, потребовал непременным условием, чтобы при этом были соблюдены формы 1614 года, совершенно уничтожавшие роль среднего сословия. Уже утратив свою популярность сопротивлением эдикту о возвращении протестантам гражданских прав, парламент в этот день окончательно явился в своем настоящем свете, и двор был вполне отмщен. Парламент первым испытал на себе непостоянство народной милости; но если впоследствии нация могла казаться неблагодарной в отношении вождей, которых она бросала одного за другим, то на этот раз она была совершенно права относительно парламента, который остановился прежде, чем она вернула себе хоть одно из своих прав. Двор, не смея сам решать столь важные вопросы или, вернее, желая лишить популярности два высших сословия, спросил их совета с намерением не следовать ему, если бы этот совет, как можно было предвидеть, оказался неблагоприятным для среднего сословия. Итак, двор созвал новое собрание нотаблей, которому были предложены для обсуждения все вопросы, касавшиеся устройства Генеральных штатов. Прения оказались очень оживленными. С одной стороны, были сделаны ссылки на древние традиции, с другой – на естественные права и разум. Так в некоторых собраниях по некоторым пунктам голосование происходило поголовно; иногда совещались по провинциям, а не по сословиям; часто представители среднего сословия числом были равны депутатам от дворянства и духовенства. Как же было решить дело согласно древним обычаям? Разве различные государственные власти не подвергались постоянно переворотам? Королевская власть, сначала верховная, потом побежденная и обобранная, впоследствии снова поднявшаяся с помощью народа и сосредоточившая в себе все прочие власти, представляла картину постоянной борьбы, беспрестанных изменений. Духовенству говорилось, что если обратиться к древним временам, то оно вовсе не было даже сословием; дворянству – что могли бы быть избраны лишь одни ленные владельцы, вследствие чего большинство дворян были бы исключены; самим парламентам объяснялось, что они не что иное, как мятежные слуги королевской власти; всем, наконец, – что французский государственный строй есть долгий ряд переворотов, в продолжение которых поочередно господствовали все власти, и что в этом великом споре решение подобает одному разуму. Среднее сословие заключало в себе почти всю нацию, всех полезных, энергичных и просвещенных граждан; хотя оно обладало лишь частью земель, но разрабатывало все земли, и, если судить разумно, следовало предоставить ему число депутатов, равное числу депутатов двух других сословий. Собрание нотаблей подало голос против так называемого удвоения среднего сословия. Одно только отделение, председательствуемое графом Прованским, подало голос за удвоение. Тогда двор, принимая во внимание «мнение меньшинства», мнение, высказанное несколькими принцами крови, желание трех сословий Дофине, требование провинциальных собраний, пример нескольких стран, где собирались штаты, мнение нескольких публицистов и желание, выраженное множеством адресов, постановил, что депутатов будет по меньшей мере тысяча; что число это будет распределено соответственно населению и податям, платимым в каждой провинции; что общее число депутатов среднего сословия будет равняться числу депутатов двух высших сословий, взятых вместе (постановление совета от 27 декабря 1788 года). Обнародование этого решения возбудило общий восторг. Решение приписывали Неккеру, и потому еще усилились любовь к нему нации и ненависть вельмож. Однако это заявление не решало вопроса о подаче голосов – поголовной или посословной; впрочем, решение само собой из него вытекало, потому что бесполезно было бы увеличивать число голосов, если не имелось в виду считать их, так что среднему сословию, собственно говоря, предоставлялось силой взять то, в чем пока ему отказывали в теории. Это дает верное понятие о слабости и нерешительности двора и самого Неккера. В этом дворе соединялось столько разных сил, что никакой решительный результат не был возможен. Король был умерен, справедлив, трудолюбив, но слишком неуверен в себе; он любил народ, охотно внимал его жалобам, но иногда на него находил какой-то панический, суеверный страх, и тогда ему казалось, что рука об руку с терпимостью и свободой идут анархия и безбожие. Философская мысль иной раз впадала в крайности, а такой робкий и набожный государь не мог этого не испугаться. Беспрестанно подвергаясь припадкам слабости и страха, всевозможным колебаниям, несчастный Людовик XVI, лично готовый на всякие жертвы, но не умевший заставлять жертвовать других, платил за все ошибки, не им совершаемые, но падавшие на него, потому что он дозволял их совершать. Марии-Антуанетте, преданной увеселениям, властвовавшей над всеми окружающими умом и красотой, хотелось, чтобы ее муж был спокоен, чтобы казна была полна, а двор и подданные ее боготворили. То она соглашалась с королем, что необходимы реформы, когда в них чувствовалась чересчур вопиющая потребность; то, напротив, ей казалось, что власти грозит опасность, а друзьям ее – падение, и тогда она удерживала короля, удаляла популярных министров и уничтожала всякое средство к достижению чего-либо хорошего, всякую надежду. Она в особенности поддавалась влиянию той части дворянства, которая гнездилась около престола и кормилась его милостями. Этому придворному дворянству, разумеется, было столь же желательно, сколько и самой королеве, чтобы у короля было из чего дарить и награждать, и вследствие этого желания дворянство враждовало с парламентами, когда они отказывали в налогах, но опять мирилось с ними, когда они под разными благовидными предлогами не соглашались на земельный налог. Среди этих противоречивых влияний король, не смея смотреть в лицо обступавшим его затруднениям, судить о злоупотреблениях, тем более уничтожать их собственной властью, уступал то двору, то общественному мнению и не удовлетворял ни того ни другого. Если бы в то время, когда философы, прогуливаясь в аллеях сада Тюильри, желали успеха Фридриху и американцам, когда они и не помышляли о том, чтобы управлять государством, а только стремились просвещать государей и разве что смутно предчувствовали далекие еще перевороты, – так вот если бы в это время король самостоятельно установил некоторую равномерность в распределении государственных тягот и дал бы хоть несколько гарантий, всё надолго бы успокоилось, и Людовика XVI боготворили наравне с Марком Аврелием. Но когда власти оказались унижены долгой борьбой, когда все злоупотребления были разоблачены собранием нотаблей, и когда нация, призванная к участию в споре, возымела надежду и желание сделаться чем-нибудь, она этого захотела твердо и решительно. Ей были обещаны Генеральные штаты – она потребовала сокращения срока, назначенного для их созыва; когда был сокращен срок, она потребовала преобладания в будущем собрании; в этом требовании ей отказали, но удвоили число ее представителей. Таким образом, все уступки делались лишь до известной степени и только когда не было более возможности сопротивляться; но тогда силы нации уже выросли, она их осознала и непременно требовала того, чего была в состоянии добиться. Беспрестанное сопротивление раздражало ее честолюбие и скоро должно было сделать его ненасытным. Но и тогда еще, если бы нашелся великий министр, который сумел бы вдохнуть хоть немного воли в короля, расположить к себе королеву, обуздать привилегированные сословия и, вместе с тем, разом опередить и исполнить народные требования, даруя свободную конституцию, если б такой министр удовлетворил потребность действовать, которую испытывала нация, призвав ее немедленно не к преобразованию государства, а к ежегодному обсуждению своих текущих интересов в уже готовом государстве, – может быть, борьба не началась бы вовсе. Но для этого нужно было не уступать давлению, а предупреждать его, а главное – пожертвовать множеством притязаний. Для этого требовался человек с твердыми убеждениями и столь же твердой волей, а такой человек, будучи смел, могуч и, может быть, страстен, испугал бы двор и не был бы им принят. Стараясь щадить и общественное мнение, и устаревшие интересы, двор предпочел полумеры: он выбрал, как мы видели выше, министра-полуфилософа, недостаточно смелого и пользовавшегося громадной популярностью потому, что в то время даже нерешительные намерения в представителе высшей власти превышали всякие надежды и приводили в восторг тот самый народ, который чуть позднее уже не могло удовлетворять демагогическое беснование его собственных возлюбленных вождей.
Умы находились в брожении. По всей Франции образовывались собрания по примеру Англии и под тем же названием клубов. В этих клубах ничем больше не занимались, кроме обсуждения привилегий, которые следовало отменить, реформ, которые следовало провести, конституции, которую следовало учредить. Действительно, политические и экономические порядки были невыносимы. На каждом шагу привилегии и препоны: отдельные лица, сословия, города, провинции, самые ремесла были окружены этими барьерами. Гражданские, церковные, военные должности получали только известные классы общества, да и в этих-то классах – только некоторые лица. Любую профессию можно было получить только на основании известных прав и на известных денежных условиях. Города имели свои привилегии относительно раскладки, взимания и количества податей и выбора судебных лиц. Самые милости обратились в наследственное достояние некоторых семейств, так что монарх был почти лишен возможности оказать кому-нибудь предпочтение. Ему едва оставили свободу раздавать какие-либо денежные награды, и он однажды был вынужден вступить в спор с герцогом де Куаньи по поводу упразднения какой-то бесполезной придворной должности. Всё застыло в нескольких руках, и везде меньшинство отстаивало свои права у ограбленного большинства. При этом тяготы лежали на одном сословии. Духовенство и дворянство владели приблизительно двумя третями земли; с третей части, принадлежавшей народу, выплачивались подати казне, множество феодальных пошлин – дворянству, десятину – духовенству, да сверх того эти земли терпели опустошения от благородных охотников. Налоги на предметы потребления тяготили большинство, стало быть, опять-таки народ. Взимались эти налоги несправедливо и неудобно: дворяне безнаказанно просрочивали, народ, напротив, за каждую недоимку обирался, а в случае неимения продуктов платил своей личной свободой. Таким образом нация в поте лица питала высшие классы, ценой своей крови защищала их, а сама не имела возможности существовать достойно. Промышленная буржуазия, будучи просвещенной и богатой, терпела, конечно, не так много, как народ, однако обогащала государство своей промышленностью, прославляла его своими талантами, но не получала тех выгод и преимуществ, на которые имела полное право. Правосудие, находясь в некоторых провинциях в руках вельмож, а в королевских судебных округах – в руках судей, покупавших места, было медлительно, часто пристрастно, всегда разорительно, а главное – бесчеловечно в уголовных делах. Личная свобода отнималась королевскими бланками, пресса не могла спастись от цензуры. Наконец, государство, худо защищаемое снаружи, предаваемое за деньги любовницами Людовика XV, компрометируемое слабостью министров Людовика XVI, позорило себя перед Европой бессильной, малодушной внешней политикой. Народ уже начинал волноваться; во время борьбы с парламентами несколько раз случались беспорядки, в особенности когда вышел в отставку архиепископ Тулузский. Народ сжег его изображение, ругал вооруженных людей и даже нападал на них; судебная власть вяло преследовала агитаторов, которые поддерживали ее же дело. Всюду смутно носилось ожидание скорого переворота и поддерживалось постоянное брожение. Парламент и высшие сословия уже видели обращенным против себя оружие, которое сами дали народу. В Бретани дворянство восстало против удвоения и само отказалось послать депутатов. Буржуазия, оказавшая бретонскому дворянству такую помощь против двора, теперь обратилась против него, и уже произошло несколько кровопролитных схваток. Двор злорадно отказал дворянству в помощи и даже арестовал нескольких его представителей, приехавших в Париж просить о помощи. Точно сами стихии приняли участие в общей сумятице. Тринадцатого июля выпал град, уничтоживший весь урожай, так что снабжение Парижа продовольствием сделалось крайне затруднительным, особенно в виду готовившихся смут. Можно было предвидеть, что очень трудно будет прокормить огромную столицу, когда политические беспорядки поколеблют доверие и прервут сообщение. Сверх того, никто не мог вспомнить столь ужасной зимы, последовавшей за несчастьями Людовика XVI, чем зима 1788–1789 годов Благотворительность и тут поспешила на помощь с трогательным рвением; но этой помощи было недостаточно, чтобы облегчить бедственное положение простого народа. Со всех концов Франции сбежались толпы бездельников и бродяг, которые, выстроившись длинной вереницей от Парижа до Версаля, выставляли напоказ свою нищету и наготу. Они являлись при малейшем шуме с целью воспользоваться любым шансом, которых всегда много бывает у людей, ищущих, где бы поживиться хлебом насущным. Одним словом, всё шаталось и складывалось так, что переворот был неизбежен. Целое столетие злоупотребления постепенно раскрывались и доводились до крайности; двух лет оказалось достаточно, чтобы возбудить восстание, закалить народ, привлечь его к участию в раздорах привилегированных классов. Наконец, бедственные явления природы и нечаянное стечение разных случайных обстоятельств ускорили катастрофу, которую можно было, пожалуй, еще оттянуть, но отвратить уже было невозможно. При таких-то условиях происходили выборы. В некоторых провинциях они прошли бурно, везде очень оживленно, а в Париже чрезвычайно спокойно благодаря большому согласию и единодушию. Раздавались списки; со всех сторон было заметно желание сговориться. Торговцы, адвокаты, литераторы, к своему собственному удивлению впервые собравшиеся вместе, понемногу привыкали к свободе. В Париже они сами переизбрали назначенных королевской властью управляющих выборами и, не меняя лиц, подтвердили их возможности, поддержав их. Мудрый Байи вышел из своего уединения в Шальо: чуждый интриг, проникнутый возложенной на него высокой задачей, академик отправился на заседание один, пешком. По пути он остановился на Террасе фельянов. Незнакомый молодой человек почтительно подошел к нему.
 Байи
Байи
– Вы будете избраны, – сказал он Байи. – Не знаю, – отвечал Байи, – от этой чести нельзя отказываться, но и домогаться ее не следует. Скромный академик был выбран сначала депутатом, потом президентом Генеральных штатов. Избрание графа Мирабо оказалось бурным: отвергнутый дворянством, принятый средним сословием, он стал причиной волнения в Провансе, на своей родине, и скоро явился в Версаль. Двор не захотел влиять на выборы. Он не без удовольствия видел, что избирается много приходских священников, потому что рассчитывал, с одной стороны, на их оппозицию высшим церковным сановникам, с другой – на их уважение к престолу. К тому же двор предвидел не всё и в депутатах среднего сословия пока еще видел противников скорее для дворянства, нежели для себя. Герцога Орлеанского обвиняли в происках, имевших целью заставить избрать его и своих приверженцев. Так как он уже числился в противниках двора и союзниках парламентов, а народная партия, с его ли согласия или без оного, величала его своим вождем, то на принца взводилось много обвинений. В Сент-Антуанском предместье произошло одно крайне прискорбное происшествие, а так как люди всегда непременно приискивают прямого виновника, то герцог оказался в ответе. Некий фабрикант по имени Ревил вон, славившийся по своей части и содержавший обширные шпалерные мастерские, в которых до трехсот рабочих зарабатывали на хлеб, был обвинен в том, будто хотел вполовину снизить заработную плату. Чернь, недолго думая, решила сжечь его дом. Ее с трудом разогнали, но на следующий день, 27 апреля, в дом все-таки ворвались, подожгли его и разрушили. Несмотря на вчерашние угрозы, власти вступили в дело поздно и с чрезмерной строгостью. Дав сперва толпе завладеть домом, вооруженная охрана с яростью напала на нее и перерезала множество рассвирепевших людей; те, кто спаслись, после являлись при каждом случае и были названы разбойниками.
 Мирабо
Мирабо
Сложившиеся уже партии обвиняли по этому случаю одна другую; двор обвиняли сначала в вялости, а потом в жестокости, возникло даже подозрение, будто власти нарочно дали народу выступить, чтобы показать всем пример, а заодно испытать войска. Деньги, найденные у опустошивших дом Ревильона, слова, вырвавшиеся у некоторых из них, возбудили у другой стороны подозрение, будто ими управляла невидимая рука, и враги народной партии прямо обвинили герцога Орлеанского в том, что он хотел испробовать силы революционных шаек. Герцог от природы был одарен многими хорошими качествами; он унаследовал громадные богатства, но предавался распутству и злоупотреблял всеми дарами природы и судьбы. Без всякой последовательности, то нимало не заботясь об общественном мнении, то жадно добиваясь популярности, он сегодня был смел и честолюбив, а завтра – сговорчив и рассеян. Рассорившись с королевой, он сделался врагом двора. Когда начали составляться партии, он позволил им пользоваться его именем и даже, говорят, богатством. Льстя себе какой-то смутной будущностью, он действовал достаточно неосторожно, чтобы навлекать на себя обвинения, но недостаточно твердо, чтобы иметь успех, и если у его приверженцев в самом деле были какие-нибудь замыслы, то он должен был приводить их в отчаяние своей противоречивостью.
Глава II
Созыв и открытие Генеральных штатов – Окончательное соединение трех сословий – Заговор двора – Взятие БастилииНаступило время созыва Генеральных штатов. В виду этой общей опасности высшие сословия, сблизившись с двором, группировались вокруг принцев крови и королевы. Они старались задобрить лестью сельских дворян, а за их спиной издевались над их неотесанностью. Духовенство заискивало перед плебеями своего сословия, военное дворянство проделывало то же со своим сословием. Парламенты, мечтавшие занять первое место в Генеральных штатах, боялись разочарования. Депутаты среднего сословия, имевшие преимущество благодаря умственному превосходству и полномочиям, составленным в весьма энергичных выражениях, подстрекаемые всеобщими сомнениями в успешности их стараний, твердо решили не уступать. Один король, не имевший ни одной минуты спокойствия с самого своего вступления на престол, видел в Генеральных штатах конец всех затруднений. Ревниво относившийся к своей власти не столько для себя, сколько для детей своих, которым он считал себя обязанным оставить нетронутое наследство, Людовик был отчасти рад отдать долю этой власти нации и поделиться с нею трудностями правительских обязанностей. Поэтому он с радостью занимался приготовлениями к великому событию. Наскоро была приготовлена зала. Были даже определены костюмы, причем среднее сословие подчинили унизительному этикету. Люди не менее ревнуют к своему достоинству, нежели к своим правам: по весьма законной гордости депутатам воспрещалось соглашаться на какой бы то ни было оскорбительный церемониал. Этот новый промах двора происходил, как и все прочие, от желания сохранить хоть наружный признак того, чего в сущности уже не было, и должен был вызвать глубокое раздражение в минуту, когда противные стороны, прежде чем нападать друг на друга, мерили друг друга тяжелыми взглядами. Накануне открытия Генеральных штатов, 4 мая, состоялась торжественная процессия. Король, все три сословия, все высшие государственные сановники пошли в собор Парижской Богоматери. Представители высших сословий были пышно одеты. Принцы, герцоги, пэры, дворяне, прелаты были в пурпуре и в шляпах с перьями. Депутаты среднего сословия, в своих простых черных плащах, шли вслед за первыми и, несмотря на скромную наружность, казались сильны своим числом и своей будущностью. Заметили, что герцог Орлеанский, шедший в последнем ряду дворянства, умышленно отставал, чтобы идти с первыми депутатами среднего сословия. Это торжество, национальное, военное, религиозное, с церковным пением и воинственной музыкой, сама важность наступавшего события – всё это глубоко трогало сердца. Теплая, прочувствованная речь епископа Нанси вызвала восторженные рукоплескания, несмотря на святость места и присутствие короля; всеми овладело какое-то упоение, и в это мгновение не в одной душе ослабела ненависть, не одно сердце наполнилось на время чувством человечности и патриотизма. Большие собрания возвышают душу, отрешают нас от нас самих и сближают с другими людьми.
Открытие Генеральных штатов последовало на другой день, 5 мая 1789 года. Король сидел на возвышении на троне, королева сидела рядом с ним. Двор помещался на трибунах: высшие сословия – по двум сторонам, среднее – в глубине залы, посередине, на более низких местах. При виде графа Мирабо в собрании сделалось движение, но его взгляд и поступь всем понравились. Представители среднего сословия, против установленного обычая, надели на головы шляпы. Король сказал речь, в которой советовал одним бескорыстие, а другим – рассудительность и всем говорил о своей любви к народу. Хранитель печати Барантоль выступил после короля, потом Неккер прочел записку о положении дел, в которой много говорилось о финансах, заявил дефицит в 56 миллионов и надоел растянутостью речи всем, кого не оскорбил поучениями. Со следующего же дня депутатам каждого сословия предписали разместиться в назначенных для них помещениях. Кроме общей залы, достаточно обширной, чтобы в ней помещались все три сословия, для дворянства и духовенства были отведены еще две залы. Общая зала предоставлялась среднему сословию, которому никуда не нужно было уходить из своего помещения. Прежде всего надо было заняться проверкой полномочий и решить, будет ли эта операция производиться сообща или каждым сословием отдельно. Депутаты среднего сословия, основываясь на том, что для каждой стороны важно убедиться в законности двух других, предлагали делать проверку вместе. Дворянство же и духовенство, желая сохранить раздельность сословий, настаивали, чтобы каждое занялось этим делом особо. Это еще не был вопрос о поголовном голосовании, так как можно было проверить полномочия вместе, а потом порознь подавать голоса, но всё же было нечто весьма схожее, и такой подход с первого же дня подавал повод к раздору, который было бы легко не только предвидеть, но и предотвратить, решив вопрос заранее. Но двор тем-то и отличался, что никогда не имел столько энергии, чтобы в чем-нибудь отказать прямо или что-то дать прямо, да к тому же надеялся управлять посредством раздора. Депутаты среднего сословия оставались в общей зале, не принимаясь ни за что и ожидая, как они говорили, чтобы собрались их товарищи. Дворянство и духовенство, каждое в своей зале, стали совещаться о проверке. Духовенство решило в пользу отделения большинством в 133 голоса против 114, а дворянство– в 188 голосов против 114. Среднее сословие, упорствуя в своем решении, на следующий день располагалось там же. Представители его старательно избегали всякой меры, могущей подать повод смотреть на него как на отдельное собрание, и поэтому, отправляя нескольких своих представителей к двум другим палатам, они не дали им никакого формального поручения. Депутатов послали к дворянству и духовенству только сказать, что их ожидают в общей зале. В дворянской палате в ту минуту не было заседания, но духовенство всё уже собралось и предложило назначить представителей для мирного соглашения по возникшему спору. Депутаты от духовенства так и сделали и пригласили дворян сделать то же. Духовенство в этой борьбе действовало в совершенно другом духе, нежели дворянство. Из всех привилегированных классов оно наиболее пострадало от нападок XVIII века; само политическое существование его оспаривалось; оно было разъединено из-за большого количества приходских священников; к тому же ему обязательно полагалась роль умеренная и миротворческая; вот почему оно, как мы сейчас видели, вызвалось на некоторое посредничество. Дворяне, напротив, наотрез отказались назначить своих представителей. Менее осторожные, нежели духовенство, меньше сомневаясь в своих правах, считая себя обязанными быть не умеренными, но храбрыми, дворяне рассыпались в отказах и угрозах. Эти люди, в других не извинявшие никаких страстей, необузданно предавались своим и, как все собрания, подчинялись влиянию наиболее пылких личностей. Д’Эпремениль и Казалес, недавно возведенные в дворянское достоинство, заставляли своих товарищей принимать самые неосторожные предложения, которые они готовили в частных собраниях. Тщетно меньшинство, состоявшее из людей или более умных, или более осмотрительных и честолюбивых, старалось вразумить дворянство; дворяне ничего не хотели слышать, твердили, что готовы сражаться и умереть, прибавляя, впрочем, – «за законы и справедливость». Среднее сословие спокойно принимало все оскорбления; депутаты раздражались молча, а в поступках выказывали осторожность и твердость, свойственные всякой начинающейся власти. И именно на третье сословие посыпались рукоплескания с трибун, сначала предназначенных для двора, но вскоре наполнившихся публикой. Прошло несколько дней. Духовенство провоцировало среднее сословие, так как хотело закрепить за собой особый статус. Но среднее сословие ни разу не попалось; депутаты лишь принимали меры, необходимые для внутреннего устройства, то есть выбрали из своей среды старшину и товарищей старшины – для собирания мнений. Они не вскрывали писем, адресованных к третьему сословию, заявляя, что составляют не особое сословие, а «собрание граждан, созванных законной властью для того, чтобы ждать других граждан». Дворянство, сначала отказавшееся назначить посредников, наконец согласилось послать несколько человек для объединения с другими сословиями; но это поручение оказалось совершенно бесполезно, так как дворяне наказывали своим посланным объявить, что относительно отдельной проверки полномочий они остаются при своем решении от 6 мая. Духовенство, напротив, верное своей роли, приостановило начатую уже проверку и объявило себя на временном положении, в ожидании исхода переговоров с посредниками. Конференции начались. Духовенство молчало, депутаты общин излагали свои доводы спокойно, депутаты дворянства – заносчиво и вспыльчиво. Члены конференции расходились, раздраженные спорами, и среднее сословие, твердо решившее не уступать, вероятно, было отчасти довольно тем, что всякая сделка оказывалась невозможна. Дворянству каждый день докладывали, что его представители остались победителями, и это еще увеличивало его экзальтацию. По какому-то мимолетному проблеску осторожности два высших сословия объявили, что отказываются от своих денежных привилегий. Среднее сословие приняло уступку, но продолжало упорствовать в бездействии, требуя общей проверки. Наконец, в виде средней меры, предложили поручить проверку полномочий представителям, взятым из всех трех сословий. Депутаты дворянства объявили, что не согласны на эту сделку, и удалились, не назначив дня для новой конференции. Таким образом, переговоры были прерваны. В тот же день дворяне составили постановление, в котором снова объявляли, что проверка в эту сессию должна происходить порознь, с поручением Генеральным штатам изобрести на будущее другой способ. Это постановление сообщили общинам 27 мая. Собрание открылось 5-го числа; стало быть, двадцать два дня прошло без дела – пора было на что-нибудь решиться. Мирабо, руководивший народной партией, заметил, что нельзя более терять времени и необходимо заняться общественной пользой, слишком долго оставленной без внимания. Он предложил, ввиду известной резолюции дворянства, потребовать у духовенства немедленного и категорического заявления о том, желает оно или нет присоединиться к общинам. Предложение было тотчас же принято. Депутат Тарже отправился в залу духовенства во главе многочисленной депутации. «Господа члены общин, – сказал он, – приглашают господ членов духовенства во имя Бога, мира и в интересах нации присоединиться к ним в общей зале, дабы посовещаться о средствах установить согласие, столь необходимое в настоящую минуту ради общественного спасения и блага». Духовенство было поражено этими торжественными словами; многие члены ответили громкими одобрительными возгласами и хотели немедленно последовать приглашению; но другие удержали их, и депутатам общин было сказано, что приглашение будут обсуждать. По возвращении депутации общины решились дождаться, не расходясь, ответа духовенства. Когда прошло довольно много времени, а ответа всё не было, общины послали сказать, что ждут ответа. В зале духовенства возразили, что их слишком торопят, и просили дать время. С совершенной умеренностью духовенству ответили, чтобы оно не спешило и что ждать будут, если нужно, весь день и всю ночь. Положение становилось затруднительным. Духовенство знало, что, не получив ответа, общины примутся за дело и придумают что-нибудь решительное. Депутатам от духовенства хотелось повременить, чтобы снестись с двором, поэтому они попросили срок до завтра, на что общины неохотно согласились. На следующий день король, к великой радости двух высших сословий, решился вступить в дело. В эту минуту вся неприязнь между двором и двумя высшими сословиями начала забываться в виду грозного народного могущества, с такой быстротой набиравшего силу. Наконец король появился и пригласил все три сословия возобновить конференции в присутствии хранителя печати. Среднее сословие, что бы после ни говорили о его замыслах, о которых судили по событиям, тогда не заходило в своих желаниях далее умеренной монархии. Зная намерения Людовика XVI, депутаты общин его искренне уважали; не желая вдобавок повредить своему делу ничем, в чем бы можно было считать их неправыми, они отвечали, что из почтения к королю согласны возобновить конференции, хотя после заявлений дворянства их можно считать бесполезными. К этому ответу общины присовокупили адрес, который поручили своему старшине поднести королю. Старшина этот был Байи, человек простой и добродетельный, известный и скромный ученый, перенесенный внезапно из тишины своего кабинета в самый вихрь гражданских распрей. Избранный председателем большого политического собрания, он сначала испугался своей новой задачи, считая себя недостойным ее, и согласился исполнять ее лишь из чувства долга. Но раз почуяв свободу, он открыл в себе неожиданную твердость и присутствие духа; среди стольких столкновений он заставил уважать достоинство собрания и должность его представителя исполнял со всем величием добродетели и разума. Байи с величайшим трудом дошел до короля. По причине его настойчивости придворные распустили слух, будто он даже не уважил горя монарха, опечаленного смертью дофина. Наконец, однако, депутат был допущен к королю, сумел отстранить унизительный церемониал и выказал большую твердость при совершенной почтительности. Король принял его милостиво, но не высказался о своих намерениях. Правительство, решившись на некоторые жертвы, чтобы достать денег, хотело, противопоставляя одни сословия другим, сделаться как бы третейским судьей между ними, вырвать у дворянства его денежные привилегии с помощью среднего класса, а честолюбие среднего сословия осадить при помощи дворянства. Что касается дворян, то, так как они не имели надобности беспокоиться из-за трудностей управления и думали только о жертвах, которые от них потребуются, они хотели привести к роспуску Генеральных штатов и этим сделать сам созыв их бесполезным. Общины, которых ни двор, ни высшие сословия не хотели признавать под этим названием, а по-прежнему называли средним сословием, постоянно приобретали новые силы и, твердо решившись не отступать ни перед какой опасностью, не хотели упускать случая, который мог не повториться. Конференции, требуемые королем, начались. Представители дворянства подняли вопросы всякого рода: насчет названия общин, принятого средним сословием, а также насчет формы и подписания протокола. Наконец открылись прения, и представители были почти уже доведены до молчания приводимыми против них доводами, когда Неккер от имени короля предложил новый путь примирения. Предлагалось, чтобы каждое сословие отдельно проверило свои полномочия и сообщило их другим, а в случае каких-либо затруднений, чтобы представители о них доложили каждой палате. И если решения разных сословий окажутся неодинаковыми, то король должен будет окончательно разрешить несогласие. Таким образом двор думал кончить спор в свою пользу. Конференции тотчас были прерваны в ожидании ответа палат. Духовенство просто, без замечаний, приняло план. Дворянство сначала отнеслось к нему благоприятно, но потом, по внушению вожаков, изменило его – вопреки советам умнейших своих членов. С этого дня начались все его несчастья. Общины, знавшие об этом решении дворянства, ждали, чтобы высказаться в свою очередь, официального сообщения, но духовенство, с обычной хитростью, желая скомпрометировать среднее сословие в глазах нации, послало к нему депутацию с приглашением заняться вместе нуждами народа, с каждым днем возраставшими, и поспешить общими силами принять меры против скудости и дороговизны припасов. Общины, рискуя обратить против себя народ, оказавшись равнодушными к такому предложению, отплатили хитростью за хитрость и ответили, что, проникнутые теми же чувствами, ждут духовенство в общей зале, чтобы вместе с ним заняться этим важным предметом. Тогда только депутаты от дворянства торжественно сообщили депутатам третьего сословия свое постановление: они принимают план соглашения, но настаивают на отдельной проверке полномочий и соглашаются обращаться к объединенным сословиям и верховной власти короля лишь по поводу затруднений, могущих возникнуть относительно представительства какой-нибудь целой провинции. Это постановление положило конец всем затруднениям общин. Принужденные уступить или одними своими силами объявить войну двум высшим сословиям и престолу, если бы предложенный план был принят, теперь они были избавлены от необходимости высказаться, так как план этот был принят лишь с важными изменениями. Настала решительная минута. Уступить по вопросу об отдельной проверке не значило, конечно, уступить по вопросу о поголовном или посословном голосовании, но раз выказать слабость значило ослабить себя навсегда. Надо было или согласиться на роль почти ничтожную, дать денег и удовольствоваться устранением нескольких злоупотреблений, когда виделась возможность возродить целое государство, или принять энергичное решение и насильно захватить часть законодательной власти. Это было первым актом переворота; но собрание не стало колебаться. Итак, по подписании всех протоколов и по закрытии конференций Мирабо встал. «Проект соглашения, отвергнутый одной стороной, – сказал он, – не может быть рассматриваем другой. Прошел месяц. Нужно принять окончательное решение; один из парижских депутатов имеет важное предложение – выслушайте его». Мирабо, своей смелостью открыв прения, ввел на кафедру Сийеса, человека, одаренного умом обширным и систематическим и строгим в своих выводах. Сийес напомнил и объяснил в немногих словах поведение общин: они ждали и готовы были склониться на все предлагаемые соглашения, но долготерпение оказалось бесполезным, они не могут долее медлить, не упуская из виду своей задачи. Поэтому они должны обратиться к двум другим сословиям с последним приглашением присоединиться к ним, чтобы приступить к проверке. Это строго мотивированное предложение было принято с восторгом, некоторые члены требовали даже, чтобы другие сословия собрались через час. Однако так как следующий день, четверг, был посвящен религиозным торжествам, то дело откладывалось до пятницы. В пятницу сделали последнее приглашение. Оба сословия ответили, что посоветуются о предложении, а король – что уведомит о своих намерениях. Начинается перекличка по округам; в первый день являются три приходских священника, и их принимают с шумным восторгом, на второй – шесть, на третий и четвертый – десять, в том числе аббат Грегуар. Во время переклички и проверки полномочий возник важный спор о том, какое название принять собранию. Мирабо предложил назваться представителями французского народа; Месье – большинством, совещающимся в отсутствие меньшинства; депутат Легран – национальным собранием. Последнее название было принято после довольно продолжительных прений, затянувшихся в ночь на 17 июня. Был час пополуночи, и следовало решить, сейчас ли исполнить нужные формальности или отложить их до следующего утра. Часть депутатов не хотели терять ни минуты, чтобы скорее облечь свою роль легальным характером, который внушил бы двору некоторое уважение. Некоторые депутаты, желая остановить происходящее, буквально бесновались и испускали яростные крики. Обе партии, став в два ряда по обеим сторонам длинного стола, угрожали друг другу; Байи стоял посередине; одни обращались к нему с требованием, чтобы он распустил собрание, другие – чтобы велел собирать голоса. Невозмутимо спокойный среди криков и брани, он более часа простоял недвижимо и безмолвно. Погода была бурной, ветер сильно дул в залу, еще больше увеличивая смятение. Наконец бешеные крикуны удалились. Тогда Байи, обращаясь к собранию, несколько успокоившемуся вследствие ухода возмутителей, посоветовал отложить до следующего дня предстоявший важный акт. Собрание согласилось с его мнением и разошлось, восхваляя его твердость и мудрость. На другой день, 17 июня, стали собирать голоса, и общины большинством в 491 голос против 90 объявили себя Национальным собранием. Сийес по поручению собрания объяснил мотивы это решения с обычной своей строгостью: «Собрание, открыв свои совещания по проверке полномочий, признает, что уже состоит из представителей, непосредственно присланных по меньшей мере от девяноста шести процентов всей нации. Такая масса народного представительства не может оставаться в бездействии вследствие отсутствия депутатов нескольких округов или нескольких классов граждан, ибо отсутствующие, которые были призваны, не могут помешать присутствующим сполна пользоваться своими правами, в особенности когда это составляет их положительную и неотложную обязанность. Сверх того, так как исполнить требование нации подобает лишь проверенным представителям, а все проверенные представители должны находиться в настоящем собрании, то необходимо постановить, что ему и только ему одному принадлежит толкование и представительство общей воли нации. Между престолом и собранием не может существовать никакого вето, никакой отрицательной власти. Итак, собрание заявляет, что к общему делу национального возрождения можно и нужно приступить безотлагательно и что присутствующие депутаты должны заниматься им беспрерывно и беспрепятственно. Название Национальное собрание есть единственное приличное название при существующем положении дел, как потому, что составляющие его члены суть единственные представители, законно и гласно признанные и проверенные, так и потому, что они признаны от всей почти нации, и, наконец, потому, что представительство едино и нераздельно. Вследствие чего никто из депутатов, в каком бы сословии или классе ни был выбран, не имеет права отправлять свою должность отдельно от настоящего собрания. Собрание никогда не утратит надежды соединить в себе депутатов, ныне отсутствующих; оно не перестанет призывать их к исполнению возложенной на них обязанности – участвовать в сессии Генеральных штатов. В какую бы минуту отсутствующие депутаты ни явились на сессию, собрание поспешит принять их и впредь поделится с ними продолжением великих трудов, которые должны привести к возрождению Франции». Тотчас по принятии этого постановления собрание, желая в одно и тоже время на деле заявить о своей силе и доказать, что не намерено препятствовать ходу правления, узаконило взимание податей, хоть и учрежденных без согласия нации. Предвидя свой роспуск, оно присовокупило, что подати перестанут взиматься с того дня, как его распустят. Предвидя, кроме того, банкротство – средство, которым власть могла в крайнем случае прекратить финансовые затруднения и обойтись без содействия нации, – оно исполнило долг чести и осторожности, отдав кредиторов государства под охрану честности всех французов. Наконец, собрание объявило, что безотлагательно начнет заниматься причинами дороговизны и народных нужд. Эти меры, свидетельствовавшие равно о мужестве и ловкости, произвели глубокое впечатление. Двор и высшие сословия пришли в ужас от такой смелости и энергии. В то же время духовенство бурно обсуждало, не следует ли присоединиться к общинам. Народ снаружи ждал результата прений; приходские священники наконец взяли верх, и присоединение было решено большинством в 149 голосов против 115. Те, кто подали голос за присоединение, были приняты с восторгом, других толпа преследовала и оскорбляла. В эту минуту должно было последовать примирение двора с аристократией. Опасность была одинакова для обеих сторон. Последняя революция столько же вредила королю, сколько высшим сословиям, без которых собрание, как было заявлено, может обойтись. Эти сословия не замедлили броситься к ногам короля. Герцог Люксембургский, кардинал Ларошфуко, архиепископ Парижский умоляли его усмирить дерзость среднего сословия, вступиться за их угрожаемые права. Парламент предложил обойтись без Генеральных штатов, обещая согласиться на все налоги. Короля обступили принцы и королева. Это было слишком при его слабохарактерности. Наконец Людовика увезли в Марли, чтобы там вырвать у него решение. Министр Неккер, привязанный к народному делу, довольствовался бесполезными представлениями, которые король находил более чем справедливыми, когда ум его оказывался свободен от сторонних внушений, но двор быстро умел изгладить впечатления благоразумия. Как только министр убедился в необходимости вмешательства короля, он составил план, показавшийся ему чрезвычайно смелым; требовалось, чтобы монарх во время королевского заседания приказал трем сословиям соединиться, но только для обсуждения мер, касавшихся общих интересов; чтобы он взял на себя утверждение всех решений, принимаемых Генеральными штатами; чтобы заранее выразил неодобрение всякому учреждению, направленного против умеренной монархии; наконец, чтобы обещал упразднение всех привилегий, одинаковое допущение всех французов к гражданским и военным должностям и прочее, и прочее. Но у Неккера не хватило силы ни предупредить настоящую минуту таким планом, ни настоять на его исполнении. Совет вслед за королем переехал в Марли. Там план Неккера, сначала одобренный, снова подвергся обсуждению, королю вдруг подали записку, совет прервали, затем опять открыли, наконец отложили до следующего дня, несмотря на необходимость возможно скорого решения. На другой день в совет вошли новые члены, в том числе братья короля. В план Неккера внесли ряд изменений. Министр воспротивился, сделал несколько уступок и, обнаружив себя побежденным, вернулся в Версаль. Три раза приезжал к нему паж с новыми изменениями, в результате которых план совершенно исказился, и королевское заседание наконец назначили на 22 июня. Было еще только 20-е число, а зала Генеральных штатов уже закрылась под предлогом приготовлений, требуемых присутствием короля. Эти приготовления могли быть сделаны в полдня, но духовенство только накануне решилось объединиться с общинами, а этому-то объединению и требовалось помешать. Королевским приказом заседания прекращаются до 22 июня. Байи, считая своей обязанностью исполнить волю собрания, которое в пятницу, 19-го, назначило заседание на следующий день, появляется у дверей залы. К ним приставлен караул из гвардейцев с приказанием никого не впускать; но дежурный офицер почтительно впускает Байи и позволяет ему войти в один из дворов, чтобы написать там протест. Несколько молодых пылких депутатов непременно хотят проникнуть в залу, несмотря на запрет. Байи успокаивает их и уводит с собой, чтобы не повредить доброму офицеру, с такой умеренностью исполнявшему предписание властей. Депутаты собираются с шумом и спорами; некоторые предлагают устроить заседание под самыми окнами королевских покоев, другие вспоминают о зале для игры в мяч – туда и отправляются тотчас все. Эта зала просторна, но стены мрачные и голые и не на чем сидеть. Президенту предлагают кресло, но он отказывается и объявляет, что будет стоять, как и всё собрание. Скамейка служит вместо бюро. Два депутата становятся у дверей караульными, но их скоро сменяет стража ратуши (стражники сами являются предложить свои услуги). Народ сбегается толпами, начинаются прения. Все восстают против произвольной приостановки заседаний и предлагают различные способы устранения подобных случаев впредь. Волнение возрастает, воображению начинают представляться крайние меры. Кто-то предлагает отправиться в Париж; собрание горячо принимает предложение. Поговаривают даже о том, чтобы отправиться всем собранием и пешком. Байи, опасаясь насилия, которому собрание могло подвергнуться на пути, а также отступничества некоторых членов, не соглашается. Тогда Мунье предлагает депутатам клятвенно пообещать не расходиться до учреждения конституции. Это предложение принимается с восторгом и тотчас же составляется форма присяги. Байи просит, чтобы ему оказали честь первому связать себя клятвой, и читает вслух присягу следующего содержания: «Вы торжественно клянетесь никогда не расходиться, собираться везде, где обстоятельства того потребуют, до тех пор пока конституция королевства не будет учреждена и утверждена на прочных основаниях». Эта присяга, произнесенная громким, внятным голосом, была слышна даже на улице. Все немедленно клянутся; все руки простираются к Байи, который, стоя неподвижно, принимает торжественный обет укрепить национальные права законами. Толпа начинает кричать «Да здравствует собрание! Да здравствует король!», как бы желая доказать, что без гнева и ненависти, лишь по долгу, возвращает себе должное. Затем депутаты подписывают свою декларацию. Только один из них, Мартен-Дош, прибавляет к своему имени слово оппонент. Вокруг него начинается страшный шум. Байи, чтобы его услышали, становится на стол, спокойно обращается к депутату и объясняет ему, что он имеет право отказать в своей подписи, но никак не составлять оппозицию. Депутат упорствует, и собрание из уважения к его свободе действий оставляет это слово в протоколе.
 Клятва в Зале для игры в мяч
Клятва в Зале для игры в мяч
Этот новый энергичный акт привел в ужас дворянство, которое на следующий день повергло свои жалобы к стопам короля, извиняясь в изменениях, сделанных в предложенном проекте соглашения, и прося его помощи. Меньшинство из дворянства протестовало против этого шага, основательно доказывая, что уже не время просить вмешательства короля, столь неуместно отвергнув его. Это меньшинство, мнению которого слишком мало внимали, состояло из сорока семи членов: военные, просвещенные люди из судебного ведомства: герцог Лианкур, искренне преданный королю и свободе; герцог Ларошфуко, отличавшийся неизменной добродетелью и большим умом; Лалли-Толендаль, прославившийся уже несчастьями своего отца[35] и своими красноречивыми протестами; Клермон-Тоннер, обладавший замечательным даром слова; братья Ламеты, молодые полковники, известные своим умом и храбростью; Дюпон, знаменитый обширными способностями и твердым характером; наконец, маркиз Лафайет, защитник свободы Америки, соединявший в себе постоянство и простоту Вашингтона с французской живостью. Интриги тормозили все действия двора. Заседание, назначенное сначала на 22-е число, было отложено до 23-го. Байи уведомлялся об этой перемене запиской, написанной весьма поздно, при выходе с большого совета, и свидетельствовавшей об общем смятении. Неккер решил не появляться на заседании, чтобы не поддерживать своим присутствием действий, которых не одобрял. Чтобы помешать заседанию 22 июня, были пущены в ход разные мелкие средства: к примеру, принцы приказали занять для себя залу, чтобы в этот день играть там в мяч. Собрание отправилось в церковь Святого Людовика, там к нему присоединилась большая часть духовенства с архиепископом Вьеннским во главе. Это объединение, совершившееся с величайшим достоинством, возбудило везде живейшую радость. Духовенство объявило, что пришло подчиниться общей проверке.
 Мирабо на заседании 23 июня 1789 года
Мирабо на заседании 23 июня 1789 года
Следующий день был днем, назначенным для королевского заседания. Депутаты общин должны были войти в боковую дверь, не ту, которая назначалась для духовенства и дворянства: двор, не имея возможности покорить общины силой, старался по крайней мере унизить их. Депутаты долго ждали под дождем, президент был вынужден несколько раз стучать в эту дверь, которая всё не отворялась; ему отвечали, что еще не время. Депутаты уже готовились уйти. Байи постучался еще раз – дверь наконец отворилась. Вошедшие депутаты нашли высшие сословия уже на своих местах, которые они нарочно заняли раньше. Заседание не походило на заседание 5 мая, не было величественным и трогательным вследствие избытка чувств и надежд. Присутствие многочисленного войска и мрачная тишина отличали его от первого торжества. Депутаты общин заранее решились хранить глубочайшее молчание. Король заговорил в выражениях слишком энергичных для его характера. Он произносил упреки и приказания, явно повинуясь внушению извне. Он требовал разделения собраний по сословиям, отменял предыдущие постановления среднего сословия, но обещал утвердить отречение от привилегий, когда землевладельцы произнесут это отречение. Людовик удерживал феодальные права как доходные и почетные, как ненарушимую собственность; он не приказывал объединяться для обсуждения дел, касавшихся общих интересов, но подавал надежду на такую уступку со стороны высших сословий. Таким образом, он принуждал общины к повиновению, а насчет аристократии ограничивался предположением, что оно не откажет в нем. Король предоставлял дворянству и духовенству судить о том, что касалось их сословий, и кончил тем, что заявил: если он встретит еще новые препятствия, то один займется благосостоянием своего народа и будет смотреть на себя как на его единственного представителя. Этот тон, эти речи глубоко раздражили умы – не против короля, который явился слабым представителем чужих мыслей, а против аристократии, орудием которой он являлся. Тотчас по окончании речи король приказывает собранию немедленно разойтись. За ним следует дворянство, а также часть духовенства. Большинство последнего, однако, остается. Депутаты общин хранят неподвижность и глубокое молчание. Мирабо, всегда первый застрельщик, встает. – Господа, – говорит он, – то, что вы сейчас слышали, признаюсь, могло бы стать спасением отечества, если бы дары деспотизма не были всегда опасны… Расставляются войска, нарушается святость национального храма – для того, чтобы приказать вам быть счастливыми… Где враги нации? Или Катилина у наших ворот?.. Я требую, чтобы вы, облекая себя в должное достоинство, замкнулись в святости вашей клятвы: она дозволяет вам разойтись только по обсуждении и утверждении нового устройства королевства. Маркиз Брезе, обер-церемониймейстер короля, в эту минуту возвращается и обращается к Байи: – Вы слышали приказание короля? Байи отвечает: – Я сейчас спрошу у собрания, что оно прикажет. Вступает Мирабо. – Да! – восклицает он. – Мы слышали то, что подсказали королю, но вам, милостивый государь, здесь не место, да вы и права не имеете говорить. Впрочем, во избежание всякой проволочки, идите и скажите вашему повелителю, что мы здесь властью народа и что нас отсюда прогонят только штыками. Брезе удаляется. Сийес произносит следующие слова: – Мы сегодня те же, кем были вчера; начнем прения. Депутаты собираются с мыслями, чтобы начать совещаться о сохранении своих предыдущих постановлений.
 Ответ Мирабо маркизу Брезе
Ответ Мирабо маркизу Брезе
– Первое из этих постановлений, – говорит Барнав, – определило, что вы такое; второе относится к налогам, на которые вы одни имеете право соглашаться; третье заключается в клятве исполнять ваши обязанности. Ни одна из этих мер не нуждается в королевском утверждении. Король не может помешать тому, на что не ему надлежит соглашаться. В эту минуту входят рабочие уносить скамейки; вооруженные войска проходят через залу, другие оцепляют ее снаружи; гвардия подходит к самым дверям. Собрание, не прерывая дела, остается на своих скамейках и собирает голоса; предыдущие постановления решают сохранить единодушно. Этого мало: в городе, преданном королю, среди слуг двора, вдали от помощи народа, впоследствии столь грозного, собранию могла угрожать опасность. Мирабо снова всходит на кафедру и предлагает постановить неприкосновенность каждого депутата. Тотчас же собрание, противопоставляя силе одну свою величественную волю, объявляет неприкосновенным каждого своего члена и всякого, кто бы посягнул на личность депутата, провозглашает изменником, бесчестным, подлежащим смертной казни. В это время депутаты от дворянства, считая государство спасенным, поздравляли принца, подавшего мысль о королевском заседании, а от принца переходили к королеве. Мария-Антуанетта держала на руках сына и показывала его усердным слугам, принимая их клятвы и, к несчастью, предаваясь слепому доверию. В эту минуту послышались крики: выяснилось, что это народ благодарит Неккера за то, что он не присутствовал при королевском заседании. Испуг мгновенно сменил радость. Король и королева послали за Неккером и умоляли его сохранить свой портфель. Министр согласился и как бы поделился с двором той популярностью, которую приобрел отказом участвовать в этом роковом заседании. Так совершилась первая революция. Среднее сословие возвратило себе законодательную власть, а его противники лишились ее, потому что хотели оставить всю за собою. Весь этот законодательный переворот совершился в несколько дней.
Двадцать четвертого июня большинство отправилось в собрание и потребовало общей проверки, с тем чтобы после совещаться о предложениях, сделанных королем на заседании 22 июня. Меньшинство духовенства продолжало заседать в своей особой зале. Архиепископ Парижский Жюинье, прелат добродетельный, благодетель народа, но ярый сторонник сословных привилегий, подвергся преследованию и был вынужден обещать, что присоединится к большинству; он действительно явился в Национальное собрание в сопровождении архиепископа Бордосского, пользовавшегося большой популярностью и впоследствии сделавшегося министром[36]. Депутаты от дворянства обнаружили крайнее смятение. Присяжные агитаторы разжигали страсти. Д’Эпремениль предложил предать третье сословие суду и поручить генерал-прокурору его преследование; меньшинство положило объединиться с ним. Это предложение было с шумом отвергнуто. Герцог Орлеанский поддержал его, накануне, впрочем, пообещав противное Полиньякам. Сорок семь членов, решивших присоединиться к общему собранию вопреки решению большинства, отправились туда все вместе и были приняты с общим восторгом. «Мы уступаем нашей совести, – сказал Клермон-Тоннер, – но с прискорбием отделяемся от наших братьев. Мы пришли содействовать возрождению государства, каждый из нас сообщит вам, какую степень активности позволяют полученные им полномочия». Каждый день к большинству присоединялись новые лица, и число депутатов заметно возросло. Со всех сторон приходили адресы с выражением пожеланий и одобрения от городов и провинций. Мунье устроил адресы в Дофине. Париж тоже прислал адрес, и даже сам Пале-Рояль прислал депутацию, которую собрание, еще окруженное опасностями, приняло, чтобы не отдаляться от толпы. В то время оно еще не предвидело всех крайностей, до которых должна была дойти эта толпа, а напротив, нуждалось в ее энергии и надеялось на ее поддержку; многие в таковой сомневались, и надежда на мужество народа была еще только счастливой мечтой. Поэтому рукоплескания трибун, хотя подчас тягостные, оставались для собрания поддержкой, и оно не смело им мешать. Байи хотел было протестовать, но его голос и предложение были заглушены шумными рукоплесканиями. Большинство депутатов от дворянства продолжали свои заседания среди шума и полной разнузданности. Испуг распространился между ними, и знак к присоединению был дан теми же людьми, которые так недавно еще убеждали товарищей сопротивляться. Но страстями этого собрания нелегко было управлять. Королю пришлось написать письмо; двор, вельможи вынуждены были умолять: объединение будет мимолетным, говорили наиболее упорные, приближаются войска, уступите, чтобы спасти короля. Наконец согласие было вырвано среди общего беспорядка, и большинство из дворянства в сопровождении меньшинства из духовенства 27 июня отправилось в общее собрание. Герцог Люксембургский от имени всех объявил, что они пришли, чтобы доказать королю свое уважение, а нации – свой патриотизм. «Семья вся в сборе», – ответил Байи. Предполагая, что присоединение полное и имеет целью не только общую проверку, но и общие прения, он присовокупил: «Нам можно будет заняться, не прерываясь и не отвлекаясь, возрождением государства и общественным благом». Еще не одно мелкое средство было пущено в ход, чтобы сделать вид, будто совершено не то, к чему принудила необходимость. Вновь присоединившиеся являлись всегда после открытия заседаний и непременно все вместе, чтобы сохранить хотя бы наружный вид обособленности сословия. Они нарочно не садились, а стояли позади президента, как будто не участвуя в заседании. Байи с большой умеренностью и твердостью понемногу преодолел это сопротивление, и ему удалось усадить новых членов. Кроме того, они старались отнять у него президентство – не открытой силой, а скрытно, то хитростью, то вступая с ним в тайные переговоры. Но Байи сохранил за собой президентство – не из честолюбия, а из чувства долга, – и простой гражданин, известный только своими знаниями и добродетелями, так и остался председателем над всеми вельможами и сановниками государства и церкви. Было слишком очевидно, что окончательно совершился законодательный переворот. Хотя первое разногласие возникло лишь по поводу способа проверки, а не голосования, хотя одни объявили, что присоединяются только для общей проверки, а другие – из повиновения воле короля, ясно было, что поголовное голосование становилось неизбежно, а значит, всякий протест был и бесполезен, и политически не оправдан. Однако кардинал Ларошфуко протестовал от имени меньшинства, заявляя, что оно присоединилось лишь для обсуждения предметов, касавшихся общих интересов, и оставляет за собою право образовать отдельное сословие. Архиепископ Вьеннский с живостью возразил, что меньшинство духовенства не могло ничего постановить в отсутствие большинства и не имеет права говорить от имени всего сословия. Мирабо горячо восстал против этой выходки, заявляя, что странно протестовать в самом собрании против собрания же, что нужно или признать его верховную власть, или удалиться из него. Тогда возник вопрос о степени обязательности полномочий. В большинстве полномочий выражались желания избирателей относительно реформ, и желания эти делались обязательными для депутата. Прежде, нежели приступить к делу, требовалось определить, до какой степени можно действовать; этот вопрос первым стоял на очереди. Принимались за него несколько раз. Одни требовали, чтобы за решением его обратились к доверителям, другие допускали, что можно от доверителей получить лишь поручение подать за них голос, после того как каждый предмет будет обсужден и разъяснен посланцами всей нации, и не допускали, чтобы можно было получить, так сказать, готовое мнение заранее. Действительно, если предположить, что закон может создаться только в общем совещании, потому ли, что на высоте больше света, или потому, что можно составить себе мнение, только когда все части нации взаимно сговорились, то из этого следует, что депутаты должны быть свободны и не стесняемы обязательными полномочиями. Мирабо, прибавляя к рассуждениям острую приправу иронии, воскликнул, что те, кто считают свои полномочия безусловно обязательными, могли бы вовсе сами не являться, а положить эти полномочия на свои места, так как последние исполнили бы требуемое ничем ни хуже самих депутатов. Сийес, с обычной своей прозорливостью предвидя, что, несмотря на вполне справедливое решение всего собрания, большое число членов сошлется на свои клятвы и, защитившись своей совестью, сделает всякое нападение невозможным, предложил, чтобы каждый сам был судьей обязательности своей клятвы. «Те, кто считает себя связанными своими полномочиями, – сказал он, – будут считаться отсутствующими, так точно, как считались бы отсутствующими те, кто отказался бы дать проверить свои полномочия общему собранию». Это мудрое мнение было принято. Если бы собрание захотело принудить оппозицию, то это стало бы предлогом к разногласиям, тогда как предоставляя оппозиции свободу, оно могло наверное рассчитывать привести ее к своему мнению, и победа несомненно оставалась за ним. Целью созыва новых Генеральных штатов было преобразование Франции, то есть учреждение конституции, которой, что бы там ни говорили, у Франции не было. Если называть этим именем всякого рода сношения между правительством и управляемыми, то конституция у Франции, пожалуй, была: король приказывал, подданные повиновались; министры произвольно заключали в тюрьму кого вздумается; откупщики отнимали у народа всё до последней крошки; парламенты приговаривали несчастных к колесованию. Такого рода конституциями всегда могли похвалиться самые варварские народы. Имелись также во Франции Генеральные штаты, но без определенной власти и прав, без означенных сроков собраний и всегда без результатов. Была и королевская власть – то бессильная, то всесильная. Имелись судьи или судебные места, которые к судебной власти нередко присоединяли и законодательную; но не было закона, обеспечивавшего ответственность представителей власти, свободу печати, свободу личности, словом, все те гарантии, которые в общественном строе заменяют фикцию естественной свободы. Потребность в конституции всеми признавалась и всеми ощущалась; она энергически выражалась во всех депутатских полномочиях, которые даже весьма резко высказывались насчет основных начал этой конституции. В них единодушно предписывались монархический образ правления, престолонаследие по мужской линии, исключительное присвоение исполнительной власти королю, ответственность всех представителей власти, сотрудничество короля и нации при создании новых законов, право нации облагать себя податями и личная свобода. Но в полномочиях имелись разногласия по поводу учреждения одной или двух законодательных палат, срока существования, периодичности и роспуска Законодательного собрания, политического значения духовенства и парламентов, свободы печати. Такое множество вопросов, разрешаемых или предлагаемых депутатскими полномочиями, достаточно показывает, как сильно расходились умы во всех частях государства и каким всеобщим и резко обнаружившим себя было во Франции желание свободы. Но основать целую конституцию среди развалин прежнего законодательства, несмотря на сопротивление, при тогдашнем беспорядочном брожении умов – это было великое и трудное дело. Кроме разногласий, которые должна была повлечь за собою различность интересов, следовало еще опасаться естественного несходства во мнениях. Такая задача, как дарование великому народу целого нового законодательства, настолько возбуждает умы, внушает им такие широкие замыслы, такие химерические надежды, что следовало ожидать неопределенных или преувеличенных мер, иногда и враждебных. Чтобы внести последовательность в предстоящие труды, собрание назначило комитет, которому поручили обозначить размеры этих трудов и распорядиться их распределением. Этот комитет состоял из наиболее умеренных членов собрания. Мунье, умная, хоть и упрямая голова, был самым трудолюбивым и влиятельным членом этого комитета; он-то и подготовил порядок занятий.
 Лалли-Толендаль
Лалли-Толендаль
Трудность сочинить конституцию была не единственной, которую собранию приходилось побеждать. Поставленное между неприязненно настроенным правительством и голодным народом, требовавшим скорейшей помощи, оно вряд ли могло не вмешиваться в работу администрации. Недоверчиво относясь к власти, торопясь помочь народу, собрание должно было, даже вовсе не имея честолюбия, понемногу забираться в области исполнительной власти. Духовенство в этом отношении первое подало пример, когда злокозненно предложило среднему сословию немедленно заняться вопросом о продовольствии. Едва собрание окончательно организовалось, депутаты назначили комитет продовольствия, потребовали у министерства сведений об этом предмете, предложили облегчить провоз съестных припасов из одной провинции в другую и доставлять их административным порядком в те места,где чувствовался в них недостаток, раздавать пособия и занять нужные для этого деньги. Министерство сообщило о принятых им деятельных мерах, одобренных Людовиком, заботливым правителем. Лалли-Толен-даль предложил издать декреты о свободном провозе товаров из провинции в провинцию, на что Мунье возразил, что подобные декреты потребуют королевского утверждения, а так как королевское утверждение не подчиняется никаким правилам, то могут возникнуть большие затруднения. Таким образом, возникли множественные препятствия. Надо было создавать законы при неустановленных законодательных формах, надзирать над администрацией, не захватывая исполнительной власти, над противоположностью интересов, над разногласиями в умах и преодолеть все эти трудности, несмотря на отсутствие доброй воли у власти и требовательность только пробудившегося народа, волновавшегося в громадной столице в нескольких милях от собрания.
От Парижа до Версаля очень недалеко; можно съездить туда и обратно несколько раз в день. Поэтому всякое волнение в Париже немедленно чувствовалось в Версале, при дворе и в собрании. Париж в то время представлял новую, необычайную картину. Выборщики, собравшись в шестидесяти округах, после выборов не желали расходиться, а так и оставались группами, отчасти чтобы давать инструкции своим депутатам, отчасти по той потребности собираться и волноваться, которая существует у всех людей и которая прорывается с тем большей силой, чем дольше была подавлена. Выборщиков постигла та же участь, что и Национальное собрание: по закрытии места, где они собирались, они перешли в другое и наконец добились того, что им открыли ратушу; там они и продолжали собираться, оттуда сносились с депутатами. Еще не было газет с отчетами о заседаниях Национального собрания, требовалось сходиться, чтобы узнать, что делается. Эти сходки всего чаще происходили в саду Пале-Рояля. Этот великолепный сад, окруженный богатейшими магазинами и принадлежавший дворцу герцога Орлеанского, был скопищем иностранцев, всякого распутного и праздношатающегося народа, а главное – величайших агитаторов. В кофейнях и в самом саду произносились самые смелые речи. Какой-нибудь оратор вдруг станет на стол, соберет вкруг себя толпу, расшевелит ее яростными словами, которые всегда оставались безнаказанными, потому что тут царствовала толпа. Люди, считавшиеся преданными герцогу Орлеанскому, отличались особенно. Богатство герцога, его всем известная расточительность, громадные займы, его честолюбие, хоть и неровное, – всё сложилось так, что он непременно должен был подвергаться нападкам. Не приводя ничьего имени, можно во всяком случае достоверно сказать, что деньги раздавались. Если здравая часть нации горячо жаждала свободы, если неспокойная, страждущая часть народа испытывала потребность что-нибудь делать и чем-нибудь улучшить свою участь, то имелись также подстрекатели, которые не раз натравливали толпу и не раз тайно руководили ее проделками. Впрочем, это влияние нельзя считать одной из причин революции: уж никак не несколькими горстями золота и тайными происками можно поднять нацию в двадцать пять миллионов человек.
Скоро представился случай к беспорядкам. Французская гвардия, отборное войско, назначенное для службы при особе короля, стояла в Париже. Четыре роты поочередно ходили на дежурство в Версаль. Кроме варварской строгости новой дисциплины, гвардия еще имела повод жаловаться на строгость своего нового полковника. Во время событий у дома Ревильона гвардия выказала некоторое озлобление против народа, но после сожалела об этом, и каждый день находясь с парижанами, коротко с ними сошлась. К тому же рядовые и младшие офицеры знали, что перед ними закрыта всякая карьера; их оскорбляло, что молодые офицеры не несли почти никакой службы, являлись только в парадные дни и после смотров даже не шли с полком в казармы. Тут, как и везде, имелось своего рода среднее сословие, которое делало всё дело и не пользовалось никакими льготами. Обнаружилась непокорность, и нескольких солдат посадили в тюрьму Аббатства. Толпа сбежалась в Пале-Рояль и с криками «В Аббатство!» устремилась к тюрьме. Двери были выломаны, а солдаты с триумфом выведены. Произошло это событие 30 июня. Пока народ караулил в Пале-Рояле, собранию написали письмо, в котором требовали освобождения солдат. Поставленное между народом и правительством, притом не слишком доверяя последнему, так как оно должно было решать в своем же деле, собрание не могло не вступиться и не посягнуть на чужую область вмешательством в полицейские распоряжения. Решение, принятое собранием, было и ловко, и умно: парижанам депутаты выразили свое желание порядка и увещевали не нарушать его, а к королю в то же время послали депутацию, умоляя о милости как о верном средстве водворить мир и согласие. Король, тронутый умеренностью собрания, обещал оказать милость, как только будет восстановлен порядок. Гвардейцев немедленно отвели обратно в тюрьму, из которой они были тотчас же выпущены вследствие королевского помилования. Всё пока шло хорошо; но дворянство, присоединившись к двум прочим сословиям, уступало неохотно, только вследствие обещания, что это ненадолго. Депутаты от дворянства всё еще ежедневно собирались и протестовали против трудов Национального собрания, но число собиравшихся постепенно убавлялось: 3 июля было 138 человек, 10-го – уже только 93, а 11-го – 80. Однако наиболее упорные стояли на своем и 11 июля планировали протест, который, впрочем, по милости последовавших событий, не состоялся. Двор, со своей стороны, уступил тоже не без сожаления и не без дальнейших планов. Оправившись от испуга после заседания 23 июня, он затем согласился на объединение всех сословий, чтобы тормозить действия собрания через дворянство и в надежде скоро силой распустить его. Неккера оставили министром только для того, чтобы он прикрывал собою тайно составляемые планы. По некоторому волнению, по некоторой сдержанности, соблюдаемой относительно него, министр догадывался, что устраивается какая-то большая махинация. Сам король всего не знал, и окружающие несомненно собирались идти далее того, на что он согласился бы. Неккер, который полагал, что вся деятельность государственного человека должна ограничиваться рассуждениями, и у которого только и хватало силы на внушения, делал их без пользы. Он объединился с Мунье, Лалли-Толендалем и Клермон-Тоннером, и все вместе они мечтали об учреждении английской конституции. В это время двор занимался какими-то секретными приготовлениями, и когда депутаты-дворяне хотели опять удалиться, их удержали, подавая надежды на какое-то близкое событие. Приближались войска; общее начальство над ними было поручено маршалу Брольи, а барона Безенваля сделали начальником войск, окружавших Париж. Пятнадцать полков, по большей части иностранных, стояли в окрестностях столицы. Народные депутаты, хотя и не знали всех подробностей плана, который в целости не был известен даже королю, ясно видели, однако, что они могут подвергнуться насилию, и поэтому были раздражены и придумывали средства к сопротивлению. Неизвестно, и навсегда останется неизвестным, какими тайными средствами было устроено восстание 14 июля, но не в том дело. Аристократия же устраивала заговоры – отчего было не организовать один и народной партии? При тех же средствах правота дела остается всё же на одной стороне – и уж никак не на той, которая хотела отступиться от совершенного уже объединения трех сословий, распустить национальное представительство и наказать самых мужественных депутатов. Мирабо пришел к заключению, что самое лучшее средство укротить двор – это принудить его публично обсуждать принимаемые им меры. Для этого следовало открыто изобличить его. Если б двор замялся с ответом, если бы стал уклоняться от вопросов – этого было бы довольно, и нация была бы предупреждена. Мирабо предложил прервать заседания на время и просить короля отослать войска. В свои слова он примешал к совершенному почтению в отношении монарха строжайшее порицание правительства. Он заявил, что каждый день приближаются новые войска; что все проходы заняты, а мосты превратились в военные посты; что разные гласные и скрытные факты, поспешные распоряжения и контрприказы бросаются в глаза и возвещают о скорой войне. «Против нации, – присовокупил Мирабо с горьким упреком, – собирается больше грозного войска, нежели встретило бы, может быть, неприятельское вторжение, и, во всяком случае, в тысячу раз больше, нежели собралось бы на помощь друзьям, терпящим за свою верность, в особенности для сохранения союза с голландцами, столь дорого приобретенного и так позорно утраченного». Речь его встретили рукоплесканиями; предлагаемый адрес приняли, с выпущением лишь одной статьи, в которой Мирабо просил короля не только отослать войска, но и заменить их городской милицией. Адрес приняли единодушно за исключением четырех голосов. В этом адресе, знаменитом, хотя Мирабо, говорят, писал его не сам, а снабдил одного приятеля всеми мыслями и материалами, знаменитый оратор предвидел всё, что действительно случилось: взрыв толпы и отступление войск вследствие сближения их с гражданами. Ловкий и смелый, он дерзал уверять короля, что его обещания не будут тщетными. «Вы нас призвали возродить государство, – писал он, – ваши желания исполнятся вопреки всем ловушкам, трудностям и опасностям…» Адрес был подан депутацией из двадцати четырех человек. Король, не желая объясняться, ответил, что сбор войск не имеет другой цели, кроме охранения общественного спокойствия и самого собрания, что, вдобавок, если собрание чего-нибудь опасается, то он перенесет его в Суассон или в Нуайон, а сам уедет в Компьень. Собрание не могло удовольствоваться подобным ответом, в особенности предложением удалить его от столицы и поставить между двумя лагерями. Граф Крильон предложил положиться на слово короля, честного человека. «Слово короля, честного человека, – возразил Мирабо, – не есть гарантия поступков его правительства; наше слепое доверие к нашим королям погубило нас; мы просили удаления войск, а не изъявляли желания бежать от них; нужно настаивать еще и неустанно». Это мнение не нашло поддержки. Мирабо так энергично и безуспешно настаивал на открытых средствах, что вполне можно простить ему тайные происки, если таковые действительно были.
Наступило 11 июля. Неккер несколько раз говорил Людовику XVI, что, если его услуги ему не угодны, он покорно удалится. Король наконец согласился. В тот же день вечером Неккер получил записку, в которой Людовик приглашал его исполнить данное слово, торопил уехать и присовокуплял, что полагается на него и надеется, что он сумеет скрыть свой отъезд ото всех. Неккер, чтобы оправдать лестное доверие государя, уехал, не предупредив об этом ни собравшееся у него общество, ни даже дочь, и в несколько часов был уже далеко от Версаля. Следующий день, 12-е, приходился на воскресенье. В Париже разнесся слух, что Неккеру дана отставка, а вместе с ним – господам Монморену, Ла Люзерну и Сен-При. Как на преемников указывали на Бретейля, Ла Вогийона, Брольи, Фулона и д’Амекура – почти все они были известными противниками народного дела. В Париже распространяются страх и ужас. Толпа отправляется в Пале-Рояль. Один молодой человек, впоследствии сделавшийся знаменитым своей республиканской экзальтацией, одаренный от природы мягким сердцем, но не в меру импульсивный и страстный, Камилл Демулен, встает на стол, показывает народу пистолеты, призывая его к оружию, срывает с дерева лист вместо кокарды и приглашает всех следовать его примеру. Листья с деревьев мигом обрываются, толпа отправляется в музей восковых фигур, хватает там бюсты Неккера и герцога Орлеанского, которому, как уверяли, грозила ссылка, и рассыпается по парижским кварталам. На улице Сент-Оноре, близ Вандомской площади, толпа эта встречает отряд немецкого королевского полка, который на нее накидывается, нескольких человек ранит и, между прочими, – солдата из Французской гвардии. Гвардия, и без того уже расположенная в пользу народа и против немецких солдат, с которыми за несколько дней до того у нее произошла стычка, начинает стрелять по полку из своих казарм близ площади Людовика XV. Принц Ламбеск, командовавший этим полком, поворачивает к саду Тюильри, бросается на мирно гуляющую толпу, среди общего смятения убивает какого-то старика и приказывает очистить сад.
 Камилл Демулен в Пале-Рояле
Камилл Демулен в Пале-Рояле
В это время войска, расположенные вокруг Парижа, сосредоточиваются на Марсовом поле и площади Людовика XV. Безграничный ужас и превращается в ярость. По всему городу раздаются призывы к оружию. Толпа бежит к ратуше требовать оружия. Выборщики в это время находятся в ратуше в полном составе. Они выдают оружие, так как уже нет возможности в нем отказать, и народ принимается самовольно растаскивать его в ту самую минуту, как они решают удовлетворить требование. Лишенные всякой активной власти, избиратели принимают меры, требуемые обстоятельствами, и распоряжаются созывом избирательных округов. Вокруг собираются обычные граждане, чтобы приискать средства охранить себя – с одной стороны, от разъяренной толпы, с другой – от королевских войск. Ночью народ, всегда сбегающийся туда, где происходит что-нибудь занимательное, ломает и сжигает заставы, разгоняет сторожей ворот и делает беспрепятственным въезд в город. Лавки оружейных мастеров подвергаются разграблению. Являются те самые разбойники, которые отличились у Ревильона и после вырастали при каждом случае, как из земли, вооруженные пиками и палками. Всё это происходило в течение воскресенья 12-го и в ночь на понедельник 13 июля. В понедельник утром выборщики, всё еще заседающие в ратуше, находят нужным придать законную форму своей власти и этой целью призывают прево, в обыкновенное время управляющего городом. Он соглашается повиноваться не иначе как по формальному приказу. Ему посылают такой приказ и дают в товарищи нескольких выборщиков. Новый муниципалитет, составленный таким образом, требует к себе начальника полиции и в несколько часов составляет план вооружения городской милиции. Эта милиция должна была состоять из сорока восьми тысяч человек, поставляемых округами. Отличительным признаком ее должна была стать не зеленая кокарда, а парижская – красная с синим. Каждый человек, взятый с оружием и этой кокардой и не внесенный своим округом в списки гражданской милиции, должен был быть арестован, обезоружен и наказан. Таково было начало первой национальной гвардии. Все округа приняли этот план и поспешили привести его в исполнение. В течение того же утра народ опустошил монастырь Сен-Лазар, отыскивая там хлеб, вломился в арсенал, чтобы взять оружие, и вытащил несколько древних лат, в которые и облачился; люди в шлемах и с пиками наводнили город. На этот раз горожане демонстрировали презрение к мародерству, не трогали золота, брали только оружие и сами хватали грабителей. Французская гвардия и полиция предложили свои услуги, и их вписали в гражданскую милицию. Народ продолжал неистово требовать оружия. Прево Флессель, сначала сопротивлявшийся происходящему, теперь проявлял большое усердие и обещал 12 тысяч ружей в тот же день, а в следующие – еще более. Он уверял, что сторговался с одним неизвестным оружейником. Этому трудно было поверить, принимая во внимание краткость сроков. Однако уже к вечеру обещанные артиллерийские ящики подвезли к ратуше; их вскрыли – и нашли в них одно старое тряпье. При виде этого толпа вознегодовала, но прево сказал, что его обманули. Чтобы успокоить толпу, он послал ее к картезианцам, уверяя, что там точно найдется оружие. Удивленные картезианцы приняли разъяренную толпу, впустили ее в свою обитель и наглядно убедили, что у них нет того, что обещал прево. Народ, еще более раздраженный, вернулся с криками «Измена!». Чтобы как-то утихомирить толпу, немедленно были заказаны пятьдесят тысяч пик. По Сене на барках плыл запас пороха, предназначенный для Версаля; народ овладел им, и один из выборщиков среди всеобщего смятения раздал порох. Страшная путаница царила в ратуше, этой главной квартире милиции, центре властей и всех операций. Надо было в одно и то же время заботиться о внешней безопасности, угрожаемой двором, и о внутренней, угрожаемой разбойниками; надо было каждую минуту успокаивать народ, везде подозревавший измену, и защищать от его ярости тех, кто возбуждал его недоверие. На площади перед ратушей толпились остановленные экипажи, перехваченные шествия, путешественники, ожидавшие разрешения продолжать свой путь. Ночью разбойники снова стали угрожать ратуше; выборщик Моро де Сен-Мери, которому была вверена ее безопасность, велел принести несколько бочонков с порохом и объявил, что в случае нужды взорвет ратушу. Разбойники ушли. В то же время граждане, разойдясь по домам, были готовы ко всему: они заранее разобрали мостовые, вырыли траншеи и приняли все меры на случай осады.
Пока в столице происходили эти беспорядки, собрание пребывало в страхе и унынии. Депутаты собрались 13-го утром, уже встревоженные предстоявшими событиями, но не зная того, что происходило в Париже. Депутат Мунье первый высказался против отставки министров. За ним последовал Лалли-Толендаль, произнес пышное похвальное слово Неккеру, и затем оба вместе предложили адрес, испрашивавший у короля возвращения опальных министров. Один из депутатов от дворянства, маркиз де Вирьё, даже предложил подтвердить постановление 17 июня новой клятвой. Клермон-Тоннер выступил против этого предложения, находя его излишним, и воскликнул, напоминая об обязательствах, принятых собранием: «Или конституция будет, или нас не будет!» Прения давно уже начались, когда узнали об утренних беспорядках и о несчастьях, угрожавших столице, поставленной, по выражению герцога Ларошфуко, между безначальными французами, которые не слушались никого, и дисциплинированными иноземцами, которые находились в руках деспотизма. Собрание тотчас же решило послать королю депутацию, чтобы описать бедственное положение столицы и умолять распорядиться отправкой войск и учреждением гражданской гвардии. Король дал ответ спокойный и холодный, не согласовавшийся с его добрым сердцем: он повторил, что Париж не может сам себя охранять. Тогда депутаты, возвысившись до благородного мужества, составили достопамятное постановление, в котором настояли на отсылке войск и учреждении гражданской гвардии, объявили министров и всех представителей власти ответственными, возложили на советников короля, какого бы ни были они звания, ответственность за готовившиеся несчастья, запретили произносить постыдное слово «банкротство», подтвердили свои предыдущие постановления и приказали президенту выразить сожаление Беккеру, а равно и прочим министрам. Приняв эти энергичные и разумные меры, собрание, чтобы охранить своих членов от всякого личного насилия, объявляет свое заседание непрерывным и назначает Лафайета вице-президентом для облегчения участи почтенного архиепископа Вьеннского, которому года не позволяли заседать день и ночь. Так протекла ночь на 14 июля, среди тревоги и смущения. Каждую минуту сообщались и опровергались ужасные известия, замыслы двора не все были известны, но собрание знало, что нескольким депутатам грозит опасность и против Парижа и наиболее известных членов собрания может быть применена сила. После самого краткого перерыва заседание снова открылось 14 июля в 5 часов утра. Депутаты с самым величественным спокойствием принялись за прерванные труды по конституции и весьма верно обсуждали средства к ускорению ее осуществления и осторожного введения. Назначили комитет для подготовки вопросов; он состоял из епископа Отенского (Талейрана), архиепископа Бордосского, Лалли-Толендаля, Клермон-Тоннера, Мунье, Сийеса, Шапелье и Бергаса. Прошло утро; известия приходили всё более зловещие: говорили, будто король собирается уехать ночью и оставить собрание на произвол нескольких иностранных полков, а перед этим некоторые видели, как королева с герцогиней Полиньяк гуляли в оранжерее, заискивая перед офицерами и солдатами и угощая их. По всему было видно, что в ночь на 15-е задумали совершить важное дело; что Париж будет атакован из семи пунктов, Пале-Рояль – окружен, а собрание – распущено; что декларация 23 июня будет перенесена в парламент, что, наконец, финансовые затруднения должны быть разрешены банкротством и государственными билетами. Верно то, что начальникам войск уже был дан приказ двинуться в ночь на 15 июля, а государственные билеты были уже заготовлены; что швейцарские казармы были наполнены военными припасами, а комендант Бастилии уехал из крепости, оставив в ней лишь несколько необходимых вещей. После полудня опасения собрания удвоились: во весь опор проскакал принц Ламбеск; слышен был грохот пушек. Депутаты прикладывали ухо к полу, чтобы уловить малейшие звуки. Мирабо предложил прервать прения и вторично послать к королю депутацию, что и было немедленно исполнено. В эту минуту два члена собрания, приехавшие из Парижа, объявили, что там идет резня; один из них уверял, что видел обезглавленный труп в черной одежде. Темнело, собранию доложили о приезде двух выборщиков. В зале царило глубокое молчание: в темноте слышен был шум их шагов; от них узнали, что совершено нападение на Бастилию, случилась пушечная пальба, текла кровь и предвидятся страшные бедствия. В ту же минуту была отправлена третья депутация. Когда эта депутация уходила, первая возвратилась с ответом короля. Людовик приказал удалить войска, стоявшие на Марсовом поле, и, узнав об образовании гражданской гвардии, назначил офицеров для командования ею. Когда прибыла вторая депутация, король, изрядно смущенный, сказал: «Господа, вы более и более терзаете мне сердце вашими рассказами о бедствиях Парижа. Быть не может, чтобы причиною их были приказания, отданные войскам». Он не согласился ни на что, кроме удаления войск. Было два часа пополуночи. Собрание дало городу Парижу следующий ответ: «Две депутации были посланы к королю, а на следующий день просьбы и настояния будут возобновлены, пока не будут иметь того успеха, которого можно ожидать от доброго сердца короля, когда чужие наущения не удерживают его порывов». Заседание было прервано ненадолго, и вечером выяснилось всё, что происходило в этот день, 14 июля.
Народ еще в ночь с 13-го двинулся к Бастилии; сделали несколько выстрелов, и раздались крики «К Бастилии!», испускаемые, должно быть, зачинщиками. В полномочиях некоторых депутатов выражалось требование о срытии Бастилии, из чего видно, что мысли уже раньше приняли это направление. Толпа продолжала требовать оружия. Разнесся слух, что есть значительный склад в Доме инвалидов, – туда и отправились. Комендант, маркиз де Сомбрёйль, не позволял никого впускать на том основании, что ему нужно снестись с Версалем. Народ знать ничего не хотел, вторгся в здание, увез пушки и похитил большое число ружей. В это время Бастилию осаждает уже значительная толпа. Осаждавшие говорят, что пушки крепости направлены против города и нужно помешать им стрелять по нему. Депутат одного из округов просит разрешения войти в крепость, и комендант его впускает. Он находит в гарнизоне Бастилии тридцать двух швейцарцев и восемьдесят двух инвалидов и берет с них слово не стрелять, если на них не будет совершено нападения. Во время этих переговоров народ, не видя своего депутата, начинает приходить в раздражение, и депутату приходится показаться, чтобы успокоить толпу. Наконец, около одиннадцати часов утра, он выходит.
 Штурм Бастилии
Штурм Бастилии
Едва проходит полчаса, как является новый вооруженный отряд с криками «Отдайте нам Бастилию!». Гарнизон требует, чтобы нападающие удалились, но те не слушаются. Два человека бесстрашно залезают на крышу гауптвахты и топорами ломают цепи подъемного моста – мост падает. Толпа бросается через него с намерением таким же способом овладеть вторым мостом. В эту минуту ее наконец останавливает ружейный залп – она отступает, но стреляет. Перестрелка продолжается несколько мгновений. Выборщики, слыша выстрелы из ратуши, пугаются еще более и посылают две депутации, одну за другой, к коменданту с требованием впустить отряд парижской милиции. Депутации приходят одна после другой весьма скоро. Барабанный бой и вид флага на некоторое время прекращают огонь. Депутации подходят к крепости, гарнизон ждет их, но нет возможности объясниться. Неизвестно откуда вновь раздаются выстрелы. Первая мысль людей – измена, они бросаются к крепости с намерением поджечь ее, и тогда гарнизон стреляет картечью. Наконец появляется гвардия с пушками и начинает полноценную атаку. Тем временем в ратуше перехватывается и прочитывается записка от барона Безенваля к Делоне[37], коменданту Бастилии. Безенваль уговаривает Делоне держаться, уверяя, что тот скоро получит подкрепление. Действительно, в этот самый вечер должны были быть исполнены планы двора. Между тем Делоне, не получая помощи и видя ожесточение народа, хватает зажженный фитиль и хочет сам взорвать крепость. Гарнизон этого не допускает и принуждает его сдаться. Посылают сигналы, опускается один мост. Осаждающие подходят, обещая не совершать никаких излишеств, но толпа врывается во двор. Швейцарцы кое-как спасаются, а инвалиды оказываются обязаны своим спасением единственно самопожертвованию Французской гвардии. В эту минуту появляется молодая девушка, красавица; воображая, что это дочь Делоне, толпа хватает ее и собирается бросить в огонь, но некий храбрый гвардеец вырывает несчастную из рук толпы и уносит в безопасное место, после чего возвращается обратно. Уже половина пятого. Выборщики находятся в жесточайшей тревоге, как вдруг слышат глухой, продолжительный гул. В залу врывается толпа в доспехах с победными криками; триумфально несут одного гвардейца, израненного и увенчанного лаврами; на штыке красуются ключи и регламент Бастилии; окровавленная рука, поднимающаяся над головами, показывает пряжку от галстука: она принадлежала коменданту Делоне, которому только что отрубили голову. Два гвардейца, Эли и Гюлен, защищали его до последнего. Пало еще несколько человек, хотя их тоже геройски защищали от свирепости черни. Ярость ее начинала обращаться против Флесселя, которого обвиняли в измене. Уверяли, что он обманул народ, несколько раз обещая ему оружие и всё не давая. Зала наполнилась людьми, кипевшими ожесточением после продолжительного сражения и теснимыми сотнями других людей, тоже желавших войти. Выборщики старались оправдать Флесселя в глазах толпы. Он начинал уже теряться и, весь бледный, восклицал: – Если уж меня подозревают, я удалюсь! – Нет, – возразили ему, – идите в Пале-Рояль, там вас будут судить. Флессель повиновался и ушел, окруженный, а фактически сдавленный толпою. На набережной Пельтье какой-то неизвестный убил его из пистолета. Разнеслась молва, будто у Делоне была найдена записка от Флесселя со словами: «Держитесь, пока я забавляю парижан кокардами».
Таковы были печальные происшествия этого дня. За упоением победы последовал общий страх. Победители Бастилии, сами удивленные своей отвагой и боясь почувствовать на другой день грозную силу власти, не осмеливались более называть себя. Каждую минуту распространялся слух, будто к столице подходят войска с целью опустошить ее. Моро де Сен-Мери, тот самый, который накануне объявил злодеям, что взорвет ратушу, остался непоколебим и отдал три тысячи приказов в несколько часов. Как только в ратуше стало известно о взятии Бастилии, выборщики послали об этом сообщение Национальному собранию, которое получило его к середине ночи. Заседания в это время не было, но известие разнеслось быстро. Двор, дотоле не веривший в энергию народа, смеявшийся над усилиями слепой толпы, вздумавшей брать крепость, которую некогда тщетно осаждал великий Конде, – двор был совершенно спокоен и рассыпался в насмешках. Однако король начинал тревожиться; в последних его ответах отчасти даже высказывалась скорбь. В конце концов он просто лег спать. Герцог Лианкур, известный своими благородными чувствами, был личным другом Людовика XVI и в качестве главного хранителя королевского гардероба имел к нему доступ во всякое время. Узнав о парижских событиях, он поспешил прямо к королю, разбудил его, несмотря на сопротивление министров, и всё рассказал ему. – Какой бунт! – воскликнул король. – Государь, – возразил Лианкур, – скажите лучше – революция. Людовик, быстро ухватив суть дела, согласился рано утром отправиться в собрание. Двор тоже уступил, и было решено дать собранию это доказательство высокого доверия. Между тем собрание снова открыло заседание. Депутаты не знали о новых намерениях, внушенных королю, и речь шла о том, чтобы послать к нему еще одну, последнюю депутацию, которая попыталась бы тронуть его сердце и выпросить у него то, что он еще мог дать. Эта депутация была пятой с начала этих несчастных происшествий. Она состояла из двадцати четырех человек и готовилась уже идти, когда Мирабо, с еще большим против обыкновенного жаром, остановил ее. «Скажите королю, – воскликнул он, – скажите ему непременно, что иноземные орды, которыми мы окружены, принимали вчера принцев, принцесс, фаворитов и фавориток, их ласки, увещания, подарки. Скажите ему, что всю ночь эти иноземные прихвостни, преисполненные золотом и вином, предрекали в своих безбожных песнях порабощение Франции, и их зверские желания призывали погибель Национального собрания. Скажите ему, что в самом его дворце придворные танцевали под эту варварскую музыку и что таково было начало Варфоломеевской ночи. Скажите ему, что Генрих, память которого всеми благословляется, тот из его предков, которого он хотел избрать себе образцом, пропускал съестные припасы в непокорный Париж, им лично осаждаемый, а свирепые советники короля обращают вспять муку, подвозимую Парижу, верному и голодному». Депутация совсем было уже собралась к королю, когда узнали, что он идет сам, по собственному желанию, без стражи и свиты. Раздались рукоплескания. «Подождите! – с важностью остановил их Мирабо. – Пусть прежде король заявит нам о своих добрых намерениях. Пусть мрачное молчание встретит монарха в эту тяжкую минуту». Людовик XVI появился в сопровождении двух своих братьев. Его простая, трогательная речь вызвала сильнейший восторг. Он успокоил собрание, которое в первый раз назвал национальным, кротко пожаловался на недоверие к нему. «Вы боялись, – сказал он, – хорошо же! Так я вам доверяюсь». Слова эти заглушили рукоплескания. Депутаты встали, окружили короля и пешком проводили его до дворца. Толпа теснилась около него, во всех глазах стояли слезы, и Людовику едва удавалось прокладывать себе путь через эту массу людей. В эту минуту королева со всем двором стояла на балконе и издалека любовалась этой трогательной сценой. Она держала сына на руках, а дочь ее, стоявшая подле, тихо играла волосами брата. Мария-Антуанетта, глубоко тронутая, наслаждалась любовью французов. Сколько раз в течение этих роковых раздоров обоюдное умиление примиряло сердца! На минуту всё казалось забыто, но на следующий день, даже в тот же день, двор возвращался к своей надменности, народ впадал в прежнее недоверие, и непримиримая ненависть воцарялась вновь. Двор помирился с собранием – оставалось помириться с Парижем. Собрание послало в ратушу депутацию с известием о счастливом примирении с королем. Байи, Лафайет, Лалли-Толендаль были в числе посланных. Их присутствие возбудило сильнейшую радость. Речь Лалли вызвала такой восторг, что его с триумфом поднесли к одному из окон ратуши, чтобы показать народу. Его увенчали цветами, и он принял эти овации напротив той самой площади, на которой был казнен его отец. По случаю смерти несчастного Флесселя и отказа герцога Орлеанского принять начальство над гражданской милицией открывались две вакансии – городского главы и начальника городской полиции. На первую должность был предложен и с восторгом принят Байи – с титулом парижского мэра. Венок с головы Лалли перешел на голову нового градоначальника; он хотел снять его, но архиепископ Парижский удержал его. Почтенный старец прослезился и неохотно покорился новым обязанностям. Достойный представитель большого собрания перед величием престола, он был менее способен бороться с бурями общины, где толпа сражалась против своих же вождей. Однако он с полным самоотвержением предался трудным заботам о продовольствии, чтобы прокормить народ, который впоследствии отплатил ему такой неблагодарностью. Оставалось назначить главного начальника городской милиции. В зале стоял бюст, присланный освобожденной Америкой городу Парижу. Моро де Сен-Мери указал на него рукой, все взоры обратились к нему – это был бюст маркиза Лафайета. Маркиз был единодушно назначен главой милиции. Тотчас же предложили отслужить благодарственный молебен, и громадная толпа двинулась к собору Нотр-Дам. Новые должностные лица, архиепископ Парижский, выборщики, гвардейцы, солдаты милиции шли под руку в каком-то упоении. По дороге дети из Воспитательного дома бросились к ногам Байи (который много потрудился на пользу богоугодных заведений), называя его своим отцом. Байи обнимал их и называл своими детьми. Отслушав молебен, вся эта толпа рассыпалась по городу, в котором вчерашний ужас сменила безумная радость. Народ в это время ходил осматривать грозный вертеп, ныне открытый всем. Любопытные ходили по Бастилии с жадностью, смешанной еще с некоторым страхом, искали орудия пыток, подземные темницы, в особенности рассматривали находившийся посередине мрачной сырой темницы огромный камень с приделанной к нему тяжелой цепью.
Двор, столько же слепой в страхе, сколь и в доверии, до того боялся народа, что ежеминутно воображал, будто парижские полчища идут на Версаль. Граф д’Артуа и семейство Полиньяк, любимцев королевы, уехали из Франции; это были первые эмигранты. Прибыл Байи, успокоил Людовика и уговорил его ехать в Париж, что и было решено вопреки сопротивлению Марии-Антуанетты и двора. Король собрался в дорогу. Двести депутатов должны были сопровождать его. Королева простилась с ним в глубокой горести. Гвардия проводила короля до Севра и осталась там ждать. Байи во главе муниципальных властей принял короля у ворот Парижа и поднес ему ключи, некогда поднесенные Генриху IV. «Сей добрый король, – сказал по этому случаю мэр, – завоевал свой народ. Ныне народ завоевал своего короля». Людовик XVI, вступая в столицу, увидел себя окруженным молчаливой и организованной толпой. В ратушу он вошел под сводом шпаг, в знак почтения скрещенных над его головой. Речь его была трогательна и проста, и народ не выдержал и разразился обычными своими рукоплесканиями и восторженными криками. Это несколько облегчило ношу на сердце короля, но всё же он не мог скрыть радостного движения, увидев свою гвардию на севрских высотах. А когда он возвратился в Версаль, королева бросилась ему на шею, точно боялась, что больше никогда не увидит. Чтобы вполне удовлетворить желания народа, Людовик XVI вернул Неккера и отставил новых министров. Лианкур, друг короля и полезнейший советник, был выбран собранием в президенты. Депутаты дворянства, которые, хотя и присутствовали при заседаниях, но всё еще не принимали в них участия, наконец уступили. Этим закончилось объединение сословий. С этой минуты переворот можно было считать свершившимся. Нация, завладев законодательной властью через собрание, а общественной силой – самостоятельно, отныне могла привести в исполнение любые меры, полезные для своих интересов. Отказав в равномерном распределении податей, двор сделал созыв Генеральных штатов необходимым; отказав в справедливом распределении власти в штатах, он лишился в них всякого влияния; наконец, стараясь вернуть это влияние, он поднял Париж и заставил нацию взять общественные силы в свои руки.
Глава III
Лафайет – Избиение Фулона и Бертье – Положение партий – Мирабо – Смуты в провинциях – Отмена феодальных прав и всех привилегий – Декларация прав человекаМежду тем в столице, где так недавно учредили новую власть, господствовало всеобщее волнение. То же движение, которое толкнуло выборщиков к открытым действиям, толкало к тому же и прочие классы. Собранию подражала ратуша, ратуше – избирательные округа, избирательным округам – все гильдии. Портные, сапожники, булочники собирались в Лувре, на площади Людовика XV, на Елисейских Полях и совещались – вопреки многократным запрещениям муниципалитета. Среди этих противоречивых движений ратуша, споря с избирательными округами, тревожимая Пале-Роялем, была окружена препятствиями и едва успевала справляться с заботами, налагаемыми на нее громадными подведомственными ей делами. Она в себе одной совмещала гражданскую, судебную и военную власти.
 Лафайет
Лафайет
В ратуше располагалась главная квартира милиции. Судьи, на первых порах неуверенные в размерах своей власти, туда же препровождали обвиняемых. Ратуша даже получила отчасти законодательную власть, так как ей поручено было сочинить для себя устав. Байи для этой цели потребовал от каждого избирательного округа по два представителя, названных представителями общины, или коммуны. Чтобы их хватило на все эти заботы, выборщики разделились на несколько комитетов: один, называемый комитетом исследований, занимался полицией; другой, комитет продовольствия, занимался комиссариатской частью, наиболее трудной и опасной из всех. Байи приходилось проводить за нею дни и ночи. Требовалось беспрестанно закупать зерно, потом отдавать его молоть, наконец, привозить в Париж через голодные деревни. Транспорт часто останавливали, нужны были сильные отряды, чтобы мешать разграблению повозок на больших дорогах и рынках. Хотя казна продавала хлеб с убытком, чтобы булочники могли понизить цену выпекаемого хлеба, народ был недоволен; требовалось дальнейшее понижение цен, что еще больше увеличивало нужду в Париже, потому что туда съезжались закупать хлеб из деревень. Каждый боялся следующего дня и потому закупал большие количества, так что хлеб копился в немногих руках, а большинство все-таки ощущало в нем недостаток. Только при доверии торговые обороты идут бойко, а подвоз и распределение припасов совершаются легко и равномерно; нет доверия – коммерческая деятельность прекращается, количество припасов не соответствует более потребностям, потребности приводят к нужде, к недостатку прибавляется беспорядок и мешает равномерному распределению даже того, что имеется. Следовательно, попечение о продовольствии для столицы было самым тягостным из всех. Тяжкие заботы поглощали Байи и комитет. Всего труда целого дня едва хватало на один этот день; а на следующий начинались те же труды и тревоги. Лафайету, начальнику гражданской милиции, приходилось не легче. Он зачислил в милицию всех французских гвардейцев, преданных революции, известное число швейцарцев и большое количество солдат, дезертировавших из полков в надежде на большое жалованье. Проделать это разрешил сам король. Эти войска все вместе составили так называемые роты центра. Милиция приняла название Национальной гвардии, облеклась в мундир и к двум цветам парижской кокарды прибавила белый, цвет королевского дома. Этой трехцветной кокарде Лафайет предсказал будущее кругосветное путешествие. Два года Лафайет во главе этого славного войска старался сохранить общественное спокойствие и наблюдал за исполнением законов, каждый день издаваемых собранием. Потомок древнего рода, оставшегося незапятнанным среди разврата высшего общества, одаренный здравым умом, твердым духом, любовью к истинной славе, Лафайет скучал среди придворной пустоты и педантичной военной дисциплины. Не имея возможности дома предпринять ничего высокого, он увлекся благороднейшим делом того века и уехал в Америку в то самое время, когда в Европе нарочно распускали слух, будто она покорена. Там он сражался подле Вашингтона и помог освобождению Нового Света. Возвратившись знаменитостью, он был принят при дворе как диковинка и держал себя свободно и как американец. Когда философия, до тех пор бывшая для праздных вельмож лишь умственной забавой, потребовала от них жертв, Лафайет один остался при своих мнениях, требовал Генеральных штатов, способствовал объединению сословий и в награду за это был избран главнокомандующим Национальной гвардии. Лафайет не имел ни тех сильных страстей, ни того гения, которые иногда заставляют использовать власть во зло; при его ровном нраве, тонком уме, неизменном бескорыстии, он был в высшей степени годен для роли, возложенной на него обстоятельствами, – роли блюстителя законов. Боготворимый войсками, хоть он и не пленял их победами, постоянно спокойный и находчивый среди яростной толпы, он оберегал порядок с неутомимой бдительностью. Партии, убедившись в его неподкупности, нападали на его способности, не имея возможности напасть на его честное имя. Однако он не обманывал себя насчет людей и событий, ценил двор и вождей партий в их настоящую цену, охранял их с опасностью для своей жизни, не уважая, и боролся против крамолы часто без надежды, но с твердостью человека, убежденного, что он обязан не отрекаться от общественного дела, даже когда ни на что более для него не надеется. Лафайету, несмотря на его бдительность, не всегда удавалось удержать народную ярость в разумных пределах. Как бы ни была деятельна сила духа, она не может проявляться везде, против народа повсеместно возмущенного, в каждом человеке видящего врага. Нелепейшие слухи распускались ежеминутно, и им верили. То говорили, что солдаты Французской гвардии отравлены, то что хлеб умышленно потоплен или что его подвоз намеренно задержан. Люди, изо всех сил трудившиеся над обеспечением продовольствия, вынуждены были появляться перед чернью, которая осыпала их бранью или рукоплесканиями, смотря по расположению минуты. Однако не подлежит сомнению, что ярость народа, вообще не умеющая ни выбирать, ни долго разыскивать свои жертвы, часто бывала направляема – либо негодяями, получавшими деньги за то, чтобы усиливать беспорядки и делать их кровопролитными, либо просто отдельными личностями, питавшими более определенную и глубокую ненависть. За некими Фулоном и Бертье организовали погоню, и они были схвачены далеко от Парижа, очевидно с умыслом. Относительно ниходно только было движением минуты – ярость народа, который их умертвил. Фулон, бывший интендант, человек жадный и бездушный, занимался чудовищными вымогательствами и был одним из министров, назначенных в преемники Неккеру и его товарищам. Его схватили в Витри, хотя он нарочно распустил слух о своей смерти. Его привезли в Париж. Народ был крайне ожесточен против него за то, что он как-то сказал: «Пускай эти канальи едят сено, если нет хлеба». Ему на шею привязали крапиву, дали в руки пучок репейника, а на спину привязали охапку сена. В таком виде он был приведен в ратушу. В то же время зять его Бертье де Савиньи был арестован в Компьене – по мнимому приказу Парижской коммуны. Коммуна тотчас же написала, чтобы его отпустили, но это не было исполнено. Его тоже повезли в Париж, пока Фулон в ратуше оставался предметом бешеных издевательств. Чернь хотела тотчас же умертвить его; уговоры Лафайета несколько успокоили ее, и она согласилась, чтобы Фулона судили, но требовала, чтобы суд над ним был совершен немедленно – тогда можно будет тут же насладиться казнью. Нескольким выборщикам предложили быть судьями, но они под разными предлогами отказались от ужасной должности. Наконец были назначены Байи и Лафайет, и им остался один выбор: или предать себя ярости толпы, или предоставить жертву ее участи. Однако Лафайет с большим искусством и твердостью старался выиграть время; он несколько раз обращал речь к толпе. Злополучный Фулон, сидевший возле него, имел неосторожность аплодировать его последним словам. «Смотрите! – воскликнул один из присутствовавших. – Они заодно!» От одного этого слова толпа ринулась на Фулона, и несчастный был повешен на фонарном столбе, несмотря на неимоверные усилия Лафайета. Убитому отрезали голову, насадили ее на пику и носили по всему городу.
 Смерть Фулона
Смерть Фулона
В эту минуту подъехал в кабриолете Бертье – под стражей и преследуемый толпой. Ему показали окровавленную голову, и он не догадался, что это голова его тестя. Его привели в ратушу, и там он произнес краткую речь, исполненную мужества и негодования. Снова схваченный толпою, он на мгновение вырвался, ему попало в руку какое-то оружие, он яростно защищался, но вскоре разделил участь несчастного Фулона. Этими убийствами руководили враги не только Фулона, но и народного дела, потому что если ярость толпы мгновенно вспыхнула при виде двух ненавистных людей и если вообще движения ее происходили под влиянием минуты, то все-таки арест их явно был делом, устроенным заранее. Лафайет, в горе и негодовании, решил подать в отставку. Байи и муниципалитет, испуганные его намерением, поспешили отговорить его. С общего согласия остановились на том, что он подаст, чтобы дать народу почувствовать свое неудовольствие, но затем уступит просьбам, с которыми непременно его обступят. Действительно, милиция и народ окружили его и обещали полнейшее повиновение. На этих условиях он согласился и с тех пор имел счастье препятствовать большей части беспорядков благодаря своей энергии и преданности войска.
Тем временем до Неккера в Базель дошли приказания короля и настоятельные просьбы собрания. Полиньяки, которых он торжествующими оставил в Версале, а теперь беглецами встретил в Базеле, первыми известили Неккера о несчастьях, постигших престол, и ожидавшей его внезапной новой милости. Неккер отправился, триумфально проехал по Франции и, по обыкновению, уговаривал народ соблюдать тишину и порядок. Король принял его как-то неловко, но собрание – с восторгом. Он решил ехать в Париж, где ему тоже предстояло торжество, и намеревался просить у выборщиков освобождения из-под ареста барона Безенваля, хотя это был его личный враг. Тщетно Байи, не менее Неккера ненавидевший строгости, но вернее понимавший обстоятельства, обращал его внимание на опасность подобной меры и дал почувствовать, что эта милость, плод увлечения, будет отменена на другой же день как противозаконная, потому что собрание не может ни осуждать, ни миловать. Неккер заупрямился и решил испытать свое влияние на столицу. Он явился в ратушу 30 июля. Всё удалось ему сверх ожидания, и он мог считать себя всемогущим при виде восторгов толпы. Глубоко взволнованный, со слезами на глазах, Неккер просил общей амнистии, на которую последовало немедленное и единодушное согласие. Собрание выборщиков и собрание представителей продемонстрировали одинаковую предупредительность: выборщики провозгласили общую амнистию, представители постановили освобождение Безенваля. Неккер удалился в упоении. Но ему предстояло скорое разочарование: Мирабо готовил ему жестокое пробуждение. В собрании, в избирательных округах, поднялся общий крик против чувствительности министра – «извинительной, но ошибочной». Со всех сторон доказывали, что административное собрание не может ни осуждать, ни миловать. Незаконно принятая ратушей мера была отменена, а барон Безенваль оставлен в заключении. Так оправдался совет мудрого Байи, которому Неккер не захотел следовать. Между тем партии начинали обозначаться резче. Парламенты, дворянство, духовенство, двор, которым грозил один общий разгром, слили вместе свои интересы и действовали заодно. При дворе уже не было ни графа д’Артуа, ни Полиньяков. Среди аристократии господствовали ужас и отчаяние. После того как ей не удалось помешать злу, ей хотелось, чтобы народ совершил как можно больше злодеяний, чтобы самая крайность зла привела к так называемому добру. Эта система, смесь озлобления и коварства, называемая политическим пессимизмом, появляется у партии тогда, когда она столько потеряла, что легко может отказаться и от того, что остается, в надежде всё вернуть. Аристократия стала усердно осуществлять эту систему и нередко подавать голос вместе с самыми ярыми членами народной партии. Обстоятельства рождают людей. Опасность, грозившая аристократии, породила ее защитника. Молодой Казалес, капитан в полку драгун королевы, обнаружил неожиданную силу ума и легкость стиля. Отличаясь простотой и точностью, он говорил вовремя и изящно то, что следовало говорить, и нельзя не сожалеть, что его трезвый ум был посвящен делу, которое могло привести что-нибудь в свою пользу, только претерпев гонения. Духовенство нашло себе защитника в лице аббата Мори. Этот аббат, опытный и неистощимый софист, отличался удачными выходками и большим хладнокровием; он умел мужественно выдерживать шумные нападки и смело бороться даже против очевидности. Таково было настроение аристократии и средства, которыми она могла располагать. Правительство не имело никаких видов и никаких планов. Один Неккер, ненавистный двору, терпевшему его поневоле, имел не то чтобы план, но желание. Он всегда мечтал об английской конституции, конечно, самой лучшей сделке между народом, престолом и аристократией; но эта конституция, предложенная епископом Лангрским до учреждения единого собрания, сделалась невозможной. Высшее дворянство не соглашалось на учреждение двух палат, потому что это было бы компромиссом; мелкое дворянство – потому что оно не попало бы в верхнюю палату; народная партия – потому что она еще слишком боялась аристократии и не хотела оставлять ей никакого влияния. Лишь несколько депутатов, одни из умеренности, другие потому, что эта мысль принадлежала им, желали английских учреждений; из них-то и состояла вся партия министра, партия бессильная, потому что предлагала расходившимся страстям одни примирительные исходы и противопоставляла своим противникам только рассуждения, а не средства действовать. В народной партии начинались расколы, потому что победа постепенно склонялась на ее сторону. Лалли-Толендаль, Мунье, Малуэ и прочие приверженцы Неккера одобряли всё, что делалось до тех пор, потому что это привело правительство к их воззрениям, то есть к английской конституции. Теперь они находили, что довольно: они примирились с правительством, а потому хотели остановиться. Народная партия, напротив, еще не считала нужным останавливаться. Эта партия всего свирепее производила свою агитацию в Бретонском клубе. Большинством его членов руководили искренние убеждения, но всё же и тут начинали появляться личные притязания, и побуждения частных интересов уже следовали за первыми порывами патриотизма. Барнав, молодой адвокат из Гренобля, одаренный светлым, легким умом и в высшей степени обладавший талантом выражения, образовал с братьями Ламетами триумвират, который сначала заинтересовал всех своей молодостью, но скоро получил влияние благодаря своей деятельности и талантам. Дюпор, уже упомянутый молодой член парламента, тоже примкнул к их кружку. В то время говорили, что Дюпор задумывает всё, что нужно делать, Барнав говорит, а Ламеты исполняют. Наиболее отважный из народных вождей, всегдашний застрельщик, открывавший самые смелые прения, был Мирабо. Нелепые порядки старой монархии оскорбляли справедливые умы, приводили честные сердца в негодование; не могли они также не покоробить пылкую душу, не раздразнить сильных страстей, какие были у Мирабо. С колыбели он постоянно наталкивался на деспотизм – деспотизм отца, деспотизм администрации и судов, – и вся молодость его прошла в борьбе против деспотизма и ненависти к нему. Он родился в Провансе, был знатного рода. Рано сделался известен своим беспутством, ссорами и гневным красноречием. Благодаря путешествиям, наблюдениям, своей громадной начитанности, он всему научился и всё запомнил. Когда страсть в нем молчала, Мирабо вдавался в крайности, причуды или странности, даже софизмы, но страсть его преображала. Быстро возбуждаемый кафедрой и присутствием оппонентов, ум его загорался; первые мысли выходили путаными, неясными, речь его прерывалась, он весь трепетал; но скоро всходил в нем свет, тогда голова его в одно мгновение совершала то, что дается годами труда: стоя на той же кафедре, он ежеминутно делал открытия, речь его лилась живо и совершала неожиданные повороты. Из-за противоречивости она становилась настойчивее и яснее, он представлял слушателям истину в поразительных или страшных образах. В самых затруднительных обстоятельствах, когда умы бывали утомлены продолжительными прениями или устрашены опасностью, у Мирабо вырывался вопль, решительное слово, его безобразная голова сияла гением – и собрание издавало новые законы или принимало великодушные решения. Сам гордясь своими высокими качествами, не огорчаясь своими пороками, попеременно надменный и сговорчивый, он одних восхищал лестью, других стращал сарказмами и всех увлекал за собою странной силой притяжения. Его партия была везде – в народе, в собрании, даже при дворе, – словом, везде, где он в данную минуту говорил. Мирабо держал себя с людьми запросто, умел быть справедливым и превозносил юный талант Барнава, хотя не любил его молодых друзей; он ценил глубокий ум Сийеса и потакал его бурному нраву; в Лафайете он боялся чрезмерной чистоты, в Неккере ненавидел крайний ригоризм[38], гордый разум и претензию управлять революцией, которая, конечно же, принадлежала ему одному. Мирабо недолюбливал герцога Орлеанского и его шаткое честолюбие и, как мы скоро увидим, никогда не имел с ним общих интересов. Один, вооруженный собственным гением, он нападал на деспотизм, который поклялся уничтожить. Между тем, если он не допускал суетностей монархии, то еще менее допускал остракизмы республик, но, не удовлетворив еще своей мести против вельмож и власти, продолжал разрушать. К тому же пожираемый безденежьем, недовольный настоящим, Мирабо шел к неизвестной будущности, подавая повод ожидать всего от своих талантов, честолюбия, пороков и своих расстроенных денежных обстоятельств и в то же время возбуждая подозрения и клевету цинизмом своих речей. Так были разделены Франция и партии. Первые несогласия между народными представителями возникли по случаю преступлений, совершенных толпой. Мунье и Лалли-Толендаль требовали, чтобы была издана торжественная прокламация к народу с порицанием этих преступлений. Собрание, чувствуя бесполезность такой меры и не желая восстанавливать против себя поддержавшую его толпу, сначала не соглашалось, но потом, уступая настояниям некоторых членов, издало прокламацию, которая оказалась, как и предвидели, совершенно бесполезной, потому что словами не усмиряют восставшего народа. Волнение господствовало всеобщее; всюду распространился внезапный ужас. Слово разбойники, которые появлялись во всех беспорядках, было у всех на устах, образ их – у всех в уме. Двор сваливал их злодеяния на народную партию, народная партия – на двор. Вдруг во все концы Франции полетели курьеры, возвещая, что разбойники идут и косят незрелую жатву. В несколько дней вся Франция вооружилась чем попало для встречи разбойников, а разбойников всё не было. Эта хитрость, которая сделала переворот 14 июля всеобщим, заставив всю нацию вооружиться, приписывалась в то время всем партиям, а впоследствии – главным образом народной, так как результаты оказались выгоднее всего этой партии. Удивительно, что партии так усердно сваливали одна на другую ответственность за хитрость – скорее ловкую, нежели преступную. Ее отнесли на счет Мирабо, который гордился бы ею, а между тем отрекался от нее. Она была весьма в характере Сийеса, и некоторые полагали, что это он подсказал этот ход герцогу Орлеанскому. Еще кто-то, наконец, обвинил в ней двор на том основании, что этих курьеров задерживали бы на каждом шагу, если бы о них не знало правительство, и что двор, не считая революцию всеобщей, а только простым бунтом парижан, вздумал вооружить провинции, желая противопоставить их Парижу. Как бы там ни было, эта выдумка обратилась на пользу нации, дав ей в руки оружие и возможность самой заботиться о своей безопасности и охранять свои права.
Городское население сбросило с себя оковы – сельское захотело сделать то же. Оно стало отказываться платить феодальные налоги, начало преследовать притеснявших его господ, жечь усадьбы, жечь бумаги на владение имениями, и в некоторых местностях предавалось ужасным жестокостям. В особенности один прискорбный случай вызвал это повсеместное брожение. Некто де Мемэ, владелец поместья Кинси, давал праздник в окрестностях своей усадьбы. Весь народ собрался на этот праздник и веселился, как вдруг огонь попал в бочонок с порохом, и последовал убийственный взрыв. Впоследствии выяснили, что это была чистая случайность, следствие неосторожности, но тогда ее приписали измене со стороны де Мемэ. Слух быстро разнесся и толкнул крестьян, ожесточенных убогим житьем и продолжительными страданиями, на страшные, бесчеловечные поступки. Все эти разнообразные бедствия случились после 14 июля. Начинался август, и следовало вновь восстановить действие законов и правительства; но чтобы приняться за дело с успехом, следовало начать с возрождения государства посредством реформ в учреждениях, наиболее оскорблявших народ и наиболее располагавших к восстаниям. Часть нации, подчиненная другой части, несла множество повинностей, называемых феодальными; одни из них, именуемые доходными, заключались в разорительных для крестьян пошлинах; другие, именуемые почетными, – в унизительных услугах и знаках почтения. Эти-то остатки средневекового варварства следовало истребить из уважения к человечеству. Эти привилегии, считавшиеся имуществом и даже названные так королем в его декларации от 23 июня, не могли быть отменены простыми прениями. Надо было, вызвав внезапное вдохновенное движение, привести землевладельцев к добровольному отречению от них. Собрание в то время обсуждало декларацию о правах человека. Сначала обсуждался вопрос, составлять ли такую декларацию, и утром 4 августа было решено составить ее и поместить в начале конституции. Вечером того же дня комитет внес доклад о смутах и средствах к их прекращению. Виконт Ноайль и герцог д’Эгильон взошли на кафедру и стали говорить, что применять силу для усмирения народа недостаточно, что нужно уничтожить причину его страданий, и тогда волнение, последствие этих страданий, тотчас же уймется. Наконец, они предложили отменить все притеснительные повинности, которые под названием феодальных привилегий душили сельское население. Ле Гуэи де Керангаль, землевладелец из Бретани, появляется на кафедре в одежде земледельца и представляет ужасающую картину феодальных порядков. Великодушие, возбужденное в одних, гордость, задетая у других, вызвали внезапный порыв бескорыстия – каждый бросается к кафедре отрекаться от своих прав. Дворяне первыми подают пример, духовенство с неменьшим рвением спешит последовать им. Собранием овладевает какое-то опьянение; устраняя лишние прения, все сословия, все обладатели каких бы то ни было привилегий тоже торопятся со своими отречениями. Вслед за депутатами двух высших сословий являются с приношениями депутаты общин. Не имея личных привилегий, они отдают исключительные права провинций и городов. Некоторые жертвуют пенсиями, а один член парламента, не имея ровно ничего, чем мог бы пожертвовать, обещает свою преданность общему делу. На первый раз довольствуются перечислением пожертвований, а составление статей откладывается до следующего дня. Увлечение стало общим, но среди этого энтузиазма легко было видеть, что некоторые не совсем искренние обладатели привилегий старались довести дело до опасной крайности. От действия ночи и этого толчка могло произойти всё что угодно, и Лалли-Толендаль, заметив опасность, переслал президенту записочку: «Всего можно опасаться от увлечения собрания, прекратите заседание». В ту же минуту к нему подбежал один депутат, в волнении пожал ему руку и сказал: «Отдайте нам королевское право утверждения – и мы друзья». Тогда Лалли-Толендаль, чувствуя необходимость привязать революцию к королю, предложил провозгласить его восстановителем французской свободы. Предложение это приняли с восторгом; постановили благодарственное молебствие, и собрание разошлось среди ночи. В эту достопамятную ночь было постановлено следующее: отмена личной неволи; право выплачивать штрафы вместо отбывания повинностей; отмена подсудности помещикам; уничтожение исключительных прав касательно охоты, голубятен, содержания кроликов и прочего; выкуп десятины; равномерное распределение податей; допущение всех граждан к военным и гражданским должностям; отмена продаваемости должностей; уничтожение всех привилегий, принадлежавших городам и провинциям; преобразование цехового устройства; отмена пенсий, полученных без соответствующих претензий и заслуг. Эти резолюции были приняты в общей форме, оставалось привести их в форму декретов; вот тут-то, когда прошел первый порыв великодушия и каждый возвратился к своим интересам, одни естественным образом должны были стараться расширить, а другие сузить сделанные уступки. Прения оживились, и запоздалое неразумное сопротивление убило всякое чувство благодарности. Решили отменить феодальные повинности, но надо было различить, какие из этих повинностей следовало просто отменить, а от каких откупиться. Водворяясь на покоренной территории, завоеватели, первые основатели дворянства, некогда обложили земли данью, а людей – податями. Они сами заняли часть земель и возвратили ее возделывателям лишь постепенно, за постоянную плату. Так как продолжительное обладание с последующими многократными передачами составляет имущество, то все подати, наложенные на людей и земли, приняли тот же характер. Стало быть, Учредительному собранию приходилось нападать на собственность. При таких условиях оно должно было судить об этих видах имущества не с той точки зрения, справедливо ли они приобретены, а насколько они обременительны для общества. Собрание отменило личные заслуги, а так как многие из этих заслуг были обращены в денежные подати, то отменило и эти подати. В числе податей, наложенных на земли, депутаты отменили те, что являлись очевидным следствием рабства, как, например, пошлину за передачу земли, и объявили подлежащими выкупу все постоянные доходы, бывшие ценой, за которую дворянство некогда уступило земледельцам часть земли. Следовательно, ничто не может быть нелепее обвинения Учредительного собрания в нарушении права собственности, так как решительно всё было обращено в имущество, и странно, что дворянство, столь долго посягавшее на собственность, то требуя себе повинностей, то не платя податей, вдруг выказало такую щепетильность, как только дело коснулось его прерогатив. Сеньоральные суды тоже были названы имуществом, потому что много веков передавались по наследству; но собрание не устрашилось этого названия и отменило их, с тем только, чтобы они были сохранены, пока будет сделано распоряжение о замене их другими. Исключительное право охоты тоже стало предметом оживленных прений. Несмотря на неосновательное возражение о том, что скоро всё население будет вооружено, если дать всем право охоты, таковое право было предоставлено каждому на пространстве собственных земель. Привилегированные голубятни были запрещены. Собрание решило, что каждому вольно иметь их, но во время жатвы голубей можно убивать как простую дичь, если они будут летать на чужие поля. Участки, предоставленные исключительно для королевской охоты, упразднили все, при этом постановили, что для обеспечения личного удовольствия короля будут приняты меры, совместные со свободой и собственностью. Одна статья вызвала особенно ожесточенные прения. В ночь на 4 августа собрание объявило десятины подлежащими выкупу. Когда дело дошло до редактирования статей, депутаты хотели отменить десятины без выкупа, прибавляя, что о содержании духовенства будет заботиться государство. Конечно, в этом имелась неправильность формы, потому что это значило вернуться к уже принятому решению, чтобы изменить его. Но Тара ответил на это возражение, что, в сущности, это уже есть выкуп, только платится он не плательщиками десятины, а государством, так как оно обязывается содержать духовенство. Аббат Сийес, который оказался в числе защитников десятины и, по общему мнению, небескорыстным защитником, согласился с тем, что государство действительно выкупает десятину, но этим грабит всю нацию, возлагая на нее долг, который должен был лежать лишь на одних землевладельцах. Эти слова, сказанные очень резко, сопровождались едкой фразой, столько раз с тех пор повторенной: «Вы хотите быть свободными, а не умеете быть справедливыми!» Хотя Сийес не считал возможным искать ответ на это возражение, ответить было легко: расходы, связанные с вероисповеданием, должны лежать на всех, и следует ли возложить их исключительно на землевладельцев, об этом надлежит судить государству; оно никого не обсчитывает, распределяя расходы так, как считает лучшим. Десятина, непосильно обременяя мелких землевладельцев, убивала земледелие, значит, государство обязано было переместить этот налог, – Мирабо доказал это с неотразимой очевидностью. Духовенство предпочитало десятину, предвидя весьма верно, что жалованье, которое перепадет ему от казны, будет соразмерно его действительным потребностям. Оно представляло себя собственником, обладавшим десятиной с незапамятных времен и в силу постоянных дарственных актов, и сильно напирало на часто повторяемый довод о продолжительности обладания, тогда как этот довод ровно ничего не доказывал: им легко было бы подтвердить и узаконить всякое продолжительное злоупотребление. Духовенству ответили, что десятина есть не имущество, а только пользование, что она не может передаваться и не имеет главнейших отличительных черт имущества, что она очевидно составляет просто подать, налагаемую в пользу духовенства, и что государство обязывается заменить эту подать другой. Духовенство возмутилось мыслью получать жалованье и заявило сильнейшее неудовольствие, а Мирабо, великий мастер решительных и метких ударов разумными доводами, приправленными иронией, ответил перебивавшим его членам, что ему известны только три способа существования в обществе: воровать, нищенствовать или получать жалованье. Духовенство почувствовало, что лучше отказаться от того, чего оно более не в состоянии защищать. Приходские священники в особенности, зная, что могут только выиграть от духа справедливости, господствовавшего в собрании, и что нападение главным образом направлено против чрезмерной роскоши прелатов, отступились первыми. Итак, была постановлена отмена десятин, с условием, что государство примет на себя расходы по вероисповеданию, но до поры до времени десятина будет взиматься. Эта оговорка, прибавленная из деликатности, оказалась, правду сказать, лишней: народ больше не стал платить, впрочем, не хотел уже платить и до декрета, и когда собрание отменило феодальные порядки, они на деле были уже свергнуты. Все статьи были 13 августа поднесены королю, который принял титул восстановителя французской свободы и присутствовал при молебствии с президентом по правую руку и всеми депутатами за собою. Таким образом совершилась самая важная реформа революции. Собрание продемонстрировало столько же силы, сколько и умеренности. К несчастью, народ никогда не умеет с умеренностью вступить в пользование своими правами. По всей Франции были совершены ужасные жестокости. Усадьбы продолжали пылать, поля наводнились охотниками, спешившими воспользоваться новыми правами. Люди рассыпались по полям, дотоле служившим исключительно для увеселения их притеснителей, и совершали страшные опустошения. Происходило много бесчинств и несчастных случаев. Седьмого августа министры снова явились в собрание с докладом о состоянии государства. Хранитель печати заявил о вспыхнувших беспорядках; Неккер разоблачил плачевное состояние финансов. Собрание приняло этот двойной доклад печально, но не уныло. Десятого числа оно издало декрет касательно общественного спокойствия, поручавший муниципалитетам наблюдать за сохранением порядка и разгонять всякие мятежные сборища. Простых возмутителей предписывалось выдавать судам, а тех, кто распускал тревожные слухи, сочинял ложные приказы или возбуждал насильственные действия, – заключать в тюрьму, а дело о них препровождать собранию, чтобы таким образом добраться до источников смут. Национальная милиция и регулярные войска отдавались в распоряжение муниципалитетов и должны были присягать на верность нации, королю и закону. Эта присяга была впоследствии названа гражданской. Доклад Неккера о финансах оказался крайне тревожного свойства. Потребность в субсидиях заставила прибегнуть к созыву Национального собрания. Собрание это, едва сошлось, вступило в борьбу с властью и, думая только о неотложной необходимости установить гарантии, не позаботилось об обеспечении государственных доходов. Пока Байи, на которого было возложено попечение о продовольствовании столицы, проводил время в жестокой нравственной пытке, Неккер, мучимый менее неотложными, но несравненно более обширными потребностями, поглощенный сложными вычислениями, снедаемый тысячей забот, прилагал все старания, чтобы облегчить общественную нужду, и, сам думая только о финансовых вопросах, не постигал, как собрание могло думать только о политических. И Неккер, и собрание, озабоченные исключительно каждый одним предметом, вовсе не видели других. Впрочем, если опасения Неккера оправдывались настоящей нуждой, то спокойствие собрания оправдывалось возвышенностью его взглядов: обнимая взором всю Францию и ее будущность, оно не хотело верить в то, чтобы это богатое государство, хоть ненадолго и запуталось, могло быть обречено на вечную несостоятельность. Неккер, вступая в управление в августе 1788 года, нашел в казначействе всего 400 тысяч франков. Неусыпными заботами его удалось справиться с наиболее вопиющими нуждами, но с тех пор обстоятельства еще увеличили нужды, а средства убавились. Надо было купить хлеба и продать его в убыток, раздать значительные суммы на пособия; придумать публичные работы, чтобы дать заработок рабочим. Только на это из казначейства выдавалось до 12 тысяч франков в день. В то время как расходы возрастали, доходы уменьшались. Понижение цены на соль, запаздывание податей, а иногда и прямой отказ платить их, контрабанда, разрушение застав, уничтожение самих реестров и даже убиение сборщиков – всё это уничтожало часть доходов. Неккер требовал займа в тридцать миллионов. Первое впечатление от доклада было так живо, что собрание уже хотело согласиться на заем без прений, но этот первый порыв скоро остыл. Собрание обнаружило нежелание заключать новый заем, и даже впало в некоторое противоречие с самим собой, возвращаясь к своим полномочиям, уже отказавшись от них и ссылаясь на то, что депутатам воспрещается решать вопрос о податях, не учредив сперва конституции. Дело дошло даже до того, что перечислили суммы, полученные с прошлого года, точно собрание не доверяло министру. Необходимость удовлетворить нужды государства всё же заставила согласиться на заем, но план министра был изменен, а процент низведен на 4,5 % в ложной надежде на патриотизм, который в нации действительно существовал, но которого не могло быть у людей, торгующих деньгами, – единственных обыкновенно предпринимающих такого рода финансовые операции. Эта первая ошибка была из тех, которые почти всегда совершаются собраниями, когда непосредственные виды министра, действующего практически, заменяются общими видами более тысячи отвлеченно рассуждающих голов. Легко также было заметить, что дух нации начинал уже тяготиться робостью министра.
После этих необходимых мер, принятых ради восстановления общественного спокойствия и поправления финансов, на очереди оказалась декларация о правах. Первая мысль о ней была подана Лафайетом, который позаимствовал ее у американцев. Прения о декларации, прерванные событиями 14 июля, возобновленные 1 августа, снова прерванные отменой феодальных порядков, были опять, и уже окончательно, возобновлены 12 августа. В этой мысли тоже было нечто величественное, что увлекло собрание. Умы стремились ко всему возвышенному; от этого порыва произошли и искренность, и мужество, и хорошие, и дурные постановления. Итак, собрание схватилось за эту мысль и хотело непременно привести ее в исполнение. Если бы речь шла только о заявлении нескольких принципов, особенно не признаваемых властью, как, например, о праве налагать подати или об ответственности министров, ничего не могло бы быть легче. Так некогда сделала Англия и – недавно – Америка. Франция могла бы в нескольких отчетливых и решительных положениях изложить новые принципы, которые возлагала на свое правительство, но, желая возвратиться к своему естественному состоянию, она стремилась предоставить полноценную декларацию прав человека и гражданина. Сначала было много толков о необходимости и опасности такой декларации. Проходили продолжительные прения об этом предмете, вполне бесполезные, потому что не могло быть ни пользы, ни опасности от декларации, состоявшей из формул, совершенно непонятных народу. Она имела значение единственно для известного числа философских умов, не принимавших участия в народных бунтах. Наконец решили, что должно составить декларацию и предпослать ее акту конституции. Но требовалось сочинить ее – вот в чем была главная трудность. Что такое право? Это то, что общество должно человеку. Но так как всё добро, какое может быть сделано человеку, должно быть сделано, то, стало быть, каждая мудрая правительственная мера есть не что иное, как право. Следовательно, все предлагаемые проекты заключали в себе определение закона, способы его составления, начала главенства и т. д. На это возражали, что всё это не права, а общие положения. А между тем весьма важно было изложить эти положения. Мирабо, выйдя из терпения, наконец воскликнул: «Не употребляйте слова “право”, а скажите, что “в общих интересах постановлено”». Однако предпочтение отдали более громкому названию, под которое подвели всё – принципы, положения, определения. Всё это вместе и составило знаменитую Декларацию, предпосланную Конституции 1791 года. Впрочем, худого ничего не было, кроме того, что несколько заседаний потратили на обсуждение общих философских мест. Но можно ли упрекать людей за то, что они увлеклись своей задачей? И кто имеет право с пренебрежением отнестись к неминуемой озабоченности первой поры?
Следовало, однако, приняться за труды по конституции. Предварительные работы успели всем наскучить, и вне собрания уже толковали об основных вопросах. Английская конституция была образцом, потому что это была сделка между королем, аристократией и народом в Англии после подобных же раздоров. Главная сущность той конституции – учреждение двух палат и право короля утверждать предлагаемые ими законы. Ум в первом порыве всегда хватается за мысли наиболее простые; поэтому народ, способный изъявлять свои желания, и исполнительная власть в лице короля казались единственной законной формой правления. Дать аристократии часть власти, равную с нацией, посредством учреждения верхней палаты, дать королю право утверждать, а следовательно и откладывать национальную волю, казалось нелепостью. Нация желает, король исполняет: тогдашние политики не выходили из круга этих простых начал и воображали, что сохраняют монархию, потому что оставляли короля как исполнителя национальной воли. Истинная монархия в том виде, в каком она существует в государствах, почитаемых свободными, – это господство одного, которому полагаются пределы посредством сопричастности нации к власти. Воля государя, в сущности, делает всё, а воля нации ограничивается препятствованием злу, либо прениями о налогах, либо участием на одну треть в составлении законов. Но с той минуты, как нация может повелевать всё что хочет, а король не может ей помешать своим вето, король есть лишь простое должностное лицо. Это республика – с одним консулом вместо нескольких. Польша, хотя имела короля, до конца называлась не монархией, а республикой; в Спарте тоже были короли. Следовательно, правильно понимаемая монархия требует больших уступок со стороны общества. Но уж никак не после векового ничтожества и в минуту первого энтузиазма люди склонны к этим уступкам. Поэтому в то время у всех на уме была республика, хотя названия этого не произносилось, и французы стали республиканцами, сами того не зная. Члены собрания во время заседаний не высказались ясно, а поэтому, несмотря на их ум и знания, вопрос обсуждался не глубоко и был худо понят. Сторонники английской конституции – Неккер, Мунье, Лалли – не сумели различить, в чем должна состоять монархия, а если бы и различили, то не посмели бы отчетливо заявить собранию, что воля нации не должна быть всемогуща и должна скорее удерживать, нежели действовать. Они выбились из сил, доказывая, что необходимо, чтобы король мог остановить превышение власти, на которое всякое собрание всегда готово; что для того, чтобы хорошо и охотно исполняли закон, нужно, чтобы король участвовал в составлении его; что, наконец, должны быть сношения между властями исполнительной и законодательной. Эти доводы оказывались негодны или по меньшей мере слабы. Если уже признавать верховенство нации, действительно смешно требовать, чтобы была противопоставлена ей одиночная воля короля. Эти государственные люди успешнее защищали учреждение двух палат, потому что, в самом деле, даже в республике имеются высшие сословия, которым приходится противиться слишком быстрому движению возвышающихся сословий, защищая старинные учреждения против новейших. Но эта верхняя палата, еще более необходимая, нежели королевская прерогатива, так как не бывало республики без сената, отвергалась, наоборот, еще сильнее, потому что против аристократии раздражение было сильнее, чем против королевской власти. Верхняя палата в то время была невозможна, потому что никто о ней слышать не хотел: мелкое дворянство потому, что ему в ней не нашлось бы места; заклятые приверженцы привилегий потому, что они во всем хотели худшего; народная партия потому, что не хотела оставлять аристократию на таком месте, с которого она господствовала бы над национальной волей. Мунье, Лалли, Неккер почти единственные желали этой палаты. Сийес, впадая в заблуждение, свойственное цельному уму, не допускал ни двух палат, ни королевского права утверждения. Он понимал общество только слитым воедино: по его мнению, народу, без различия сословий, должно было быть предоставлено право хотеть, а королю, как единственному должностному лицу, – исполнять. Он совершенно искренне говорил, что монархия и республика – одно и то же, потому что различие в его глазах заключалось только в числе должностных лиц, на которых возлагалась исполнительная власть. Основной характеристикой ума Сийеса была последовательность, строгая связь между его собственными мыслями. Он сам с собою ладил, но не ладил ни с природой вещей, ни с умами, на его ум не похожими. Он их покорял властью своих безусловных положений, но редко убеждал, вследствие чего, не будучи в состоянии ни дробить своих убеждений, ни заставлять других принимать их целиком, он неизбежно весьма скоро впадал в раздражение. Мирабо, со своим верным, быстрым, гибким умом, в деле политической науки не ушел далее самого собрания; он отвергал учреждение двух палат не из убеждения, а вследствие сознания их настоящей невозможности и из ненависти к аристократии. Он стоял за королевское утверждение по некоторой монархической наклонности и с самого открытия Генеральных штатов объявил, что без королевского утверждения предпочел бы жить в Константинополе, а не в Париже. Барнав, Дюпор и Ламет не могли хотеть того же, что Мирабо. Они не допускали ни верхней палаты, ни королевского утверждения; но они не были так упрямы, как Сийес, и соглашались на некоторые изменения в своих мнениях, предоставляя королю и верхней палате временное вето, то есть право временно противиться национальной воле, выраженной в нижней палате. Настоящие прения начались 28 и 29 августа. Партия Барнава хотела вступить в соглашение с Мунье, который по упорству своему оказывался главой партии английской конституции. Надо было задобрить наиболее непреклонного члена этой партии, поэтому и обратились к нему первому. Устроили несколько конференций. Когда его противники убедились, что нет возможности изменить мнения, обратившегося в умственную привычку, они согласились на нежно любимые Барнавом английские формы, с тем, однако, чтобы верхней палате и королю, противопоставленным народной палате, позволили лишь временное вето и, сверх того, чтобы король не имел права распускать собрания. Мунье ответил, как прилично человеку, искренне убежденному: он сказал, что истина не принадлежит ему и он не может пожертвовать частью оной, чтобы спасти другую. Таким образом, он погубил оба учреждения, не согласившись ни на какие изменения. И если бы было справедливо (чего обычно не оказывается), что Конституция 1791 года погубила престол тем, что не учредила верхней палаты, то большая ответственность лежала бы на Мунье. Он был не страстен, а упорен и так же безусловен в своей системе, как Сийес в своей. А потому предпочитал скорее потерять всё, нежели что-нибудь уступить. Переговоры были с досадой прерваны. Пригрозив Мунье Парижем и общественным мнением, его противники уехали с тем, по его словам, чтобы пустить в ход влияние, которым ему пригрозили. Эти вопросы возбуждали несогласия в народе так же, как и в собрании; не понимая их, народ не менее страстно отдавался им. Они все воплотились в одном коротком, выразительном слове вето. Кто-то хотел, а кто-то не хотел вето, то есть, переводя с языка тех дней, – тирании. Простой народ, нисколько не понимавший дела, принимал вето за налог, который следовало снять, а то и за врага, которого надлежало повесить, и сулил ему фонарь.
Пале-Рояль находился в состоянии постоянного брожения. Там собирались пылкие люди, которые, находя слишком стеснительными даже формы, соблюдаемые в избирательных округах, взбирались на стулья, начинали без спросу ораторствовать, бывали освистаны или носимы в триумфе громадной толпой, тотчас стремившейся исполнить то, что они предложили. Камилл Демулен, которого мы уже упоминали, отличался между этими ораторами бойкостью, оригинальностью и цинизмом ума и, не будучи сам жесток, требовал жестокостей. Тут же можно было увидеть Сент-Юрюжа, бывшего маркиза, долго сидевшего в Бастилии по семейным несогласиям и раздраженного против власти до помешательства. Каждый день все повторяли, что нужно идти на Версаль и требовать у короля и собрания отчета в медлительности, с какой они занимаются благом народа. Лафайет с величайшим трудом сдерживал эту чернь посредством постоянных патрулей. Национальная гвардия уже обвинялась в приверженности аристократам. «В Афинах не было патрулей», – говорил Камилл Демулен. Нередко даже рядом с именем Лафайета произносилось имя Кромвеля. Однажды, 30 августа, в Пале-Рояле начинается странное движение: Мунье обвинен, Мирабо, кажется, в опасности, кто-то приглашает отправиться в Версаль охранять его жизнь. Мирабо защищал королевское право утверждения, но не изменяя своей роли народного трибуна, не переставая являться им в глазах толпы. Сент-Юрюж во главе нескольких экзальтированных сумасбродов в самом деле направляется на дорогу в Версаль. Они объявляют, что идут просить собрание удалить своих неверных представителей и назначить на их место других, а также намерены умолять короля и дофина переехать в Париж, под защиту народа. Лафайет скачет, нагоняет их и принуждает вернуться. На следующий день, в понедельник, они снова собираются и сочиняют коммуне адрес, в котором требуют созыва избирательных округов для выражения неодобрения вето и поддерживающих вето депутатов и назначения других. Коммуна дважды отвергает их с величайшей твердостью. Между тем волнение господствовало и в собрании. Недовольные писали главным депутатам письма, исполненные угроз и ругательств; одно из этих писем было подписано именем Сент-Юрюжа. В понедельник, 31-го числа, при открытии заседания Лалли пожаловался на депутацию, явившуюся к нему из Пале-Рояля. Эта депутация уговаривала его отступиться от недобрых граждан, поборников вето, и присовокупила, что армия из двадцати тысяч человек готова двинуться в поход. Мунье тоже прочел полученные им письма, предложил начать преследование тайных зачинщиков этих махинаций и убеждал собрание обещать пятьсот тысяч франков награды тем, кто их изобличит и донесет на них. Завязался шумный спор. Дюпор доказывал, что недостойно собраниязаниматься такими мелочами. Мирабо прочел адресованные ему письма, в которых враги народного дела щадили его не более, нежели другие Мунье. Собрание постановило переход к очередным делам, а Сент-Юрюж был заключен в тюрьму по приказу коммуны. Обсуждались одновременно три вопроса: о регулярности собраний, о двух палатах и о вето. Первый вопрос был решен утвердительно почти единогласно: страна слишком натерпелась от продолжительных перерывов в национальных собраниях. Затем депутаты перешли к великому вопросу о единстве Законодательного собрания. Трибуны были заняты многочисленной и шумной публикой. Многие депутаты удалились, и президент (в то время епископ Лангрский) тщетно старался удержать их. Со всех сторон с громкими криками требовали голосования. Лалли еще раз попросил слова; ему отказали, обвиняя президента в том, что он послал его на кафедру; один депутат забылся даже до того, что спросил президента, неужели ему не надоело докучать собранию? Оскорбленный этими словами президент встал, и прения опять отложились. Десятого сентября зачитали адрес города Ренна, объявлявший, что вето допустить нельзя и те, кто подает голос в пользу вето, – изменники. Мунье и его приверженцы разгневались и предложили сделать муниципалитету выговор. Мирабо возразил, что собранию не поручали давать уроки муниципальным чиновникам и следует просто перейти к очередным делам. Наконец началось голосование по вопросу о палатах: 499 – в пользу единства; 82 – в пользу двух палат, 122 голоса вовсе пропали из-за страха, нагнанного на многих депутатов. Наконец дело дошло до вопроса о вето. Нашелся средний исход: вето временное, то есть останавливающее закон на время сессий одного или нескольких законодательных собраний. Это считалось как бы обращением к народу, потому что король, прибегая к новым собраниям и уступая им, если они упорствовали, в действительности как бы обращался за решением к нации. Мунье и его приверженцы противились этому решению; они были правы с точки зрения системы английской монархии, где король совещается с национальным представительством и никогда не слушается его; но не правы в виду обстоятельств, в которые были поставлены ныне. Они говорили, что хотели только препятствовать опрометчивым решениям, а временное вето точно так же достигало этой цели, как и безусловное. Если народное представительство упорствовало, то этим ясно высказывалась воля нации, а признав верховную власть нации, смешно было противиться ей неопределенное время. Правительство почувствовало, что временное вето, в сущности, производит то же действие, что и безусловное, и Неккер посоветовал королю не упускать выгод добровольной жертвы и написать собранию послание, требуя временного вето. Об этом разнесся слух; заранее стали известны и цель послания, и дух, в котором оно будет составлено. Послание зачитали 11 сентября; все знали его содержание. Казалось бы, Мунье, поддерживавший интересы престола, не должен был иметь других желаний, нежели престол; но партии скоро составляют себе интересы, отличные от тех, которым они служат. Мунье отверг послание, говоря, что если король отказывается от прерогативы, полезной нации, то эту прерогативу следует дать ему против его воли, в видах общественного блага. Произошла перемена ролей, и теперь противники воли короля отстаивали его право вмешательства, но их старания не имели успех, их записка была отвергнута. Опять начались дискуссии о точном значении слов «королевское утверждение» и о том, нужно ли будет оно для самой конституции. Определив, что учреждающая власть выше властей учрежденных, собрание постановило, что право утверждения может касаться только актов законодательных, а не актов учредительных, и что акты последнего разряда будут только обнародуемы. В пользу временного вето было отдано 673 голоса, в пользу безусловного – 325. Таким образом, были утверждены основные статьи новой конституции. Мунье и Лалли-Толендаль тотчас же отказались от звания членов конституционного комитета. До сих пор было составлено множество декретов, но ни один не был представлен на королевское утверждение. Решили представить королю декреты 4 августа. Возник вопрос о том, представить ли их к утверждению или просто к обнародованию, то есть должны ли эти декреты считаться законодательными или учредительными. Мори и даже Лалли-Толендаль имели неловкость доказывать, что декреты законодательные, и требовать утверждения, точно ждали больших препятствий со стороны королевской власти. Мирабо, с редкой верностью взгляда, доказывал, напротив, что из этих декретов одни отменяют феодальные порядки, следовательно, имеют в высшей степени учредительный характер, а другие суть чистый великодушный дар дворянства и духовенства, и, вероятно, ни дворянство, ни духовенство не желают, чтобы король мог взять назад то, что они добровольно дали. Шапелье присовокупил, что не следует даже предполагать надобности согласия короля, так как он уже фактически одобрил декреты, приняв титул восстановителя французской свободы и поприсутствовав при благодарственном молебне. Вследствие всего это декреты были представлены королю 20 сентября с просьбой распорядиться их обнародованием. Один депутат вдруг предложил внести на рассмотрение наследственность короны и неприкосновенность особы короля. Собрание, искренне хотевшее сохранить наследственного короля, приняло эти две статьи единодушно, без голосования. Кто-то предложил также неприкосновенность особы наследника престола, но герцог Мортемар заметил, что не раз бывали примеры, когда сын старался свергнуть с престола отца, и нужно оставить возможность наказать такую попытку. Поэтому предложение было отвергнуто. Депутат Арну предложил вновь утвердить отречение испанской линии Бурбонов от французского престолонаследия, принятое в Утрехтском договоре. Многие стали говорить, что нет надобности в прениях по этому вопросу, потому что не нужно отдалять от себя верного союзника; Мирабо выразил то же мнение, и собрание перешло к очередным делам. Вдруг Мирабо решил провести опыт, впоследствии навлекший на него ложное суждение, и возвратился к вопросу, который сам же отстранил. Орлеанский дом, в случае если бы угасла царствующая династия, стал бы конкурентом Испанского дома. Мирабо заметил, что переход к очередным делам произошел с особенным рвением. Не имея ничего общего с герцогом Орлеанским, хоть и хорошо знакомый с ним, он пожелал поближе узнать положение партий и посмотреть, кто именно является врагом герцога. Подняли вопрос о регентстве: в случае малолетства короля братья нынешнего короля не могли быть опекунами своего племянника, будучи и его наследниками, а следовательно, мало были заинтересованы в сохранении его жизни. Стало быть, регентство подобало ближайшему родственнику: или королеве, или герцогу Орлеанскому, или Испанскому дому. Мирабо предложил в этом случае дать регентство лишь человеку, рожденному во Франции. «Мое знание топографии собрания, – сказал он, – то есть точка, с которой раздались сейчас крики, доказывает мне, что речь здесь идет не более и не менее чем об иностранном владычестве, и предложение оставить вопрос без прений, по-видимому, как будто сделанное в испанских интересах, в действительности, может быть, сделано в интересах австрийских!» Эти слова подняли бурю, спор возобновился с необыкновенным ожесточением; все оппоненты снова потребовали перехода к очередным делам. Напрасно Мирабо повторял им, что они при этом могут иметь лишь одну цель: водворить во Франции иноземное владычество; они не отвечали, потому что действительно предпочли бы герцогу Орлеанскому иноземцев. Наконец, после двухдневных споров, снова объявили, что в прениях нет надобности. Но Мирабо достиг именно того, чего хотел, заставив партии обрисоваться яснее. Эта попытка не могла не навлечь на него обвинений, и он с этих пор так и прослыл агентом Орлеанской партии. Еще взволнованное этими спорами, собрание получило ответ короля на статьи 4 августа. Король одобрял дух, в котором они были составлены, на некоторые выражал только свое условное согласие в надежде, что они будут несколько изменены при исполнении, и возобновлял касательно большей части возражения, делаемые во время прений и отвергнутые собранием. Мирабо опять взошел на кафедру. «Мы не рассматривали, – сказал он, – превосходства учредительной власти над властью исполнительной; мы в некотором роде накинули покрывало на эти вопросы; но, если станут действовать против нашего учредительного могущества, нас принудят заявить его. Пусть поступают искренне и без вероломства. Мы согласны, что исполнение представляет трудности, но и не требуем немедленного исполнения. Так, мы требуем упразднения некоторых продажных должностей, но на будущее указываем на необходимость возвращения внесенных денег с выдачей процентов до уплаты; мы объявляем подать, служащую жалованьем духовенству, губительной для земледелия, но впредь до замены ее другой мерой приказываем собирать десятину; мы упраздняем сеньоральные суды, но оставляем их в силе впредь до учреждения других судов. То же можно сказать и об остальных статьях: они все заключают в себе лишь принципы, которые нужно сделать неотменимыми, обнародовав их. К тому же, будь они даже дурны, воображение народа уже овладело этими постановлениями и взять их назад нет более возможности. Повторим простодушно королю то, что шут Филиппа II однажды сказал этому столь упорному в своей воле государю: “Что бы сделал ты, Филипп, если бы все говорили да, когда ты говоришь нет?”» Собрание поручило своему президенту снова явиться к королю просить обнародования декретов. Король согласился. Депутаты, со своей стороны, обсудив вопрос о продолжительности временного вето, продлили его на сессии двух законодательных собраний, но имели неловкость дать заметить, что это в некотором роде награда Людовику XVI за уступки, сделанные им общественному мнению.
Пока собрание, среди препятствий, поднимаемых неохотой привилегированных сословий и народными вспышками, продолжало идти к своей цели, перед ним громоздились другие помехи, и враги его торжествовали. Они надеялись, что собрание будет остановлено в своих действиях бедственным положением финансов, как это случилось с самим двором. Первый заем в тридцать миллионов не удался; второй, в восемьдесят миллионов, постановленный по новому предложению Неккера (декретом от 27 августа), удался не лучше. – Спорьте себе, – однажды сказал Гун д’Арси, – дайте истечь срокам, а по истечении сроков нас уже не будет!.. Я вам открою ужасные истины. – К порядку! К порядку! – кричат одни. – Нет, нет, говорите! – перебивают другие. Один депутат встает: – Продолжайте! – обращается он к Гун д’Арси. – Сейте панику и ужас! Что из этого выйдет? Мы отдадим часть нашего состояния – и дело с концом. Гун продолжает: – Займы, которые вы разрешили, ничего не дали; в казначействе нет и десяти миллионов! При этих словах его снова обступают, бранят, заставляют молчать. Герцог д’Эгильон, председатель финансового комитета, опровергает его слова и доказывает, что в казначействе должно быть двадцать два миллиона. Постановляется, однако, субботы и пятницы специально посвящать финансам. Наконец появляется сам Неккер. Измученный беспрерывными трудами, он опять пускается в свои вечные жалобы. Он упрекает собрание в том, что оно, после пятимесячной работы, не сделало для финансов ничего. Оба займа не удались потому, говорит он, что смуты подорвали кредит. Капиталы скрываются; эмиграция, исчезновение путешественников еще уменьшили цифру наличных денег, находящихся в обороте, – их не осталось в достаточном количестве даже на ежедневные нужды. Король и королева вынуждены отправить свою серебряную и золотую посуду на Монетный двор. Неккер потребовал четвертой части доходов в виде контрибуции, уверяя, что ему это средство кажется достаточным. Нарочно снаряженный комитет потратил три дня на рассмотрение этого плана и вполне одобрил его. Мирабо, известный враг министра, высказался первым и посоветовал собранию принять план без прений. «Не имея времени на оценку плана, – заявил Мирабо, – собрание не должно брать на себя ответственности, одобряя или не одобряя предлагаемые средства». По этой причине он посоветовал принять предложение министра немедленно и слепо. Собрание, увлеченное, согласилось с советом и приказало Мирабо удалиться, чтобы написать декрет. Между тем первый порыв прошел, враги министра объявили, что нашли бы средства к спасению там, где он таковых не видит. Его друзья, напротив, стали нападать на Мирабо и жаловаться, что он хочет раздавить Неккера ответственностью за результат. В это время Мирабо возвратился и стал читать свой декрет. «Вы уничтожаете план министра!» – закричал Вирьё. Мирабо, который не отступал, не ответив, откровенно признался в своих побудительных соображениях: его разгадали, он хочет сложить на одного Неккера ответственность за результаты, не имея чести быть его другом, но если бы даже и был, то, будучи прежде всего гражданином, не задумался бы скомпрометировать скорее его одного, нежели всё собрание; по его мнению, государство не будет в опасности, если окажется, что Неккер ошибся, но, напротив, общественное благо будет сильно скомпрометировано, если собрание лишится кредита вследствие неудачи одной решительной операции. И Мирабо предлагает свой адрес с целью возбудить национальный патриотизм и поддержать план министра. Собрание начинает аплодировать, но споры еще продолжаются. Делаются тысячи предложений, и время тратится на пустые пререкания. Наскучив всеми этими противоречиями, проникнутый неотложной необходимостью хоть что-то сделать, Мирабо в последний раз всходит на кафедру, снова ставит вопрос с неподражаемой отчетливостью и ясно доказывает невозможность уклониться от требований минуты. Его гений загорается: он изображает ужасы банкротства, представляет его как губительный налог, который, вместо того чтобы легко лежать на всех, ляжет лишь на немногих и этих немногих задавит; показывает его в виде пропасти, в которую бросаются живые жертвы и которая все-таки не закрывается, так как, даже отказавшись платить, всё же остаешься должен. Исполнив собрание ужасом, Мирабо наконец восклицает: «Недавно по поводу нелепого предложения, сделанного в Пале-Рояле, здесь говорили: “Каталина у ворот Рима, а вы совещаетесь!” – тогда как, уж конечно, не было ни Каталины, ни опасности, ни Рима; ныне же страшилище – банкротство – тут перед вами, грозит поглотить вас, вашу честь, ваше состояние, а вы – совещаетесь!» При этих словах собрание вне себя поднимается с восторженными криками. Один депутат хочет возразить, выходит, но, испугавшись своей задачи, стоит неподвижный и не находит слов. Тогда собрание объявляет, что, выслушав доклад комитета, со слепым доверием принимает план министра финансов. Эта минута стала торжеством красноречия; но такого торжества мог достичь только человек, одаренный таким разумом и такими страстями, как Мирабо.
Глава IV
4, 5 и 6 октября – Король переезжает в Париж – Состояние партий – Герцог Орлеанский уезжает из Франции – Дело Фавра – Клубы якобинцев и фельяновПока собрание таким образом налагало руки на все части общественного здания, готовились важные события. Слиянием сословий нация достигла законодательного и учредительного всемогущества. Движением 14 июля она вооружилась, чтобы поддержать своих представителей. Итак, король и аристократия оказались изолированными, без оружия, вооруженными только никем не разделяемым сознанием своих прав и поставленными лицом к лицу с нацией, готовой на всё. Однако двор, живя в маленьком городке, населенном исключительно его слугами, находился до известной степени вне народного влияния и мог даже решиться на внезапную попытку восстать против собрания. Естественно было, что Париж, столица государства, с громадным населением, старался вернуть короля к себе, чтобы изъять его из-под влияния аристократии и возвратить себе выгоды, которые город получает от присутствия в нем двора и правительства. Ограничив власть короля, следовало еще только овладеть его особой. Таков был естественный ход событий, и со всех сторон раздавался клич «Короля в Париж!». Аристократия уже не думала защищаться от новых потерь. Она слишком пренебрегала тем, что было ей оставлено, чтобы хлопотать о сохранении этих остатков; стало быть, ей хотелось какой-нибудь решительной перемены, так же, как и народной партии. Революции не миновать, когда ее желают две враждебные партии. Обе потворствуют событиям, а сильнейшая пользуется результатом. Пока патриоты мечтали привезти короля в Париж, двор замышлял везти его в Мец. Там, в крепости, он бы распоряжался, как хотел, или, вернее, как другие хотели бы за него. Придворные строили планы, вербовали людей и, предаваясь пустым надеждам, выдавали сами себя неосторожными угрозами. Д’Эстен, недавно прославившийся во главе французских эскадр, командовал Национальной гвардией в Версале. Он хотел оставаться верным и двору, и нации – роль щекотливая, всегда подвергающаяся клевете и честная только при очень большой твердости. Он узнал о происках двора. В числе заговорщиков были самые высокопоставленные лица, имена которых ему были названы очевидцами, заслуживавшими полного доверия; тогда он написал королеве весьма известное письмо, в котором с почтительной твердостью говорил о неприличности и опасности таких происков; он ничего не маскировал и всех называл по именам. Письмо не произвело никакого действия. Принимаясь за такого рода предприятия, королева должна была ожидать увещаний и не удивляться им. Около того же времени в Версале появилось множество новых людей и незнакомых мундиров. В Версале оставили лейб-гвардию, хотя она закончила дежурства, и туда же были призваны много драгунов и егерей. Французская гвардия[39], оставившая службу при короле, рассердилась на то, что эту службу вверили другим, хотела отправиться в Версаль и требовать, чтобы ее снова приняли. Между тем гвардейцы не имели повода жаловаться, так как сами оставили службу, но они решились на это, говорят, вследствие сторонних подстрекательств. Уверяли, что двор хотел напугать короля, чтобы увлечь его в Мец. Один факт как будто доказывает это намерение: после беспорядков в Пале-Рояле Лафайет, чтобы защитить дорогу из Парижа в Версаль, поставил пост в Севре и теперь должен был убрать его оттуда по просьбе депутатов правой стороны. Ему удалось отговорить Французскую гвардию, и он конфиденциально написал министру Сен-При, извещая его о случившемся и совершенно успокаивая. Сен-При употребил письмо во зло и показал его д’Эстену, который, со своей стороны, сообщил его офицерам версальской гвардии и муниципалитету, с тем чтобы они знали об опасностях, уже грозивших городу и могущих снова грозить ему. Предложили призвать Фландрский полк; большое число батальонов версальской гвардии протестовали, но муниципалитет настоял на своем, и полк призвали. Одного полка было мало против собрания, но довольно, чтобы похитить короля и прикрыть его бегство. Д’Эстен довел до сведения собрания принятые меры, которые были им одобрены. Полк пришел; сопровождавшие его военные припасы, хоть и незначительные, не могли не возбудить ропота. Лейб-гвардейцы и придворные завладели офицерами, осыпали их ласками, и, точно так же, как перед 14 июля, произошло сближение, возникло нечто вроде коалиции, и вновь появились большие надежды. Самоуверенность двора увеличивала недоверие Парижа, к тому же скоро начались празднества, которые раздразнили нуждающийся народ. Второго октября лейб-гвардейцы вздумали дать обед офицерам гарнизона. Этот обед подается в зале театра, ложи наполняются придворными. В числе обедающих находятся и офицеры Национальной гвардии; оживленная веселость царствует во всё время пира и вскоре доводится вином до экзальтации. Тогда в залу призываются солдаты разных полков. Обедающие, с обнаженными шпагами, пьют за здоровье королевской фамилии; тост за нацию пить отказываются или опускают его; трубы трубят в атаку, обедающие взбираются в ложи с громкими криками; раздается известная в то время оперная ария «О Ричард! О мой король! Весь мир покидает тебя!»[40] – и каждый клянется умереть за короля, точно он в величайшей опасности; разыгрывается настоящий спектакль. Раздают кокарды, белые или черные, но непременно одноцветные. Молодые люди и женщины оживляются, вспоминая рассказы о рыцарских временах.
 Обед лейб-гвардейцев в Версале
Обед лейб-гвардейцев в Версале
И тут кто-то топчет национальную кокарду. Впоследствии от этого факта отпирались, но разве вино не объясняет и не извиняет всего? Да и наконец, к чему эти собрания, которые с одной стороны вызывают лишь обманчивый восторг, а с другой – истинное, опасное раздражение? Кто-то бежит звать королеву; она соглашается прийти посмотреть на банкет; король возвращается с охоты – его тоже обступают и увлекают. Гости бросаются к их ногам и с триумфом провожают обратно в их покои. Конечно, когда люди считают себя уязвленными, пребывающими в опасности, чудесно находить преданных друзей, но зачем так обманывать себя по поводу своих прав, сил и средств? Слухи о банкете разнеслись всюду, и нет сомнения, что воображение народа еще и многое преувеличило от себя. Факты, порожденные мгновенной экзальтацией, обещания, данные королю, были приняты за угрозы нации, а расточительная пышность двора показалась издевательством над народной нуждой, и крики «В Версаль!» стали раздаваться чаще и неистовее прежнего. Таким образом, незначительные причины способствовали созданию общих, крупных последствий. Несколько молодых людей показались в Париже с черными кокардами – народ на них кинулся и одного даже поволок по мостовой, так что коммуна была вынуждена вступиться за одноцветные кокарды.
 Мария-Антуанетта
Мария-Антуанетта
На другой день после злополучного банкета другая сцена в том же роде разыгралась по случаю завтрака, данного лейб-гвардейцами в зале манежа: к Марии-Антуанетте опять явилась депутация, и королева объявила, что осталась довольна вчерашним днем. Ее слушали с удовольствием, потому что она была откровеннее короля и от нее ждали выражения чувств всего двора; потом все ее слова повторялись. Раздражение достигло высшей степени, следовало ждать прискорбнейших событий. Новое движение играло на руку как народу, так и двору: народу – чтобы завладеть королем, двору – чтобы увлечь его, испуганного, в Мец. У герцога Орлеанского была своя выгода: он надеялся сделаться наместником, если бы король удалился; некоторые говорили даже, будто герцог в своих надеждах возносился до короны, но это маловероятно, потому что у него не хватило бы смелости духа на такой обширный замысел. Так как он мог ожидать выгод от нового мятежа, то его и обвинили в участии в этом восстании, однако это неправда. Герцог не мог дать решительного толчка, потому что дело уже делалось само собой. Разве только, быть может, он несколько помог происшествию, но даже и в этом отношении подробное следствие и время, которое изобличает всё, не обнаружили и следа заранее обдуманного плана. Без сомнения, герцог Орлеанский присутствовал при последовавшем восстании, как и при всей революции, может быть, раздавая немного золота и питая лишь смутные надежды.
Народ, взволнованный прениями о вето, раздраженный черными кокардами, стесняемый беспрестанными патрулями, притом терпевший голод, был крайне неспокоен. Байи и Неккер ничего не забыли, чтобы сделать продовольствие достаточным, однако – вследствие ли трудности перевозки, грабежей по дороге или, главным образом, вследствие невозможности заменить чем-нибудь свободное движение торговли – в хлебе все-таки ощущался недостаток. Волнение достигло небывалых размеров 4 октября. Говорили об отъезде короля в Мец, о необходимости идти за ним в Версаль, в то же время высматривали черные кокарды и требовали хлеба. Многочисленным патрулям еще удавалось сдерживать народ. Ночь прошла довольно спокойно. На следующий день сборища начались с утра. Женщины отправились к булочникам; хлеба не хватало – они побежали в ратушу, жаловаться представителям коммуны. Заседание еще не начиналось, а на площади стоял батальон Национальной гвардии. К этим женщинам стали присоединяться и мужчины, но они их прогнали на том основании, что мужчины не умеют взяться за дело. Женщины ринулись на батальон с камнями и заставили гвардейцев попятиться. В эту минуту выломали одну из дверей, ратуша наполнилась народом, разбойники с пиками ворвались в здание вместе с женщинами и хотели его поджечь. Их удалось удалить, но они завладели дверью, ведущей к большому колоколу, и ударили в набат. Тогда двинулись предместья. Некто Майяр, один из многих отличившихся при взятии Бастилии, посоветовался с офицером, командовавшим батальоном Национальной гвардии, о способе избавить ратушу от этих рассвирепевших женщин. Офицер не посмел одобрить предлагаемое им средство – собрать их под предлогом того, что надо идти в Версаль, но в Версаль все-таки не пустить. Как бы то ни было, Майяр на это решился, взял барабан и увлек их за собою. Женщины были вооружены палками, черенками от метел, ружьями и кухонными ножами. С этим странным войском Майяр идет вниз по набережной, проходит через Лувр, вынужден против своей воли вести женщин через сад Тюильри и наконец подходит к Елисейским Полям. Тут ему удается уговорить их оставить оружие: лучше явиться перед собранием просительницами, нежели в виде вооруженных фурий. Они соглашаются, и Майяру приходится в самом деле вести их в Версаль. В это время туда стремятся все. Целые толпы идут вперед, таща с собою пушки; другие обступают гвардию, которая окружает своего начальника, стараясь увлечь его в Версаль, к цели всех желаний. Двор тем временем оставался спокоен; только собрание в сильном волнении получило послание от короля. Оно перед тем представило ему основные статьи конституции вместе с Декларацией прав. Ответом должно было быть простое признание с обещанием обнародовать и те, и другую. Но король вторично, не пускаясь в объяснения, обратился к собранию с замечаниями: он соглашался на статьи конституции, впрочем, не одобряя их; находил, что в Декларации прав есть прекрасные положения, требующие, однако, разъяснений; наконец, говорил, что обо всем вместе нельзя судить, пока конституция не будет окончена в целом. Это мнение, бесспорно, имело основание; многие публицисты его разделяли; но время ли было выражать его в эту минуту? Едва завершается чтение этого послания, как поднимаются жалобы. Робеспьер говорит, что королю не подобает критиковать собрание; Дюпор – что ответ должен быть скреплен подписью ответственного министра. Петион пользуется случаем, чтобы напомнить о банкете и с негодованием зачитывает ругательства, изреченные против собрания. Грегуар говорит о голоде и спрашивает, почему некоему мельнику прислано письмо с обещанием платить по двести ливров в неделю, если он откажется молоть хлеб. Письмо ничего не доказывало, потому что все партии могли написать его, однако возбудило сильное волнение и депутат Монспей требует, чтобы Петион подписал свой донос. Тогда Мирабо, с кафедры объявивший, что не одобряет поступков Грегуара и Петиона, встает, чтобы ответить Монспею. «Я первый не одобрил этих неполитических доносов, – говорит он, – но если уж настаивают, я сам донесу и подпишусь. Но только тогда, когда будет объявлено, что во Франции неприкосновенного нет никого, кроме короля». За этими грозными словами следует молчание, потом возобновляется обсуждение королевского послания. В одиннадцать часов утра получают известие о парижских событиях. Мирабо подходит к президенту Мунье, который, будучи недавно избранным наперекор Пале-Роялю, во весь этот печальный день обнаруживает несокрушимую твердость. – Париж, – говорит ему Мирабо, – идет на нас; сделайте вид, будто вам дурно, ступайте во дворец и скажите королю, чтобы он просто, без замечаний, принял статьи и Декларацию. – Париж идет – тем лучше! – отвечает Мунье. – Пусть нас убьют, но всех, – государство от этого выиграет. – Красиво сказано, право! – замечает Мирабо и возвращается на свое место. Спор продолжается до трех часов, наконец решают, что президент отправится к королю и будет просить его принять статьи и декларацию. В ту самую минуту, как Мунье хотел идти во дворец, докладывают о депутации: это Майяр с сопровождавшими его женщинами. Майяр просит, чтобы его приняли и выслушали. Его впускают в залу, женщины бросаются вслед за ним. Тогда он излагает всё происшедшее, описывает недостаток хлеба и отчаяние народа, говорит о письме к мельнику и уверяет, будто какой-то человек, встреченный ими по пути, сказал, что одному приходскому священнику поручено донести об этом письме. Этим кюре был Грегуар, который, как мы сейчас видели, действительно донес. Кто-то обвиняет архиепископа Парижского Жюинье в том, что автор письма он. В опровержение обвинения, возведенного на добродетельного прелата, поднимаются крики негодования. Майяра и его депутацию призывают к порядку. Ему говорят, что приняты все меры к снабжению Парижа продовольствием, что король ничего не забыл и его будут умолять принять еще новые меры, что надо удалиться, а смуты не есть средство прекратить голод. Мунье выходит, чтобы идти во дворец, но женщины обступают его и хотят идти с ним. Он сначала отказывается, но вынужден взять с собою шестерых. Он проходит через толпы, пришедшие из Парижа, вооруженные пиками, топорами и палками с железными наконечниками. Идет сильный дождь. Отряд лейб-гвардии налетает на толпу, окружившую президента, и разгоняет ее, но женщины тотчас снова обступают Мунье, и он с ними является во дворец. Фландрский полк, драгуны, швейцарцы и версальская гвардия уже стоят в боевом строю. Вместо шести женщин они вынуждены впустить двенадцать. Король принимает их милостиво и сожалеет об их нужде; женщины весьма тронуты. Одна из них, молодая и красивая, сконфуженная при виде государя, едва решается прошептать одно слово: «Хлеба…» Король, тронутый, обнимает ее, и женщины удаляются, вполне утешенные этим приемом. Их товарки встречают их у входа во дворец; они не верят рассказу, заявляют, что те дали себя обольстить, и собираются буквально разорвать несчастных женщин на части. Лейб-гвардейцы под командованием графа Гиша спешат на выручку; с разных сторон раздаются выстрелы, два гвардейца падают, несколько женщин ранены. Невдалеке один человек из народа прорывается во главе нескольких женщин сквозь войска до самой дворцовой решетки. Офицер Савоньер бросается за ним, но получает пулю в руку. Эти схватки произвели сильное раздражение в обоих лагерях. Король, узнав об опасности, послал гвардейцам приказание не стрелять, а уйти в свои казармы. Пока они удалялись, между ними и версальской гвардией произошел обмен несколькими выстрелами, но неизвестно, кто выстрелил первый. Во время этих беспорядков король сидел в совете, а Мунье с нетерпением ждал его ответа, беспрестанно посылая повторять, что сама его должность требует его присутствия в собрании, что известие о принятии статей и декларации королем всех успокоит и что он уйдет, если ему не дадут ответа, так как не может так надолго отлучаться со своего поста. В совете между тем обсуждался вопрос, уезжать ли королю. Совещание продолжалось с шести до десяти часов вечера. Двор хотел отправить королеву с детьми, но толпа остановила кареты, как только их стали подавать; притом королева твердо решила не расставаться с мужем. Наконец, около десяти часов Мунье получил желаемый ответ и возвратился в собрание. Депутаты уже разошлись, и зала была занята женщинами. Мунье заявляет, что король принял статьи конституции и Декларацию прав человека; женщины выслушивают это весьма хладнокровно и только спрашивают, улучшится ли от этого их участь, а главное – будет ли у них хлеб. Мунье отвечает как можно убедительнее и распоряжается, чтобы им был роздан весь хлеб, какой можно было достать. В эту ночь муниципалитет совершил большой промах, не позаботившись накормить эту голодную толпу, которую недостаток хлеба погнал из Парижа и которая уже нигде не нашла хлеба по дороге. В это время приехал Лафайет. Он в течение восьми часов боролся с парижской милицией, которая тоже хотела идти в Версаль. Один из его гренадеров сказал ему: «Генерал, вы нас не обманываете, но вас обманывают. Вместо того чтобы обращать оружие против женщин, пойдем в Версаль к королю и удостоверимся в его расположении, поставив его среди нас». Лафайет не уступал ни настоятельным просьбам своих войск, ни давлению толпы. Солдаты его были к нему привязаны не победами, а хорошим о нем мнением, и чуть это мнение поколебалось, как он уже не мог с ними справиться. Несмотря на это, Лафайету удалось удержать гвардейцев до вечера; но голос его был слышен лишь на маленьком расстоянии, а далее ничто не останавливало народной ярости. Толпа несколько раз грозила ему смертью, но он всё не уступал. В то же время он знал, что из Парижа беспрестанно выходят новые толпы: так как мятеж уже решительно перемещался в Версаль, то долг требовал, чтобы и он последовал туда же. Коммуна сама приказала ему отправиться туда – и он поехал. По пути Лафайет останавливает свое войско, заставляет его присягнуть в верности королю и прибывает в Версаль около полуночи. Он объявляет Мунье, что гвардия обещала исполнить свой долг и что не будет совершено ничего противозаконного. Затем он спешит во дворец, является туда почтительный и огорченный, извещает короля о принятых предосторожностях и уверяет его в преданности своей и войска. Король, казалось, успокаивается и удаляется к себе почивать. Однако Лафайету было отказано в праве расставить во дворце свои караулы, и ему дали только наружные посты. Другие посты назначили Фландрскому полку, расположение которого было сомнительно, швейцарцам и лейб-гвардейцам. Последние сначала получили приказание удалиться, но потом были снова призваны, однако, не успев собраться, заняли свои посты в незначительном числе. Вследствие общего смятения не все доступные пункты защитили; одни решетчатые ворота даже остались отворенными. Лафайет занял вверенные ему наружные посты своими войсками, и ни один из них не был взят силой, ни на один даже не совершили нападения. Собрание, несмотря на всю эту сумятицу, возобновило заседание и с величественным спокойствием продолжало прения об уголовных наказаниях. Время от времени народ прерывал прения, требуя хлеба. Мирабо, наскучив перерывами, громким голосом воскликнул, что собрание ни от кого не принимает законов и прикажет очистить трибуны. Народ ему зааплодировал. Однако собранию не пришлось противиться долее. Лафайет приказал сказать Мунье, что всё, кажется, спокойно; тогда, далеко за полночь, собрание наконец разошлось, назначив следующее заседание на другой день в одиннадцать часов. Народ разбрелся и казался спокойнее. Лафайет имел основания полагаться на преданность своего войска, которое действительно ни разу не поколебалось, и был значительно успокоен тишиной, царствовавшей, по-видимому, везде. Для безопасности он выставил караул в казарме лейб-гвардии и разослал множество патрулей. В пять утра он еще был на ногах. Уверенный, что всё спокойно, Лафайет наконец бросился на постель, в первый раз за целые сутки. Народ между тем начинал пробуждаться и уже разгуливал по окрестностям дворца. Завязалась схватка с одним лейб-гвардейцем, выстрелившим из окна. Разбойники тотчас же кинулись в открытые ворота, взобрались по лестнице, которую нашли свободной; наконец их остановили два лейб-гвардейца, которые геройски защищались и уступали только пядь за пядью, отступая от одной двери к другой. Одного из этих преданных слуг звали Миомандр [де Сен-При]. «Спасайте королеву!» – кричит он во весь голос. Этот крик доходит до Марии-Антуанетты, и она, вся дрожа, убегает к королю. В это время разбойники врываются в ее спальню и, найдя ее постель пустой, бросаются дальше, но их снова останавливают лейб-гвардейцы, скучившиеся в этом месте в большом числе. В эту минуту французские гвардейцы Лафайета, поставленные близ дворца, прибегают, услышав шум, и разгоняют нападающих. Они подходят к двери, за которой укрепились лейб-гвардейцы, и кричат им: «Открывайте! Французские гвардейцы не забыли, что при Фонтенуа вы спасли их полк». Дверь отворяется, и солдаты обеих гвардий обнимаются. Со двора слышен страшный гвалт. Лафайет, едва успевший прилечь и даже еще не заснувший, слышит этот шум, садится на первую попавшуюся лошадь, скачет в самую гущу схватки и находит нескольких гвардейцев, которых толпа собирается растерзать. Он освобождает их, приказывает своим солдатам бежать во дворец и остается среди разбойников почти в одиночестве. Один из них в него целится; Лафайет, не смущаясь, приказывает народу привести его к нему; народ хватает виновника и перед глазами генерала разбивает ему голову о мостовую.
 Лафайет спасает гвардейцев в Версале
Лафайет спасает гвардейцев в Версале
Лафайет летит с освобожденными лейб-гвардейцами во дворец и находит там своих гренадеров. Все обступают его и обещают положить жизнь за короля. Спасенные от смерти лейб-гвардейцы кричат: «Да здравствует Лафайет!» Весь двор, спасенный им и его войском, признается, что обязан ему жизнью; его осыпают выражениями благодарности. Принцесса Аделаида, тетка короля, вбегает и обнимает его со словами «Генерал! Вы нас спасли!». Народ в это время неистово требует, чтобы Людовик XVI переехал в Париж. Собирается совет. Лафайет, приглашенный в нем участвовать, отказывается, чтобы не стеснять свободы совещавшихся. Наконец решают, что двор исполнит желание народа. Из окон бросают билетики с этим известием. Людовик XVI появляется на балконе в сопровождении генерала, его встречают криками «Да здравствует король!». Другое дело – королева; против нее возвышаются грозные голоса. Лафайет подходит к ней. – Государыня, – спрашивает он, – что вы намерены делать? – Поеду с королем, – отвечает Мария-Антуанетта твердо. – В таком случае идите за мной, – продолжает генерал и выводит ее, удивленную, на балкон. Из толпы раздается несколько угроз. Мог прозвучать несчастный выстрел, слов слышно не было, следовало действовать на зрение толпы. Лафайет наклоняется, берет руку королевы и почтительно целует ее. Народ – всё же французы – приходит в восторг и утверждает примирение криками «Да здравствует королева!», «Да здравствует Лафайет!». – А для моих гвардейцев вы ничего не сделаете? – спрашивает Лафайета Людовик. Генерал выводит одного гвардейца на балкон, обнимает его и надевает на него свою портупею. Народ и это одобряет и рукоплесканиями утверждает это новое примирение. Собрание не сочло совместным со своим достоинством явиться к королю, хотя он и приглашал депутатов. Они ограничились тем, что отправили к нему депутацию из тридцати шести членов. Как только они узнали о его предстоявшем отъезде, они издали декрет, объявлявший, что собрание неотделимо от особы государя, и назначили сто депутатов, которым поручили сопровождать его в Париж. Король получил декрет и уехал. Большая часть толпы уже рассосалась. Лафайет послал вслед за народом отряд, чтобы толпа не могла вернуться. Он распорядился обезоружить разбойников, несших на пиках головы двух лейб-гвардейцев. Эти ужасные доспехи были у них отняты, и хотя говорили, будто их несли впереди кареты короля, это неправда.
Людовик XVI наконец въехал в Париж среди огромного стечения народа и был встречен мэром Байи в ратуше. – Я с доверием возвращаюсь к моим парижанам, – сказал король. Байи повторил эти слова тем, кто не мог их слышать, но пропустил слово «доверие». – Прибавьте «с доверием», – поправляет его королева. – Так еще лучше, – отвечает Байи, – чем если бы я сам сказал. Королевское семейство поехало во дворец Тюильри, остававшийся необитаемым уже целое столетие: в нем еще не успели сделать нужных приготовлений. Караулы вверили парижской милиции, и Лафайет должен был принять на себя ответственность перед нацией за особу короля, которого партии оспаривали одна у другой. Дворянство хотело везти его в какую-нибудь крепость, чтобы от его имени пользоваться деспотической властью; народная партия, еще не помышлявшая о том, чтобы обходиться вовсе без короля, хотела удержать его в своих руках, чтобы завершить конституцию и отнять главного вождя у междоусобной войны. Поэтому привилегированные сословия злобно назвали Лафайета тюремщиком, а между тем его бдительность доказывала только искреннее желание иметь короля. С этой минуты ход партий обрисовывается на новый лад. Аристократия, удаленная от Людовика XVI и не будучи в состоянии ничего предпринять вместе с ним, стала разъезжаться по провинциям и уезжать за границу. С этих-то пор эмиграция начала принимать значительные размеры. Множество дворян бежало в Турин, к графу д’Артуа, который нашел там убежище у своего тестя. Политика их заключалась с тех пор в возбуждении южных департаментов с помощью предположения, что король не свободен. Королева, как австриячка, притом враг нового двора, образовавшегося в Турине, обратилась со своими надеждами к Австрии. Король, находясь в центре этих происков, видел всё, ничему не мешал и ждал спасения, откуда бы оно ни пришло. По временам он отрекался от того, что происходило вокруг него, – когда этого требовало собрание, и действительно был не свободен, как не был бы свободен в Турине или в Кобленце, как не был свободен при Морепа[41], потому что слабость характера обрекает человека на вечную зависимость. Народная партия, отныне торжествующая, была теперь разделена между герцогом Орлеанским, Лафайетом, Мирабо, Барнавом и братьями Ламетами. Общественный голос обвинял герцога Орлеанского и Мирабо в подстрекательстве к последнему бунту. Свидетели, заслуживавшие некоторого доверия, уверяли, будто видели Мирабо на ужасном месте сражения 6 октября. Эти факты впоследствии были опровергнуты, но в ту пору им верили. Заговорщики хотели удалить короля и даже убить его, говорили клеветники. Еще говорили, что герцог Орлеанский хотел быть наместником, а Мирабо – министром. Так как ни один из этих проектов не состоялся, то казалось, будто Лафайет расстроил их своим присутствием, и он прослыл за спасителя короля и победителя герцога и Мирабо.
 Александр Ламет и ШарльЛамет
Александр Ламет и ШарльЛамет
Двор, еще не успев впасть в обычную свою неблагодарность, признавал Лафайета своим спасителем, и в эту минуту могущество его казалось непомерным. Экзальтированные патриоты пугались его и уже шептали имя Кромвеля. Мирабо, как мы скоро увидим, не имел ничего общего с герцогом Орлеанским, ревновал к Лафайету и называл его Кромвель-Грандисон[42]. Аристократия поддерживала его в этой недоверчивости и прибавляла к ней свою клевету. Но Лафайет решился, вопреки всем препятствиям, поддерживать короля и конституцию. Для этого он хотел сначала отстранить герцога Орлеанского, присутствие которого подавало повод ко многим слухам и, кроме того, могло представить если не средства, то хотя бы предлоги к смутам. Лафайет имел свидание с принцем, озадачил его своей твердостью и заставил удалиться. Король, знавший и одобрявший этот проект, сделал вид, с обычной своей слабохарактерностью, что его принуждают к этой мере, и в письме к герцогу сказал ему, что необходимо, чтобы удалился или он, или Лафайет; что при нынешнем состоянии общественного мнения выбор сомнителен и поэтому он дает герцогу поручение в Англию. Впоследствии стало известно, что министр иностранных дел Монморен, чтобы избавиться от честолюбия герцога Орлеанского, направил его в Нидерланды, в то время поднявшиеся против Австрии, и подал надежды на титул герцога Брабантского. Друзья герцога Орлеанского, узнав об этом, рассердились на него за малодушие. Они не хотели, чтобы он уступал, отправились к Мирабо и просили его разгромить с кафедры насилие, которому Лафайет подвергал герцога. Мирабо, уже ревновавший к популярности генерала, велел сказать герцогу, что будет громить их обоих, если герцог уедет в Англию. Это поколебало герцога, но новое настоятельное послание от Лафайета заставило его решиться. Мирабо, получив в собрании записку, извещавшую об уступке герцога, с досадой воскликнул: «Он не стоит того, чтобы отдаться ему!» Эти слова и много других столь же неосторожных слов навлекли на Лафайета обвинение в том, что он один из агентов герцога, тогда как он никогда таковым не был. Его стесненные денежные обстоятельства, неосмотрительные речи, его короткость с герцогом – впрочем, и со всеми другими, – его предложение насчет испанского престолонаследия, наконец, его сопротивление отъезду герцога – всё это должно было возбуждать подозрения. И, несмотря на это, положительно верно, что Мирабо не принадлежал ни к одной партии и не имел даже иной цели, кроме уничтожения произвола и всевластия аристократии. Авторы этих предположений должны бы знать, что Мирабо в то время приходилось занимать самые скромные суммы, чего никогда не случилось бы, если бы он был агентом непомерно богатого принца, разоряемого, как уверяли, своими приверженцами. Мирабо давно предчувствовал близкое разложение государства. Один разговор в версальском парке с близким приятелем, продолжавшийся целую ночь, породил в голове его совершенно новый план, и он дал себе слово, ради своей славы и ради спасения государства, наконец, ради своей карьеры, остаться непоколебимым между разрушителями и престолом и упрочить монархию, уготовляя себе место в ней. Двор уже прежде заискивал перед Мирабо, но принимался за дело неуклюже и без деликатности, необходимой с человеком необыкновенно гордым, который непременно хотел сохранить свою популярность, не успев еще приобрести уважения. Малуэ, коротко знакомый с Мирабо приятель Неккера, хотел свести их. Мирабо много раз отказывался, убежденный, что ему никак не сойтись с министром. Наконец, однако, он согласился. Малуэ его представил, но несходство двух характеров еще резче обозначилось после беседы, в которой, по общему признанию всех присутствовавших, Мирабо обнаружил всё превосходство, которым обладал в частной жизни так же, как и на кафедре. Пустили слух, будто Мирабо хотел, чтобы его услуги были куплены, а Неккер не сделал ему никаких предложений, и поэтому он, уходя, сказал: «Министр еще услышит обо мне!» Это толкование, опять-таки сделанное партиями, и толкование ложное. Малуэ предлагал Мирабо сговориться с министром – и ничего больше. Кроме того, примерно в это же время у Мирабо завязались прямые переговоры с двором. Один высокопоставленный иностранец, бывший в близких сношениях со всеми партиями, сделал первый шаг. Приятель Мирабо, служивший посредником, дал почувствовать, что двор не добьется того, чтобы он пожертвовал своими принципами, но если двор будет строго придерживаться конституции, то найдет в Мирабо непоколебимую опору. Условия эти предписываются его положением, и необходимо, даже в интересах тех, кто желал пользоваться его услугами, поставить его в положение почетное и независимое, то есть уплатить его долги. Нужно, наконец, привязать его к новому общественному строю и, не давая ему портфеля теперь же, подать надежду на него в будущем. Всё окончательно уладилось только два или три месяца спустя, то есть в начале 1790 года. Историки, плохо зная эти подробности и обманутые упорством, с которым Мирабо боролся против власти, отнесли этот договор к позднейшему времени. Мы ниже познакомим с ним читателя. Барнав и братья Ламеты могли соперничать с Мирабо лишь большим ригоризмом в выражении патриотизма. Проведав об идущих переговорах, они нарочно подтвердили распущенный уже слух о том, что Мирабо дадут портфель, чтобы отнять у него возможность принять его. Скоро представился и случай помешать ему в этом. Министры не имели права выступать в собрании. Мирабо не хотел, становясь министром, отказаться от слова, самого сильного своего оружия, к тому же ему хотелось вывести Неккера на кафедру, чтобы раздавить его. Поэтому он предложил дать министрам совещательный голос. Народная партия воспротивилась без всякой видимой причины, как бы опасаясь министерских обольщений. Но эти опасения не имели никакого основания, потому что уж никак не публичными сообщениями палатам министры обыкновенно обольщают народные представительства. Предложение Мирабо отвергли, и Ланжюине, заведя ригоризм еще далее, предложил воспретить депутатам принимать министерские портфели. Последовал горячий спор. Хотя побуждение к этим предложениям было известно, оно не высказывалось, и Мирабо, для которого скрытничанье было просто невозможно, наконец воскликнул, что не следует, имея в виду одного человека, принимать меру, вредную для всего государства; что он, пожалуй, согласен на предлагаемый декрет, но с тем, чтобы принять портфель было воспрещено не всем нынешним депутатам, а одному господину Мирабо, депутату сенешальства Экс. Эта неслыханная смелость и откровенность остались без ответа, и декрет был принят единогласно.
 Отъезд Лалли
Отъезд Лалли
Из предыдущего ясно, что государство было разделено между эмигрантами, королем, королевой и различными народными вождями. Таких решительных событий, как события 14 июля и 5 октября, еще долго не должно было происходить; для этого требовалось, чтобы новые неприятности раздразнили двор и народ и привели их к полному разрыву.
Собрание переехало в Париж (где в Архиепископском дворце 19 октября прошло первое заседание), получив от коммуны многократные заверения насчет спокойствия, с обещанием полной свободы действий. Мунье и Лалли-Толендаль, приведенные в негодование событиями 5 и 6 октября, тогда же вышли в отставку, говоря, что не хотят быть ни свидетелями, ни соучастниками злодеяний крамольников. Они, вероятно, после раскаялись в этом отступлении от общественного дела, особенно когда Мори и Казалес, удалившиеся было из собрания, вскоре вернулись, чтобы мужественно и до конца отстаивать свои убеждения. Мунье, уехав в Дофине, созвал штаты этой провинции, но вскоре после того они были распущены декретом, не оказав никакого сопротивления. Таким образом, Мунье и Лалли, которые во время присяги в Зале для игры в мяч были героями народа, теперь гроша не стоили в его глазах. Народное могущество опередило сначала парламенты, а потом Мунье, Лалли и Неккера; та же участь предстояла и многим другим. Дороговизна хлеба – преувеличенная, но не вымышленная причина смут – послужила поводом к еще одному преступлению. Булочник Франсуа был убит 20 октября несколькими разбойниками. Лафайету удалось схватить виновных; он их предал суду Шатле, облеченному чрезвычайной властью судить все проступки, относившиеся к революции. Там судили Безенваля и всех аристократов, обвиненных в соучастии в заговоре, расстроенном 14 июля. Шатле должен был судить по новым формам. В ожидании института присяжных, еще не учрежденного, собрание постановило гласность суда, защиту с передопросом свидетелей и вообще все меры, охранявшие невинных. Убийцы Франсуа были осуждены и спокойствие восстановлено. Пользуясь случаем, Лафайет и Байи предложили принять законы военного положения. Против этого живо восстал Робеспьер, который тогда уже являлся горячим сторонником народа и бедных, однако предложение было принято большинством (декрет от 21 октября). В силу этого декрета муниципалитеты отвечали за общественное спокойствие; в случае смут им поручалось требовать на реквизицию войска или милицию и, после троекратного увещания, распорядиться применением силы против мятежных сходбищ. При коммуне был назначен следственный комитет, и другой – при собрании, для наблюдения за многочисленными врагами. Достаточно ли было этих средств, чтобы расстроить планы противников? Работа над конституцией продолжалась. Феодализм был уничтожен; но оставалось принять еще меры для уничтожения тех крупных корпораций, которые составляли в государстве организованную силу против государства. Духовенство владело громадным имуществом, полученными от государей в виде пожертвований или от верующих в виде посмертных даров. Если имущество отдельных лиц, плод и цель труда, должно было быть уважаемо, то имущество, данное корпорациям для известных целей, могло получить от закона другое назначение. Это имущество было дано ради благолепия религии (или по крайней мере под этим предлогом), а так как отправление религиозных обрядов и треб есть общественное служение, то закон мог распорядиться доставлением нужных к тому средств совершенно иначе. Аббат Мори развернул по этому случаю всё свое красноречие. Он напугал землевладельцев, угрожая близкой опасностью всякой собственности и уверяя, что собрание жертвует провинциями столичным спекулянтам. Софизм, который он приводил, был настолько странен, что заслуживает внимания. Собрание располагало имуществом духовенства для уплаты долга; кредиторами по этому долгу были большие парижские финансисты; имущество, которое собрание жертвовало им, находилось в провинциях. Отсюда оратор выводил смелое заключение, что провинция приносится в жертву столице, как будто провинция, напротив, не выигрывала от нового разделения этих огромных земель, до тех пор служивших только роскоши нескольких праздных церковных магнатов. Все усилия Мори ни к чему не привели. Талейран, автор предложения, и депутат Туре разбили эти пустые софизмы. Собрание уже совсем было готово постановить, что церковное имущество принадлежит государству, а оппоненты всё еще стояли на вопросе о собственности. Им на это отвечали, что даже если они и собственники, то можно распорядиться их имуществом, так как имущество это в случаях крайней нужды нередко уже использовалось в пользу государства. Оппоненты этого и не отрицали. Пользуясь их признанием, Мирабо предложил вместо слов «принадлежат государству» поставить «находятся в распоряжении государства». Спор на этом закончился, и декрет немедленно приняли. Таким образом, собрание уничтожило опасное могущество духовенства, роскошь этого сословия и добыло те громадные финансовые средства, которые так долго питали революцию. В то же время депутаты обеспечили существование приходских священников, постановив, что содержание их должно включать не меньше тысячи двухсот франков, дом и сад. Собрание объявило, что не признает монашеских обетов и возвращает свободу всем монахам, предоставляя, однако, желающим право продолжать монастырскую жизнь. А так как монастырское имущество уже забрали в казну, то монахам назначили пенсии. Депутаты пошли еще дальше, провели различие между богатыми и нищенствующими монашескими орденами и соразмерили пенсию согласно прежнему положению получавших ее монахов. Они поступили точно так же и относительно всех прочих пенсий, и когда янсенист Камю, желая возвратиться к евангельской простоте жизни, предложил свести все пенсии к одной, крайне скудной цифре, собрание, по совету Мирабо, уменьшило их только соответственно их действительной стоимости и прежнему положению пансионеров. Точно так же, когда потомки протестантов, уехавших из Франции после отмены Нантского эдикта, потребовали возвращения отобранных у их предков земель, собрание возвратило им только то имущество, которое оказалось не продано. Поступая осторожно и с крайней деликатностью относительно лиц, собрание не церемонилось с учреждениями и в делах, касавшихся конституции. Прерогативы высших властей были уже установлены; нужно было теперь разделить территорию государства. Она всегда была разделена на провинции, последовательно присоединенные к древней Франции. Эти провинции, не похожие между собой по законам, правам, нравам, образовали вместе нечто весьма несообразное. Сийесу пришла мысль слить всё это воедино посредством нового разделения, которое бы уничтожило старинные разграничения и привело все части государства к одним законам и одному духу. Это было достигнуто разделением Франции на департаменты. Департаменты были разделены на округа, а округа – на муниципалитеты. На всех этих степенях работала система представительства. Администрация департаментов, округов и общин была вверена совещательному совету и другому – исполнительному, тоже избираемому. Все эти власти были одна другой подведомственны и, в пределах своей деятельности, имели те же атрибуты. Департамент расписывал подати по округам, округа – по общинам, общины – по отдельным людям. Затем собрание определило звание гражданина, пользовавшегося политическими правами. Активным гражданином признавался тот, кому не менее двадцати пяти лет от роду и кто платит прямой налог; лица, не соединявшие в себе этих условий, признавались гражданами пассивными. Эти простые названия вызвали только смех, потому что люди всегда придираются к названиям, когда хотят подорвать доверие к сущности дела, но они были естественны и прекрасно выражали требуемое понятие. Действительный гражданин участвовал в выборах администрации и собрания. Выборы депутатов производились в две стадии. Для того чтобы быть избранным, не требовалось никаких особенных условий, потому что, как было сказано в собрании, человек есть избиратель по самому своему существованию в обществе и должен быть избираем единственно вследствие доверия избирателей. Эти работы, хоть и прерывались множеством случайных прений, всё же производились с большим усердием. Первая сторона участвовала в них, лишь упорствуя, стараясь им мешать, как только дело доходило до того, чтобы уступить нации долю влияния. Народные депутаты, хоть и составляли разные партии, сливались или разделялись без резкости, смотря по личному убеждению каждого. Убеждение для них было выше союза с одними или другими. Так Туре, Мирабо, Дюпор, Сийес, Камю, Шапелье то соединялись, то расходились, смотря по своей позиции в каждом споре. Члены же дворянства и духовенства выступали только партией. Каждый раз, как какой-нибудь парламент издавал постановление против собрания или какой-нибудь депутат или писатель оскорблял его, они были готовы поддержать их. Они поддерживали военное начальство против народа, торговцев неграми против негров, подавали голос против допущения евреев и протестантов к пользованию общими правами. Наконец, когда Генуя восстала против Франции по случаю присоединения Корсики, они приняли сторону Генуи. Одним словом, эти депутаты, безучастные и равнодушные ко всем полезным прениям, которых они даже не слушали, всё время разговаривая между собой, вставали только, чтобы отказать в каком-нибудь праве или вольности.
Как мы уже сказали, не оставалось больше возможности затеять большой заговор около короля, потому что аристократия обратилась в бегство, а двор был окружен собранием, народом и милицией. Следовательно, недовольные могли совершать только частные попытки. Они разжигали неудовольствие офицеров, привязанных к старым порядкам, тогда как солдаты, для которых каждая перемена становилась выигрышем, склонялись к новым. Между войсками и чернью случались жестокие схватки; нередко солдаты выдавали своих начальников толпе, которая убивала их. Иной раз, когда городские коменданты вели себя с некоторой ловкостью и присягали в верности новой конституции, недоверие счастливо успокаивалось и равновесие восстанавливалось. Духовенство наводнило Бретань протестами против отчуждения его имущества. Прилагались все старания, чтобы возбудить остаток религиозного фанатизма в провинциях, где еще господствовало древнее суеверие. Парламенты тоже были пущены в ход и в последний раз испытали свое влияние. Их каникулы были продлены собранием, потому что, собираясь распустить парламенты, депутаты не хотели быть поставлены перед необходимостью с ними спорить. Вакационные палаты[43] разбирали дела в их отсутствие. В Руане, Ренне, Нанте эти палаты издавали постановления, в которых оплакивали разрушение древней монархии и нарушение ее законов, а затем, не называя собрания, как будто указывали на него как на источник всех зол. Палаты призвали к барьеру и им сделали деликатные выговоры. Реннская палата, как наиболее виновная, была объявлена неспособной исправлять свою должность. Палата Меца тонкой инсинуацией дала почувствовать, что король несвободен: в этом, как мы говорили, заключалась вся политика недовольных. Не имея возможности использовать для своих целей особу короля, они старались представить его как бы в угнетенном положении и этим думали отнять силу у законов, на которые он, по-видимому, соглашался. Сам Людовик XVI как будто уступил этой политике. Он хотел вернуть своих лейб-гвардейцев, отпущенных 5 и 6 октября, и держал при себе караулы из национальной милиции, среди которой знал, что находится в безопасности. Его намерением было казаться пленным. Парижская коммуна расстроила эту вполне мелкую хитрость, попросив короля призвать обратно свою гвардию, но он отказался под разными предлогами и через посредство королевы.
Начался 1790 год, повсеместно ощущалось волнение. С 6 октября три месяца протекли довольно спокойно, но теперь, казалось, опять начиналось беспокойство. За каждой сильной встряской следует отдых, за отдыхом – маленькие кризисы, ведущие к более важным кризисам. В смутах обвиняли духовенство, дворянство, двор, даже Англию. Наемные отряды Национальной гвардии сами заразились этим тревожным состоянием. Несколько солдат, собравшихся на Елисейских Полях, потребовали прибавки жалованья. Лафайет, всегда и всюду успевавший, прискакал, разогнал их, наказал и восстановил порядок в своем войске, верном, несмотря на эти небольшие нарушения дисциплины. Особенно много было речей о заговоре против собрания и муниципалитета. Предполагаемым главой заговора являлся маркиз Фавра. Он был с шумом арестован и предан суду Шатле. Тотчас же распустили слух, будто замышляли убить Байи и Лафайета; будто тысяча двести лошадей были приготовлены в Версале для похищения короля; будто целая армия швейцарцев и пьемонтцев должна была встретить его и идти на Париж. Поднялась тревога, стали говорить, будто Фавра – агент самых высокопоставленных лиц. Подозрения обратились на Месье, графа Прованского, брата короля: Фавра прежде служил в его гвардии и устраивал для него не один заем. Граф, испуганный общим волнением, явился в ратушу, протестовал против направленных на него инсинуаций, объяснил свои сношения с Фавра, напомнил о своем всегдашнем расположении к народу, обнаруженном еще в собрании нотаблей, и просил, чтобы судили о нем не по слухам, а по его известному и неизменному патриотизму. Рукоплескания заглушили его речь, и толпа проводила его до его дома. Процесс Фавра между тем продолжался. Маркиз Фавра объездил всю Европу, женился на иностранной княжне и всё строил планы для поправки своих обстоятельств. Свидетели, которые обвиняли его, в точности излагали его последний план. Убийство Байи и Лафайета, по-видимому, входило в этот план; но не было доказательств того, чтобы действительно были заготовлены тысяча двести лошадей или чтобы швейцарские и пьемонтские войска действительно двинулись. Однако обстоятельства не благоприятствовали Фавра. Суд Шатле недавно освободил Безенваля и других, замеченных в заговоре 14 июля, и публика была недовольна. Впрочем, Лафайет успокоил судей, уговорил их судить по совести и обещал, что приговор будет исполнен, каким бы он ни был. Этот процесс вновь вызвал подозрения против двора. Новые происки его доказывали, что он неисправим, даже в Париже он не переставал интриговать. Поэтому королю посоветовали сильную меру, которая удовлетворила бы общественное мнение. Четвертого февраля 1790 года всё собрание удивилось, увидев несколько изменений в зале заседаний. Ступени президентской эстрады были покрыты ковром, усеянным лилиями. Кресло секретаря поставили пониже. Президент стоял подле кресла, обыкновенно им занимаемого. «Король идет!» – вдруг объявляют привратники, и в ту же минуту Людовик XVI входит в залу. Собрание встает и встречает его рукоплесканиями. Трибуны наполняются сбежавшимися зрителями, публика наводняет и прочие части залы и с величайшим нетерпением ждет королевской речи. Людовик XVI говорит стоя, собрание слушает его сидя. Он сначала напоминает о смутах, раздиравших Францию, об усилиях, которые он предпринимал, чтобы унять их и обеспечить процветание народа; он перечисляет труды представителей, причем замечает, что сам старался сделать то же в провинциальных собраниях; наконец доказывает, что сам давно изъявлял желания, ныне сбывшиеся. Король присовокупляет, что считает своим долгом формально присоединиться к представителям нации в тот момент, когда ему представлены декреты, имеющие целью учредить в государстве новые порядки, и говорит, что всеми силами будет споспешествовать успеху этого обширного предприятия, а всякая попытка к противному стала бы преступлением и была бы всеми средствами преследуема. При этих словах раздаются рукоплескания. Король продолжает и, припоминая принесенные жертвы, приглашает всех понесших какие-либо потери последовать его примеру, покориться и находить вознаграждение в тех благах, которые новая конституция сулит Франции. Когда же он, пообещав защищать эту конституцию, присовокупляет, что сделает и больше, что заодно с королевой с малолетства подготовит ум и сердце своего сына к новым порядкам и приучит его находить свое счастье в счастье французов, – тогда со всех сторон раздаются крики любви, все руки простираются к королю, все взоры ищут мать и дитя, восторг овладевает всеми. Король оканчивает свою речь, призывая к согласию и миру «добрый народ, которым он любим, как его уверяют, когда хотят утешить его в его печалях». При этих последних словах все присутствующие разражаются благодарными криками. Президент в краткой ответной речи выражает бурные чувства, наполняющие все сердца. Толпа провожает короля до Тюильри. Собрание постановляет принести благодарность королю и королеве. Возникает новая мысль: Людовик XVI обязался соблюдать и охранять конституцию – тогда и депутатам весьма кстати будет тут же поклясться в том же. Предлагается гражданская присяга, и каждый депутат клянется «быть верным нации, закону и королю и всеми силами поддерживать конституцию, постановленную Национальным собранием и принятую королем». Депутаты, представлявшие торговые круги, в свою очередь просят разрешения принять присягу; трибуны и амфитеатр следуют тому же примеру, и со всех сторон слышится одно слово: «Клянусь!» Присяга была повторена в ратуше и по общинам всей Франции. Устроили празднества; радость казалась всеобщей и неподдельной. Уж тут-то было время и представился случай повести всё по-новому и не сделать и это примирение бесполезным, как все предыдущие; но в тот же вечер, пока Париж светился иллюминацией, зажженной в честь счастливого события, двор уже впал в свое обычное настроение, и народных депутатов приняли совсем не так, как депутатов от дворянства. Лафайет, усердных и умных советов которого никто не слушал, тщетно повторял, что королю более нельзя колебаться, что он должен целиком примкнуть к народной партии и стараться приобрести ее доверие, что для этого его намерения должны быть не только провозглашаемы в собрании, но и обнаруживаемы в его малейших поступках; что он должен принимать как личное оскорбление каждое сказанное при нем двусмысленное слово и отвергать малейшее сомнение относительно его действительной воли; что он не должен выказывать ни стеснения, ни неудовольствия или оставлять даже тайную надежду аристократам; наконец, что министры должны быть согласны между собой, не позволять себе соперничества с собранием и не вынуждать его беспрестанно обращаться к общественному мнению. Тщетно Лафайет повторял с почтительной настойчивостью эти мудрые советы: король принимал его письма, находил, что он честный человек, – и только; королева же с досадой отталкивала Лафайета, ее даже как будто раздражало почтительное внимание генерала. Она гораздо милостивее принимала Мирабо, более влиятельного, чем Лафайет, но уж конечно не столь безупречного. Сношения Мирабо с двором не прекращались. У него даже были одно время тесные связи с графом Прованским, который по своим убеждениям оказался доступнее народной партии и повторял Мирабо то же, что говорил беспрестанно Марии-Антуанетте и министру Монморену: монархия может быть спасена только свободой. Между Мирабо и двором наконец состоялся договор через посредство третьего лица. Мирабо изложил свои принципы в документе наподобие исповеди, обязался не уклоняться от них и поддерживать двор, если и он не уклонится от этой черты. Ему за это назначалось довольно значительное содержание. Нравственность, спору нет, порицает подобные сделки, и люди требуют, чтобы долг исполнялся единственно ради долга. Но значило ли это продать себя? Слабый человек действительно продал бы себя, жертвуя своими правилами, но могучий Мирабо не только ими не жертвовал, но еще и двор заставил принять их и получал за это пособие, необходимое ему вследствие его широких потребностей и необузданных страстей. Мирабо вел себя не так, как люди, отдающие за высокую цену малые таланты и отсутствующую совесть; он был непоколебим в своих принципах, попеременно боролся против своей партии и против двора, точно не ждал от первой популярности, а от последнего – средств к существованию. И Мирабо делал это в такой степени, что историки, не веря, чтобы он был союзником двора, против которого действовал, отнесли этот договор к 1791 году, тогда как он состоялся уже в первых месяцах 1790-го. Мирабо виделся с королевой, обворожил ее и удостоился приема, весьма польстившего ему. Кроме Лафайета и Мирабо, двор располагал еще третьим союзником – Буйе, с которым читателей пора познакомить. Буйе, человек мужественный, прямой и талантливый, имел все наклонности аристократа и отличался от других аристократов только меньшей слепотой и большей привычкой к делу. Живя в Меце, руководя охраной большого протяжения границы, он старался поддерживать недоверие между своими войсками и Национальной гвардией, чтобы сохранить своих солдат преданными двору, – так он сам рассказывает в своих записках. Занимая как бы выжидательное положение, Буйе устрашал народную партию и казался главнокомандующим монархии, как Лафайет – главнокомандующим конституции. В то же время аристократия была ему противна, а слабость характера Людовика XVI внушала отвращение к службе, и он бы ее оставил, если бы король не упросил его остаться. Буйе был олицетворением чести. Раз присягнув, он уже имел только одну мысль: служить королю и конституции. Следовательно, двору надлежало соединить этих трех людей: Лафайета, Мирабо и Буйе, и он располагал бы через них Национальной гвардией, собранием и армией, то есть тремя главными силами той поры. Кое-какие причины, правда, разделяли их. Лафайет, исполненный доброй воли, был готов объединяться со всеми, кто только хотел служить королю и конституции; но Мирабо ревновал к могуществу Лафайета, опасался его хваленой нравственной чистоты и как бы видел в ней укор себе. Буйе ненавидел в Лафайете экзальтированные убеждения и, может статься, безупречного противника; он предпочитал Мирабо, считая его более податливым и менее строгим в политической вере. Дело двора было соединить всех троих, уничтожив частные причины, удалявшие их друг от друга. Но для этого было лишь одно средство – свободная монархия. Стало быть, надо было искренне покориться и стремиться к ней всеми силами. А двор, вечно колеблющийся, не отталкивая Лафайета, принимал его холодно, платил Мирабо, который по временам не стесняясь трепал его, питал неудовольствие Буйе против революции, поглядывал с упованием на Австрию, разрешал действовать эмиграции в Турине. Так всегда поступает малодушие: старается создать себе надежды скорее, чем обеспечить себе успех, и доходит этим путем лишь к погибели, внушая подозрения, которые раздражают партии не менее самой действительности, потому что их лучше бить, чем дразнить. Напрасно Лафайет, который хотел сам сделать то, чего не делал двор, писал Буйе, своему родственнику, приглашая его общими силами служить престолу единственными возможными средствами – искренностью и свободой. Буйе, следуя враждебным внушениям двора, отвечал холодно и уклончиво и, не предпринимая ничего против конституции, продолжал блюсти свою внушительность, сохраняя в тайне свои намерения и силу своей армии. Итак, примирение 4 февраля, которое могло бы повести за собой громадные последствия, осталось без всяких результатов. Процесс Фавра закончился, и суд Шатле, из страха или по убеждению, приговорил его к повешению. Фавра выказал в последние минуты своей жизни твердость, достойную мученика, а не интригана. Он уверял в своей невинности и просил разрешения сделать перед смертью заявление. Эшафот был построен на Гревской площади. Фавра привезли в ратушу, где он пробыл до ночи. Народ хотел видеть, как станут вешать маркиза, и с нетерпением ждал этого примера равенства в казнях. Фавра объявил, что имел сношения с одним высокопоставленным лицом, которое поручало ему располагать умы в пользу короля, что это лицо дало ему сто луи на необходимые расходы и что он эти деньги принял. Он уверял, что этим ограничивалась вся его вина, и никого не назвал. Однако он спросил, может ли спастись, если назовет имена? Найдя ответ на этот вопрос неудовлетворительным, он сказал: «В таком случае, я умру с моей тайной!» – и с большой твердостью пошел на казнь. Стояла ночь, и площадь была освещена. Народ радовался равенству и отпускал в адрес несчастного ужасные насмешки. Тело Фавра отдали его семейству, и новые события скоро заставили забыть о его смерти; несчастного забыли и те, кто наказал его, и те, кто использовал его как орудие. Духовенство с отчаяния продолжало возбуждать мелкие смуты по всей Франции. Дворянство возлагало большие надежды на его влияние на народ. Пока депутаты довольствовались тем, что своим декретом отдали церковное имущество в распоряжение нации, духовенство всё еще надеялось, что исполнение декрета не состоится, и, чтобы сделать его бесполезным, подсказывало тысячу средств к удовлетворению нужд казначейства. Аббат Мори предложил обложить податью предметы роскоши; аббат Сальсед в ответ на это предложил постановить, чтобы ни одно духовное лицо не могло иметь более тысячи экю ежегодного дохода, – богатый аббат замолчал. В другой раз, при прениях о государственном долге, Казалес посоветовал подвергнуть исследованию не реальность каждого долгового обязательства, а самый долг, его происхождение и причины; это значило бы возобновить банкротство гнусным средством, применяемым старыми чрезвычайными судами. Духовенство, заклятый враг государственных кредиторов, которым оно считало себя принесенным в жертву, поддержало это предложение, несмотря на свой ригоризм по вопросам о собственности. Мори неприлично вспылил и оскорбил собрание, заявив, что часть членов его имеют лишь мужество позора. Собрание хотело за это исключить его, но Мирабо, который мог принять эти слова и на свой счет, убедил товарищей, что каждый депутат принадлежит своим доверителям и собрание не имеет права никого исключать. Такая умеренность была прилична истинному превосходству, она понравилась, и Мори был чувствительнее наказан выговором, нежели был бы наказан исключением. Все эти средства, изобретаемые духовенством с целью поменяться местами с государственными кредиторами, ни к чему не привели, и собрание отдало на продажу церковного имущества на 400 миллионов. Потеряв всякую надежду, духовенство пустило в народ брошюры и распространило слух, будто истинная цель революционеров – напасть на католическую веру. В южных провинциях оно всего более рассчитывало на успех. Первая партия эмиграции, как было сказано выше, направилась в Турин и поддерживала сношения главным образом с Лангедоком и Провансом. Калонн, получивший такую известность при собрании нотаблей, состоял министром при удалившихся придворных. Эмигранты делились на две партии: высшее дворянство хотело сохранить свою власть и боялось вмешательства провинциального дворянства, в особенности буржуазии. Поэтому для восстановления престола оно хотело прибегнуть исключительно к иноземной помощи. К тому же применять в качестве орудия религию, как предлагали провинциальные эмиссары, казалось смешным людям, всю жизнь вкушавшим остроумие Вольтера. Другая партия, состоявшая из мелких дворян и эмигрировавших буржуа, хотела противопоставить страсти к свободе другую, сильнейшую, – фанатизм, и победить одними своими силами, не призывая иноземцев. Первые, чтобы оправдать обращение к иноземному вмешательству, ссылались на личное мщение, свойственное междоусобной войне, последние твердо стояли на том, что если междоусобная война влечет за собою кровопролитие, то все-таки не следует марать себя изменой. Эти деятели, более мужественные, лучшие патриоты, но и более свирепые, не могли иметь успеха при дворе, при котором господствовал Калонн. Однако, так как ничем нельзя было пренебрегать, сношения между Турином и южными провинциями продолжались. Было решено действовать и через войну с иноземцами, и через междоусобную войну, а для этого делали попытки к пробуждению фанатизма, издревле отличавшего эти провинции. Духовенство ничего не упустило из вида, чтобы помочь исполнению этого плана. Протестанты тут всегда возбуждали зависть католиков. Духовенство воспользовалось этим обстоятельством, особенно по случаю пасхальных торжеств. В Монпелье, Ниме, Монтобане древний фанатизм был пробужден всеми средствами. Шарль Ламет с кафедры жаловался, что духовенство, злоупотребляя Светлой неделей и следующей за ней, вводит народ в заблуждение и возмущает его против новых законов. Слова эти разгневали депутатов из духовенства настолько, что они хотели выйти из собрания. Епископ Клермонский пригрозил этим, и множество духовных лиц уже встали и готовились выйти; но Шарль Ламет был призван к порядку, и шум унялся. Между тем продажа церковного имущества действительно началась; раздраженное этим духовенство уже не упускало ни одного случая явно выказывать свое неудовольствие. Дом Жерль, картезианец, вполне честный в своих религиозных и патриотических чувствах, однажды, 12 апреля, просит слова и предлагает объявить католическую веру единственным исповеданием, допущенным в государстве. Множество депутатов немедленно встают и собираются принять предложение без голосования, говоря, что вот прекрасный случай очистить себя от взведенного на собрание обвинения в нападках на католическую веру. Однако что значило подобное предложение? Или такой декрет имел целью дать преимущество католической религии, что несовместно с принципом веротерпимости, или это было бы простым заявлением факта, заключавшегося в том, что большинство французов исповедует католическую веру, – факт же этот не требовал отдельного заявления. Следовательно, подобное предложение не могло быть принято. Действительно, несмотря на все усилия дворянства и духовенства, прения продолжались еще на следующий день. Произошло огромное стечение народа. Лафайет, предупрежденный о том, что злоумышленники собираются возбудить беспорядки, удвоил караулы. Начинаются прения. Одно духовное лицо грозит собранию проклятием; Мори, по своему обыкновению, беснуется; Мену спокойно отвечает на все упреки собранию, говорит, что неблагоразумно было бы обвинять его в намерении низвергнуть католическую религию в ту минуту, когда оно вносит расходы по отправлению обрядов этого исповедания в список государственных расходов, и предлагает перейти к очередным делам. Дом Жерль, убежденный этими доводами, берет свое предложение назад и извиняется в том, что поднял такое смятение. Герцог Ларошфуко предлагает новую редакцию предложения Мену, прения продолжаются. Кто-то почему-то упоминает о Людовике XIV. «Я не удивляюсь, – восклицает Мирабо, – что нам напоминают о царствовании того, кто отменил Нантский эдикт; но подумайте, что с этой самой кафедры, с которой я говорю, мне видно роковое окно, из которого король, убийца своих подданных, мешая земные интересы с интересами религии, дал сигнал резни в ночь Святого Варфоломея». Эти грозные слова также не положили конца прениям. Наконец было принято предложение герцога Ларошфуко: собрание заявило, что его чувства известны, но из уважения к свободе совести депутаты не могут и не должны обсуждать представленного предложения. По прошествии всего нескольких дней придумали новое средство устрашить собрание с целью добиться его роспуска. Перестройка государства была окончена, народ собирались созвать, чтобы он избрал своих должностных лиц, – и тут-то придумали заставить французов в то же время избрать новых депутатов на место тех, из которых состояло настоящее собрание. Этот план был уже однажды предложен, обсужден – и отвергнут. Он был возобновлен в апреле 1790 года. Некоторые полномочия были даны на один год; собрание действительно заседало уже около года, так как было открыто в мае 1789 года, а теперь был апрель 1790-го. Хотя полномочия были объявлены недействительными и хотя члены собрания клятвенно обязались не расходиться до окончания работы над конституцией, эти люди, для которых не существовало ни декрета, ни клятвы, когда им нужно было идти к своей цели, предлагают принять меры к избранию новых депутатов и уступить им место. Мори, которому поручается это дело, исполняет его со своей обычной уверенностью и с большей против обыкновенного ловкостью. Он ссылается на верховную власть народа и говорит, что не может долее ставить себя на место нации и самовластно длить полномочие, данное ему на определенный срок. Он спрашивает, по какому праву собрание облекло себя правами верховной власти; утверждает, что различие между властью законодательной и учредительной есть пустая мечта, что облеченный верховной властью Конвент возможен только в отсутствие всякого правительства, и если собрание есть такой Конвент, то ему остается только низложить короля и упразднить престол. На этом месте его отовсюду прерывают крики негодования. Мирабо с достоинством встает. «Нас спрашивают, – говорит он, – с каких пор депутаты народа сделались Национальным конвентом? Я отвечаю: с того дня, когда, найдя вход в место своих заседаний занятым солдатами, они собрались в первом попавшемся месте и поклялись скорее погибнуть, чем предать и покинуть права нации. Наши полномочия, какими бы они ни были, в этот день приняли новый характер. Что бы мы ни делали после того в силу наших полномочий, всё это узаконено нашими усилиями, нашими трудами, освящено одобрением всей нации. Вы все помните слово, сказанное одним великим мужем древности, который пренебрег легальными формами, чтобы спасти отечество. На суровый вопрос неспокойного трибуна, соблюл ли он законы, он ответил: “Клянусь, я спас Отечество!” Господа! – восклицает Мирабо, обращаясь к депутатам общин. – Клянусь, вы спасли Францию!» Вслед за этим блистательным заключением собрание как бы по внезапному вдохновению закрывает прения и постановляет, что избирательные коллегии пока не будут заниматься избранием новых депутатов. Итак, это последнее средство тоже не подействовало, и собранию можно было продолжать свои труды. Но это не мешало смутам свирепствовать по всей Франции. Комендант Вуазен был убит народом; в Марселе Национальная гвардия силой заняла форты. В Ниме и Монтобане произошли события в противном духе. Туринские посланцы расшевелили католиков: они сочинили несколько адресов, в которых объявляли, что монархия в опасности, и требовали, чтобы католическая вера была признана государственным исповеданием.
 Клуб якобинцев
Клуб якобинцев
Тщетно на это отвечали королевской прокламацией – они и на нее написали возражение. Постоянно происходили столкновения протестантов с католиками, и последние, тщетно ждавшие подкреплений, обещанных из Турина, были наконец опрокинуты. Несколько отрядов гвардии двинулось на помощь патриотам против бунтовщиков; так завязалась борьба, и виконт Мирабо, отъявленный противник своего великого брата, сам провозгласил с кафедры междоусобную войну и движением своим, жестом, словом точно бросил ее в собрание. Таким образом, в то время как наиболее умеренные из депутатов старались унять революционную горячку, неразумная оппозиция возбуждала ее, хотя отдых мог бы ее успокоить, и снабжала предлогами самых ярых народных ораторов. Клубы впадали во всё большие преувеличения. Клуб якобинцев, происшедший из Бретонского, основанного в Версале, а потом переселившегося в Париж, превосходил все прочие численностью, талантами и неистовством. Он еще назывался клубом друзей конституции и получил название Клуба якобинцев, потому что собирался в Париже в одной из зал монастыря якобинцев, на улице Сент-Оноре. Заседания его были так же постоянны, как заседания самого собрания. Онвперед решал все вопросы, которые собранию предстояло обсуждать, и издавал заключения, становившиеся как бы предрешениями для самих законодателей. В клубе собирались главные народные депутаты, и самые упорные находили там силы и чувства. Лафайет, чтобы противодействовать этому страшному влиянию, сговорился с Байи и другими просвещенными людьми и основал другой клуб, названный сначала Клубом 89-го года, а потом – Клубом фельянов. Но средство это оказалось бессильно: собрание из какой-нибудь сотни спокойных и сведущих людей не могло привлечь толпу, как привлекал ее Клуб якобинцев, где народные страсти разнуздывались совершенно. Единственным средством стало бы закрыть все клубы, но двор был слишком неискренен и внушал слишком мало доверия, чтобы народная партия даже помыслила о таком средстве. Братья Ламеты царили в Клубе якобинцев. Мирабо бывал и в том и в другом: его место очевидно было между всеми партиями. Скоро представился случай, при котором роль Мирабо обозначилась еще яснее, и он одержал памятную победу в пользу монархии.
Глава V
Политическое положение и настроения иностранных держав в 1790 году – Уничтожение дворянских титулов – 14 июля – Планы двора и МирабоВ эпоху, до которой мы дошли, Французская революция начинала привлекать взоры иностранных государей. Она говорила так возвышенно, так твердо, она имела характер общности, так, по-видимому, привлекавший ее не к одному, а ко многим народам, что эти государи должны были не без тревоги глядеть на нее. Доселе можно было считать всё это мимолетным волнением, но успех собрания, его неожиданная твердость и в особенности будущность, которой оно задалось и которую предлагало всем нациям, должны были обратить на него уважение и вражду и доставить ему честь занимать собой кабинеты. Европа в то время была разделена на две большие неприятельские лиги: англо-прусский союз с одной стороны и императорские дворы с другой. Фридрих-Вильгельм последовал на прусском престоле за Фридрихом Великим. Этот вечно колеблющийся и бесхарактерный государь, вместо того чтобы продолжать политику своего великого предшественника, заменил союз с Францией союзом с Англией. Объединившись с этой державой, он образовал знаменитую англо-прусскую лигу, которая взялась за столько дел и ни одного не исполнила, которая подняла Швецию, Польшу и Турцию против России и Австрии, потом бросила их и даже приняла участие в разделе Польши. План Англии и Пруссии заключался в том, чтобы погубить Россию и Австрию, восстановив против них Швецию, где царствовал Густав, король-рыцарь, Польшу, уже раздраженную первым разделом, и Порту, раздраженную победами России. Главной целью Англии при этом было отмстить Франции, не объявляя ей войны, за помощь, оказанную ею американским колониям. Лучшим средством для этого, по мнению Англии, было стравить Турцию с Россией. Франция не могла оставаться нейтральной, не отчуждая от себя турок, которые на нее рассчитывали, и не теряя своего торгового господства на Востоке. С другой стороны, принимая участие в войне, она лишалась союза с Россией, с которой только что заключила чрезвычайно выгодный договор, обеспечивавший строевой лес и прочие материалы, которым север обильно снабжал морское ведомство. Так что и в том и в другом случае Франция должна была понести убытки, а Англия пока собиралась с силами и готовилась в случае нужды развернуть их. Впрочем, видя расстройство финансов во времена собрания нотаблей и народные беспорядки во времена Учредительного собрания, англичане понимали, что не нужно будет и войны, и предпочитали уничтожить Францию внутренними смутами, а не оружием. Действительно, Англию всегда обвиняли в потворстве французским раздорам. По милости этой англо-прусской лиги случилось несколько битв с равным для обеих сторон исходом. Густав как герой вышел из положения, на которое нарвался, как школьник. Английские интриги и прусские войска подчинили штатгальтеру восставшую против него Голландию. Ловкая Англия таким образом лишила Францию сильной морской союзницы, и прусский монарх, искавший только удовлетворения своему тщеславию, отмстил Голландии за оскорбление, нанесенное жене штатгальтера, его родной сестре[44]. Польша тоже была готова взяться за оружие. Турцию к тому времени победила Россия. Однако смерть австрийского императора Иосифа II, случившаяся в январе 1790 года, изменила всё. Преемником Иосифа стал Леопольд, тот самый миролюбивый и просвещенный государь, счастливое царствование которого благословляла Тоскана. Леопольд, не только мудрый, но и ловкий политик, хотел прекратить войну и для того прибег к ублажениям, всегда имевшим большое влияние на Фридриха-Вильгельма. Прусского короля стали соблазнять сладостью покоя, представили ему ужасы войны, так долго уже тяготевшей над его народом, наконец, опасности, которыми грозила Французская революция, провозглашавшая такие чудовищные принципы. В короле разбудили мечты о неограниченной власти, подавая ему надежду на возможность наказать французских революционеров, как он наказал голландских инсургентов, – и Фридрих дал себя увлечь в ту самую минуту, как должен был получить все ожидаемые выгоды от союза, так смело задуманного его министром Герцбергом. Мир был подписан в Рейхенбахе в июле 1790 года. В августе Россия, со своей стороны, заключила мир с Густавом и после того имела дело уже только с Польшей, далеко не страшной, да с турками, побитыми со всех, кажется, сторон.
Итак, внимание всех держав начинало почти исключительно обращаться на Французскую революцию. Незадолго до заключения мира между Пруссией и Леопольдом, когда англо-прусская лига грозила обоим императорским дворам и тайно интриговала против Франции и Испании, ее верной и неизменной союзницы, несколько английских кораблей оказались захвачены испанцами в бухте Нутка. Поднялся энергичный протест с требованием вознаграждения, а за ним последовало общее вооружение в портах Англии. Тогда Испания, основываясь на прежних договорах, потребовала у Франции помощи, и Людовик XVI приказал снарядить пятнадцать кораблей. Англию обвиняли в том, что она просто старается осложнить французские дела. Лондонские клубы, правда, несколько раз говорили любезности собранию, но кабинет предоставлял нескольким филантропам предаваться этим философским излияниям, а сам в это время платил деньги, как уверяют, тем странным агитаторам, которые появлялись всюду и создавали столько хлопот Национальной гвардии во всем государстве. Внутренние смуты еще усилились во время вооружения, и трудно было не видеть связи между угрозами Англии и усилением беспорядков. Лафайет, редко говоривший в собрании о других предметах, кроме касавшихся общественного спокойствия, в особенности обличал с кафедры присутствие тайного влияния. «Не могу, – сказал он однажды, – не обратить внимания собрания на это новое совместное брожение, обнаруживающееся от Страсбурга до Нима, от Бреста до Тулона. И напрасно враги народа хотели бы приписывать это брожение ему, тогда как оно носит все приметы тайного влияния. Доходит ли дело до устройства департаментов; опустошаются ли деревни и поля; вооружаются ли соседние державы – тотчас в наших арсеналах возникают беспорядки». Действительно, было убито несколько начальствующих лиц, и, случайно или выбору, погибли лучшие морские офицеры. Английский двор поручил своему посланнику опровергнуть эти обвинения. Но известно, какой веры заслуживают подобные заявления. Калонн тоже писал королю (в апреле 1790 года), чтобы оправдать Англию, но заступничество Калонна было весьма подозрительно. Он напрасно доказывал, что при представительном образе правления каждый расход на виду, что даже секретные расходы по крайней мере так и признаются секретными, а в английском бюджете такой статьи вовсе не имеется. Еще скорее говорит в пользу Англии то обстоятельство, что время ничего такого не раскрыло и Неккер, который по своему положению был в этом случае весьма компетентным судьей, никогда не верил в это тайное влияние, как это видно из сочинения его дочери, госпожи де Сталь, «Размышления о Французской революции». Король, как мы говорили выше, приказал известить собрание о своем намерении снарядить пятнадцать линейных кораблей, полагая, что оно одобрит эту меру и разрешит нужные расходы. Собрание как нельзя лучше приняло это сообщение, но усмотрело в нем конституционный вопрос, который сочло долгом разрешить, прежде чем ответить королю. «Меры уже приняты, – сказал Александр Ламет, – наши прения не могут их замедлить; поэтому нужно сперва в точности определить, кому из двух – королю или собранию – будет приписано право заключать мир и объявлять войну». Это был почти единственный важный атрибут, требовавший четкого определения, и вдобавок один из тех, которые должны были особенно заинтересовать все партии. В воображении каждого депутата роились примеры ошибок, совершенных дворами, их переходов от честолюбия к малодушию, и никому не хотелось оставлять за престолом право вовлекать нацию в опасные войны или позорить ее малодушными уступками. С другой стороны, из всех действий правительства дело войны и мира требует наиболее активной деятельности, на него исполнительная власть должна иметь наибольшее влияние; тут ей следует предоставить наибольшую свободу. Многие говорили, что Мирабо подкуплен двором, и вперед предсказывали его мнение. Что может быть лучше подобного случая, чтобы похитить у великого оратора его популярность, предмет общей зависти! Братья Ламеты это поняли и поручили Барнаву разбить Мирабо. Правая сторона отошла, так сказать, оставляя ристалище этим двум бойцам. Прений ждали с нетерпением. И вот они наконец открываются 14 мая (и продолжаются до 22-го). После нескольких ораторов, высказавших только предварительные соображения, Мирабо поднимается и ставит вопрос в совершенно новом свете. Война, по его словам, всегда есть дело непредвиденное; неприятельские действия начинаются прежде угроз. Король, на которого возложена забота об общественной безопасности, обязан отражать их – и война оказывается начатой прежде, нежели собрание успеет вмешаться. То же можно сказать и о мирных договорах: один король может уловить минуту, удобную для переговоров, конференций, споров с державами; собрание может только утверждать достигнутые условия. В том и другом случае может действовать один только король, а собрание может только одобрить или не одобрять его действия. Поэтому нужно, по мнению Мирабо, исполнительная власть обязана продолжать начатые неприятельские действия, а законодательная власть, смотря по обстоятельствам, будет допускать продолжение войны или требовать мира. Это мнение принимается рукоплесканиями, потому что голос Мирабо всегда вызывает их. Но вслед за ним встает Варнав и, не обращая внимания на прочих ораторов, возражает одному Мирабо. Он признает, что действительно меч нередко обнажается ранее, нежели можно спросить мнение собрания, но утверждает, что неприятельские действия еще не суть война, что король может отражать их и в то же время известить собрание, которое тогда в качестве верховной власти объявит свои взгляды и намерения. Стало быть, вся разница – в словах, потому что Мирабо признает за собранием право не одобрить войну и требовать мира, а Варнав – право объявить войну или мир. Но в том и другом случае воля собрания обязательна, и Варнав предоставлял ему не более того, что предоставлял Мирабо. Между тем Варнава осыпают рукоплесканиями, народ выносит его на руках, и при этом распространяют слух, что противник его продался. По улицам разносят и цитируют брошюру, озаглавленную «Великая измена графа Мирабо». Момент был решительный, каждый ждал от грозного воина усилия. Мирабо просит разрешения возражать, получает его, всходит на кафедру в присутствии громадной толпы и прямо объявляет, что не сойдет с кафедры иначе, чем мертвым или победителем. «Меня тоже носили на руках, – начинает он, – однако сегодня везде кричат о "Великой измене графа Мирабо". Мне не нужно было этого примера, чтобы узнать, что от Капитолия до Тарпейской скалы всего один шаг. Но эти удары, направляемые на меня снизу, не остановят меня в моем усилии». Вслед за этим величественным началом Мирабо объявляет, что будет отвечать одному Варнаву. «Объяснитесь, – говорит он ему, – вы предоставляете королю лишь извещать собрание о начавшихся военных действиях, а собранию одному даете право изъявлять по этому поводу национальную волю. На этом я вас останавливаю и приглашаю припомнить принятые нами принципы, согласно которым выражение национальной воли делится между собранием и королем… Предоставляя это право одному собранию, вы нарушаете конституцию, и я призываю вас к порядку… Вы не отвечаете; я продолжаю…» Действительно, отвечать было нечего. Барнав в продолжение всей длинной ответной речи Мирабо выдерживает все его громогласные заявления. Мирабо возражает попунктно и доказывает, что его противник дает собранию не более, чем он, с той только разницей, что, ограничивая роль короля простым извещением, Барнав лишает собрание его содействия, необходимого для выражения национальной воли. Мирабо кончает упреком Барнаву за преступное соперничество между людьми, которые должны бы действовать вместе, как настоящие товарищи по оружию. Барнав в своей речи перечислил сторонников своего мнения – Мирабо, в свою очередь, перечисляет своих сторонников; в числе их он приводит людей умеренных, первых основателей конституции, говоривших французам о свободе, «когда низкие клеветники сосут придворное молоко» (тут он указывает на Ламетов, принимавших благодеяния от королевы). «Людей, – присовокупляет Мирабо, – которые до гроба будут хвалимы и друзьями своими, и врагами». Великодушные рукоплескания покрыли голос Мирабо. В собрании имелось значительное число депутатов, не принадлежавших ни к правой, ни к левой стороне, принимавших решения под впечатлением минуты, без предвзятого намерения. Именно по их милости талант и разум получали перевес, потому что они, переходя на ту или другую сторону, составляли большинство. Барнав опять хотел ответить, но собрание не желало его больше слушать и потребовало голосования. Декрет, предложенный Мирабо и превосходно исправленный депутатом Шапелье, наконец, был принят 22 мая к общему удовольствию, так как это соперничество простиралось не далее кружка, в котором родилось, и народная партия рассчитывала на победу и с Мирабо, и с Ламетами. Декрет облекал короля и нацию правом заключать мир, объявлять и вести войну. Королю вверялось распоряжение военными силами, он же должен был извещать о начале военных действий, созывать собрание, если оно не было в сборе, и предлагать декрет касательно войны или мира. Шапелье прибавил весьма уместную поправку, требуя, чтобы королю предоставили право формально предложить декрет и окончательно утвердить его. Этот декрет, согласный со здравым смыслом и уже установленными принципами, возбудил искреннюю радость между приверженцами конституции и безумные надежды между врагами революции, которые вообразили, будто общественный дух изменится и им можно будет присвоить себе победу Мирабо. Лафайет, в этом случае присоединившийся к Мирабо, написал об этом Буйе, показал ему возможность спокойствия и умеренности в будущем и постарался, как он это делал всегда, примирить его с новыми порядками.
Собрание продолжало свои труды по финансовому вопросу. Они состояли в том, чтобы по возможности толковее распорядиться церковными имуществами, продаже которых, давно уже постановленной, не могли служить помехой ни протесты, ни церковные послания, ни интриги. Отнять у чрезмерно усилившегося сословия большую часть земли, по возможности лучше распределить ее, сделать таким образом землевладельцами значительное число людей из народа, доселе земли не имевшего, наконец, погасить той же операцией государственные долги и восстановить порядок в финансах – такова была цель собрания, и оно слишком живо сознавало полезность этой цели, чтобы пугаться препятствий. Депутаты постановили уже продать на четыреста миллионов государственных и церковных имуществ, но нужно было найти средство продать их, не убивая цену на них конкуренцией, то есть предложить в продажу не всё вдруг. Байи, от имени парижского муниципалитета, предложил прекрасно задуманный проект: передать имущество муниципалитетам, которые купили бы их оптом, чтобы потом по частям постепенно перепродавать. Муниципалитеты, не имея достаточных капиталов, чтобы заплатить сейчас же, должны были дать срочные обязательства, а государственные кредиторы получили бы не деньги, а билеты на имя общин, которые были бы обязаны уплачивать по этим билетам постепенно. Эти билеты, названные в прениях муниципальными бумагами, подали первую мысль об ассигнациях. По проекту Байи церковные имущества переходили из рук нынешних владельцев, разделялись между общинами, и кредиторы получали документы на муниципалитеты, а не на казну. Стало быть, обеспечение увеличивалось, так как срок придвигался ближе; от кредиторов даже зависело самим с собой расплатиться: стоило только на эти самые билеты или ассигнации купить собственную часть продаваемых имуществ. Этим было сделано много, но еще не всё. Кредиторы могли не желать обращать свои билеты в земли, из побуждений совести или по другой причине, и в этом случае билеты, не пущенные в оборот, должны были остаться у них в качестве невыкупленных залогов или долговых документов. Оставалась еще одна мера: пустить эти билеты в оборот: тогда они сделались бы настоящей монетой, а кредиторы, имея право ею платить, действительно получили бы следуемое им. К этому присовокуплялось еще одно решительное соображение. В звонкой монете чувствовался недостаток. Причина приписывалась эмиграции, увозившей много серебра и золота, уплатам, которые приходилось делать за границу, наконец, недоброжелательству. Настоящая же причина заключалась в недоверии, порождаемом беспрестанными смутами. Звонкая монета появляется вследствие циркуляции, при общем доверии, обмен идет чрезвычайно деятельно, деньги быстро переходят из рук в руки, фигурируют везде, и публика воображает, что звонкой монеты больше, потому что она живее уходит и приходит. Когда же вследствие политических смут распространяется страх, капиталы прячутся, звонкая монета двигается лениво, часто тоже прячется, и напрасно тогда думают, что ее нет. Желание заменить чем-нибудь металлические деньги, дать кредиторам в руки что-нибудь получше мертвого документа, а кроме того, необходимость удовлетворить множество вопиющих нужд – всё это заставило дать этим билетам, или ассигнациям, принудительный курс наравне с монетой. Кредитор, таким образом, получал свои деньги сполна, имея возможность заставлять других принимать их и этим исполнять все свои обязательства. Если он не хотел покупать земель, то те, кто получал от него билеты, должны были в итоге сами купить на них земли. Ассигнации, возвращавшиеся этим путем, назначались к сожжению, так что в скором времени церковные земли должны были разойтись по рукам, а бумага – исчезнуть. Ассигнации приносили проценты и приобретали лишнюю ценность, оставаясь у тех, у кого были в руках. Духовенство, видя в этой мере средство к практическому выполнению декрета о продаже его имуществ, всеми силами восстало против нее. Союзники его, дворяне и все враждебно относившиеся ко всему, что облегчало ход революции, тоже восстали и начали кричать, что хотят ввести бумажные деньги. Естественным образом было произнесено имя Джона Ло, а затем возникло воспоминание о его банкротстве. Однако это сравнение было неверным, потому что залогом бумаг Ло служил только будущий успех «Компании Индий»[45], тогда как ассигнации покоились на совсем иной почве – на земельном капитале, действительно существовавшем и доступном. Ло устраивал в пользу двора значительные подлоги и многократно превысил предполагаемую цифру капитала; собрание, напротив, при новых, установленных им формах, никак не могло допустить, чтобы подобные нечестные операции имели место. Наконец, вся сумма ассигнаций представляла лишь малую часть назначаемого для их обеспечения капитала. Но правда и то, что бумага, как бы она ни была верна, – все-таки не так верна, как деньги, не составляет, как сказал Байи, «физической реальности». Следовательно, в качестве финансовой меры выпуск ассигнаций вполне подлежал критике, но как политическая мера был необходим, потому что удовлетворял самую вопиющую нужду и разделял земли без помощи аграрного закона. Собрание не колебалось и, вопреки усилиям Мори и его партии, выпустило на четыреста миллионов обязательных ассигнаций с процентами.
Неккер давно уже утратил доверие короля, прежнее уважение своих товарищей и восторженную любовь нации. Он весь ушел в свои исчисления и лишь иногда спорил с собранием. Так как он никогда не высказывался по поводу чрезвычайных расходов, то собрание потребовало «красной книги»: так назывался знаменитый реестр, в который вносились все секретные расходы. Людовик XVI с трудом на это согласился и велел заклеить листки, на которых были записаны секретные расходы его предшественника, Людовика XV. Собрание уважило его деликатность и просматривало расходы одного текущего царствования. В этом списке не оказалось ничего, лично касавшегося короля; вся расточительность была в пользу придворных. На имя Ламетов, между прочим, было записано шестьдесят тысяч франков, посвященных королевой их воспитанию. Братья возвратили эту сумму в казначейство. Пенсии были сокращены сообразно оказанным услугам и прежнему положению лиц, получавших их. Депутаты во всем выказали величайшую умеренность; они просили короля, чтобы он сам назначил сумму, которой желал ежегодно располагать, и без прений утвердили потребованные им двадцать пять миллионов. Это собрание, сильное своим числом, просвещенностью, могуществом, своими твердыми решениями, задумало громадный проект: возродить государство во всех его частях. Недавно депутаты учредили новые судебные порядки. Они распределили суды так же, как администрацию, по округам и департаментам. Избирать судей предоставлялось народу. Эта последняя мера встретила сильное сопротивление. Политическая метафизика и тут была пущена в ход, чтобы доказать, что судебная власть проистекает из власти исполнительной, а потому избирать судей надлежит королю. У той и другой стороны нашлось немало доводов, но единственный, который смог подействовать на собрание, намеревавшееся создать монархию, состоял в том, что королевская власть, лишенная всех своих атрибутов, становилась простой должностью, а государство – республикой. Но сказать, что такое именно монархия, было бы слишком смело, она требует уступок, на которые французский народ не мог согласиться в первую минуту своего пробуждения. Собрание искренне хотело, чтобы был король, депутаты относились к нему с полным уважением и доказывали это каждую минуту, но, само того не зная, они любили личность короля и в то же время разрушали значение титула. После введения единства в систему судов и администрацию оставалось еще урегулировать церковную часть и организовать ее наравне с другими. Так, например, учредив в каждом департаменте апелляционный суд и высшую административную инстанцию, естественно было учредить там же и епископскую кафедру. Действительно, как было допустить, чтобы в некоторых епархиях насчитывалось полторы тысячи квадратных миль, а в других – двадцать? Чтобы одни приходы имели десять лье в окружности, тогда как в других едва насчитывалось пятнадцать жилых строений? Чтобы многие приходские священники получали едва семьсот ливров ежегодного содержания, тогда как другие, рядом, получали десять и пятнадцать тысяч ливров дохода? Собрание, отменяя злоупотребления и вводя реформы, нисколько не посягало ни на церковное учение, ни на папскую власть, так как право обозначать пределы епархии или прихода всегда принадлежало светской власти. Оно только хотело ввести новое разделение и восстановить древний способ назначения епископов и приходских священников – народное избрание, и в этом также касалось только прав светской власти, так как епископы всегда избирались королем и только утверждались папой. Этот проект, названный проектом гражданского устройства духовенства и больше всего послуживший к злопыхательству в адрес собрания, однако, был плодом трудов благочестивейших из депутатов: Камю и других янсенистов, которые, желая укрепить религию, старались согласовать ее с новыми законами. Не подлежит сомнению, что если уж восстанавливать справедливость во всем, то странно было бы изгнать ее из одного церковного ведомства. Не будь Камю и нескольких других, члены собрания, последователи философов, отнеслись бы к христианству так же, как и к другим вероисповеданиям, разрешенным в государстве, то есть вовсе бы им не занялись. Они сделали уступку убеждениям, против которых при наших новейших нравах не принято восставать, даже не разделяя их, и только поэтому поддержали благочестивый проект Камю. Духовенство восстало против проекта, утверждая, будто он посягает на духовную власть папы, и апеллировало к Риму. Несмотря на это, основные статьи проекта были приняты (на заседании 12 июля) и тотчас же представлены королю, который просил времени, чтобы снестись на счет их с Римом. По своему просвещенному благочестию Людовик признавал разумность этого плана и писал папе с искренним желанием получить его согласие и этим заставить замолчать духовенство. Мы скоро увидим, какие интриги помешали исполнению его желания.
Наступал июль – годовщина взятия Бастилии, год с тех пор, как нация овладела властью, изъявляла свою волю через собрание и исполняла ее сама или наблюдала за ее исполнением. Четырнадцатое июля считалось началом новой эры, и было решено торжественно отметить годовщину этого дня. Провинции, города уже подали пример объединения с целью сопротивления общим врагам революции. Муниципалитет Парижа предложил отметить 14 июля объединение всей Франции: чтобы это событие было отпраздновано в столице депутациями от всех национальных гвардий и всех корпусов армии. Проект этот был принят с восторгом, и приготовления начались в огромных масштабах: все желали, чтобы празднество оказалось достойно своей цели. Иностранные державы, как мы уже говорили выше, давно не сводили взоров с Франции; правительства начинали ее бояться и ненавидеть, а народы – уважать. Значительное число восторженных иностранцев явились в собрание, каждый в своем национальном костюме. Их оратор Анахарсис Клоотс, пруссак, одаренный сумасбродным воображением, выразил от имени всего человеческого рода желание быть принятым в эту вновь образовавшуюся федерацию. Такие сцены кажутся смешными людям, которые их не видели, но глубоко потрясают присутствующих. Собрание согласилось на это желание, и президент ответил иностранцам, что они будут приняты, дабы могли рассказать своим соотечественникам об увиденном и описать радости и блага свободы. Волнение, произведенное этой сценой, стало причиной для другой. Одна конная статуя Людовика XIV изображала этого государя попиравшим фигуры, символизирующие побежденные им провинции. «Не следует терпеть эти памятники рабства в дни свободы, – восклицает один из Ламетов. – Уроженцы Франш-Конте, придя в Париж, не должны видеть свое изображение в цепях». Мори восстает против этой маловажной меры, которой следовало потешить народный восторг. В то же мгновение кто-то предлагает уничтожить все титулы – графа, маркиза, барона и прочие, запретить ливреи, наконец, уничтожить вообще все наследственные титулы. Молодой Монморанси поддерживает это предложение. Один депутат спрашивает, чем будут заменены слова «такой-то возведен в графское достоинство за услуги, оказанные государству»? «Будет сказано просто: “Такой-то в такой-то день спас государство”», – отвечает Ламет. Декрет был принят (на заседании 19 июня) вопреки чрезвычайному раздражению дворянства, которое негодовало по поводу лишения себя титулов сильнее, нежели по поводу гораздо более существенных потерь, понесенных им с начала революции. Наиболее умеренные из членов собрания предлагали, чтобы, несмотря на уничтожение титулов, желающим было предоставлено право носить их. Лафайет поспешил известить двор, прежде чем декрет был представлен королю на утверждение, и советовал послать его обратно собранию, так как оно согласно сделать в нем поправки. Но король решил утвердить декрет, и в этой поспешности многие увидели желание довести дело до худшей крайности. Поводом к Федерации послужила гражданская присяга. Возник вопрос: должны ли федераты и собрание приносить эту присягу королю, или король, в качестве первого государственного сановника, должен вместе со всеми сам присягнуть на Алтаре Отечества? Последнему способу было отдано предпочтение. Депутаты кончили тем, что и этикет согласовали со своими законами, и королю в предстоящем торжестве была указана роль, соответствовавшая его значению в конституции. Двор, которому Лафайет внушал неодолимое недоверие, испугался распускаемого в то время слуха, будто он назначен главнокомандующим всех национальных гвардий во всем королевстве. Для людей, не знавших Лафайета, это недоверие было естественно, и враги его со всех сторон только и старались усилить это недоверие. В самом деле, как уверить себя, что человек, пользующийся такой популярностью, начальник такой значительной военной силы, не имеет намерения употребить всё это во зло? А между тем Лафайет действительно не имел этого намерения. Он твердо решился быть только гражданином, а из добродетели или из честолюбивого, но верного расчета – заслуга та же. С целью предупредить опасения двора Лафайет предложил, чтобы один и тот же человек мог командовать гвардией лишь одного департамента. Декрет был принят с восхищением, и восторженные рукоплескания наградили генерала за бескорыстие. Тому же Лафайету поручили всю распорядительную часть по ожидаемому празднеству, и он был избран главой Федерации в качестве начальника Парижской национальной гвардии.
Наступал великий день, и приготовления велись чрезвычайно деятельно. Празднество должно было состояться на Марсовом поле – обширном пространстве, лежавшем между Военной школой и Сеной. Было задумано углубить середину и из вырытой земли сделать по сторонам насыпи, чтобы образовался амфитеатр, могущий вместить всю массу зрителей. Двенадцать тысяч человек работали без устали, и все-таки можно было опасаться, что работы не будут окончены к 14-му. Тогда сами жители вызвались участвовать в работах. Мгновенно всё население превратилось в рабочих. Монахи, военные, люди всех сословий, изящно одетые женщины взялись за лопаты. Увлечение вскоре сделалось всеобщим; жители отправлялись к Марсовому полю целыми кварталами, с разноцветными знаменами, с барабанным боем. Там работали все вместе, без различия. Когда наступала ночь, каждый возвращался к своим и все расходились по домам. Это доброе согласие продолжалось до окончания работ. В то же время беспрестанно прибывали и были принимаемы с величайшим радушием и гостеприимством федераты. Радость была общей и искренней, несмотря на тревожные слухи, распускаемые людьми, не тронутыми общими чувствами. Говорили, что разбойники воспользуются тем временем, когда весь народ будет на празднестве, чтобы разграбить город. Пагубные замыслы подозревали и за герцогом Орлеанским, возвратившимся из Лондона. Однако народное веселье ничем не нарушилось, и ни одному из этих злобных прорицаний не поверили. Наконец наступает 14 июля. Все депутации от провинций и армий, со знаменами, по порядку, отправляются от площади Бастилии в Тюильри. Депутаты Беарна, проходя по улице Ферронри, где был убит Генрих IV, настолько тронуты этим воспоминанием, что при общем волнении проливают слезы. Дойдя до сада Тюильри, шествие принимает в свои ряды муниципалитет и собрание. Впереди депутатов идет целый батальон мальчиков, вооруженных как взрослые; вслед за депутатами идет группа стариков, напоминая античные нравы Спарты. Шествие движется среди криков народа и рукоплесканий. Набережные заняты зрителями, дома заполнены ими до крыш. Мост, в несколько дней переброшенный через Сену, весь усыпанный цветами, ведет с одного берега на другой, прямо к Марсову полю. Пройдя его, шествие размещается на нем: великолепный амфитеатр, устроенный на дальнем конце поля, предназначался национальным властям. Король и президент собрания садятся рядом, в одинаковые кресла, усеянные золотыми лилиями. На высоком балконе за королем помещаются королева и двор. Министры располагаются на некотором расстоянии от короля, а депутаты садятся рядами по обеим сторонам. Четыреста тысяч зрителей наполняют боковые амфитеатры; шестьдесят тысяч вооруженных федератов совершают маневры на поле, посередине которого, на постаменте, имеющем двадцать пять футов высоты, воздвигнут великолепный Алтарь Отечества. Триста священников в белых стихарях и трехцветных шарфах стоят на ступенях к нему: они будут служить обедню. Федераты собираются целых три часа. Всё это время небо покрыто темными тучами и дождь льет рекой: небо, свет которого так украшает человеческую жизнь, в этот день отказывает людям в солнце и ясности. Один из пришедших батальонов складывает оружие и устраивает пляску; все тотчас же следуют его примеру, и зрители видят странное зрелище: пляску в дождь и грозу шестидесяти тысяч человек. Наконец начинается церемония; небо, по счастливой случайности, проясняется и озаряет торжественное священнодействие. Талейран начинает обедню; хоры отвечают его голосу, пушка примешивает к ним свои грозные звуки. По окончании богослужения Лафайет слезает с лошади, всходит на ступени престола и ожидает приказаний короля, который вручает ему формулу присяги. Лафайет несет ее на алтарь, и в эту минуту все знамена шевелятся, все шпаги сверкают. Генерал, армия, президент, депутаты кричат: «Клянусь!» Король, стоя, с рукой, простертой к алтарю, говорит: «Я, король французов, клянусь применять власть, вверенную мне конституционным актом государства, на то, чтобы охранять конституцию, составленную Национальным собранием и принятую мной». В это мгновение королева, увлеченная общим порывом, хватает на руки сына, наследника престола, и с балкона показывает его собравшимся. На это движение отвечают исступленные крики радости, любви и восторга, и все сердца стремятся к матери и ребенку. Эта сцена происходила в то самое мгновение, когда вся Франция в лице своих сынов, собравшихся в восьмидесяти трех главных городах департаментов, клялась любить короля, который обещал ее защищать. Увы! В такие минуты даже ненависть смягчается, гордость стихает, все счастливы общим счастьем и горды общим достоинством. Зачем только глубокое наслаждение, которое доставляет согласие, так скоро забывается!
 Праздник Федерации
Праздник Федерации
По окончании величественного обряда шествие вновь тронулось в путь, и народ без стеснения предался выражению радости. Увеселения длились несколько дней. Устроили общий смотр федератов: шестьдесят тысяч человек под ружьем представляли собой великолепное зрелище в военном и национальном плане. Вечером в Париже начался прелестный праздник. Главное место сбора было на Елисейских Полях и на площади Бастилии. На этой площади, где еще недавно помещалась древняя крепость, теперь красовалась надпись «Здесь танцуют». Блестящее освещение, созданное огненными гирляндами, заменяло дневной свет. Экипажам запретили нарушать своим движением этот мирный праздник. Все в эти дни должны были стать народом и быть этим довольными. Федераты, после того как побывали на величественных заседаниях собрания, осмотрели великолепие Парижа, поприсутствовали на пышных придворных празднествах и посетили короля, от которого выслушали трогательные выражения доброжелательности и милости, возвратились к себе упоенные, исполненные добрых чувств и иллюзий. После стольких душераздирающих сцен, собираясь описывать сцены еще более ужасные, историк с наслаждением останавливается на этих немногих часах, столь быстротечных, когда все сердца были воодушевлены одним чувством – любовью к общественному благу.
Трогательное празднество Федерации стало лишь мимолетным душевным движением. На следующий день все хотели того же, чего хотели и прежде, – и война началась снова. Опять продолжились мелкие дрязги с правительством. Собрание осталось недовольно тем, что кабинет позволил пройти через французскую территорию австрийским войскам, отправлявшимся в Люттих; депутаты обвинили министра Сен-При в потворстве бегству нескольких лиц, подозреваемых в контрреволюционных махинациях. Двор, со своей стороны, возобновил в суде Шатле преследование зачинщиков беспорядков 5 и 6 октября. В беспорядках были замешаны герцог Орлеанский и Мирабо. Это странное преследование, несколько раз прерываемое и вновь возобновляемое, отражало различные влияния, под которыми велось. Оно было полно противоречий и не представляло достаточных данных против двух главных обвиняемых. Двор, хоть и заискивал перед Мирабо, не держался относительно него последовательного плана, то сближаясь, то отходя, и старался скорее задобрить Мирабо, нежели следовать его советам. Возобновляя дело по поводу 5 и 6 октября, двор преследовал не Мирабо, а герцога Орлеанского, который был горячо встречен народом по возвращении из Лондона и жестоко отвергнут двором, когда герцог попросил, чтобы король снова принял его. Шабру должен был составить по этому делу доклад собранию, чтобы оно могло судить, есть ли основания для обвинения или таковых не имеется. Двор желал, чтобы Мирабо промолчал и оставил герцога Орлеанского справляться в одиночку, так как вражда двора была обращена исключительно на герцога. Но Мирабо, напротив, говорил и ясно показал, как смешны нападки на него. В самом деле, его обвиняли в том, будто он известил Мунье, что Париж идет на Версаль, и присовокупил при этом следующие слова: «Мы хотим короля, но будет ли это Людовик XVI или Людовик XVII – неважно!» Будто он ходил по Фландрскому полку с саблей в руке и воскликнул, когда уезжал герцог Орлеанский: «Он не стоит того, чтобы ему отдаться!» Ничто не могло быть ничтожнее подобных обвинений. Мирабо показал всю их безосновательность и нелепость, о герцоге Орлеанском сказал лишь несколько слов и в заключение воскликнул: «Да, загадка этого адского преследования наконец разгадана: разгадка вся тут (указывая на правую сторону); она в интересах тех, кто своими показаниями и клеветой образовали его ткань; она в оружии, которым это преследование снабдило врагов революции; она… она в сердцах судей, чувства которых скоро будут высечены в истории резцом справедливейшего и непримиримейшего мщения!» Рукоплескания проводили Мирабо до его места. Оба обвиняемых были объявлены собранием не подлежавшими обвинению, и двору достался стыд бесполезной попытки.
Революция должна была свершиться везде – в армии так же, как и в народе. Армия, последняя опора власти, внушала последний страх народной армии. Все военные вожди являлись врагами революции, потому что, будучи исключительными обладателями чинов и милостей, они вдруг увидели, что личные заслуги разрешают разделить с ними эти блага. По той же, или, пожалуй, обратной причине, солдаты склонялись на сторону новых порядков, и нет сомнения, что ненависть к дисциплине и желание получать более высокое жалованье так же сильно на них действовали, как и влияние нового духа свободы. Почти во всей армии обнаруживалась опасная инсубор-динация. Пехота в особенности, может быть, потому, что она больше смешивается с народом и надменна менее конницы, находилась в состоянии общего мятежа. Буйе, который с прискорбием видел, что армия совсем выходит из повиновения, применял всевозможные средства, чтобы остановить эту революционную заразу. Он получил от военного министра Латур дю Пена обширнейшие полномочия и пользовался ими, чтобы беспрестанно перемещать свои войска и не давать им слишком сближаться с народом продолжительным пребыванием в одном месте. Буйе в особенности запрещал им посещать клубы, словом, не упускал ничего, чтобы подтянуть военную дисциплину. Он долго колебался, однако кончил тем, что присягнул конституции и, так как это был человек вполне честный, с этой минуты, по-видимому, решился оставаться верным и королю, и конституции. Свое отвращение к Лафайету, бескорыстие которого нельзя было не признать, Буйе наконец преодолел и был расположен договориться с ним. Национальные гвардии обширной части страны, в которой он был военным начальником, хотели избрать его своим главнокомандующим; он сначала отказался, а потом жалел, думая о том, сколько мог бы сделать добра. Несмотря на это, вопреки даже нескольким доносам на него со стороны клубов, Буйе продолжал пользоваться в народе популярностью.
Бунт вспыхнул сначала в Меце. Солдаты заперли своих офицеров, овладели знаменами и кассами и даже хотели заставить муниципалитеты им помогать. Буйе подвергся большой опасности, но ему удалось подавить восстание. Вскоре такой же бунт случился в Нанси. В нем участвовало несколько швейцарских полков, и имелся повод опасаться, что если другие последуют этому примеру, то всё королевство будет предано неистовствам солдат и черни. Само собрание содрогнулось. Один офицер был послан с декретом, изданным против мятежников. Он не смог добиться его исполнения, и Буйе получил приказ идти на Нанси, чтобы силой исполнить декрет. У него было не много солдат, на которых он мог бы положиться, но, к счастью, войска, недавно бунтовавшие в Меце и огорченные тем, что он не смел на них положиться, сами вызвались идти против мятежников. Национальные гвардии тоже предложили свои услуги, и с этими соединенными силами и довольно многочисленной конницей Буйе двинулся к Нанси. Его положение было затруднительным, потому что он не мог пустить в ход кавалерию, а пехоты было мало для нападения на мятежников, поддерживаемых чернью. Он заговорил с бунтовщиками с большой твердостью и произвел на них большое впечатление. Они даже готовы были уступить и выйти из города, как вдруг прозвучало несколько выстрелов – неизвестно, с какой стороны. Тут уже нельзя было миновать сражения, и оно произошло 31 августа. Войска Буйе, предполагая измену, дрались с большим жаром; но и неприятель продемонстрировал большое упорство, так что войска двигались средиубийственного огня лишь шаг за шагом. Овладев наконец главными площадями города, Буйе добился того, что мятежные полки покорились и вышли из города. Тогда он выпустил офицеров и городские власти, запертые бунтовщиками, велел отобрать главнейших виновных и выдал их собранию. Эта победа всех обрадовала и успокоила опасения, возникшие касательно спокойствия всего королевства. Буйе принял от короля и собрания поздравления и похвалы, однако впоследствии подвергся клеветническим наветам и был обвинен в жестокости. Но это неверно: поведение его оставалось безукоризненным и было признано таковым. Король расширил пределы подначального Буйе края, который после того простирался уже на всем протяжении границы от Швейцарии до реки Самбры. Буйе, более рассчитывая на кавалерию, нежели на пехоту, расположился квартирой на берегах реки Сейль, впадающей в Мозель. Там имелись равнины, на которых конница могла действовать свободно, вдоволь фуража для лошадей, достаточно укрепленные города, в которых можно укрыться, а главное – мало населения, а стало быть, повода к опасениям. Буйе имел твердое намерение не предпринимать ничего против конституции, но не доверял патриотам и принимал предосторожности, чтобы иметь возможность прийти на помощь королю, если обстоятельства этого потребуют. Уничтожив парламенты и цеха и учредив суд присяжных, собрание готовилось выпустить новую серию ассигнаций. Так как церковные имущества представляли громадный капитал, а ассигнации давали возможность этим капиталом всегда располагать, то вполне естественно было пользоваться им. Все прежние возражения были при этом случае возобновлены с большей силой. Даже Талейран высказался против нового выпуска и весьма метко предсказал все финансовые результаты этой меры. Мирабо, имея в виду прежде всего политические результаты, упорно отстаивал ее и настоял на своем. Собрание постановило выпустить ассигнаций на восемьсот миллионов, и на этот раз было решено, что они не будут приносить процентов. В самом деле, прибавлять проценты к монете совершенно бесполезно. Вполне справедливо обеспечивать таким образом бумагу, не могущую попасть в оборот, а остающуюся в праздности на руках у владельца, но как только бумага получает действительную и непосредственную цену благодаря принудительному курсу, это становится нелепостью. И собрание не повторило такой ошибки. Неккер противился этому вторичному выпуску и прислал об этом записку, которая была оставлена без внимания. Времена для него сильно изменились. Он уже не был тем любимым министром, с которым считал неразлучно связанным свое благополучие народ еще год тому назад. Лишившись доверия короля, рассорившись со всеми товарищами, кроме Монморена, он и у собрания был в пренебрежении – оно не оказывало ему того внимания, которого он вправе был ожидать. Ошибка Неккера заключалась в том, что он воображал, будто разума должно хватить на всё и, выраженный в соединении с чувством и логикой, он должен торжествовать над упрямством аристократов и раздражением патриотов. Неккер обладал тем несколько надменным разумом, который судит об уклонениях страстей и порицает их, но у него недоставало другого разума, более возвышенного и менее гордого, который умеет не только осуждать страсти, но и руководить ими. Поэтому, поставленный посреди разошедшихся страстей, он всем сделался только помехой, а ни одной не мог обуздать. Оставшись без друзей после удаления Мунье и Лалли, Неккер сохранил одного бесполезного Малуэ. Он оскорблял собрание тем, что беспрестанно и с укоризною напоминал ему о самой тяжкой из всех забот – о финансах; кроме того, он сделался смешон тем, как выражался о самом себе. Когда 4 сентября он подал в отставку, все партии остались этим весьма довольны. Карета Неккера была остановлена на границе тем самым народом, который так недавно нес ее на руках, и потребовался приказ собрания, чтобы выпустить его в Швейцарию. Он удалился в Коппе и продолжал издали наблюдать за революцией: эта роль была гораздо более по нем, нежели роль руководителя. Правительство впало в совершенное ничтожество, оставшись под исключительным надзором короля, и занималось лишь интригами – или бесполезными, или преступными. Сен-При поддерживал сношения с эмигрантами; Латур дю Пен исполнял все прихоти военных начальников; Монморен пользовался уважением, но не доверием двора и служил посредником в интригах с народными вождями, так как, по своей умеренности, имел с ними сношения. На всех министров посыпались обличения по поводу новых козней и заговоров. «Я тоже стал бы обличать их, – однажды воскликнул Казалес, – если бы великодушие дозволяло преследовать таких бессильных людей. Я бы обвинил министра финансов в том, что он не просветил собрание насчет действительных средств государства; министра военного – в том, что он распустил дисциплину в армии; министра внутренних дел – что он не заставил уважать приказания короля; наконец, всех – в ничтожестве и подлых советах, данных ими государю». Бездействие на глазах партий, стремящихся каждая к своей цели, – преступление. Поэтому правая сторона винила министров не в том, что они сделали, а в том, чего не сделали. В то же время Казалес и его приверженцы хоть и ругали министров, однако не хотели, чтобы собрание потребовало у короля их удаления, потому что считали такое требование посягательством на королевские прерогативы. Впрочем, министры и без того один за другим подали в отставку, кроме Монморена, который остался в одиночестве. Дюпор-Дютертр, простой адвокат, был назначен хранителем государственной печати. Дюпорталь, указанный королю Лафайетом, заменил Латур дю Пена в военном министерстве и выказал большее расположение к народному делу. Одна из первых мер его заключалась в лишении Буйе почти всей свободы действий, которой тот пользовался в подначальном ему крае и в особенности – власти перемещать войска по своему усмотрению.
Король давно уже специально занимался историей Английской революции. Участь Карла I всегда сильно поражала его, и он не мог отделаться от мрачных предчувствий. Людовик в особенности отметил ближайший повод к казни этого короля – поводом этим была междоусобная война. Вследствие этого он возымел неодолимое отвращение ко всякой мере, которая могла бы вести к кровопролитию, и всегда противился всем планам бегства, предлагаемым Марией-Антуанеттой и двором. В течение лета, проведенного в Сен-Клу, он мог бы бежать, но не хотел и слышать об этом. Друзья конституции, также как и он, боялись этого средства, потому что оно легко могло привести к междоусобной войне. Одни аристократы его желали, потому что, удалив короля от собрания, получили бы полную власть над ним и надеялись управлять от его имени и вернуться вместе с ним во главе иноземных войск, не зная того, что эмигранты никогда не могут стать главою, а только хвостом иноземной армии. К аристократам присоединялись, может быть, еще несколько горячих голов, уже начинавших мечтать о республике, о которой никто еще не думал; самое слово это еще не произносилось – разве только королевой, во время ее вспышек против Лафайета и собрания, которых она обвиняла в стремлении к республике всеми силами души. Лафайет, начальник конституционной армии и вождь всех искренних друзей свободы, неустанно охранял особу короля. Эти два понятия – отъезд короля и междоусобная война – были так тесно связаны в умах с самого начала революции, что все смотрели на этот отъезд как на величайшее из возможных бедствий. Между тем удаление правительства, которое если и не пользовалось его доверием, однако всё же было им выбрано, неприятно настроило короля относительно собрания и внушило ему опасения лишиться исполнительной власти вовсе. Новые религиозные прения, возникшие вследствие недобросовестности духовенства по поводу гражданского устройства, испугали его боязливую совесть, и с этой поры Людовик начал помышлять об отъезде. В конце 1790 года он написал об этом к Буйе, который сначала не соглашался, но потом уступил, чтобы несчастный государь не засомневался в его усердии. Мирабо, со своей стороны, придумал план для укрепления монархии. Он находился в постоянных сношениях с Монмореном, но до сих пор еще ничего серьезного не предпринимал, потому что двор, колеблясь между иноземцами, эмиграцией и национальной партией, ничего искренне не хотел и из всех возможных средств больше всего боялся того, которое подчинило бы его такому искреннему блюстителю конституции, как Мирабо. Однако около этого времени Мирабо было обещано всё, чего он захочет, если только план его удастся, и в его распоряжение были отданы все возможные средства. Мирабо не вполне одобрял новую конституцию. Для монархии он ее находил слишком демократической, а для республики она содержала одну лишнюю статью – короля. Видя вдобавок, что народная волна бьет через край и всё растет, он решился остановить ее. В Париже, под давлением толпы и всемогущего собрания, никакая попытка не была возможна. Поэтому Мирабо видел одно средство: перевезти короля в Лион. Там он мог высказаться, энергично изложить причины, по которым недоволен новой конституцией, и ждать другую, приготовленную заранее. В то же время было бы созвано первое Законодательное собрание. Мирабо в своих письменных сношениях с наиболее популярными депутатами сумел вырвать у всех выражение неодобрения хотя бы одной из статей конституции. По сопоставлении этих различных мнений вся конституция оказывалась негодной по приговору ее же авторов. Мирабо хотел приложить эти мнения к королевскому манифесту, чтобы усилить его действие и лучше дать почувствовать необходимость новой конституции. Неизвестны все средства, которыми он располагал для исполнения этого плана. Известно только, что через посредство начальника полиции Талона он приготовил памфлетистов и клубных и даже уличных ораторов и при помощи своей обширной переписки должен был обеспечить себе содействие тридцати шести южных департаментов. Мирабо, без сомнения, думал воспользоваться помощью Буйе, но не хотел целиком попадать под его власть. Пока Буйе стоял лагерем в Монмеди, он хотел, чтобы король жил в Лионе, а сам должен был, смотря по обстоятельствам, ездить то в Лион, то в Париж. Один высокопоставленный иностранец, друг Мирабо, виделся с Буйе от имени короля и сообщил ему весь проект, но тайно от Мирабо, который вовсе не желал посвящать Буйе в свои планы. Буйе, пораженный идеей Мирабо, сказал, что необходимо привязать к себе подобного человека во что бы то ни стало и что он, со своей стороны, готов всеми средствами оказывать ему помощь. Лафайет не знал об этом плане. Всем было известно, что Лафайет способен идти только прямой дорогой, а задуманный план был слишком смел и слишком отклонялся от легальных путей, чтобы понравиться ему. Как бы там ни было, Мирабо непременно хотел быть единственным исполнителем своего плана и, в самом деле, один претворял его в жизнь в течение всей зимы 1790–1791 года. Неизвестно, имел бы он успех; во всяком случае, несомненно то, что, не обращая революционного потока вспять, он повлиял бы на направление и, не изменяя неминуемых результатов такой революции, изменил бы отчасти ход событий своей могучей оппозицией. До сих пор не решен вопрос, мог бы Мирабо, даже если бы ему посчастливилось укротить народную партию, совладать с аристократией и двором. Когда один из его близких сделал ему это последнее возражение, Мирабо ответил: – Они мне все обещали. – А если не сдержат слова? – А не сдержат, так я им устрою республику.
Главнейшие статьи уложения о гражданском устройстве духовенства – новое разграничение епархий, назначение церковных должностных лиц по выбору и прочее – были уже постановлены. Король написал по поводу этого папе римскому, а папа, ответив ему в тоне полустрогом-полуотеческом, в свою очередь, связался с французским духовенством. Духовенство же воспользовалось случаем и объявило, что духовные права его в опасности вследствие мер, принятых собранием. В то же время священники разослали пастырские послания, объявили, что упраздненные епископы сойдут со своих кафедр лишь по принуждению, что они будут снимать дома и там продолжать отправление своих церковно-служебных обязанностей, что верующие, не совратившиеся с пути, должны обращаться исключительно к ним. Духовенство с особенным усердием интриговало в Вандее и в некоторых департаментах юга, где действовало заодно с эмигрантами. В Жале в начале сентября образовался федеративный лагерь, где мнимые федераты хотели устроить центр оппозиции. Народная партия рассердилась на эти происки и, в сознании своего могущества наскучив вечной умеренностью, приняла решительные меры. Мы выше видели причины, побудившие к принятию так называемой гражданской конституции. Эту конституцию сочинили самые искренние христиане из членов собрания и теперь, раздраженные несправедливым сопротивлением, решились победить его. Известно, что все общественные должностные лица были обязаны присягнуть новой конституции. Когда речь шла об этой гражданской присяге, духовенство проводило отличие между конституцией политической и церковной, но это оставлялось без внимания. На этот раз, однако, собрание решило требовать от духовных лиц строгой присяги, которая поставила бы их перед необходимостью удалиться, если бы они ее не дали, и обязывала добросовестно исполнять свои обязанности. Депутаты при этом не преминули заявить, что не намерены насиловать ничьей совести, что с полным уважением отнесутся к отказу тех, кто не захочет дать требуемую присягу, считая, что новые законы угрожают религии, но что им нужно знать их, чтобы не вверять им новых епархий. В этом случае притязания их были справедливы и откровенно высказаны. К декрету присовокуплялось, что те, кто откажутся дать присягу, не получат ни мест, ни содержания; кроме того постановлялось, что все депутаты из духовенства, чтобы подать пример, должны дать новую присягу неделю спустя после утверждения декрета. Правая сторона против этого восстала. Мори неистовствовал и делал всё возможное, чтобы его перебивали и дали повод жаловаться. Александр Ламет, занимавший президентское кресло, позволил Мори говорить и лишил его удовольствия быть изгнанным с кафедры. Мирабо превзошел себя, защищая собрание. «Вас называют гонителями религии! – воскликнул он. – Вас, которые принесли ей такую благородную, трогательную дань в лучшем из ваших декретов! Вас, посвящающих отправлению ее служб суммы из общественных денег, тогда как вы эти деньги по справедливости и мудрой осторожности так бережете! Вас, которые религию сделали причастной к разделению государства и водрузили знамение креста на границах всех департаментов! Вас, которые, наконец, знают, что вера так же необходима человеку, как свобода!..» Собрание декретом 27 ноября постановило присягу. Король тотчас же сообщил об этом Риму. Архиепископ Экский, сначала восстававший против гражданской конституции, чувствуя необходимость примирения, вместе с королем и несколькими наиболее умеренными товарищами просил согласия папы. Туринские эмигранты и епископы, составлявшие оппозицию, написали в Рим в противном смысле, и папа, под разными предлогами, оттянул ответ. Собрание, раздраженное этими проволочками, настоятельно требовало королевского утверждения, а король, хотя в душе решился уступить, хитрил – по обыкновению всех актеров. Он хотел сделать вид, что поступает по принуждению, а не свободно. Только дождавшись народного бунта, он поспешил утвердить декрет. Собрание немедленно приступило к его исполнению и заставило депутатов духовного звания присягнуть в самой зале заседаний. Тут вдруг множество мужчин и женщин, дотоле выказывавших весьма малую привязанность к религии, засуетились, чтобы вызвать отказ священников. Несколько епископов и несколько приходских священников присягнули, но большинство отказалось с притворной умеренностью, ссылаясь на свои убеждения. Собрание, не смутившись этим, назначило новых епископов и приходских священников, в чем ему усердно помогали местные административные власти. Отстраняемым священникам была предоставлена свобода отправлять богослужение в других местах, а не в церквях, где их заменили новые священнослужители, признанные государством. Протестующие сняли в Париже церковь театинцев. Собрание это позволило, Национальная гвардия их оберегала, насколько могла, от народной ярости, но всё же им не всегда удавалось спокойно свершать свое отдельное богослужение. Многие бранили собрание за то, что оно подало повод к расколу и к существующим причинам раздора прибавило еще новую. Но, во-первых, каждому здравомыслящему человеку ясно, что собрание не переступало своих прав, занимаясь светской частью церковного устройства, что же касается соображений, основанных на осторожности, можно сказать, что оно не многое прибавляло к затруднительности своего положения. Действительно, двор, дворянство и духовенство слишком много потеряли, а народ слишком много приобрел, чтобы не стать непримиримыми врагами и чтобы революция не получила своего неизбежного исхода даже без нового раскола. Да и могло ли собрание, уничтожив все злоупотребления, терпеть старинные церковные порядки?
Глава VI
Закон об эмиграции – Смерть Мирабо – Бегство и возвращение короля – Пильницкая декларация – Мятеж на Марсовом полеПоследняя продолжительная борьба между национальной партией и привилегированным сословием – духовенством – окончательно усугубила общий раздор и разлад. Пока духовенство возмущало западные и южные провинции, туринские эмигранты сделали несколько попыток, которые оставались без результатов, вследствие их бессилия и безначалия. В Лионе затеяли заговор. Подосланные эмиссары возвестили о скором приезде королевской фамилии и о раздаче милостей в больших размерах; даже обещали городу, что он сделается столицей вместо Парижа, заслужившего неудовольствие двора. Король знал об этих происках и, не предвидя, может быть, даже не желая им успеха, так как он отнюдь не надеялся управлять победоносной аристократией, делал всё, что было в его силах, чтобы помешать этому успеху. Заговор был открыт в конце 1790 года, и главные участники его были преданы суду. Эта последняя неудача побудила эмиграцию перенестись из Турина в Кобленц и поселиться там на территории курфюрста Трирского, в ущерб его власти, которую эмиграция целиком присвоила себе. Мы уже видели, что члены бежавшего из Франции дворянства разделялись на две партии: одни, старые слуги монархии, вскормленные на милостях и составлявшие собственно двор, не хотели опираться на провинциальное дворянство и делиться с ним влиянием и поэтому намеревались прибегнуть исключительно к иноземцам. Другие, более рассчитывая на свою шпагу, хотели поднять южные провинции, расшевелив в них фанатизм. Первые получили перевес, и вся эмиграция двинулась в Кобленц – выжидать иноземной помощи у северной границы Франции. Тщетно те, кто хотел действовать на юге, настаивали, что нужно просить помощи у Пьемонта, Швейцарии и Испании, союзников верных и бескорыстных, и оставить поближе к ним одного значительного вождя. Аристократия, управляемая Калонном, не согласилась на это. Эта аристократия, выехав из Франции, ни в чем не изменилась: такая же суетная, надменная, неспособная, расточительная в Кобленце, как и в Версале, она с еще большим блеском проявляла свои пороки среди трудностей изгнания и междоусобной войны. «В ваших патентах должно быть сказано, что вы – буржуа», – говорила она бесстрашным людям, которые предлагали драться на юге и спрашивали, под каким званием они будут служить. В Турине оставили только тех, кто ревновал друг к другу, топил друг друга и мешал успеху всякого предприятия. Принц Конде, по-видимому, унаследовавший всю энергию своей ветви королевского дома, не был в милости у большей части дворянства; на берегу Рейна он сошелся со всеми теми, кто, подобно ему, желал сражаться, а не интриговать. Число эмигрантов с каждым днем возрастало; большие дороги были заполнены дворянами, спешившими, будто на святое дело, поднять оружие против своего отечества. Даже женщины считали своим долгом заявить об отвращении к революции, покидая французскую землю. У французов всё делается из увлечения – то же произошло и с эмиграцией. Эмигранты едва прощались с родными и знакомыми, так они были уверены, что в самом скором времени возвратятся. Голландские революционеры, преданные своим вождем, покинутые своими союзниками, покорились в несколько дней; брабантские держались почти не дольше – так и Французскую революцию близорукие эмигранты рассчитывали побороть в небольшой кампании и твердо верили, что деспотическая власть вскоре снова расцветет над усмиренной Францией. Собрание, более раздражаясь, нежели пугаясь их самоуверенностью, несколько раз предлагало меры, но меры эти всегда откладывались. Тетки короля, находя, что вере их в Париже грозит опасность, сочли нужным уехать искать спасения души у папы. Девятнадцатого февраля 1791 года они уехали в Рим, но были остановлены на пути муниципалитетом города Арнеле-Дюк. Народ отправился к брату короля, графу Прованскому, так как разнесся слух, будто и он готовится к бегству. Он вышел к народу и дал слово, что не оставит короля. Народ успокоился, и в собрании начались прения касательно того, пустить теток короля или нет. Прения продолжались довольно долго, пока депутат Мену не прекратил их шуткой. «Европа немало изумится, – сказал он, – когда узнает, что целое большое собрание несколько дней не могло решить, должны ли две старухи слушать обедню в Риме или в Париже». Однако конституционному комитету поручили представить закон об эмиграции и об обязательности для лиц, занимающих общественные должности, оставаться на месте исправления этих должностей. Король, как первое из таких лиц, обязан был не отлучаться от Законодательного собрания в течение каждой сессии, а в остальное время – из государства. В случае нарушения этого закона должностные лица наказывались отрешением от должности. Король между тем, не будучи в состоянии долее терпеть налагаемого на него стеснения и сокращения власти, а главное – не зная покоя совести после новых декретов о духовенстве, именно в это время решился бежать. Вся зима была посвящена приготовлениям к тому. Двор подстрекал Мирабо, сулил ему всё на свете, если только ему удастся освободить короля и его семейство, а он, со своей стороны, деятельно занимался исполнением плана. У Лафайета около этого времени вышел раздор с братьями Ламетами. Последние находили, что он слишком предан двору, и, не имея возможности бросить тень на его честность, как на честность Мирабо, нападали на его ум и говорили, что он позволяет себя обманывать. Враги Ламетов обвиняли их в зависти к военному могуществу Лафайета, как завидовали они ораторскому искусству Мирабо. Они объединились, действительно или внешне, с приверженцами герцога Орлеанского, и ходили толки, будто они домогались для одного из братьев начальства над Национальной гвардией. Уверяли, что в особенности Шарлю Ламету хотелось достигнуть этой чести, и этой причине были приписаны все беспрестанно возобновлявшиеся затруднения, которые после на каждом шагу возникали против Лафайета.
Двадцать восьмого февраля народ, подстрекаемый, как уверяли, герцогом Орлеанским, ринулся на Венсенский замок, назначенный муниципалитетом для приема арестантов, которых набралось слишком много в парижских тюрьмах. На этот замок напали точно так же, как и на Бастилию. Лафайет подоспел вовремя и разогнал жителей предместья Сент-Антуан, которых вел Сантерр. Пока он восстанавливал порядок в этой части Парижа, ему готовили новые труды в Тюильри. Услышав о новом народном бунте, явились несколько сотен постоянных посетителей дворца. Они имели при себе сокрытое оружие – кинжалы и охотничьи ножи. Национальная гвардия заподозрила что-то недоброе, обезоружила нескольких из пришедших и обошлась с ними довольно грубо. Лафайет подоспел и тут, очистил дворец и захватил оружие. Слух об этом разнесся тотчас же. Тех, при ком были найдены кинжалы, так с тех пор и назывались рыцарями кинжала. Они уверяли, что пришли только для того, чтобы защищать особу короля, которому грозила опасность. Их упрекали в намерении похитить его, и, как обычно, дело закончилось взаимными обвинениями. Этот случай еще яснее определил истинное положение Лафайета. Все еще лучше увидели, что, поставленный между самыми ярыми партиями, он видит единственную задачу в том, чтобы оберегать короля и конституцию. Его двоякая победа увеличила его популярность, могущество и ненависть его врагов. Мирабо, который не совсем похвально старался усилить недоверие двора к Лафайету, представил его поведение двуличным до крайности. По его словам, Лафайет под видом умеренности стремится к узурпации. В досаде он называл Ламетов безумцами и дурными людьми, примкнувшими к герцогу Орлеанскому и имевшими в собрании не более тридцати сторонников. Что касается правой стороны, Мирабо говорил, что не может с ней ничего поделать, и опирался исключительно на тех трехсот или четырехсот депутатов, которые были свободны от предвзятого взгляда и всегда были готовы принять решение в зависимости от впечатления, которое в данную минуту производили на них его разумность или красноречие. Верными в этой картинке были только оценка относительной силы партий и мнение Мирабо о средствах управления собранием. Он им действительно управлял. В тот самый день, 28 февраля, он почти в последний раз пользовался своей властью, громил Ламетов и развертывал против них всё свое могущество.
Готовились прения по закону об эмиграции. Шапелье представил его от имени комитета. Он разделял общее негодование против французов, покидавших свое отечество, но объявил, что после размышлений, продолжавшихся несколько дней, комитет убедился в невозможности составить закон об эмиграции. Сначала надо было поставить вопрос: вправе ли собрание приковывать людей к земле? Конечно, оно имело такое право, если благо отечества требовало такой меры; но для этого нужно было разбирать побуждения всех путешественников, а это уже смахивало на инквизицию; следовало отличать французов от иностранцев, а эмигрантов – от простых торговцев. Следовательно, составить требуемый закон было крайне трудно, если не невозможно. Шапелье присовокуплял, что комитет из повиновения собранию составил проект закона и он, если угодно, прочтет его, но вперед предупреждает, что закон этот нарушает все принципы… «Читайте!» – «Не читайте!» – раздается со всех сторон. Множество депутатов изъявляют желание говорить. Мирабо, в свою очередь, требует слова и получает его, и, что еще важнее, тотчас водворяется молчание. Он читает очень красноречивое письмо, некогда написанное к Фридриху-Вильгельму: в нем он требовал свободы эмигрировать как одного из священнейших прав человека, который, не имея в земле корней, не может быть прикован к ней ничем, как только своим благополучием. Мирабо, может быть, отчасти в угоду двору, но более всего из убеждения, отвергал всякое стеснение движения как тираническую меру. Конечно, говорил он, этой свободой в настоящее время злоупотребляют, но собрание, опираясь на свою силу, уже терпело со стороны печати столько вольностей, направленных против него, переносило столько тщетных попыток и с таким успехом боролось против них презрением, что вполне можно советовать ему упорствовать в этой системе. Мнение Мирабо принимается одобрительно, но чтения закона все-таки требуют. Шапелье наконец читает его. В проекте этом предлагается учредить на всё смутное время диктаторскую комиссию из трех членов, которые поименно и по собственному усмотрению будут назначать лиц, имеющих право уезжать за границу. В ответ на эту кровавую иронию, изобличавшую невозможность закона, поднимается ропот. «Этот ропот облегчает мне сердце, – восклицает Мирабо, – ваши сердца откликаются и отвергают эту нелепую тиранию. Что касается меня, я считаю себя свободным от всякий клятвы относительно тех, кто будет иметь гнусность допустить диктаторскую комиссию». С левой стороны поднимаются крики. «Да! – повторяет он. – Клянусь…» Его опять перебивают. «Эта популярность, – снова начинает он громовым голосом, – которой я добивался, которой я наслаждался, как наслаждался бы ею всякий другой, не есть слабая тростинка: я ее глубоко вкореню в землю… и она пустит ростки на почве справедливости и разума…» Со всех сторон разражаются рукоплесканиями. «Клянусь, – в заключение объявляет оратор, – не повиноваться вам, если закон против эмиграции будет принят». Он сходит с кафедры, приведя в изумление и друзей, и врагов своих. Однако спор еще продолжается. Одни требуют отсрочки, чтобы получить время и сочинить лучший закон; другие хотят, чтобы немедленно было заявлено, что такого закона вовсе не будет, с целью успокоить народ и положить конец волнению. Всюду ропот, крики, рукоплескания. Мирабо еще раз просит, или, вернее, требует слова. – Что это за диктаторское право присваивает себе депутат Мирабо? – восклицает депутат Гупиль. Мирабо, не обращая внимания на эти слова, взбегает на кафедру. – Я слова не давал, – говорит президент, – пусть решает собрание! Но собрание ничего не решает, а просто слушает. Мирабо говорит: – Прошу перебивающих помнить, что я всю жизнь ратовал против тирании и буду против нее везде, где бы она ни избрала себе место. – При этих словах он переводит взор с правой на левую сторону; ему отвечают рукоплесканиями. Он продолжает: – Я прошу господина Гупиля помнить, что он однажды уже ошибся в своих предположениях касательно некоего Каталины, которого он ныне отвергает[46]; прошу собрание заметить, что вопрос об отсрочке, по-видимому простой, заключает в себе и другие вопросы, так, например, заставляет предполагать, что закон, такой или другой, все-таки нужно издать. Новый ропот поднимается на левой стороне. – Пусть молчат эти тридцать голосов! – восклицает оратор, переводя взгляд на места, занимаемые Барнавом и Ламетами. – Впрочем, – присовокупляет он, – я, если уж этого хотят, пожалуй, и согласен на отсрочку, но с условием, чтобы было постановлено декретом, что отныне и до конца отсрочки не будет беспорядка. Эти последние слова заглушаются одобрительными криками. Голосование решает в пользу отсрочки, но с таким ничтожным большинством, что результат объявляется сомнительным и требуется вторичное голосование. Мирабо в этом случае взял смелостью. Никогда, быть может, он так повелительно не покорял собрание. Но конец его приближался, это были его последние торжества. Иногда им овладевали предчувствия смерти, путали его обширные планы и подчас связывали ему крылья. Однако совесть его была спокойна. Он сам себя уважал и пользовался уважением, и это давало ему твердое сознание, что если он и недостаточно еще сделал для блага государства, то во всяком случае обеспечил свою собственную славу. Мирабо являлся на кафедру бледный, с глубоко запавшими глазами; он сильно изменился, и ему часто внезапно делалось дурно. Неумеренность в трудах и удовольствиях и душевное волнение, испытываемое на кафедре, в непродолжительное время подкосили даже этот могучий организм. Ванны с раствором сулемы придали ему тот зеленоватый цвет лица, который многие приписывали яду. Двор тревожился, все партии пришли в замешательство, и еще до его смерти люди спрашивали друг друга о причине этой смерти. В последний раз, когда он был в собрании, Мирабо пять раз начинал говорить, вышел в изнеможении – и больше не приходил. Смертный одр его принял и сдал уже Пантеону. Он требовал от Кабаниса, чтобы тот не призывал врачей, но друг не послушался его; впрочем, врачи застали его уже умирающим, с похолодевшими ногами. Голова его до последней минуты была светла, будто природа не решалась трогать это святилище гения и мысли. Нескончаемые толпы народа теснились около его жилища и в глубоком молчании стояли у всех выходов. От двора приходили курьер за курьером; бюллетени о состоянии здоровья передавались из уст в уста, распространяя повсюду печаль и горе. Сам больной, окруженный друзьями, выражал то сожаление о неоконченных работах, то некоторую гордость по поводу совершенных трудов. «Поддержи эту голову, – говорил он своему слуге, – самую сильную голову Франции». Участие народа тронуло Мирабо; посещение Барнава, его врага, явившегося к нему от имени якобинцев, возбудило в нем теплое чувство. Он еще думал о государственном деле. Собрание должно было заняться вопросом о духовных завещаниях. Мирабо призвал Талейрана и вручил ему написанную им по этому поводу речь, добавив: «Забавно будет слышать загробную речь против духовных завещаний человека, только что написавшего свое завещание». Действительно, он написал завещание по непременному желанию двора, который обязался выдать все суммы, какие он кому назначит. Перенося взоры свои на Европу и разгадывая виды Англии, Мирабо сказал: «Этот Питт – министр приготовлений; он управляет посредством угроз. Я бы наделал ему много хлопот, если бы остался жив!» Когда священник его прихода предложил Мирабо свои услуги, он вежливо поблагодарил его и с улыбкой сказал, что охотно принял бы их, если бы в доме не было его духовного начальства – Талейран. Мирабо велел растворить окна. «Друг мой, – сказал он Кабанису, – я сегодня же умру. Остается только облечь себя в благоухания, увенчать цветами, окружить музыкой, чтобы мирно перейти в вечный сон». Острые боли нередко прерывали эти возвышенные, спокойные речи. «Вы обещали избавить меня от лишних страданий», – сказал он друзьям и настоятельно просил опиума. Ему не давали; тогда он потребовал – с обычной своей пылкостью. Чтобы успокоить, его обманули и подали ему питье, уверяя, что в него налит опиум. Он выпил мнимый яд и совершенно успокоился, а минуту спустя скончался. Было 2 апреля 1791 года. Печальная весть мигом стала известна при дворе, в городе, в собрании. Все партии надеялись на покойного и все, кроме завистников его, были поражены горем. Собрание прервало свои занятия, готовились великолепные похороны. Нескольких депутатов пригласили участвовать в торжестве. «Мы все пойдем!» – воскликнули они. Церковь Святой Женевьевы обратилась в Пантеон со следующей надписью, теперь уже не существующей: «Великим людям – признательное Отечество»[47].
 Смерть Мирабо
Смерть Мирабо
Мирабо был погребен там первым подле Декарта. За гробом шли все власти, муниципалитеты, народные общества, собрание, войска. Этому простому оратору оказывалось больше почестей, нежели пышным гробам, когда-то отправлявшимся в аббатство Святого Дионисия. Таков был конец этого необыкновенного человека, который, отважно атаковав и победив старинные фамилии, имел столько силы, что обратил свою речь против новых поколений, останавливал их своим голосом и заставил любить этот голос, против них же обращенный; этого человека, наконец, который исполнял свой долг по внушению разума, а не горстей золота, бросаемых его страстям, и который удостоился редкой чести: его популярность уступила только одной смерти, тогда как популярность всех других кончалась вследствие перемены в чувствах народа. Но удалось ли ему внушить двору покорность, а честолюбцам – умеренность? Мог ли он сказать тем народным трибунам, которым хотелось блеснуть, «Останьтесь в ваших безвестных предместьях»? Мог ли он сказать Дантону, этому Мирабо черни: «Остановись на этом – и не ходи дальше»? Неизвестно, но в минуту его смерти интересы всех партий были в его руках, на него рассчитывали все партии. О нем долго жалели. Когда путались и свирепели споры, взоры невольно обращались к месту, прежде занимаемому им, точно призывали того, кто разрешал все споры победным словом. «Мирабо более нет здесь, – однажды воскликнул Мори, всходя на кафедру, – мне никто не помешает говорить».
Смерть Мирабо отняла у двора всякую бодрость. Новые происшествия заставили короля поспешить с бегством. Он хотел ехать в Сен-Клу 18 апреля. Разнесся слух, что, не желая говеть к Святой неделе у священника, присягнувшего конституции, Людовик решил удалиться на это время; другие уверяли, что он хочет бежать. Народ собирается и задерживает лошадей. Лафайет спешит на помощь и умоляет короля оставаться в карете, уверяя, что сейчас очистит проезд. Но король этого не дозволяет, выходит из кареты и остается, следуя своей тогдашней политике – показывать как можно яснее, что он не свободен. По совету своих министров он отправляется в собрание жаловаться на нанесенное ему оскорбление. Собрание принимает его с обычной почтительностью и обещает сделать всё, что от него будет зависеть, для обеспечения его свободы. Король выходит при громких рукоплесканиях, в которых, однако, не участвует правая сторона. Согласно еще одному совету, он 23 апреля заставляет Монморена написать письмо к иностранным посланникам, в котором опровергает приписываемые ему вне Франции намерения, заявляет державам, что присягнул конституции и намерен сдержать клятву, а всех тех, кто старается дать понять противное, провозглашает своими врагами. Письмо это было составлено в выражениях умышленно преувеличенных, так, чтобы казаться написанным под принуждением; король это сам сказал посланнику Леопольда. Леопольд в это время путешествовал по Италии и находился в Мантуе. Калонн вступил с ним в переговоры. Тогда Леопольд послал из Мантуи к королю и королеве некоего графа Дюрфора осведомиться об их предположениях. Тот прежде всего спросил их о письме к посланникам, и они ответили, что по самому языку видно, что оно вынужденное. Потом он расспросил их об их надеждах, на что они ответили, что со смерти Мирабо у них нет более надежд; наконец, он их спрашивал об их чувствах относительно графа д’Артуа, и они уверили Дюрфора, что чувства эти самые дружеские. Чтобы понять причину этих расспросов, нужно знать, что барон Бретейль был отъявленным врагом Калонна, что вражда его не прекратилась в эмиграции и что, будучи уполномоченным Людовика XVI при венском дворе, он противодействовал всему, что братья короля при этом дворе предпринимали. Он уверял Леопольда, что король не желает, чтобы его спасали эмигранты, потому что опасается их требовательности, и что королева состоит в ссоре с графом д’Артуа. Бретейль постоянно предлагал для блага престола противоположное тому, что предлагал Калонн, и ничего не забыл из того, что могло уничтожить действие и этих последних переговоров. Граф Дюрфор возвратился в Мантую, и 20 мая Леопольд обещал двинуть 35 тысяч солдат во Фландрию и 15 тысяч в Эльзас. Он известил, что такое же число швейцарцев будет направлено на Лион, столько же пьемонтцев – на Дофине и что Испания соберет 20 тысяч человек. Император обещал содействие прусского короля и нейтралитет Англии. Протест, написанный от имени Бурбонского дома, должен был быть подписан королем Неаполитанским, испанским королем, пармским инфантом и принцами-эмигрантами. До тех пор требовалось сохранить всё в секрете. Людовику XVI, кроме того, наказывалось отложить мысль об отъезде, несмотря на желание. Бретейль, напротив, именно советовал королю уехать. Вполне возможно, что эти советы с обеих сторон давались искренне и честно, однако нужно заметить, что они согласовались с интересами дающей стороны. Бретейль, желавший помешать действию переговоров Калонна в Мантуе, советовал ехать; Калонн, который перестал бы властвовать с той минуты, как Людовик XVI приехал бы к границе, уговаривал его остаться. Как бы то ни было, король решился ехать и после часто с досадой говорил: «Этого хотел Бретейль». Он написал Буйе, чтобы тот долее не мешкал. Людовик не намеревался выезжать из государства, а только удалиться в Монмеди, откуда бы мог, в случае надобности, опираться на Люксембург и получать иностранную помощь. Дороге в Шалон на Клермон и Варенн было отдано предпочтение вопреки мнению Буйе. Все приготовления были подогнаны так, чтобы ехать 20 июня. Буйе собрал те войска, на которые больше мог положиться, приготовил лагерь в Монмеди, накопил там провианта под предлогом движений, замечаемых на границе. Королева взяла на себя приготовления от Парижа до Шалона, а Буйе – от Шалона до Монмеди. Небольшие отряды кавалерии должны были отправляться в разные места под тем предлогом, что нужно конвоировать денежный транспорт и принимать короля по пути. Сам Буйе намеревался встретить его на некотором расстоянии от Монмеди. Мария-Антуанетта позаботилась о потайной двери, чтобы суметь уйти из дворца. Королевское семейство должно было путешествовать с поддельными паспортами. Всё было готово к 20-му, но какое-то опасение заставило отложить отъезд до 21 июня. Эта-то отсрочка и погубила несчастное семейство. Лафайет ничего не знал; даже Монморену, хоть он и пользовался доверием двора, не сказали о задуманном бегстве. О нем знали только лица, необходимые для выполнения этого плана. Все-таки носились какие-то темные слухи, потому ли, что в самом деле что-то вышло наружу, или только потому, что тогда беспрестанно возникали всякие тревожные домыслы. Как бы то ни было, следственный комитет был извещен, и бдительность Национальной гвардии усилилась. Двадцатого июня около полуночи король, королева, принцесса Елизавета и госпожа де Турзель, наставница королевских детей, переодетые, поодиночке выходят из дворца. Госпожа де Турзель с детьми направляется к площади Карусель и садится в карету, на козлах которой сидит молодой вельможа Ферзей. Король вскоре к ним присоединяется. Но королева, вышедшая из дворца в сопровождении одного лейб-гвардейца, всем причиняет живейшее беспокойство. Ни она, ни ее провожатый не знают парижских улиц; они целый час плутают, прежде чем попадают на площадь. По пути им встретилась карета Лафайета, сопровождаемая людьми с факелами; королева успела скрыться под воротами Лувра и наконец, миновав эту опасность, добралась до кареты, где ее ждали с таким нетерпением. Собравшись, вся семья трогается в путь и, еще раз ошибившись в дороге, приезжает к воротам Святого Мартина, а там садится в ожидающую ее дорожную карету, запряженную шестью лошадьми. Госпожа де Турзель под именем баронессы Корф выдает себя за мать, едущую с детьми; король – за ее камердинера; трое переодетых лейб-гвардейцев должны были ехать впереди кареты в качестве курьеров или позади в качестве прислуги. Наконец они уехали, напутствуемые пожеланиями Ферзена, который вернулся в Париж, чтобы тотчас же ехать в Брюссель. В то же время граф Прованский с женой отправлялся во Фландриюпо другой дороге, чтобы не возбудить подозрений и не быть причиной недостатка лошадей на станциях. Король с семьей проехали всю ночь, а в Париже еще никто ничего не знал. Ферзей в восемь часов утра нарочно заходил в муниципалитет и убедился, что там ничего еще не известно. Скоро, однако, разнесся слух – и, конечно, с чрезвычайной быстротой. Лафайет созвал своих адъютантов, приказал им тотчас же скакать за беглецами и объяснил при этом, что, хотя они их, вероятно, не догонят, необходимо что-нибудь делать: он сделал это распоряжение под свою ответственность и в своем приказе предположил, что королевская семья похищена врагами общественного дела. Эта почтительная фикция была принята собранием, и ее держались все власти. В этот момент сбежавшийся народ обвинил Лафайета в том, будто он потакал бегству короля, а впоследствии аристократическая партия обвинила его в том, будто он дал королю бежать нарочно, чтобы потом арестовать его и погубить этой тщетной попыткой. Но если бы Лафайет желал бегства короля, разве он послал бы за ним двух адъютантов, не имея на это предписания от собрания? А если бы он отпустил короля с тем, чтобы взять его потом, разве дал бы он карете проехать целую ночь? Народ вскоре убедился в своей ошибке, и Лафайет по-прежнему остался у него в милости.
Депутаты собрались в девять часов утра. Они вели себя так же величественно, как в первые дни революции. С общего согласия предположили, будто Людовик XVI похищен. Во всё время этого заседания господствовали величайшее спокойствие и полнейшее согласие. Меры, принятые Лафайетом от себя, были одобрены. Народ остановил его адъютантов у застав – по первому слову собрания их пропустили. Один из них, юный Ромёф, повез с собой декрет, утверждавший приказ, данный генералом, и предписывавший всем должностным лицам всеми возможными средствами остановить последствия означенного похищения и препятствовать продолжению пути. Ромёф поехал по Шалонской дороге, на которой была замечена большая дорожная карета, запряженная шестеркой. Затем собрание пригласило министров и декретом постановило, что они будут получать приказы от него одного. Уезжая, Людовик ХУ1 приказал министру юстиции переслать ему государственную печать, но собрание оставило печать у себя. В тоже время депутаты постановили укрепить все границы и поручили министру иностранных дел заверить иностранные державы, что расположение французской нации относительно них не изменилось. Потом был выслушан Лапорт, заведовавший собственными королевскими доходами. Он получил от короля несколько бумаг и между прочими одну записку, которую просил не читать собранию, а также другую, с изложением причин, побудивших короля к отъезду. Собрание, всегда готовое уважить всякое право, возвратило Лапорту первую записку, не развернув, и приказало прочесть вслух вторую. Людовик в ней жаловался на свои потери без большого достоинства и столь же сетовал на ограничение его личного содержания тридцатью миллионами, сколь и на утрату всех своих прерогатив. Собрание выслушало жалобы несчастного государя и, сострадая его слабости, перешло к другим делам. В эту минуту немногие желали ареста Людовика XVI. Аристократы видели в его бегстве осуществление их давнишнего желания и льстили себя ожиданием скорой междоусобной войны. Наиболее отъявленные члены народной партии, которым король начинал уже наскучивать, находили в его отсутствии случай доказать, что можно обойтись без него, и в уме их зарождалась мысль о республике. Вся умеренная партия, об эту пору управлявшая собранием, желала, чтобы король невредимым добрался до Монмеди, и, рассчитывая на его честность, полагала, что от этого только легче пройдет окончательная сделка между престолом и нацией. Теперь гораздо менее прежнего страшна была мысль о том, что государь может угрожать конституции из армии. Только народ, которому не переставали внушать этот страх, сохранял его, когда собрание уже не разделяло таковой, и горячо желал ареста королевской семьи. Карета же, выехавшая в ночь на 21 июня, благополучно проехала большую часть пути и беспрепятственно достигла Шалона около пяти часов пополудни. Тут король, имевший неосторожность беспрестанно высовывать голову, был узнан; тот, кто сделал это открытие, хотел о нем заявить, но мэр города, верноподданный роялист, уговорил его молчать. В Пон-де-Сом-Веле ожидаемых отрядов не оказалось. Эти отряды ждали в условленном месте несколько часов, но народ смутился этим движением, стал волноваться, и отряды вынуждены были удалиться. Однако король доехал до Сент-Мену. Тут, по милости всё той же неосторожности, короля узнал Друэ, сын почтмейстера, ярый революционер. Не имея времени остановить карету тут же, этот юноша поскакал в Варенн. Один преданный королю квартирмейстер, заметивший его спешные сборы и подозревавший причину, полетел за ним, думая остановить его, но не смог догнать.
 Отъезд из Варенна
Отъезд из Варенна
Друэ так спешил, что доехал до Варенна прежде злополучного семейства. В ту же минуту он дал знать муниципалитету и распорядился всеми нужными мерами. Варенн построен на берегу узкой, но глубокой реки; отряд гусаров сторожил у моста, но офицер, не видя возвещенного ему транспорта, распустил отряд по квартирам. Наконец карета проехала мост. Едва въехала она под следующий за мостом свод, как Друэ с еще одним человеком остановили лошадей. «Ваши паспорта!» – кричит он и угрожает путешественникам оружием. Ему вручают документы. Друэ берет их, но объявляет, что рассмотреть их надлежит прокурору общины по имени Сосс, к которому и везут королевскую семью. Прокурор, осмотрев паспорта, делает вид, будто находит их вполне приемлемыми и весьма вежливо просит подождать. Ждать приходится довольно долго. Когда Сосс наконец узнает, что собралось достаточное количество гвардейцев, он перестает прикидываться и прямо объявляет королю, что тот узнан и арестован. Начинается спор, Людовик XVI отпирается. Спор чересчур оживляется. «Если уж вы признаете в нем вашего государя, – наконец восклицает королева, потеряв терпение, – то говорите же с ним по крайней мере с должным почтением!» Король, видя, что дальше отнекиваться бесполезно, признается в своем сане. Маленькая зала наполняется народом. Людовик XVI начинает говорить и говорит с необычайным жаром: заверяет в своих добрых намерениях, уверяет, что ехал в Монмеди единственно за тем, чтобы свободнее прислушаться к желаниям всего народа, освободившись от гнета парижского тиранства, наконец, просит, чтобы ему дозволили продолжать путь и довезли до места. Несчастный государь в волнении обнимает Сосса, умоляет того спасти его жену и детей; королева к его просьбам присоединяет свои, держа маленького дофина на руках. Сосс тронут, однако не поддается, а уговаривает их добровольно ехать в Париж, чтобы отвратить междоусобную войну. Король, напротив, пугается возвращения и непременно хочет ехать в Монмеди. В эту минуту подъезжают офицеры Дама и Гогла со своими гусарами. Королевская семья уже радуется избавлению, но оказывается, что на солдат нельзя рассчитывать. Офицеры объявляют им, что тут король с семейством, задержаны и арестованы, и что их нужно освободить, но солдаты отвечают, что они за нацию. Тем временем гвардейцы, созванные со всех окрестностей, стекаются в Варенн. Так проходит ночь. В шесть часов утра является молодой Ромёф с декретом собрания и находит карету уже запряженной шестеркой и повернутой к Парижу. Он входит в дом и печально вручает декрет. Общий крик негодования поднимается против Лафайета; королева удивляется, как он не растерзан народом. Ромёф отвечает, что генерал и он не могли не исполнить своего долга, но надеялись не догнать их. Королева хватает декрет, бросает его на постель детей, потом сбрасывает с этой постели, говоря, что прикосновение этой бумаги оскверняет ее детей. «Государыня, – говорит Ромёф, искренне преданный королеве, – желали ли бы вы, чтобы другой, а не я, был свидетелем этой вспышки?» Королева тотчас приходит в себя, и к ней возвращается всё ее достоинство. В эту минуту сообщают о прибытии различных отрядов войск, расставленных в окрестностях заботами Буйе. Но муниципалитет приказывает ехать, и королевская семья вынуждена тотчас же опять сесть в карету и ехать обратно в Париж, по этому роковому и страшному для нее пути. Буйе, поднятый среди ночи, велел целому полку сесть на лошадей и скакать с криками «Да здравствует король!». Храбрый генерал, пожираемый беспокойством, преодолел девять лье в четыре часа, но когда прибыл в Варенн, где собралось несколько отрядов, король уже полтора часа как уехал. В Варение между тем были построены баррикады и сделаны обдуманные приготовления: мост сломали, а через реку не было брода. Чтобы освободить пленных, Буйе пришлось бы сначала дать сражение, овладеть баррикадами, потом ухитриться переправиться через реку, а после этой громадной траты времени оставалось еще догнать карету, имевшую целых полтора часа впереди. Эти препятствия делали подобную попытку невозможной – и только полнейшая невозможность могла остановить такого преданного и предприимчивого человека, как Буйе. Он удалился поневоле, снедаемый горем и сожалениями.
Когда в Париже узнали об аресте короля, все уже думали, что он давно на месте. Народ необыкновенно обрадовался. Собрание отрядило трех депутатов, выбранных из трех отделов левой стороны, чтобы встретить короля и проводить его до Парижа. Этими посланниками были Барнав, Латур-Мобур и Петион. Они поехали в Шалон, и с той минуты, как они присоединились к королевской семье, все приказания отдавались уже ими одними. Госпожа де Турзель пересела в другую карету с Латур-Мобуром. Барнав и Петион сели в королевскую карету. Латур-Мобур, благородный человек, друг Лафайета и, подобно ему, преданный столько же королю, сколько конституции, уступил своим товарищам честь ехать с королевской семьей с целью заинтересовать их ее несчастной судьбой. Барнав поместился на заднем сиденье, между королем и королевой, Петион – на переднем, между принцессой Елизаветой и молодой дочерью короля, Madame Royale. Маленький дофин сидел поочередно на коленях то у тех, то других. Вот к чему привел быстрый ход событий! Молодой адвокат двадцати с небольшим лет, замечательный лишь своим талантом, и другой, уже известный не только ученостью, но еще более ригоризмом своих правил, сидели в одной карете с государем, еще недавно пользовавшимся более неограниченной властью, нежели большинство других европейских государей, и распоряжались каждым его движением! Путешествие совершалось тихо, потому что карета должна была приспосабливаться к шагу гвардии: оно продолжалось восемь дней, от Варенна до Парижа, по непомерной жаре и жгучей пыли, поднимаемой сопутствовавшей толпой. Сначала все молчали; королева не могла скрыть своего сердитого настроения. Король, однако, кончил тем, что заговорил с Барнавом. Разговор коснулся всяких предметов и, наконец, бегства в Монмеди. Те и другие удивились, взаимно узнавая друг друга. Королева была изумлена высокой рассудительностью и деликатной вежливостью молодого Барнава; она вскоре подняла с лица вуаль и приняла участие в разговоре. Барнав был тронут добротой короля и грацией и достоинством королевы. Петион держался погрубее. Он сам оказывал, и поэтому ему оказывали, меньше внимания. Подъезжая к Парижу, Барнав был уже предан несчастной семье, а королева, в восторге от достоинств и ума юного трибуна, отнеслась к нему с полным уважением. Поэтому и впоследствии, в своих сношениях с конституционными депутатами, она более всех оказывала доверия ему. В Париже была заранее приготовлена встреча. Везде прибили объявление: «Кто станет аплодировать королю, будет побит; кто оскорбит его, будет повешен». Это распоряжение было исполнено в точности: не раздавалось ни приветственных криков, ни ругательств. Карета сделала объезд, чтобы не проезжать через весь Париж, и въехала на Елисейские Поля, ведущие прямо к дворцу. Громадная толпа встретила ее молча, не снимая шляп. Лафайет во главе многочисленных отрядов гвардии принял величайшие предосторожности. Три гвардейца, помогавшие бегству, сидели на козлах, на глазах у разгневанного народа, однако никто их не тронул. Как только карета подкатила к дворцу, ее обступила Национальная гвардия. Королевская семья поспешно вышла и прошла между двумя рядами гвардейцев, поставленных для ее защиты. Королеву, отставшую от других, почти на руках внесли Ноайль и д’Эгильон, враги двора, но великодушные друзья в несчастье. Когда они подошли к Марии-Антуанетте, она в первую минуту усомнилась в их намерениях, но доверилась им и невредимая прошла во дворец. Таковы главные черты этого путешествия, в злополучном исходе которого никого нельзя винить. Оно не удалось вследствие случайности, как случайно могло и удаться. Если бы, например, квартирмейстер догнал и остановил Друэ, карета благополучно проехала бы. Отчасти, может быть, и у короля не хватило энергии в момент, когда он был узнан. Как бы то ни было, в этой поездке нельзя винить никого: ни тех, кто присоветовал ее, ни тех, кто ее исполнил; она была результатом того Фатума, который преследует слабохарактерность среди революционных кризисов. Действием этой поездки было уничтожение всякого уважения к королю, привычка к мысли о возможности обходиться без него и появление желания республики. В самое утро возвращения короля собрание всем распорядилось посредством декрета. Людовик XVI временно отрешался от должности; к его особе, к особе королевы и дофина приставлялась стража. Эта стража за них отвечала. Три депутата – д’Андре, Тронше и Дюпор – были назначены для принятия заявлений короля и королевы. В выражениях соблюдалась крайняя умеренность, и собрание ни разу не нарушило приличий, но факт был очевиден: короля временно отстранили. Ответственность, возложенная на Национальную гвардию, сделала ее строгой и иногда даже назойливой в отправлении службы при королевских особах. Часовые никогда не выпускали их из вида. Король однажды захотел удостовериться, в самом ли деле он арестант, и нарочно подошел к одной двери: часовой его не пропустил. – Узнаете вы меня? – спросил его король. – Да, государь, – ответил тот. Королю оставалось одно развлечение: прогуливаться по утрам по саду Тюильри, прежде чем он отворялся публике.
 Гвардеец и король в Тюильри, по возвращении из Варенна
Гвардеец и король в Тюильри, по возвращении из Варенна
Барнав и братья Ламеты тогда сделали то самое, за что так бранили Мирабо, – стали помогать престолу и сблизились с двором. Правда, они за это не получили денег, но и на Мирабо они нападали не столько за цену союза, сколько за самый союз. После своей прежней строгости они теперь на себе испытывали общий закон, принуждавший всех народных представителей вступать в союз с властью по мере того, как они сами достигают власти. Ничто, при тогдашнем положении дел, не могло быть похвальнее услуги, которую Барнав и Ламеты оказали королю, и никогда не выказывали они больше ловкости, силы и таланта. Барнав подсказал королю ответ посланникам, назначенным от собрания. В этом ответе Людовик XVI мотивировал свое бегство желанием лучше узнать общественное мнение, уверял, что и в эту краткую поездку уже лучше изучил это мнение, и всеми фактами доказывал, что не хотел выезжать из Франции. Что касается протестов, изложенных в записке, представленной собранию, он весьма справедливо говорил, что они направлены не против основных начал конституции, а против предоставляемых ему исполнительных средств. Теперь же, присовокуплял Людовик, когда он ясно уразумел общую волю, он не колеблясь подчинится ей и не задумается принести все жертвы, необходимые для общего блага. Буйе, чтобы перевести на себя гнев собрания, написал ему письмо, которое можно было бы назвать безумным, если бы не так благородно было побуждение, внушившее его. Буйе признавал себя единственным зачинщиком поездки короля, тогда как он, напротив, отговаривал его; он заявлял от имени государей, что Париж будет отвечать за безопасность королевской семьи, что малейший нанесенный ей вред будет блистательно отомщен. Буйе присовокуплял, сам зная, что это неправда, что военные средства Франции ничтожны, что ему известны все пути для вторжения и что он сам проведет неприятельские армии в сердце Франции. Само собрание поддержало эту великодушную выходку и всё свалило на Буйе, которому нечего было опасаться, так как он уже был за границей.
Испанский двор, опасаясь, чтобы малейшая демонстрация не раздражила умов и не подвергла королевскую семью еще большим опасностям, помешал исполнению подготовленной на южной границе попытки, в которой должны были участвовать мальтийские рыцари с двумя фрегатами, и, кроме того, заявил французскому правительству, что его расположение нисколько не изменилось. Север вел себя не с таким тактом. С этой стороны державы, подстрекаемые эмигрантами, приняли угрожающую позу. Король отправил в Брюссель и Кобленц посланных с поручением постараться сойтись с эмиграцией, уверить ее в добром расположении собрания и сообщить надежды на выгодную полюбовную сделку. Но посланные, только приехав, встретили самое недостойное обращение и тотчас же вернулись в Париж. Эмигранты стали вербовать от имени короля войска и этим вынудили его формально от них отречься. Тогда они стали уверять, что граф Прованский, уже присоединившийся к ним, – регент королевства, что король, будучи пленным, не имеет более собственной воли, а выражает только волю своих угнетателей. Мир, заключенный в августе императрицей Екатериной с турками, еще более возбудил их безрассудную радость, и они вообразили, что могут располагать державами всей Европы. Ввиду безоружное™ крепостей и расстройства армии, покинутой своими офицерами, эмигранты нимало не сомневались в близости и успешности вторжения. А между тем прошло уже около двух лет с тех пор, как они выехали из Франции и, несмотря на радужные надежды, всё еще не вернулись победителями, как рассчитывали! Державы как будто многое обещали, но Питт выжидал; Леопольд, истощенный войной и недовольный эмигрантами, желал мира. Прусский король не скупился на обещания, но ему не было никакой выгоды сдерживать их. Густаву очень хотелось командовать экспедицией против Франции, но пришлось бы ехать очень уж далеко, а Екатерине, которая могла бы ему помочь, приходилось, едва справившись с турками, усмирять Польшу. Сверх того, чтобы состоялась эта коалиция, нужно было согласовать столько интересов, что оставалось мало надежды. Пильницкая декларация, подписанная 27 августа, в особенности должна была раскрыть глаза эмигрантам насчет рвения иностранных государей. В этой декларации, данной совокупно прусским королем и императором Леопольдом, говорилось, что положение французского короля равно затрагивает всех государей и, вероятно, они соединятся, чтобы дать Людовику XVI средства учредить образ правления, соответствующий интересам престола и народа; что в таком случае и прусский король с императором присоединятся к прочим государям для той же цели. Пока же их войска должны быть приведены в готовность. Впоследствии стало известно, что эта декларация заключала в себе секретные статьи. В них Австрия обязывалась не препятствовать притязаниям Пруссии на часть Польши. Без этого Пруссия никогда не согласилась бы пренебречь своими исконными интересами, соединяясь с Австрией против Франции. Нельзя было многого ожидать от рвения, которое приходилось возбуждать подобными средствами. А если требовалась такая осторожность в словах, то что же должно было быть в действиях? Франция, правда, была безоружна, но восставшему народу недолго вооружиться, и, как впоследствии сказал знаменитый Карно, есть ли что-нибудь невозможное для двадцати пяти миллионов человек? Правда, офицеры уходили, но это были по большей части люди молодые, получившие места в результате ходатайств, и армия их не любила. К тому же толчок, данный всему, должен был скоро вызвать и офицеров, и полководцев. Впрочем, надо и в том сознаться, что, даже не обладая кобленцской самоуверенностью, можно было не рассчитывать на возможности такого сопротивления, какое Франция впоследствии оказала. Пока же собрание послало на границу своих представителей и приказало начать приготовления в больших масштабах. Все национальные гвардии просились идти на границу; несколько генералов предлагали свои услуги, в том числе Дюмурье, который впоследствии спас Францию в Аргонском ущелье.
Заботясь о внешней безопасности государства, собрание в то же время спешило закончить свой конституционный труд, чтобы возвратить королю его звание и, если это возможно, также часть его прерогатив. Все подразделения левой стороны, исключая людей, принявших совершенно новое тогда название республиканцев, примкнули к умеренным. Варнав и Малуэ шли рука об руку и вместе работали. Петион, Робеспьер и Бюзо объявили себя республикой с несколькими другими, но весьма немногими. Правая сторона продолжала поступать неосторожно и неблагоразумно и протестовала, вместо того чтобы присоединиться к умеренному большинству. Но всё же это большинство преобладало в собрании. Его враги, которые обвинили бы его, если бы оно свергло короля, упрекали большинство, однако, и в том, что оно вернуло короля и вновь посадило его на шаткий престол. Но что же большинству было делать? Заменить короля республикой – риск был бы очень велик. Переменить династию – бесполезно: лучше сохранить настоящего короля, если уж иметь короля; к тому же герцог Орлеанский никак не заслуживал предпочтения перед Людовиком XVI. В том и другом случае отстранить царствовавшего короля значило бы нарушить его признанные права и послать эмиграции драгоценного главу, так как он принес бы ей право, которого она без него не имела. Возвратить же, напротив, Людовику XVI власть и возможно больше привилегий значило бы исполнить конституционную задачу и устранить всякий предлог к междоусобной войне, одним словом – исполнить обязанность, ибо обязанность собрания, согласно всем принятым им на себя обязательствам, состояла в том, чтобы учредить образ правления свободный, но монархический. Собрание не колебалось, но должно было преодолеть серьезные препятствия. Новое слово республика задело умы, которым уже несколько надоели слова конституция и монархия. Сначала отсутствие, а потом временное отрешение короля приучили, как мы уже видели, обходиться без него. Газеты и клубы первыми отбросили ту почтительность, которая дотоле оказывалась его особе. Его отъезд, весьма подходивший под статьи декрета об обязательности для общественных должностных лиц жить на месте исправления должности, побуждали к толкам о том, что Людовик не может оставаться государем страны, которую хотел покинуть. Однако, согласно тому же декрету, нужно было, чтобы король не только действительно переехал границу своего государства, но еще и не внял приглашению собрания возвратиться; но до этих условий экзальтированным головам не было дела, и короля прямо обвиняли виновным и подлежавшим низложению. Якобинцы и кордельеры волновались и не постигали, как можно было, раз избавившись от короля, снова добровольно ставить его над собой. Если у герцога Орлеанского имелись надежды – вот была для него благоприятная минута. Но он должен был убедиться, как ничтожно влияние его имени, а главное – как мало вообще новый государь подходил к тогдашнему настроению умов. Несколько памфлетистов, преданных ему, может быть, даже без его ведома, пытались возложить корону на его голову, как это сделал Антоний для Цезаря: они предлагали сделать его регентом, но герцог вынужден был отказаться от этого сам в заявлении, на которое обратили так же мало внимания, как на его личность. «Не надо больше короля!» – вот каков был общий крик в клубах якобинцев и кордельеров, в общественных местах и в печати. Присылались адрес за адресом. Один был прибит на всех парижских стенах и даже на стенах здания, где заседало собрание. Этот адрес был подписан именем молодого полковника Ахилла Дюшатле. Автор обращался к французам; он напоминал им, какое спокойствие царило во время поездки государя, из чего выводил, что его отсутствие полезнее его присутствия, и присовокуплял, что бегство его равнялось отречению от престола и теперь Людовик XVI и нация развязаны от всяких взаимных обязательств, что, наконец, история исполнена преступлениями королей и нужно отказаться от мысли снова иметь короля. Этот адрес, приписываемый молодому Ахиллу Дюшатле, в действительности был написан Томасом Пейном, одним из главных деятелей Американской революции. Когда о нем было доложено собранию, депутаты после оживленных прений решили, что должны просто перейти к очередным делам, равнодушием отвечая на все советы и брань, как они постоянно делали до сих пор. Наконец посланники, которым было поручено составить доклад о поездке в Варенн, представили его 16 июля. В этой поездке, по их мнению, не было ничего преступного, а если бы и было, особа короля была неприкосновенна. Наконец, низложения последовать не могло, потому что отсутствие короля не было достаточно продолжительным и он не сопротивлялся требованиям собрания касательно возвращения. Робеспьер, Бюзо и Петион повторили все известные доводы против неприкосновенности короля. Дюпор, Варнав и Салль им ответили, и наконец было декретом постановлено, что король не подлежит взысканию по одному факту своего тайного отъезда. К декрету о неприкосновенности лишь прибавили две статьи. Как только об этом решении было заявлено, Робеспьер встал и громогласно запротестовал от имени человечества. Вечером накануне этого решения в Клубе якобинцев произошло большое смятение. Там была составлена петиция собранию, требовавшая, чтобы оно объявило короля низложенным как изменника, не сдержавшего своих клятв, и позаботилось о замещении его всеми конституционными средствами. Решили снести эту петицию на следующий день на Марсово поле, чтобы каждый там мог подписать ее на Алтаре Отечества. Действительно, на следующий день петицию отнесли на условленное место, и к толпе мятежников присоединилась толпа любопытных, пришедших поглазеть. В эту минуту декрет уже был издан, стало быть, повода к петиции уже не было. Лафайет прискакал и разбил построенные уже баррикады; ему угрожали, даже выстрелили в него, но не попали, хоть и стреляли в упор. Муниципальные офицеры примкнули к нему и кое-как рассеяли чернь. Отряды Национальной гвардии были поставлены наблюдать за отступлением, и на минуту воцарилась надежда, что толпа разойдется, но беспорядки начались опять. Два инвалида, неизвестно как и почему очутившиеся под самым алтарем, были убиты толпой, и тут уже началась неописуемая сумятица. Депутаты велели собрать муниципалитет и поручили ему наблюдать за общественным порядком. Байи явился на Марсово поле и велел развернуть красное знамя в силу закона о военном положении. Применение силы в этом случае, что бы там ни говорили, было законным. Новые законы следовало либо признать, либо не признавать, но уж если признали – надо было их исполнять. Следовало сделать что-нибудь определенное, что-нибудь такое, чтобы мятеж не укрепился и воля собрания не оказалась подчиненной требованиям черни. Итак, Байи обязан был, хоть бы и силой, заставить исполнять закон. Он пришел с никогда не изменявшим ему непреклонно твердым мужеством, выдержал несколько выстрелов, из которых, к счастью, ни один в него не попал, но среди гвалта и шума не мог сделать всех требуемых заявлений. Сначала Лафайет велел сделать несколько выстрелов в воздух. Толпа отошла от алтаря, но скоро опять скучилась. Доведенный до крайности, Лафайет скомандовал стрелять. Первый залп положил нескольких мятежников, но число их было после преувеличено: одни говорят, что пострадали всего тридцать человек, другие называют до четырехсот жертв, а самые возбужденные уверяли, будто погибло несколько тысяч. В первую минуту поверили именно самым страшным цифрам, и распространился всеобщий ужас. Этот строгий пример на время угомонил агитаторов. Как водится, все партии были обвинены в возбуждении этого движения, и весьма вероятно, что не одна партия действительно ему содействовала, потому что беспорядок был на руку многим.
 Красное знамя
Красное знамя
Король, большинство собрания, Национальная гвардия, муниципальные и департаментские власти в ту пору сходились в желании учредить конституционные порядки, и для этого им приходилось бороться против демократии у себя дома и против аристократии вне страны. Собрание и Национальная гвардия составляли средний класс нации, просвещенный, рассудительный, который хотел порядка и законов; поэтому и депутаты, и гвардия в этом случае естественным образом должны были объединиться с королем, который, со своей стороны, по-видимому, смирился с ограничением власти. Но если им желательно было остановиться на достигнутой черте, то этого вовсе не желали ни аристократы, которым хотелось общего переворота, ни простой народ, который желал приобрести больше и подняться выше. Барнав, как некогда Мирабо, был оратором разумной и умеренной буржуазии, Лафайет – ее военным главой. Дантон и Камилл Демулен были ораторами, Сантерр – полководцем толпы, желавшей царствовать. Представителями их были несколько пылких или фанатичных голов, и своим декламаторством они содействовали скорейшему воцарению черни.
 Лафайет отдает приказ стрелять в народ на Марсовом поле
Лафайет отдает приказ стрелять в народ на Марсовом поле
Лафайета и Байи много бранили за экзекуцию на Марсовом поле. Но тот и другой, считая своей первой обязанностью соблюдение закона и жертвуя своей популярностью и жизнью для исполнения его, не сожалели о сделанном и ничего не боялись. Выказанная ими энергия несколько запугала мятежников. Наиболее известные из них даже подумывали о том, чтобы спастись от ударов, уже ожидаемых ими. Робеспьер, который доселе, как мы видели, поддерживал самые преувеличенные предложения, трепетал в своей никому не известной квартире и, даже несмотря на неприкосновенность, которой пользовался в качестве депутата, просил убежища у всех знакомых. Итак, пример подействовал, и все неспокойные угомонились. Собрание в эту пору приняло решение, подвергшееся впоследствии строгой критике, но не оказавшее на самом деле таких пагубных действий, как предполагали. Депутаты постановили декретом не избирать вновь ни одного из членов собрания. Робеспьер первым внес это предложение, что было приписано его зависти к товарищам, среди которых он блистал не особенно. Это было тем естественнее, что он всегда состязался с собранием, но в его чувствах, кроме зависти и неприязни, могло быть также искреннее убеждение. Собрание, которое обвиняли в желании увековечить свою власть, да, сверх того, уже надоевшее толпе своей умеренностью, поспешило ответить на все нападки бескорыстием, быть может, и преувеличенным, и постановило, что все его члены будут исключены из следующего Законодательного собрания. Таким образом, следующее собрание было заранее лишено сотрудничества людей, экзальтация которых успела несколько утихнуть, а законодательные знания и мудрость – созреть в результате трехлетнего опыта. Впрочем, читатели, узнав далее причину последовавших переворотов, будут в состоянии лучше судить о важности этой меры, столь часто порицаемой. Для собрания настала минута закончить свои конституционные труды и оставить свое бурное поприще. Члены левой стороны намеревались сговориться о пересмотре некоторых частей конституции. Решено было прочесть ее всю, чтобы судить о целом и установить гармонию различных частей; это было то, что назвали ревизией и впоследствии, в дни республиканского пыла, сочли бедственной мерой. Барнав и Ламет договорились с Малуэ об исправлении некоторых статей, посягавших на королевскую прерогативу и на прочность престола. Говорят даже, будто они носились с мыслью учредить опять две палаты. Малуэ должен был начать нападение тотчас по окончании чтения, а Барнав – возражать ему с жаром, чтобы лучше скрыть свои намерения, но, защищая большинство статей, он должен был от некоторых отступиться, как от очевидно вредных и заведомо осужденных опытом. Таков был уговор, как вдруг узнали о нелепых и опасных протестах правой стороны, решившейся не принимать участия в голосовании. Тогда уже не оставалось никакой возможности для сделки. Левая сторона не хотела ни о чем слышать, и, когда последовала условленная попытка, поднявшиеся отовсюду крики не дали Малуэ и его единомышленникам продолжать. Итак, конституция была с некоторой поспешностью окончена и представлена королю на утверждение. С этой минуты ему была возвращена полная свобода или, вернее, с дворца был снят строгий надзор и король мог удалиться, куда ему было угодно, чтобы на досуге рассмотреть конституционный акт и свободно принять его. Что было делать Людовику XVI? Отвергнуть конституцию значило отречься от престола в пользу республики. Самое верное было принять ее, а затем ждать возвращения – со временем – тех или других статей власти, которые он считал должными. Вследствие этих соображений Людовик через несколько дней, 13 сентября, объявил, что принимает конституцию. Это известие вызвало необыкновенную радость, точно в самом деле боялись препятствий со стороны короля, и его согласие как будто считалось неожиданной милостью. Он сам явился в собрание и был принят так, как в наилучшие дни.

Лафайет, никогда не забывавший сглаживать неизбежные прискорбные последствия политических смут, предложил общую амнистию за все проступки, относившиеся к революции. Эту амнистию провозгласили среди радостных криков, и тотчас же были открыты тюрьмы. Наконец, 30 сентября, Туре, последний президент, объявил, что заседания Учредительного собрания закрыты.

Законодательное собрание

Глава VII
Роспуск Учредительного собрания – Новое собрание – Состояние клубов – Политика иностранных держав – Приготовления к войнеУчредительное собрание только что окончило свою долгую и многотрудную деятельность и, несмотря на благородное мужество, совершенную честность и добросовестность, а также громадные труды, было ненавидимо в Кобленце как потворствовавшее революции, а в Париже – как потакавшее аристократии. Правильно судить об этом достопамятном собрании нелегко: в нем было соединено столько разнообразных знаний и талантов, были приняты такие смелые и твердые решения; в нем, быть может, в первый раз, сошлись все светлые люди целой нации с твердой волей и возможностью осуществить мечты философов. Для правильного суждения надобно сличить то состояние, в каком собрание застало Францию, и то, в каком оно ее оставило. В 1789 году французская нация чувствовала и сознавала все свои недуги, но даже не помышляла о возможности их исцеления. Вдруг, по непредвиденному требованию парламентов, созвались Генеральные штаты; образовалось Учредительное собрание и явилось перед лицом престола, гордого своим древним владычеством и расположенного разве только выслушать какие-нибудь жалобы. Но вот это собрание прониклось сознанием своих прав, сказало себе, что оно есть нация, и дерзко заявило это изумленному правительству. Угрожаемое аристократией, двором и целой армией, не предвидя еще народных восстаний, оно объявило себя неприкосновенным и запретило власти дотрагиваться до него; убежденное в своих правах, оно обратилось к врагам, в своих правах совсем не убежденным, и простым изъявлением своей воли получило перевес над владычеством многих веков и над тридцатитысячной армией. В этом вся Великая Французская революция, или, пожалуй, первое ее действие, вполне справедливое, геройское, ибо никогда ни одна нация не действовала с большим правом и не подвергалась большим опасностям. Победив власть, надо было воссоздать ее на справедливых и благоприличных основаниях. Но при виде общественной лестницы, на вершине которой всего в изобилии – и власти, и почестей, и богатства, тогда как на нижних ее ступенях во всем недостаток, даже в насущном хлебе, в мыслях собрания происходит страшная реакция: оно решает всё уравнять. Оно предполагает, что масса граждан, приведенная к совершенному равенству, будет изъявлять свою волю, на короля же будет возложено исключительно исполнение этой воли. Ошибка тут не в низведении королевского сана до степени простой общественной должности, потому что королю всё же оставалось достаточно власти, чтобы охранять и поддерживать закон, и более, нежели имеют должностные лица в республиках; ошибка заключалась в предположении, будто король, с воспоминанием о том, чем он был прежде, может смириться с такой новизной, и что народ, едва пробудившийся и захвативший часть общественной силы, не захочет прибрать себе всю эту силу. История показывает, что нужно или дробить власть до бесконечности, или, если уже поставить одного главу, то наделить его достаточной властью, чтобы ему не приходила охота прихватывать лишнюю. Но уж никак не в ту минуту, когда нация вспомнила свои права, она может согласиться принять второстепенную роль и добровольно отдать верховную власть одному лицу, чтобы ему не пришла охота присвоить ее себе незаконно. Учредительное собрание само не более нации было способно на подобное отречение. Поэтому оно свело королевский сан на уровень наследственной должности, в надежде, что король удовольствуется этой должностью, всё же еще сопряженной с блестящими почестями, богатством и властью, и что народ предоставит ее ему беспрекословно. Но могли ли депутаты, имея сомнения, резко разрешить вопрос? Могли ли отстранить короля или дать ему всю ту власть, которой Англия наделяет своих государей? Во-первых, они не могли низложить Людовика XVI, ибо если позволительно внести справедливость в существующий образ правления, то вовсе непозволительно изменять самый образ правления, когда справедливость в нем соблюдена, и ни с того ни с сего превращать монархию в республику. К тому же установившееся обладание должно быть уважаемо, и если бы собрание низложило династию, то что бы наговорили его враги, и без того уже обвинявшие его в нарушении собственности, потому что оно коснулось феодальных прав. С другой стороны, собрание не могло предоставить королю безусловного вето, права назначать судей и другие подобные прерогативы, потому что этому противилось общественное мнение, а так как в этом мнении заключалась единственная сила собрания, то оно вынуждено было подчиняться ему. Что касается учреждения одной палаты, а не двух, в этом случае ошибка собрания была, быть может, существеннее, но так же неизбежна. Если было опасно оставлять даже воспоминание о власти королю, прежде обладавшему ею нераздельно, тогда как народ порывался отнять у него власть до последнего остатка, то еще ошибочнее, в принципе, было не признавать общественного неравенства и иерархии, когда даже республики признают их и у всех непременно есть сенат, избираемый или наследственный. Но от людей можно требовать только того, что они могут сделать в данную эпоху. Каким образом в самый разгар восстания против несправедливости сословных различий признать необходимость этих различий? Каким образом заново учредить аристократию в самое время войны против аристократии? Заново учредить королевскую власть было бы легче, потому что поставленная вдали от народа, она менее непосредственно касалась его, притом исполняла обязанности, казавшиеся более необходимыми. Но, повторяю, если бы даже собрание не поддалось этим заблуждениям, они существовали в самой нации, и последующие события докажут: даже если бы королю и аристократии были оставлены все отнимаемые у них права и власть, революция все-таки развернулась бы до последних своих крайностей. Чтобы убедиться в этом, нужно отличать революции, вспыхивающие у народов, долго проявлявших покорность, от тех, которые бывают у народов свободных, то есть привыкших к известной доле политической деятельности. В Риме, в Афинах и в других республиках нации и их вожди оспаривали друг у друга большую или меньшую долю власти. У новейших народов дело обстоит совсем иначе. Они долго спят, и пробуждение начинается сверху и последовательно захватывает всё общество, до нижайших классов. Просвещенные классы, как только добились того, чего им было надо, хотят остановиться, но уже не могут, и другие, кто напирает сзади, их подталкивают. В этой борьбе сословий, переваливающих друг через друга, простого буржуа работник уже называет «аристократом» и преследует как аристократа. Учредительное собрание представляет нам именно это поколение, просвещающееся и первым возвышающее голос против всемогущей еще власти; достаточно благоразумное, чтобы понимать, чего могут требовать те, кто не имел ничего, оно хочет оставить первым часть того, чем они обладали, а последним – прежде всего доставить просвещение и права, которые приобретаются просвещением. Но в одних засело сожаление об утраченном, в других – честолюбие; те хотят всё вернуть, а эти – всё отнять, и начинается борьба на истребление. Члены Учредительного собрания, люди честные и благонамеренные, стряхнув с себя рабство, старались ввести справедливые порядки, бесстрашно брались за эту громадную задачу, даже преуспели в ней, но обессиливали при попытке уговорить одних что-нибудь уступить, а других – добиваться не всего сразу. При новом справедливом распределении прав Учредительное собрание щадило прежних обладателей власти. Людовик XVI, имея титул короля, тридцать миллионов личного дохода, начальство над армиями и право приостанавливать исполнение национальной воли, еще пользовался немалыми прерогативами. Одно воспоминание о неограниченной власти может служить ему извинением в том, что он не примирился с этим еще блестящим остатком власти. Духовенство, лишенное непомерных имуществ, некогда получаемых с условием помогать бедным (которым оно не помогало), поддерживать благолепие церкви и службы (заботу о которых оно предоставляло чуть ли не нищим приходским пастырям), – духовенство уже не составляло политического сословия, но ему были оставлены почетные церковные должности, его догматы уважали, его безобразные богатства обратились в достаточный, можно даже сказать, обильный доход, так как он еще давал возможность к довольно значительной епископской роскоши. Дворянство тоже не было уже особым сословием; оно не пользовалосьправом исключительной охоты и другими подобными; оно не было уволено от податей, – но можно ли было жалеть и тосковать об этом? Ему были оставлены громадные владения. Члены его могли быть избираемы народом и быть его представителями в государстве, с единственным условием не выказывать к последнему пренебрежения и презрения. Талантам дворян были открыты юридическое и военное поприща; почему же они не воодушевились благородным чувством соревнования? Как не поняли, что сожаление о прежних милостях равнялось признанию в неспособности? Собрание щадило всех получавших из казны пенсионы, вознаграждало духовных лиц, со всеми поступало деликатно; неужели эта участь была так уж невыносима?
Итак, конституция была окончена. Королю оставалось только вернуть посредством переговоров свои прерогативы, предмет бесконечных сожалений, насколько это было возможно, а затем покориться и соблюдать конституцию, если только он не рассчитывал на иностранные державы. Но он весьма мало надеялся на их усердие, а эмиграции и вовсе не доверял. Поэтому Людовик решил принять конституцию и, что всего более доказывает его искренность, хотел тотчас же откровенно указать собранию недостатки, которые находил в ее уставе. Но его от этого отговорили, и он решил ждать возвращения того, что считал себе должным, лишь со временем. Королева в то время не менее короля искренне покорялась обстоятельствам. «Не надо унывать, – сказала она однажды министру Бертрану, – не всё еще пропало. Король хочет держаться конституции: это, конечно, самое лучшее». Можно почти наверное сказать, что если бы у нее были другие мысли, она не задумалась бы высказать их при Бертране де Мольвиле[48].
Учредительное собрание разошлось. Члены его возвратились в свои семейства или разбрелись по Парижу. Некоторые из наиболее видных – Ламеты, Дюпор, Барнав – имели сношения с двором и помогали ему своими советами. Но король не мог решиться следовать этим советам, заключавшимся в том, чтобы не только не нарушать конституции, но всеми своими действиями внушать убеждение, что он искренне к ней привязан. Эти члены первого собрания, сблизившиеся после ревизии, были главами того поколения революции, которое положило первые правила свободы и требовало, чтобы эти правила соблюдались. Их поддерживала Национальная гвардия, которую долгая служба под начальством Лафайета привязала к этому начальнику и его принципам. Члены первого собрания совершили только одну великую ошибку, с пренебрежением отнесшись к новому и часто раздражая его выражением своего презрения. Этими первыми законодателями уже овладело некое аристократическое тщеславие, и они словно думали, что кроме них не существует никакого законодательного знания. Новое собрание состояло из весьма различных людей. Тут были просвещенные политики первой революции: Рамон, Жирарден, Воблан, Дюма и другие, которые назвали себя конституционалистами и заняли правую сторону, где не оказалось уже ни одного члена прежних привилегированных сословий. Таким образом, следуя естественному ходу событий, левая сторона первого собрания сделалась правой стороной второго. Вслед за конституционалистами явилось множество весьма даровитых людей, у которых воспламенились головы и разгорелись преувеличенные желания. Они были праздными и потому нетерпеливыми свидетелями трудов Учредительного собрания и находили, что оно сделало мало; они не смели признаться, что они республиканцы, так как со всех сторон только и было рассуждений, что о необходимости оставаться верными конституции. Но опыт республики, полученный в отсутствие Людовика XVI, и подозрительные намерения двора беспрестанно приводили их к этой мысли, а состояние постоянной враждебности, в котором они находились относительно правительства, должно было с каждым днем всё более привязывать их к ней. В этом новом поколении талантов особенно выделялись депутаты департамента Жиронда, вследствие чего вся партия их, хоть и состояла из жителей всех департаментов, получила название жирондистов. Кондорсе, писатель, известный обширностью образования, крайней строгостью ума и характера, был пером этой партии, Верньо, талантливый импровизатор, – ее оратором. Партия эта, к которой постепенно примыкали все, кто разочаровался во дворе, хотела не той республики, какая выпала ей на долю в 1793 году, – она мечтала о республике со всем ее обаянием, добродетелями и строгими нравами. Восторженность и пылкость сделались ее отличительными чертами. В такой партии должны были быть и крайние умы; таковы были Базир, Шабо, Мерлен из Тионвиля и несколько других, которые, уступая прочим жирондистам талантами, превосходили их отвагой; они впоследствии образовали партию так называемой Горы, когда, по низвержении престола, отделились от жирондистов. Наконец, в этом собрании, как и в первом, присутствовала и средняя группа, которая, не имея предвзятых обязательств, подавала голоса в пользу то одних, то других. При Учредительном собрании, когда еще царствовала истинная свобода, эта группировка оставалась независимой; но так как этой независимостью она была обязана не своей энергии, а только равнодушию, то в последующих собраниях, где воцарилось насилие, она стала труслива и была презираема, получив тривиальное, нелицеприятное название Брюха. Клубы в это время захватили большее влияние. При Учредительном собрании они только вели агитацию, а при Законодательном стали господствовать. Все честолюбивые головы, не нашедшие себе места в Национальном собрании, искали приюта в клубах, где для них были готовы кафедра и бурная публика. Туда стекалось всё, что хотело говорить, волноваться, суетиться, то есть почти вся нация. Народ бегал смотреть на это новое зрелище, наполнял трибуны всех собраний и начинал находить в этом весьма прибыльное занятие, потому что за рукоплескания уже начинали платить. Министр Бертран признался, что ему самому случалось это делать. Старейший из клубов, Клуб якобинцев, уже имел чрезвычайное влияние. В церкви едва умещались все члены и слушатели. Огромный амфитеатр занимал всё пространство. Бюро помещалось в середине, за ним сидели председатель и секретари. Тут собирались голоса, тут прения вносились в реестр. Деятельная переписка поддерживала рвение обществ, рассеянных по всей Франции и называемых филиальными. Этот клуб, по своему старшинству и неукротимому неистовству, всегда имел перевес над всеми прочими. Братья Ламеты и все состоявшие в нем истинно порядочные люди бросили его после поездки короля в Варенн и перешли в Клуб фельянов. В этом клубе соединялись все попытки умеренных клубов, попытки, никогда не удававшиеся, потому что не соответствовали той потребности, которая заставила обратиться к клубной деятельности, – потребности волнений. Здесь же собирались конституционалисты или сторонники первой революции. Поэтому называться членом Клуба фельянов значило подлежать гонению, когда умеренность стала преступлением. Другой клуб, кордельеров, вздумал соперничать с якобинцами. Камилл Демулен был писателем этого клуба, а Дантон – главою. Этот последний, которому не повезло в адвокатуре, сделался кумиром черни, на которую он сильно действовал своей атлетической фигурой, зычным голосом и бурными страстями. Кордельеры не могли затмить своих соперников, к которым привычка влекла огромные массы народа, но почти все принадлежали и к Клубу якобинцев и, когда требовалось, отправлялись туда за Дантоном, чтобы решить какой-нибудь вопрос в его пользу. Робеспьер, который, как мы видели, отличался в Учредительном собрании своим ригоризмом, был исключен из Законодательного собрания декретом, изданным при его же содействии. Он прочно устроился у якобинцев и властвовал там безраздельно благодаря своим догматическим мнениям и репутации честного человека, доставившей ему прозвище Неподкупного. Испугавшись во время ревизии, потом он успокоился и продолжал трудиться над приобретением популярности. На пути своем Робеспьер уже встретил двух соперников, которых начинал ненавидеть, – Бриссо и Луве [де Кувре]. Бриссо, приятель всех деятелей первого собрания, друг Мирабо и Лафайета, известный как республиканец, один из замечательнейших членов Законодательного собрания, имел легкий характер, но несколько своеобразный ум. Луве, человек с теплой душой, большим умом и смелостью, принадлежал к числу тех, кто мыслью опередил Учредительное собрание и мечтал о республике; естественно, это толкало его к жирондистам. Вскоре состязание с Робеспьером еще более прикрепило его к ним. Партия Жиронды, образовавшаяся понемногу, без намерения, из людей слишком порядочных, чтобы сближаться с чернью, и достаточно видных, чтобы возбуждать зависть в ней и ее вождях, – эта партия естественным образом должна была оказаться блестящей, но слабой, и погибнуть под напором окружавших ее более жестких партий. Таково-то было положение Франции: аристократы ушли за Рейн; приверженцы конституции образовали правую сторону собрания, Национальную гвардию и Клуб фельянов; жирондисты составляли большинство в собрании, но не в клубах, где перевес принадлежал самому грубому насилию; наконец, крайние, помещавшиеся на самых возвышенных скамьях в собрании и потому прозванные Горой, были всемогущи в клубах и среди черни. Лафайет, сложив с себя все военные чины, удалился в свои поместья, сопутствуемый благоговением и сожалениями товарищей по оружию. Верховное начальство после него было отдано не одному лицу, а шести начальникам легионов, которые поочередно командовали Национальной гвардией. Байи, верный сподвижник Лафайета в эти три тяжких года, тоже отказался от должности мэра. Голоса избирателей разделились между Лафайетом и Петионом, но двор ни за что не хотел, чтобы мэром сделался Лафайет, и предпочел Петиона, хоть и республиканца. Двор понадеялся на некоторую холодность Петиона, приняв ее за глупость, и даже истратил много денег, чтобы большинство осталось за ним. Он был избран 17 ноября. Это был человек с просвещенным умом, холодными, но прочными убеждениями и немалой ловкостью; он служил республиканцам против двора и не мог не сблизиться с Жирондой по сходности взглядов и вследствие зависти, которую новое его звание возбудило в якобинцах. Однако если бы, несмотря на такое расположение партий, можно было бы рассчитывать на короля, вероятно, недоверие жирондистов рассеялось бы и, при неимении предлога, доставляемого смутами, агитаторы не нашли бы больше средств разжигать чернь.
У короля имелись определенные намерения, но вследствие бесхарактерности они никогда не бывали бесповоротны. Чтобы в них поверили, следовало доказать их, а до этого он мог подвергнуться не одному оскорблению. Людовик был хоть и добр, но несколько мнителен и обидчив, так что его намерения оказались поколеблены первыми же ошибками собрания. Собрание же прямо начало с большой бестактности. Сформировавшись и торжественно присягнув на Конституции, оно первым делом издало декрет по части церемониала, уничтожавший титулы величество и государь. Еще депутаты постановили, что, являясь в собрание, король будет занимать кресло, подобное президентскому. Это были первые изъявления республиканского духа, и гордость Людовика XVI была ими жестоко задета. Чтобы избегнуть того, что он считал унижением, Людовик решил не показываться на заседании, а послать министров открыть сессию. Собрание раскаялось в своей резкости и на другой день отменило декрет – редкий пример уступчивости. Тогда король отправился сам и был принят отлично. К несчастью, перед тем постановили, что если король будет сидеть, то и депутатам можно сидеть, – что они и сделали, а Людовик XVI увидел в этом новое оскорбление. Даже дружные рукоплескания, встретившие и проводившие его, не могли залечить раны, нанесенной королевскому самолюбию. Король возвратился к себе бледный, с изменившимся лицом. Едва оставшись наедине с Марией-Антуанеттой (рассказывает госпожа Кампан в своих записках), он рыдая бросился в кресло. «И вы были свидетельницей этого унижения! – воскликнул он. – Затем ли вы приехали во Францию, чтобы видеть…» Королева старалась его утешить, но сердце Людовика было глубоко уязвлено, и добрые его намерения, конечно, должны были от этого пострадать. Хотя с этих пор он только и думал, что об иноземной помощи, расположение иностранных держав должно было внушать королю мало надежды. Пильницкая декларация осталась без действия, по недостатку ли усердия со стороны государей или вследствие опасности, которой подвергался Людовик XVI, будучи со времени своего возвращения из Варенна как бы в плену у Учредительного собрания. Принятие им Конституции стало новой причиной выжидать результатов опыта, прежде чем действовать. Таково было мнение Леопольда и его министра Кауница. Поэтому, когда Людовик XVI известил все дворы, что принимает Конституцию и намерен в точности соблюдать ее, Австрия прислала ответ весьма миролюбивый, Пруссия и Англия тоже; они всячески заверяли в своем дружественном расположении. Нужно заметить, что соседние державы поступали осторожнее, нежели державы более отдаленные, как Швеция и Россия, потому что они были непосредственно заинтересованы в войне. Густав, мечтавший о блистательной кампании против Франции, ответил на полученное извещение, что не считает короля свободным. Россия высказалась не тотчас. Голландия и итальянские княжества, и в особенности Швейцария, дали ответы удовлетворительные. Курфюрсты Трирский и Майнцский, во владениях которых расположились эмигранты, отвечали уклончиво. Испания, к которой приставали кобленцские эмигранты, тоже не высказалась, под тем предлогом, будто ей необходимо время, чтобы убедиться в свободе короля, но в тоже время заявила, что не намерена нарушать спокойствия государства. Все эти ответы, из которых ни один не был враждебен, твердый нейтралитет Англии, нерешительность Фридриха-Вильгельма, всем известное миролюбивое расположение Леопольда – всё предрекало мир. Трудно предполагать, что происходило в вечно колеблющейся душе Людовика XVI, но самые очевидные его выгоды и даже страх, который впоследствии внушала ему война, заставляют полагать, что и он желал сохранения мира. Среди этого общего согласия одни эмигранты упрямо хотели войны и готовили ее. Они всё еще толпами валили в Кобленц. Там они деятельно собирали оружие, готовили склады, заключали контракты на подряды, составляли войска, впрочем, не наполнявшиеся, учреждали чины, которые продавались, и если и не затевали ничего особенно опасного, то всё же хлопотали с приготовлениями, по собственному мнению, очень страшными и долженствующими поразить народ ужасом. Самый важный вопрос заключался в том, чтобы узнать, потворствует им Людовик XVI или нет. Трудно было поверить, чтобы он не был в душе весьма расположен в пользу родственников и слуг, которые вооружались с целью возвратить ему прежнюю власть. Нужны были величайшая искренность и постоянные доказательства, чтобы убедить в противном. В письмах своих к эмигрантам король приглашал их и даже приказывал возвратиться; но у него, говорят, имелась и секретная переписка, опровергавшая гласную и уничтожавшая ее действие. Тайные сношения его с Кобленцем не подлежат сомнению, но едва ли Людовик этим путем опровергал внушения, гласно делаемые им эмигрантам. Его выгода очевиднейшим образом требовала их возвращения. Присутствие их в Кобленце могло ему быть полезно, только если бы им предстояло сражаться, а Людовик XVI боялся междоусобной войны больше всего. Если же он не хотел пользоваться их шпагой за Рейном, ему гораздо выгоднее было иметь их при себе, чтобы при случае соединить их старания с усилиями конституционалистов для охранения его особы и престола. Кроме того, пребывание их в Кобленце должно было вызвать к жизни строгие законы, которые Людовику вовсе не было бы приятно утверждать, а отказом своим он бы скомпрометировал себя в глазах собрания (и мы в самом деле увидим, что, именно прибегая к вето, король совершенно утратил всякую популярность и подал повод считать себя соучастником эмигрантов). Слишком странно было бы, если бы он сам и все министры не признали бы верность этих соображений. Действительно, по единодушному мнению министров, эмигранты должны были возвратиться и находиться при особе короля, чтобы защищать его, вернуть спокойствие и лишить агитаторов всякого предлога для выступлений. Даже Бертран де Мольвиль был того же мнения, хотя он по убеждениям был далеко не другом Конституции. «Нужно было, – говорит он в своих записках, – применить все возможные средства, чтобы увеличить популярность короля. Самым реальным и полезным средством в ту минуту было бы вернуть эмигрантов. Их возвращение, всеми желаемое, возродило бы во Франции роялистскую партию, совершенно расстроенную эмиграцией. Эта партия, усиливаемая малым доверием к собранию и многочисленными перебежчиками из конституционной партии, а также всеми недовольными, вскоре сделалась бы достаточно могущественной, чтобы обратить в пользу короля более или менее близкий взрыв, которого следовало ожидать». Людовик XVI, согласно советам своих министров, обратился с увещаниями к главнейшим офицерам армии и флота, напоминая им об их обязанностях и стараясь удержать их на местах. Но увещания его не принесли никакой пользы – дезертирство продолжалось безостановочно. Военный министр доложил, что ушли тысяча девятьсот офицеров. Собрание в гневе решилось принять энергичные меры. Учредительное собрание ограничилось тем, что объявило должностных лиц, живших вне королевства, потерявшими свои места и наложило на имения эмигрантов тройную подать, чтобы хоть этим вознаградить государство за услуги, которых они его лишали своим отсутствием. Новое собрание предложило более строгие меры. Представили несколько различных проектов. Бриссо делил эмигрантов на три разряда: зачинщиков и вождей; общественных должностных лиц, покидавших свои должности; и, наконец, тех, кто бежал с родной земли из страха. Первых, говорил он, нужно наказывать, а остальных жалеть и презирать. Не подлежит сомнению, что право свободы не дозволяет приковывать человека к земле, но когда множеством обстоятельств приобретается уверенность, что граждане, покидающие свое отечество, за границей объединяются с целью идти на него войной, то вполне позволительно принимать меры против таких опасных замыслов. Прения были продолжительны и упорны. Конституционалисты противились всем предлагаемым мерам, утверждая, что следует с презрением относиться к бесполезным попыткам, как это всегда делали их предшественники. Однако противное мнение одержало верх, и был издан декрет, приказывавший графу Прованскому возвратиться не позднее, чем через два месяца, или, в противном случае, он лишится права на регентство. Другой декрет, более строгий, был издан против вообще всех эмигрантов: он объявлял, что французы, собравшиеся за границами государства, подозреваются в заговоре против Франции; что если 1 января следующего года они еще будут за границей, то их объявят виновными в таковом заговоре, подвергнут преследованию и накажут смертью; доходы не возвратившихся эмигрантов обратят в пользу нации, без ущемления, однако, прав их жен, детей и законных кредиторов. Эти декреты были изданы 28 октября и 9 ноября. Так как акт выселения за границу сам по себе не заслуживал порицания, то весьма трудно было определить, в каком именно случае этот акт становился преступным. Всё, что мог сделать закон, – это заранее предупредить, что при таких-то условиях выселение будет считаться преступлением; затем всем тем, кто не желал подпасть под действие закона, оставалось повиноваться. Те же, кто, будучи предуведомлены, не возвращались, этим самым соглашались, чтобы их считали преступниками. Сократить поездку, предпринятую для удовольствия или по личным делам, – еще не самая большая жертва отечеству. Людовик XVI, чтобы удовлетворить собрание и общественное мнение, утвердил декрет, требовавший назад его брата под страхом лишения прав на регентство, но закон против эмигрантов остановил своим вето. Министрам было поручено отправиться всем вместе в собрание и объявить волю короля. Они сначала прочли несколько других декретов, им утвержденных. Когда очередь дошла до декрета об эмигрантах, водворилось глубокое молчание, а когда хранитель печати произнес официальную формулу «Король рассмотрит», со всех сторон послышались возгласы неудовольствия. Министр хотел назвать причины, побудившие к этому вето, но множество голосов заговорили сразу, и ему объявили, что конституция дает королю право демонстрировать оппозицию, но не мотивировать ее. Итак, министр должен был уйти, оставляя глубокое раздражение собой. Этот первый акт сопротивления короля собранию был окончательным разрывом, и, хотя он утвердил декрет касательно графа Прованского, в отказе утвердить второй декрет не могли не видеть доказательства его расположения к кобленцским мятежникам. Тотчас припомнили, что он им родственник, друг, отчасти имеет одни с ними интересы, из чего и заключили, что король не может не быть с ними заодно против нации. На следующий же день Людовик XVI велел обнародовать прокламацию к эмигрантам и два частных письма к своим братьям. И тем и другим он представлял убедительнейшие доводы, и, по-видимому, искренне. Он уговаривал их возвратиться и тем прекратить недоверие и подозрения, с наслаждением распускаемые злыми языками, просил не доводить его до принятия против них строгих мер; что же касается его несвободного будто бы состояния, на которое все ссылались, чтобы не слушаться его приказаний, король приводил в доказательство противного вето, только что им изъявленное. Как бы там ни было, эти доводы не произвели ни в Кобленце, ни в Париже того действия, которое должны были бы произвести. Эмигранты не подумали возвращаться, а собрание нашло тон прокламации слишком мягким; многие даже стали оспаривать у исполнительной власти право вообще издавать прокламации. Раздражение было слишком велико, чтобы удовлетвориться прокламацией и потерпеть, пока король заменит принятые энергичные меры мерой пустой и бесполезной.
Вслед за этим испытанием Людовик XVI был подвергнут еще другому и с тем же несчастным результатом. На западе вспыхнули первые религиозные смуты. Учредительное собрание послало туда двух представителей, один из которых был Жансонне, впоследствии прославившийся в партии Жиронды. Доклад свой они сделали уже Законодательному собранию, и он, хотя был составлен в весьма умеренном духе, исполнил собрание негодованием. Читатели помнят, что Учредительное собрание, отставляя от должности священников, отказывавшихся присягнуть Конституции, положило им, однако, пенсии и оставило право частным образом отправлять богослужение. С тех пор эти священники не переставали возбуждать народ против своих присягнувших собратьев и выставлять их нечестивцами, опасными, пагубными, не имевшими права священнодействовать. Они таскали поселян за собой далеко от деревень, чтобы отслужить обедню. Поселяне сердились, видя свои церкви занятыми богослужением, по их мнению, ложным, а себя – вынужденными так далеко ходить за истинным. Нередко они нападали на присягнувших священников и их помощников. Междоусобная война могла разразиться каждую минуту. Собранию были доставлены еще новые сведения, и опасность была показана еще увеличившейся. Тогда депутаты решили принять против этих новых внутренних врагов конституции меры, подобные тем, которые были приняты против вооруженных врагов из-за Рейна, и подвергнуть короля новому испытанию. Учредительное собрание постановило для всех священников гражданскую присягу. Те, кто отказались принимать ее, утрачивали звание служителей церкви, получавших жалованье от государства, но сохраняли небольшие пенсии и свободу отправлять службы частным образом. Ничто не могло быть мягче и умереннее подобной меры. Законодательное собрание снова потребовало присяги, но отказывавшихся принять ее лишало уже всякого содержания. Так как они злоупотребляли своей свободой, возбуждая междоусобную войну, то депутаты постановили, что, смотря по их поведению, эти священники могут быть даже осуждены на тюремное заключение, если откажут в повиновении. Наконец депутаты вовсе запретили им отправлять службы даже частным образом и приказали, чтобы местные администрации доставляли им списки таких священников с характеристиками каждого. Эта мера, постановленная 29 ноября, равно как и первая, против эмигрантов, объясняется страхом, который овладевает угрожаемыми правительствами и заставляет их окружать себя чрезмерными предосторожностями. Они уже не наказывают за совершенный акт, а преследуют еще только предполагаемое нападение, и тогда уже действия их легко становятся жестокими и произвольными, как само подозрение. Епископы и священники, остававшиеся в Париже и сохранявшие сношения с королем, тотчас же поднесли ему записку против этого декрета. Без того уже мучимый совестью, король, всегда упрекавший себя за то, что и первый-то декрет утвердил, не нуждался в поощрении, чтобы отказать в утверждении второму. «Что касается этого, – говорил он, разумея новый проект закона, – меня скорее лишат жизни, чем заставят утвердить его». Министры более или менее разделяли это мнение. Барнав и Ламеты, с которыми король еще иногда совещался, тоже советовали ему не утверждать проекта, но присовокупляли к этому совету и другие, которым король не мог решиться следовать: они советовали не оставлять ни малейшего сомнения насчет расположений короля, а для этого удалить от своей особы всех священников, не принявших присяги, и свою домашнюю церковь составить исключительно из церковных лиц, преданных Конституции. Но из всех даваемых ему советов, Людовик всегда принимал только ту часть, которая согласовалась с его нерешительностью или ханжеством. Дюпор-Дютертр, хранитель печати и представитель конституционной партии в министерстве, добился того, что мнение Барнава и Ламетов было принято министрами, и, когда совет, к великому удовольствию Людовика, решил, что следует снова прибегнуть к вето, прибавил, что не худо бы окружить особу короля священниками, не подлежавшими подозрению. Но против этого предложения Людовик, обыкновенно столь податливый, выказал неодолимое упорство и объявил, что если уж свобода совести постановлена для всех, то он не менее своих подданных имеет право пользоваться ею и может иметь около себя тех священников, которые ему по душе. Министры не настаивали и, еще не доводя этого до сведения собрания, решили декрета не утверждать. Конституционная партия, которой, по-видимому, король предался в эту пору, оказала ему новую помощь в лице директории департамента. Эта директория состояла из наиболее почитаемых членов Учредительного собрания: тут были герцог Ларошфуко, Талейран, Бомец, Деменье, Ансон и другие. Директория подала королю петицию, не официально, а в качестве собрания частных лиц, прося о неутверждении последнего декрета против священников. «Национальное собрание, – говорилось в петиции, – разумеется, желало добра; мы с удовольствием защищаем его от преступных поносителей; но это столь похвальное желание толкнуло его к мерам, которых не могут допустить ни конституция, ни справедливость, ни благоразумие… Оно ставит условием для всех священников, не имеющих места, получение содержания принятием гражданской присяги, тогда как конституция отчетливо и буквально поставила эти пенсии наряду с национальными долгами. Может ли отказ священника принять какую бы то ни было присягу уничтожить его право на получение признанного долга? Учредительное собрание сделало то, что единственно можно было сделать относительно неприсягнувших священников. Вследствие их отказа принять предписываемую присягу оно их лишило занимаемых должностей, но, отнимая жалование, оставило им пенсии. Законодательное же собрание хочет, чтобы священников, не принявших присяги или впоследствии отрекшихся от нее, можно было во время религиозных смут временно удалять или подвергать заключению, если они не повинуются такому приказанию. Не есть ли это возобновление системы произвола, так как станет дозволено наказывать ссылкой, а вскоре за тем и тюремным заключением людей, еще не уличенных в непокорности какому-либо закону?.. Национальное собрание отказывает всем, не принимающим гражданской присяги, в свободном исповедании своей веры с ее обрядами… Между тем эта свобода не может быть ни у кого отнята, она вовеки освящена Декларацией прав…» Эти рассуждения были, несомненно, весьма основательны, но рассуждениями нельзя унять ни злобы, ни опасений партий. Каким образом убедить собрание, что следует дозволить упрямым священнослужителям возбуждать смуты и междоусобную войну? На директорию посыпалась брань, и против этой петиции королю было подано множество других петиций Законодательному собранию. Камилл Демулен, между прочими, подал чрезвычайно смелую петицию от одного из кварталов. В ней можно было уже заметить возраставшую невоздержность в выражениях и отречение от всех приличий, дотоле соблюдаемых относительно властей и короля. Демулен говорил собранию, что необходим великий пример, что директорию нужно отдать под суд, что надлежит преследовать руководителей и должно разить и громить заговорщиков, что сила королевского вето имеет свои пределы и никакое вето не помешало, например, взятию Бастилии… Людовик XVI, хоть и решил не утверждать декрет, но не решался еще объявить об этом собранию. Он хотел сначала расположить к себе общественное мнение, назначив министров из конституционной партии. Монморен, утомленный своей тяжкой деятельностью при Учредительном собрании и трудными переговорами со всеми партиями, не хотел подвергаться бурям нового законодательства и удалился, несмотря на просьбы короля. Портфель министра иностранных дел, после того как от него отказались несколько лиц, был принят Делессаром, оставившим для этого министерство внутренних дел. Делессар, человек честный и просвещенный, находился под влиянием конституционалистов, но был слишком слаб, чтобы укрепить волю короля и держать в почтении иностранные державы и партии внутри страны. Министерство внутренних дел отдали некоему Кайе де Жервилю, большому патриоту, но более усердному, чем это было необходимо, в потакании общественному мнению. Нарбонн, молодой человек, полный энергии и усердия, горячо преданный Конституции и умевший искусно приобретать популярность, был назначен военным министром партией, в то время составлявшей правительство. Он мог бы иметь в совете полезное влияние и привязать к королю собрание, если бы не имел противником Бертрана де Мольвиля, контрреволюционного министра, предпочитаемого двором всем прочим. Бертран де Мольвиль ненавидел Конституцию, искусно разбирался в тексте, чтобы вредить духу ее и искренне желал, чтобы король попробовал привести ее в исполнение, но для того лишь, как он прямо говорил, чтобы на деле сказалась ее неисполнимость. Король не мог решиться отставить его и с этим-то смешанным правительством пытался продолжать свой путь. Постаравшись угодить общественному мнению выбором новых министров, он испытал еще и другие средства с той же целью и, по-видимому, соглашался на все дипломатические и военные меры, предлагаемые против эмигрантских сборищ. Последние строгие законы были задержаны королевским вето, а между тем до собрания каждый день доходили новые сведения о приготовлениях и угрозах эмигрантов. Из протоколов, присылаемых муниципалитетами приграничных департаментов, и донесений торговцев, приезжавших из-за Рейна, оказывалось, что виконт Мирабо, брат великого оратора, находится в страсбургской епархии во главе шестисот человек, что во владениях майнцского курфюрста и близ Вормса стоят большие отряды беглецов под началом принца Конде, что то же самое происходит в Кобленце и во всем курфюршестве Трирском, что множество французов претерпевают насилие, что, наконец, генералу Вимпфену было предложено сдать крепость Нёф-Бризах. Эти донесения, прибавленные к тому, что уже было всем известно, довели собрание до последней степени раздражения. Тотчас же был предложен проект декрета, требовавшего от курфюрстов обезоружить эмигрантов. Решение отложили на два дня, чтобы оно не казалось слишком опрометчивым, а по истечении этого срока открылись прения. Депутат Инар говорил первым. Он дал почувствовать необходимость обеспечить спокойствие государства, не мимолетно, но прочно, внушить к себе уважение быстрыми и сильными мерами, которые бы засвидетельствовали перед всей Европой патриотическую решимость Франции. «Не бойтесь вызвать войну с великими державами, – сказал он, – собственная выгода уже выдала их намерения; ваши мероприятия этих намерений не изменят, но заставят их высказаться… Нужно, чтобы поведение французов соответствовало их новой судьбе. Будучи рабами при Людовике XIV, они все-таки были неустрашимы и велики; ныне, когда они свободны, неужели они будут малодушны и робки? Ошибаются, говорит Монтескье, те, кто думают, что народ, у которого совершается революция, готов дать себя завоевать; он, напротив, готов завоевать других. (Рукоплескания.) Вам предлагают капитуляцию, хотят увеличить королевские прерогативы, увеличить власть короля, человека, воля которого может парализовать волю всей нации, человека, получающего тридцать миллионов, тогда как тысячи граждан умирают в нужде! (Рукоплескания.) Хотят возродить дворянство! Хоть бы и напали на нас все дворяне мира, французы, держа в одной руке золото, а в другой железо, будут сражаться с этим надменным племенем и принудят его терпеть казнь равенства. Говорите с министрами, королем и Европой языком, приличным представителям Франции. Министрам скажите, что вы до сих пор не очень довольны их поведением и что под ответственностью вы разумеете смерть! (Продолжительные рукоплескания.) Европе скажите, что будете уважать конституции всех государств, но если будет возбуждена против Франции война королей, вы возбудите войну народов против королей!» Опять начались рукоплескания, и оратор воскликнул: «Уважайте мою восторженность, это восторженность свободы. Скажите, что сражения между народами по приказанию деспотов подобны ударам, которые один другому впотьмах наносят два друга, натравленные коварным подстрекателем. Когда наступает день, они обнимаются и мстят тому, кто их обманул. Точно так же, если в ту минуту, когда неприятельские армии будут сражаться с нашими, здравый смысл озарит их и они обнимутся перед лицом низверженных тиранов, утешенной земли и удовлетворенного Неба». Восторг, вызванный этими словами, был так велик, что все столпились вокруг оратора, чтобы обнять его. Декрет, поддерживаемый им, был немедленно принят. Депутату Воблану поручили отнести его королю во главе депутации из двадцати четырех членов собрания. Этим декретом собрание заявляло, что считает необходимым требовать от курфюрстов Трирского и Майнцского и других князей империи, чтобы они прекратили сборища на французской границе, и в то же время настоятельно просило короля поспешить с начатыми переговорами о вознаграждениях принцам, имевшим владения в Эльзасе. Воблан, подавая декрет, произнес твердую и почтительную речь, весьма одобренную собранием. «Государь, – заявил он, – если бы французы, изгнанные из своего отечества отменой Нантского эдикта, собрались под ружьем на границах, если бы им покровительствовали германские государи, мы вас спрашиваем, государь, как поступил бы Людовик XIV? Потерпел бы он эти сборища? Пусть же ваше величество сделает для поддержки Конституции то, что он сделал бы ради своей власти». Людовик XVI, решившись, как мы уже сказали, поправить действие своего вето поступками, которые бы понравились общественному мнению, рассудил лично отправиться в собрание и самому ответить на это послание речью, могущей удовлетворить депутатов. Вечером 14 декабря король явился в собрание, известив его о своем приходе утром простой запиской, и был принят в глубоком молчании. Он сказал, что послание собрания заслуживает полнейшего внимания и что в настоящем случае, касающемся чести Франции, он счел за лучшее явиться сам; что, разделяя намерения собрания, но, опасаясь бедствий войны, он пытался вернуть заблуждавшихся французов; что дружеские внушения оказались бесполезными и поэтому он уже предупредил послание и дал знать курфюрстам, что если до 15 января не прекратятся всякие сборища, то курфюрсты будут почитаемы за врагов Франции; что он писал к императору, требуя его вмешательства в качестве главы империи, и что, в случае если не будет получено удовлетворение, он предложит войну. Людовик закончил тем, что заявил: напрасно будут стараться порочить его в отправлении его обязанностей, он – верный хранитель Конституции и глубоко чувствует, какая прекрасная это доля – быть королем свободного народа. За молчанием последовали рукоплескания, вознаградившие короля за холодную встречу. Собрание, постановив утром, что ему будет отвечено посланием, не могло тотчас же выразить Людовику свое удовольствие, но решило разослать его речь во все восемьдесят три департамента. Нарбонн явился сразу вслед за тем, чтобы дать отчет в средствах, которыми предполагалось подкрепить действие требований, обращенных к империи. Полтораста тысяч человек должны были собраться на Рейне. Командующими этой армии назначались три генерала – Люкнер, Рошамбо и Лафайет. Последнее имя было принято громкими рукоплесканиями. Далее Нарбонн объявил, что сам едет обозревать границы, чтобы удостовериться, в каком состоянии крепости, и придать энергичность оборонительным работам. А потом он заметил, что собрание, вероятно, даст нужные суммы и не станет торговаться, когда речь идет о свободе. «Нет! Нет!» – раздалось со всех сторон. Наконец, Нарбонн спросил, не разрешит ли собрание королю, хотя узаконенное число маршалов уже имеется, пожаловать это звание двум генералам, Люкнеру и Рошамбо, на которых возлагается спасение свободы. Громкими возгласами собрание выразило свое согласие и удовольствие, доставляемое ему деятельностью молодого министра. Таким образом действий Людовик XVI непременно приобрел бы прочную популярность и расположил бы к себе даже республиканцев, которые хотели республики только потому, что считали всякого короля неспособным любить и защищать свободу. Общим удовольствием, вызванным этими мерами, правительство воспользовалось, чтобы объявить о неутверждении декрета против священников. В это же утро в газетах напечатали официальное известие об отрешении от должности прежних дипломатов и назначении новых. Благодаря этим предосторожностям послание было принято безропотно. Собрание уже ждало его, и дело пошло лучше, чем ожидали. Отсюда видно, с какими бесконечными предосторожностями вынужден был король пользоваться своей прерогативой и как было опасно для него вообще ею пользоваться на практике. Если б даже Учредительное собрание, которое многие обвиняют в том, будто оно погубило его, отняв у него всякое оружие, дало Людовику право безусловного вето, стал бы он могущественнее? Разве временное вето не производило совершенно того же впечатления, как безусловное? Чего не хватало королю – легальной власти или той власти, которую дает общественное мнение? Это видно из самого результата. Людовика XYI погубило не отсутствие достаточных прерогатив, а неразумное использование ему оставленных… Обещанная собранию деятельность не охладевала. Предложения о военных расходах, о назначении двух новых маршалов следовали одно за другим без перерыва. Лафайет, вытребованный из уединения, в котором отдыхал от трехлетних трудов, явился в собрание и был отлично им принят. Когда он выехал из Парижа, его провожало несколько батальонов Национальной гвардии, и всё доказывало ему, что имя его не забыто и его всё еще считают одним из основателей свободы. Между тем император Леопольд, миролюбивый от природы, не хотел войны, зная, что она ему вовсе не выгодна; но он желал конгресса, поддерживаемого внушительной военной силой, чтобы привести к соглашению и к нескольким изменениям в конституции. Эмигранты же хотели не изменить ее, а уничтожить. Император, будучи умнее и более сведущим, знал, что нужно многое уступить новым веяниям и можно желать разве только возвращения королю некоторых прерогатив да переделки в составе Законодательного собрания, то есть учреждения двух палат вместо одной. Этого последнего проекта боялись всего более и в нем чаще всего обвиняли конституционную партию. Достоверно то, что если эта партия в первые времена Учредительного собрания отвергала верхнюю палату из основательного опасения, чтобы в ней не засело дворянство, то опасения ее исчезли; она, напротив, питала не менее основательную надежду самой почти исключительно занять ее. Многие члены бывшего собрания, поневоле погруженные в полную бездеятельность, нашли бы в этом возможность снова вступить на политическое поприще. Итак, если эта верхняя палата не была совершенно согласна с их убеждениями, всё же она могла служить их интересам. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что газеты часто об этом толковали и слух этот ходил всюду. Как быстро развивалась революция! Нынешняя правая сторона состояла из членов прежней левой стороны, и предметом опасений и нареканий было уже не возвращение к старинным монархическим порядкам, а учреждение верхней палаты. Какая разница с 1789 годом! И как ход событий ускорился из-за безрассудного сопротивления! Итак, Леопольд считал возможным только вышеупомянутое улучшение. Пока его целью было затянуть переговоры и, не доводя до разрыва с Францией, внушить ей уважение твердостью. Но он не достиг своей цели благодаря самому своему ответу. Ответ этот состоял в сообщении заключений Регенсбургского сейма, который отказывался от всякого вознаграждения принцам, имевшим владения в Эльзасе. Ничто не могло быть нелепее такого отказа, потому что вся территория, подвластная одной державе, должна управляться одними законами, и если некоторые принцы империи имели поместья во Франции, то они обязаны были подчиниться лишению феодальных прав, и Учредительное собрание уже много сделало, положив выдать им за это вознаграждение. Многие из них уже вели по этому поводу переговоры, но сейм уничтожал всякие заключенные договора и запрещал принцам соглашаться на какую бы то ни было сделку. Относительно же эмигрантских сборищ Леопольд, не высказываясь насчет роспуска их, ответил Людовику XVI, что так как курфюрст Трирский может, судя потребованиям французского правительства, подвергнуться в скором времени неприятельским действиям, то предписано спешить к нему на помощь. Невозможно было придумать ответ бестактнее этого. Он вынуждал Людовика XVI принять энергичные меры и предложить войну, чтобы не компрометировать себя. Делессар был тотчас же послан в собрание с поручением сообщить этот ответ и заявить об удивлении, которое поведение Леопольда вызвало у короля. Министр уверял, что императора, вероятно, обманули и ложно убедили его, будто курфюрст Трирский исполнил все обязанности доброго соседа. Делессар сообщил еще и ответ, данный Леопольду. Ему было объявлено, что, невзирая на ответ и приказ, отданный войскам, если курфюрсты в положенный срок, то есть к 15 января, не исполнят требования Франции, то против них будут применены военные меры. «Если эта декларация, – говорил Людовик XVI в своем письме к собранию от 31 декабря, – не произведет того действия, которого я от нее ожидаю, если Франции суждено сражаться против своих детей и своих союзников, тогда я изложу Европе правоту нашего дела; французский народ поддержит его своим мужеством, и нация увидит, что я не имею других интересов, кроме ее интересов». Слова эти, которыми король, по-видимому, соединялся с нацией в минуту общей опасности, вызвали горячие рукоплескания. Документы были отданы дипломатическому комитету для скорейшего составления по ним доклада собранию. Королева еще раз была встречена рукоплесканиями в Опере, как в лучшие дни своего блеска и величия, и, возвратившись во дворец, радостно рассказала мужу, что публика ее приняла, как бывало прежде. Но это были последние ласки народа, некогда боготворившего ее царственную грацию. Чувство равенства, которое так долго дремало, уже просыпалось и обнаруживалось повсеместно. Кончался 1791 год. Собрание отменило прежний церемониал поздравления короля с высокоторжественным днем начала нового года. Тогда же одна депутация пожаловалась, что ей не были отворены настежь двери совета. Из этого вышел спор, оживленный до скандала, и собрание написало по этому поводу королю, опуская титулы государь и величество. В другой день один из депутатов вошел к королю в шляпе и в неприличном для такого случая костюме. Такое поведение часто было вызываемо грубостью, с которой придворные принимали депутатов, и в подобных мстительных поступках гордость одной партии не дозволяла ей отставать от другой.
Нарбонн с редкой энергией совершил свой объезд. Три армии были поставлены на угрожаемой границе. Рошамбо, старый генерал, некогда искусный в военном деле, но теперь нездоровый, брюзгливый и вечно всем недовольный, командовал так называемой Северной армией, стоявшей во Фландрии. Лафайету была отдана Центральная армия, расположенная близ Меца. Люкнер, старый воин, посредственный генерал, но храбрый солдат, чрезвычайно популярный в войсках по милости своих совершенно военных нравов, командовал корпусом, занимавшим Эльзас. Вот всё, что долгий мир и чуть не поголовное дезертирство оставили Франции по части генералов. Рошамбо, недовольный новыми порядками, раздраженный распущенностью дисциплины в армии, беспрестанно жаловался и не внушал правительству почти никакой надежды. Лафайет, молодой, деятельный, стремившийся отличиться в защите отечества, восстанавливал дисциплину в своих войсках и преодолевал все препятствия, поставляемые ему офицерами – аристократами армии. Он созвал их всех и в благородных выражениях сказал, чтобы они лучше оставили лагерь, если не хотят служить верой и правдой; что если между ними есть желающие удалиться, то он берет на себя достать им отставку для проживания во Франции или заграничные паспорта; но уж если они хотят служить, то он от них ожидает усердия и верности. Таким образом, ему удалось установить в своей армии лучший порядок, нежели во всех других. Что касается Люкнера, то он не имел политических мнений, поэтому годился при всяких порядках, много обещал собранию и в самом деле сумел привязать к себе солдат. Нарбонн совершил свой объезд с чрезвычайной быстротой и 11 января 1792 года уже явился в собрание отдавать отчет в своей экспедиции. Он объявил, что ремонт крепостей идет весьма успешно, что армия от Дюнкерка до Безансона представляет силу в двести сорок батальонов и сто шестьдесят эскадронов с артиллерией, необходимой для двухсот тысяч человек, и провиант на шесть месяцев. Он с большой похвалой выразился о патриотизме национальных гвардий из волонтеров и уверял, что в непродолжительном времени экипировка их будет готова. Молодой министр, конечно, поддавался иллюзиям от чрезмерного усердия, но его намерения были так честны, а труды так быстры, что собрание заглушило его речь рукоплесканиями, объявило отчет заслуживающим общественной благодарности и разослало его всем департаментам – обыкновенный способ, которым оно выражало свое уважение и одобрение.
Глава VIII
Разделение партий по вопросу о войне – Роль герцога Орлеанского – Образование министерства из жирондистов – Дюмурье – Военные операцииВ начале 1792 года война сделалась большим и актуальным вопросом; для Французской революции это был вопрос о самом существовании. Ее враги теперь перенеслись за границу – там надо было искать их и победить. Будет ли король, глава всех армий, действовать добросовестно против своих родственников и прежних придворных? Таково было сомнение, относительно которого надлежало успокоить нацию. Вопрос о войне обсуждался в Клубе якобинцев, который ни одного дела не пропускал, не решая его полновластно. Странным покажется то, что крайние якобинцы – и даже сам глава их, Робеспьер – больше склонялись к миру, а якобинцы умеренные, или жирондисты, – к войне. Во главе последних стояли Бриссо и Луве. Бриссо поддерживал войну своим талантом и влиянием. Он думал, так же как и Луве и все жирондисты, что война нужна нации, потому что она положит конец опасной неизвестности и разоблачит истинные намерения короля. Эти люди, судя о результате по своим восторженным надеждам, не могли поверить, что нация может быть побеждена, и рассчитывали, что если она, по вине короля, и понесет какой-нибудь урон, то по крайней мере узнает наверняка, чего можно от него ожидать, и низложит неверного вождя. Каким образом Робеспьер и другие якобинцы были против решения, которое должно было привести к такой скорой и решительной развязке? Это можно объяснить лишь догадками. Пугала ли война робкого Робеспьера? Или он потому только действовал против нее, что Бриссо, его соперник, и молодой Луве талантливо защищали ее? Как бы там ни было, но Робеспьер с необыкновенным упорством ратовал за мир. Члены Клуба кордельеров явились на это заседание и поддержали Робеспьера. Они, по-видимому, больше всего боялись, что война даст слишком много преимуществ Лафайету и доставит ему в скором времени военную диктатуру; это был постоянный страх Демулена, который уже воображал Лафайета во главе победоносного войска, громящего, как на Марсовом поле, якобинцев и кордельеров. Луве и жирондисты приписывали кордельерам другое побуждение и полагали, что преследуют в Лафайете только врага герцога Орлеанского, с которым они, как говорили, состояли в тайном союзе. Сам герцог Орлеанский, который отныне мелькает больше в подозрениях врагов, нежели в реальных событиях, почти совсем исчез со сцены. Сначала партии могли использовать его имя для своих целей и сам он мог возлагать некоторые надежды на тех, кому он это позволял, но с тех пор всё изменилось. Чувствуя, что ему не место в народной партии, он в последнее время Учредительного собрания старался помириться с двором, но не был принят. Законодательное собрание оставило ему звание адмирала, и он снова попытался приблизиться к королю. На этот раз его приняли, даже недурно, и пригласили на довольно долгое свидание. Стол королевы был накрыт, и в ее покоях находилась целая толпа придворных. Едва герцога Орлеанского увидели, как на него досыпались оскорбления. «Берегите блюда!» – кричали со всех сторон, как бы опасаясь, что он подсыплет яда. Герцога толкали, ходили по его ногам и принудили уйти. Спускаясь с лестницы, он подвергся новым оскорблениям и удалился в крайнем негодовании, уверенный, что сами король с королевой подготовили ему такое унижение, тогда как они были в отчаянии, узнав о нахальстве придворных. Герцог, конечно, должен был ожесточиться больше прежнего, но не сделался от этого ни деятельнее, ни искуснее как руководитель партии. Те из его друзей, кто имел вес в собрании и у якобинцев, разумеется, пошумели – вследствие этого вообразили, что опять является его партия и его притязания и надежды возрождаются одновременно с опасностями, грозившими престолу. Жирондисты думали, что крайние якобинцы и кордельеры отстаивают мир только для того, чтобы лишить Лафайета, соперника герцога Орлеанского, славы и отличий, которые могла доставить ему война. Как бы то ни было, в собрании решение должно было последовать в пользу войны, так как в нем преобладали жирондисты. Собрание начало год с того, что первого же января отдало под суд братьев короля – графа Прованского и графа д’Артуа, а также принца Конде, Калонна, Мирабо-младшего и Лакея по обвинению в действиях, враждебных Франции. Так как обвинительный декрет не подлежал королевскому утверждению, то на этот раз вето ему не грозило. Наложение секвестра на поместья эмигрантов и взимание с них доходов в пользу казны, установленные неутвержденным декретом, были теперь постановлены новым, особым декретом, против которого король не мог возразить. Собрание забирало эти доходы в качестве военного вознаграждения. Граф Прованский, кроме того, был лишен права на регентство. Наконец 14 января Жансонне представил собранию отчет о последних действиях германского императора. Он заметил, что Франция всегда расточала Австрии деньги и солдат, никогда ничего от нее не получая; что союзный договор, заключенный в 1756 году, нарушен Пильницкой декларацией и последующими заявлениями, имевшими целью возбудить вооруженную коалицию всех государей; что договор еще более нарушен вооружением эмигрантов, допущенным и даже потворствуемым князьями империи. Жансонне, кроме того, доказывал, что недавние приказы о роспуске сборищ были отданы для вида и не исполнялись; что за Рейном постоянно видно белую кокарду, а национальная подвергается оскорблениям; и что, следовательно, должно потребовать от императора окончательных объяснений касательно этого договора. Было постановлено напечатать этот отчет и отложить прения по нему. В тот же день на кафедру взошел Гюаде. «Из всех сообщенных собранию фактов, – сказал он, – наиболее поразил меня план конгресса, который имел бы целью изменение французской конституции, план, давно уже подозреваемый, но теперь наконец объявленный возможным самими министрами и комитетами. Если правда, что этой интригой руководят люди, надеющиеся найти в ней средство выйти из политического ничтожества; если правда, что некоторые из представителей исполнительной власти всеми силами потворствуют этому гнусному замыслу; если правда, что нас хотят довести всякими проволочками и унынием до принятия этого позорного посредничества, должно ли Национальное собрание сквозь пальцы смотреть на такие опасности? Поклянемся все здесь скорее умереть, нежели…» Оратору не дали закончить, всё собрание встало с криками «Да, да! Клянемся!» и тут же, в восторженном порыве, объявило бесчестным и изменником отечества всякого француза, который примет участие в конгрессе, имевшем целью изменить конституцию. Этот декрет был направлен в особенности против бывших членов Учредительного собрания и министра Делессара, которого обвиняли в том, что он затягивает переговоры. Семнадцатого января возобновились прения по отчету Жансонне, и декретом было постановлено, что король впредь будет вести переговоры лишь от имени французской нации и потребует от императора окончательных объяснений до 1 марта. Король ответил, что он уже две недели как потребовал у Леопольда объяснений. В это время пришло известие о том, что курфюрст Трирский, испуганный настойчивостью Франции, отдал новые приказы о роспуске эмигрантских сборищ, о продаже складов, устроенных в его владениях, о воспрещении военных упражнений и вербовке и что эти приказы действительно приведены в исполнение. При существующем настроении известие это было принято холодно. Собрание видело во всем происходившем одну пустую демонстрацию и продолжало требовать окончательного ответа от Леопольда. В правительстве налицо был раздор, особенно между Бертраном де Мольвилем и Нарбонном. Бертран завидовал популярности военного министра и не одобрял его уступчивости собранию. Нарбонн жаловался на образ действий Бертрана, на его противоконституционные склонности и хотел, чтобы король удалил его из правительства. Кайе де Жервиль поддерживал между ними равновесие, но без особого успеха. Уверяли, будто конституционная партия хотела возвести Нарбонна в звание первого министра; короля, по-видимому, тоже ввели в заблуждение, напугали популярностью и честолюбием Нарбонна и показали ему в нем самонадеянного юношу, стремившегося управлять всем кабинетом. Газеты узнали об этих несогласиях. Бриссо и вся Жиронда горячо защищали министра, которому грозила опасность, и с живостью нападали на его товарищей и на самого короля. Было опубликовано письмо к Нарбонну трех генералов Северной армии, в котором они выражали свои опасения по поводу ожидаемой скорой его отставки. Король тогда немедленно сменил Нарбонна, но, чтобы уменьшить неудовольствие, сменил в то же время и Бертрана. Однако впечатление, произведенное отставкой Нарбонна, нисколько от этого не смягчилось; разразилось необыкновенное волнение, и собрание объявило, в тех же выражениях, которые были использованы по поводу отставки Неккера, что Нарбонн уносит с собой доверие нации, утраченное всем остальным правительством. Из этого приговора, однако, исключался Кайе де Жервиль, который всегда ратовал против Бертрана и еще недавно вступал с ним все время в споры. Бриссо вызвался доказать, что Делессар обманул доверие нации. Этот министр сообщил дипломатическому комитету свою переписку с Кауницем: переписка отличалась отсутствием всякого достоинства, даже давала Кауницу невыгодное представление о состоянии Франции и как бы оправдывала действия и речи Леопольда. Нужно знать, что Делессар и его товарищ Дюпор-Дютертр изо всех министров наиболее были преданы фельянам и их более всех ненавидели за то, что они подозревались в благоприятствовании проекту конгресса. Во время одного из наиболее бурных заседаний собрания Бриссо обвинил несчастного Делессара в том, что тот компрометировал достоинство нации, не предупредив собрание о соглашении держав и Пильницкой декларации; что он в своих нотах излагал антиконституционные мнения, дал Кауницу ложное мнение о состоянии Франции, затянул переговоры и вел их способом, противным интересам отечества. Верньо присоединился к Бриссо и прибавил еще новые обвинения к уже взведенным. Он упрекал министра в том, что тот слишком долго держал в портфеле декрет, присоединявший графство Венессен к Франции, и стал таким образом причиной резни, случившейся в Авиньоне[49]. Затем Верньо присовокупил: «С этой кафедры, с которой я говорю, виден дворец, где коварные советники вводят в заблуждение и обманывают короля, данного нам конституцией; видны окна дворца, где замышляется и проводится контрреволюция, где придумываются средства вновь погрузить нас в рабство. Террор часто выходил в древние времена из этого пресловутого дворца: пусть же он ныне войдет в него во имя закона, пусть проникаются им все сердца, пусть все обитатели этого дворца знают, что наш закон дарует неприкосновенность лишь одному королю». Обвинительный декрет тотчас же был предан голосованию и принят (это произошло 10 марта). Делессара отправили в учрежденный в Орлеане высший суд, под юрисдикцией которого, согласно конституции, находились государственные преступления. Королю очень больно было отпускать его: он вполне доверял министру и любил его за умеренные и миролюбивые взгляды. Дюпор-Дютертру, конституционному министру, тоже грозило обвинение, но он предупредил таковое, просил разрешения оправдаться, был объявлен невиновным и тотчас за тем подал в отставку. Тоже сделал и Кайе де Жервиль, так что король остался один, лишенный единственного министра, пользовавшегося у собрания репутацией патриота. Разлученный с министрами, данными ему фельянами, не зная, на кого опереться в эту бурю, Людовик XVI, сменивший Нарбонна за то, что тот был слишком популярен, вздумал связаться с жирондистами – фактическими республиканцами. Правда и то, что они были республиканцами лишь из недоверия к королю, который, отдавшись им, вероятно, и мог бы привязать их к себе, но следовало отдаться искренне; этот вечный вопрос об искренности и тут поднимался как всегда, при каждом случае. Без сомнения, Людовик искренне доверялся той или другой партии, но никогда без досады и сожалений. Однако только партия предлагала ему трудное, но необходимое условие, как он его отвергал; из этого немедленно возникало недоверие, следовала раздраженность, и дело кончалось разрывом злосчастных союзов между людьми, слишком занятыми противоположными интересами. Так, допустив к себе партию фельянов, король с досадой оттолкнул Нарбонна, самого отъявленного вождя этой партии, а теперь, чтобы усмирить бурю, находился в печальной необходимости предать себя в руки Жиронде. Пример Англии, где король часто берет министров из оппозиции, отчасти побудил к этому и Людовика XVI. Двор снова стал надеяться, потому что в самых скорбных обстоятельствах человек всё еще ощущает в себе надежду; двор даже льстил себя мыслью, что Людовик, взяв в министры неспособных и смешных демагогов, погубит репутацию партии, из которой их изберет. Однако этого не случилось, и новое правительство оказалось не таким, каким бы желала злоба придворных.
Примерно за месяц до того Делессар и Нарбонн призвали и поместили близ себя человека, таланты которого показались им находкой: то был Дюмурье, который, командуя войсками сначала в Нормандии, потом в Вандее, везде выказывал редкую твердость и большой ум. Он предлагал свои услуги то двору, то Учредительному собранию, потому что для него все партии были одинаковы, лишь бы ему было где применить свою энергию и необыкновенные способности. Дюмурье провел часть своей жизни в дипломатических интригах. Имея храбрость, военный и политический гений и пятьдесят лет от роду, он в начале Французской революции был еще не более чем блистательным авантюристом, сохранившим, однако, юношеский огонь и отвагу. Как только начиналась война или готовился какой-нибудь переворот, он составлял проекты, обращался с ними ко всем партиям, готовый действовать в пользу любой, только бы ему дали действовать. Таким образом, Дюмурье приучил себя ни во что не ставить свойства всякого дела, но, не имея решительно никаких убеждений, он был благороден, добр сердцем, способен к привязанности – если не к принципам, то по крайней мере к личностям. Однако при его легком, гибком, быстром, обширном уме, при его мужестве, то спокойном, то пылком, Дюмурье удивительно годился к службе, но не в начальники. Он не имел ни того достоинства, которое дается глубоким убеждением, ни гордости деспотической воли и мог приказывать только солдатам. Если бы, при его гении, у него были страсти Мирабо, воля Кромвеля или хоть догматизм Робеспьера, он забрал бы в руки и революцию, и Францию. Дюмурье, сделавшись близким Нарбонну, тотчас же составил обширный военный план. Он хотел в одно время войны и наступательной, и оборонительной. Везде, где Франция простиралась до своих естественных границ – Рейна, Альп, Пиренеев и моря, – он хотел ограничиться обороной, но в Нидерландах, где территория не доходила до Рейна, и в Савойе, где она не достигала Альп, он требовал немедленного наступления, с тем чтобы, как только будут достигнуты естественные границы, немедленно опять приняться за оборону. Это значило примирить выгоды Франции с принципами, то есть воспользоваться войной, вызванной не ею, чтобы расширить ее до границ, указанных ей природой. Кроме того, Дюмурье предложил составить еще четвертую армию – для занятия юга – и просил дать ему начальство над нею, что и было ему обещано. Дюмурье расположил в свою пользу Жансонне, одного из гражданских комиссаров, посланных Учредительным собранием в Вандею, впоследствии попавшего депутатом в Законодательное собрание и сделавшегося одним из влиятельнейших членов Жиронды. Заметив, что якобинцы есть сила предержащая, он явился в клуб и к ним, прочел там с большим успехом несколько записок и при всем том не прекращал свою старинную дружбу с Лапортом, интендантом двора и душевно преданным Людовику XVI человеком. Имея, таким образом, связи со всеми силами, между которыми предстоял союз, Дюмурье не мог не быть призван в правительство. Людовик XVI предложил ему портфель министра иностранных дел, упраздненный обвинительным декретом против Делессара, но, всё еще надеясь воротить обвиненного министра, предложил портфель только временно. Дюмурье, чувствуя за собой сильную опору и не желая подавать вида, будто только бережет место для министра-фельяна, отказался от должности, данной с таким условием, и получил ее совсем. Он застал в правительстве только Кайе де Жервиля и маркиза де Грава. Кайе де Жервиль, хоть уже подал в отставку, тогда еще продолжал вести дела. Де Грав заместил Нарбонна; он был молод, неопытен и обладал легким характером. Дюмурье сумел прибрать его к рукам, так что мог заправлять не только иностранными, но и военными делами, то есть имел в своем ведении и причины, и возможности организации войны. Этого для предприимчивого ума было недостаточно. Едва сделавшись министром, Дюмурье явился к якобинцам в красной шапке, заимствованной у фригийцев и сделавшейся эмблемой свободы. Он обещал им действовать за них и через них. Представившись Людовику XVI, он успокоил его насчет своего поведения в Клубе якобинцев, изгладил предубеждение, внушенное этой выходкой, сумел тронуть короля изъявлениями своей преданности и развеять своим остроумием его мрачное и печальное настроение. Дюмурье убедил Людовика, что ищет популярности лишь для пользы престола и ради его упрочения. Однако, при всей своей почтительности, он дал королю почувствовать, что конституция есть неизбежная необходимость, и в утешение старался доказать, что и при конституции государь может еще быть очень силен. Первые же его депеши иностранным державам, исполненные благоразумия и твердости, изменили весь ход переговоров, поставили Францию в совершенно новое положение и сделали угрозу войны реальной. Дюмурье, естественно, должен был желать войны, так как обладал военным гением и тридцать шесть лет размышлял об этом великом искусстве, но надо сознаться, что сделали ее неизбежной образ действий Венского кабинета и раздражение собрания. Своим поведением у якобинцев и своими связями с Жирондой Дюмурье, даже не испытывая ненависти к фельянам, должен был вызвать ссору с ними, тем более что он, так сказать, сталкивал их с места. В самом деле, он состоял в постоянной оппозиции ко всем вождям этой партии. Не обращая внимания на насмешки и пренебрежение, постоянно изъявляемые ими против якобинцев и собрания, он решился идти своей дорогой с обычной своей самоуверенностью.
Нужно было дополнить кабинет. По этому поводу спросили мнения Петиона, Жансонне и Бриссо. По закону нельзя было брать министров из числа членов ни предыдущего, ни настоящего собрания, так что выбор был крайне ограниченным. Дюмурье предложил в качестве морского министра некоего Лакоста, долго служившего в этом министерстве, опытного и работящего человека, ярого патриота, который, однако, привязался к королю, приобрел его расположение и оставался при нем долее других. Министерство юстиции хотели поручить тому самому молодому Луве, который недавно отличился у якобинцев и был в милости у Жиронды с тех пор, как поддержал мнение Бриссо в пользу войны, но завистливый Робеспьер тотчас же устроил на него донос. Луве успешно оправдался, но министром не мог стать человек, имевший сомнительную репутацию, и его заменил Дюрантон, адвокат из Бордо, человек просвещенный, прямой, но слишком слабый. Оставались министерства финансов и внутренних дел. Жиронда предложила Клавьера, известного дельными сочинениями по части финансов. У него было много мыслей, он обладал упорством, происходившим от размышлений, и большим усердием в работе. Министром внутренних дел был назначен Ролан, бывший инспектор мануфактур, известный дельными предложениями по части промышленности и ремесел. Этот человек, отличавшийся строгими нравами, непреклонными убеждениями, холодной и жесткой наружностью, находился, сам того не сознавая, под влиянием жены – молодой красавицы, умной и образованной. Проведя молодость в уединении, она выросла на философских и республиканских идеях и выработала мысли и понятия выше тех, которые обыкновенно бывают у женщин, а из господствовавших тогда принципов создала для себя суровую религию. Живя в тесной дружбе с мужем, который был несоразмерно старше нее, она за него писала, сообщала ему часть своей живости, вдохновляла своим энтузиазмом не только его, но и всех жирондистов, которые, страстно любя и философию, и свободу, поклонялись в госпоже Ролан красоте, уму и своим собственным мнениям. В новом правительстве соединялось достаточно качеств, чтобы оно имело успех, но для этого нужно было еще, чтобы оно было не слишком противно Людовику XVI и удержалось в союзе с Жирондой. Тогда оно могло бы справиться со своей задачей, но всё должно было пропасть в тот день, когда к естественной несовместности партий прибавились бы ошибки людей. А этого не могло не случиться в скором времени. Людовик XVI, пораженный деятельностью своих новых министров, их прекрасными намерениями и способностями к делам, сначала был в восторге. Ему особенно нравились вводимые ими экономические реформы, так как он всегда любил преобразования такого рода, не требовавшие жертв ни по части власти, ни по части принципов. Если бы он мог всегда быть так спокоен, как в это первое время, и если бы мог расстаться с придворными, то он легко перенес бы принятие конституции. Король много раз откровенно говорил это министрам и убедил даже самых неуступчивых, Ролана и Клавьера. Жиронда, мечтавшая о республике только из недоверия к королю, перестала о ней мечтать, и Верньо, Жансонне и Гюаде вступили в переписку с Людовиком XVI, что впоследствии стало одной из статей обвинения против них. Непреклонная жена Ролана одна сомневалась и удерживала своих друзей, слишком, по ее мнению, легко поддававшихся обаянию личности. С ее стороны это было естественно: она не видела короля, не говорила с ним. Министры же, напротив, ежедневно с ним беседовали, – а честные люди, когда сблизятся, скоро успокаиваются. Только эти доверительные отношения не могли быть долгими, потому что неизбежно должны были появиться вопросы, по которым с яркостью обнаружилось бы всё различие их мнений. Двор не пропускал случая осмеять несколько республиканскую простоту нового правительства и грубоватую суровость Ролана, который являлся во дворец в башмаках без пряжек. Дюмурье отвечал на сарказмы сарказмами и, мешая веселость с усидчивым трудом, вызывал симпатию короля, восхищал его своим остроумием и, может быть, более других подходил ему по гибкости своих убеждений. Королева, заметив, что он более своих товарищей имеет влияние на короля, пожелала его видеть. В своих записках Дюмурье сохранил это замечательное свидание, рисующее волнения этой злополучной государыни, достойной лучшего царствования, лучших друзей и лучшей доли. Когда его ввели в комнату королевы, он застал ее одну, раскрасневшуюся, в волнении, предрекавшем весьма оживленное объяснение. Он стал у камина, болезненно тронутый участью государыни и ужасными ощущениями, которые она переживала. Она пошла к нему навстречу с величественным и гневным видом и сказала: «Милостивый государь, вы в настоящую минуту всемогущи, но вы этим обязаны милости народа, который весьма скоро развенчивает своих кумиров. Ваше существование зависит от того, как вы будете себя держать. Говорят, вы – очень даровитый человек. Вы должны сами рассудить, что ни король, ни я не можем терпеть этих новостей и этой конституции. Я вам объявляю откровенно – так и знайте!» Он отвечал ей: «Государыня, для меня крайне прискорбно тяжкое сообщение, сейчас сделанное мне вашим величеством. Я его не выдам; но я стою между королем и нацией и принадлежу моему отечеству. Позвольте мне обратить ваше внимание на то, что благо короля, ваше и ваших августейших детей связано с конституцией, равно как и восстановление ею законной власти. Я бы оказал дурную услугу вам, да и ему, если бы говорил вам другое. Вы оба окружены врагами, которые жертвуют вами своим собственным выгодам. Конституция, как только вступит в полную силу, не только не будет причиной несчастья короля, но, напротив, станет причиной его благополучия и славы; необходимо, чтобы он способствовал скорому и прочному ее водворению». Несчастная королева, шокированная тем, что Дюмурье говорил вразрез с ее понятиями, сказала ему, громко и гневно: «Это не продолжится; берегитесь!» Дюмурье ответил со скромной твердостью: «Государыня, мне более пятидесяти лет, я в жизни пережил много опасностей и, принимая министерство, понимая, что ответственность не есть главная из грозящих мне опасностей». «Недоставало еще, – с горечью воскликнула она, – чтобы вы на меня клеветали! Вы, кажется, думаете, что я способна приказать тайно убить вас!» И слезы полились из ее глаз. Не менее королевы взволнованный, он возразил: «Боже меня упаси нанести вашему величеству такую жестокую обиду! Характер вашего величества благороден и возвышен; вы дали этому геройские доказательства, которые возбудили мое удивление и привязали меня к вашему величеству». В ту же минуту она успокоилась и подошла к нему. Дюмурье продолжал: «Поверьте, государыня, я не имею никакой выгоды обманывать вас, мне, так же как и вам, отвратительны анархия и злодеяния. Поверьте мне, я имею опыт. Я удобнее вашего величества поставлен для того, чтобы судить о событиях. Это не минутное народное движение, как вы, кажется, полагаете; это почти поголовное восстание великой нации против закоренелых злоупотреблений. Большие партии раздувают этот пожар; везде есть и злодеи, и безумцы. Я имею в виду и короля, и всю нацию; всё, что клонится к тому, чтобы разлучить их, ведет к их обоюдной погибели; я тружусь, насколько могу, чтобы соединить их; ваше дело – помогать мне. Если я составляю препятствие вашим намерениям, если вы в них упорствуете – скажите мне: я тотчас же пойду к королю просить отставки и удалюсь в какое-нибудь захолустье – оплакивать участь моей родины и вашу». Конец этого разговора совсем укрепил доверие королевы. Они вместе перебрали различные партии; он привел ошибки и преступления каждой из них; доказал ей, что ее предают у нее дома, привел слова, сказанные ею в самом интимном кружке; она казалась ему под конец совершенно убежденной и отпустила его спокойно и милостиво. Она была искренна, но ее окружение и ужасные гнусности газет, издаваемых якобинцами и Маратом, скоро опять вызвали ее пагубные решения. В другой раз она сказала ему при короле: «Я в отчаянии. Не смею подойти к окну, что выходит в сад. Вчера вечером, чтобы подышать воздухом, я показалась у окна во двор; один канонир, часовой, выкрикнул грубое оскорбление и присовокупил, с каким удовольствием насадил бы мою голову на штык! В этом ужасном саду с одной стороны видишь человека, стоящего на стуле и вслух читающего про нас всякие гнусности; с другой – какого-нибудь аббата, которого тащат к бассейну, осыпая ругательствами и побоями; в то же время третьи играют в мяч или спокойно гуляют. Что за город! Что за народ!» Таким образом, по роковому стечению обстоятельств, предполагаемые намерения дворца возбуждали недоверие и ярость народа, а вопли народа усиливали страдания и неосторожность дворца, и отчаяние царило и в нем, и вокруг него. Но почему же, невольно спрашиваешь себя, откровенным объяснением не кончались все беды? Почему дворец не понимал опасений народа? Почему народ не понимал страданий дворца? Но почему люди – всегда люди?.. На этом последнем ответе приходится остановиться, покориться, смириться и продолжать печальный рассказ.
Леопольд II скончался. Это было потрясение для общеевропейского спокойствия, так как от его племянника и преемника, короля Венгерского и Богемского, нельзя было ждать такого миролюбия и умеренности. Густав, король Швеции, около того же времени был убит на балу. Враги якобинцев приписывали это убийство им, но было вполне доказано, что это злодеяние совершили шведские дворяне, которые были унижены Густавом в последнюю революцию. Итак, дворянство, обличавшее во Франции революционную ярость народа, подавало на Севере пример того, чем оно было прежде, да и теперь оставалось, в менее цивилизованных странах. Какой пример для Людовика XVI, какой урок, если бы в эту минуту он мог его понять и применить! Смерть Густава расстроила предприятие, задуманное им с участием России и Испании против Франции. Впрочем, сомнительно, что всё пошло бы так, как полагали. В сущности, смерть Густава была не очень важным событием, и последствия ее были сильно преувеличены. Делессар попал под суд за недостаточно энергичные депеши; не в интересах Дюмурье было выказывать слабость в переговорах с державами. Последние депеши, по-видимому, понравились Людовику XVI своей твердостью и сообразностью. Ноайль, французский посланник в Вене, не слишком искренний слуга отечества, прислал Дюмурье просьбу об отставке на том основании, что не надеется заставить государя выслушивать речи, которые ему предписывается говорить. Дюмурье поспешил доложить об этом собранию, которое, негодуя на этот поступок, тотчас же отдало Ноайля под суд. Другой посланник был немедленно отправлен с новыми депешами. Два дня спустя Ноайль отменил свою просьбу об отставке и прислал категорический ответ, вытребованный им у венского двора. Эта нота министра Кобенцеля составляет одну из самых серьезных ошибок, совершенных тогда державами. В ней Кобенцель требовал от имени своего двора восстановления французской монархии на основах, определенных королевской декларацией от 23 июня 1789 года. Это значило: восстановление трех сословий, возвращение духовенству его имуществ, а папе – графства Венессен. Австрийский министр, кроме того, требовал возвращения князьям империи их земель в Эльзасе со всеми феодальными правами. Нужно было знать Францию лишь по одним кобленцским россказням, чтобы предложить ей подобные условия, то есть потребовать в одно и тоже время уничтожения конституции, которой присягнули король и нация, отмены важного решения, принятого относительно Авиньона, наконец, банкротства, неминуемого при возвращении духовенству его по большей части уже проданных имуществ. Да и наконец, в силу какого права требовать такой покорности? По какому праву вмешиваться в дела Франции? С какой стати подавать жалобы в пользу эльзасских князей, когда земли их находились среди земель, принадлежавших французскому государству и, следовательно, должны были подчиняться его законам? Первым движением короля и Дюмурье было спешить в собрание и сообщить ему эту ноту. Собрание, естественно, пришло в негодование, поднялся один общий крик: «Война!» Но Дюмурье не сказал собранию одного: Австрия, которой он грозил новой революцией в Люттихе, прислала к нему переговорщика по этому предмету; и человек этот говорил совсем иначе, нежели австрийское правительство, а последняя нота была явно плодом внезапного и подсказанного решения. Собрание сняло с Ноайля обвинение и потребовало немедленного рапорта. Король уже не мог отступить; эта роковая война наконец должна была быть объявлена, но она не была для него выгодна. Французы-победители сделались бы еще требовательнее и непреклоннее насчет соблюдения нового закона; побежденные, они придрались бы к правительству и обвинили его в недостаточно усердном ведении войны. Людовик XVI вполне сознавал эту двоякую опасность, поэтому решение стало для него одним из самых тяжелых. Дюмурье составил свой рапорт с обычной скоростью и отнес его королю, который продержал его у себя три дня. Вопрос состоял в том, должен ли король взять на себя инициативу и сам посоветовать собранию объявить войну или только совещательно обратиться к нему и объявить, что, согласно данным предписаниям, Франция находится на военном положении. Министры Ролан и Клавьер держались первого мнения, ораторы Жиронды – тоже и даже желали продиктовать тронную речь. Людовику неприятно было объявлять войну; он предпочитал объявить военное положение. Разница ничтожная, но ему это было бы легче. Можно было оказать это снисхождение его неловкому положению. Дюмурье, податливый более других, не послушал остальных министров и с помощью де Грава, Лакоста и Дюрантона заставил товарищей согласиться на желание короля. Это было первое его несогласие с Жирондой. Король сам сочинил свою речь и 20 апреля лично отправился в собрание, сопровождаемый всеми министрами. Значительное стечение публики увеличивало эффектность этого заседания, долженствовавшего решить судьбу Франции и Европы. Лицо короля было бледным и изобличало глубокую озабоченность. Дюмурье прочел подробный отчет о переговорах между Францией и империей; он доказал, что договор 1756 года фактически нарушен и по последнему ультиматуму Франция находится в состоянии войны. Он присовокупил, что король, желая посоветоваться с собранием и не имея к тому других легальных средств, кроме формального предложения войны, решается этим путем испросить его мнения. Тогда заговорил сам Людовик XVI, с достоинством, но взволнованным голосом. «Господа, – сказал он, – вы сейчас слышали результаты переговоров, которые я вел с венским двором. Заключение рапорта составлено по единогласному мнению моего совета, я и сам с ним согласен. Заключение это сообразно желанию, неоднократно изъявленному мне Национальным собранием, и чувствам, заявленным мне большим числом граждан из разных частей королевства; все предпочитают скорее воевать, чем долее смотреть, как оскорбляется достоинство французского народа и нарушается национальная безопасность. Я обязан был сначала исчерпать все средства, чтобы сохранить мир. Ныне я, согласно с Конституцией, предлагаю Национальному собранию войну против короля Венгерского и Богемского». Это предложение было принято с величайшей радостью; со всех сторон раздались крики «Да здравствует король!». Собрание ответило Людовику XVI, что примется за прения и известит его о результате. Прения были бурными и продолжались до поздней ночи. Всё, что было говорено за и против войны, повторили еще раз, наконец декрет состоялся: за войну проголосовало значительное большинство. «Принимая во внимание, – гласил декрет, – что венский двор вопреки трактатам не перестает открыто покровительствовать французским мятежникам, заключил договор между несколькими европейскими державами против независимости и безопасности французской нации; что Франциск I, король Венгерский и Богемский, своими нотами от 18 марта и 7 апреля объявил, что не откажется от этого договора, несмотря на то, что ему было предложено нотой от 11 марта 1792 года привести войска на границах в мирное положение, а продолжал усиливать свои враждебные приготовления, формально посягнув на владычество французской нации и, заявив свое намерение поддержать притязания немецких князей, имеющих владения во Франции, которым нация не переставала предлагать вознаграждения; старался поселить раздор между французскими гражданами и вооружить их друг против друга, предлагая недовольным поддержку держав; принимая, наконец, во внимание, что после того, как он отказался отвечать на последние депеши французского короля, нет никакой надежды добиться устранения всех этих обид путем дружеских переговоров, и что этот отказ равносилен объявлению войны и прочее, – собрание объявляет, что война стала неотложно необходимой». Нужно признать, что эта жестокая война, так долго терзавшая Европу, была начата не Францией, а иностранными державами. Франция, объявляя войну, только признала декретом положение, в которое была поставлена другими. Известие о войне вызвало всеобщую радость. Патриоты усматривали в ней конец опасений, внушаемых им эмиграцией и нерешительными действиями короля; умеренные, более всего страшась раздоров, надеялись, что общая опасность примирит всех и поле битвы отвлечет всех этих неспокойных людей, порождены революцией. Только несколько фельянов, всегда готовых винить собрание, находили, что оно нарушило конституцию, согласно которой Франция никогда не должна была играть наступательную роль. Но на этот раз было слишком ясно, что Франция не наступает. Итак, все, кроме короля да немногих недовольных, желали войны. Лафайет приготовился честно служить отечеству на этом новом поприще. Ему было поручено исполнение плана Дюмурье по распоряжению министра де Трава. Дюмурье уверил всех патриотов, что вторжение в Бельгию будет совсем не трудным. Эта страна, недавно потрясенная революцией, подавленной Австрией, должна была подняться при первом появлении французов, и тогда сбылось бы слово, сказанное собранием иностранным государям: «Если вы пошлете нам войну, мы вам пошлем свободу». Притом это было одним из условий плана Дюмурье, состоявшего в том, чтобы дойти до естественных границ. Рошамбо командовал армией, наиболее близкой к месту действий, но на него нельзя было возложить эту операцию вследствие его брюзгливости и болезненности, а главное потому, что он гораздо менее Лафайета годился для вторжения полувоенного, полународного. Хотели было дать Лафайету общее начальство над всей операцией, но Дюмурье на это не согласился, вероятно, из личного недоброжелательства. Он привел причиной то, что нельзя же обойти маршала и дать начальство над этой экспедицией простому генералу. Еще он сказал – и эта причина прозвучала основательнее, – что Лафайет подозрителен якобинцам и собранию. Действительно, не подлежит сомнению, что Лафайет, молодой, деятельный, единственный из всех генералов, которого любили войска, должен был внушать опасения экзальтированным головам и своим влиянием подавал повод к клевете. Как бы то нибыло, он охотно вызвался исполнить план министра, одновременно военный и дипломатический, и для этого потребовал 50 тысяч человек, с которыми предложил двинуться через Намюр и реку Маас до Люттиха, откуда уже мог держать Нидерланды в повиновении. Дюмурье одобрил этот весьма решительный план. В самом деле, так как война была объявлена всего несколько дней назад, Австрия не успела распорядиться прикрытием своих бельгийских владений и успех казался верным. Итак, Лафайет получил приказание сначала двинуться с 10 тысячами из Живена в Намюр, а из Намюра в Люттих и Брюссель; за ним должна была последовать вся его армия. Пока он совершал это движение, генерал-лейтенант Бирон должен был, тоже с 10 тысячами, идти из Валансьена в Моне. Другому офицеру приказали идти на Турне и неожиданно занять его. Эти движения, исполняемые офицерами Рошамбо, имели целью только поддержать и маскировать настоящую атаку, вверенную Лафайету. Исполнение этого плана было назначено на период с 20 апреля до 2 мая. Бирон двинулся, вышел из Валансьена, овладел Кьевреном и застал близ Монса несколько неприятельских отрядов. Вдруг два драгунских полка, не имея даже перед собой неприятеля, начали кричать «Нас предали! Нас предали!», побежали и увлекли за собой всю армию. Офицеры тщетно старались остановить их: они угрожали расстрелять офицеров и продолжали бегство. Лагерь был брошен, и все боеприпасы попали в руки неприятелям. Пока при Монсе происходили эти события, другой офицер, Теобальд Дильон, выступил по уговору из Лилля с двумя тысячами пехоты и тысячей кавалерии. В тот самый час, когда с Бироном приключилась такая беда, кавалерия, завидев австрийцев, откинулась назад с криками «Измена!», увлекла за собою пехоту, и обоз опять достался неприятелю. Дильон и инженерный офицер по имени Бертуа были убиты на месте солдатами и народом города Лилля, которые обвинили их в измене. Между тем Лафайет, уведомленный слишком поздно, добрался из Меца в Живе с неслыханным трудом и по невозможным дорогам. Только по причине большого усердия своих войск он смог в такое короткое время пройти такое значительное расстояние. Узнав о бедственной участи офицеров Рошамбо, он счел за лучшее остановиться. Эти прискорбные события происходили в последних числах апреля 1792 года.

Глава IX
Несогласия в министерстве – Письмо Ролана к королю – Отставка министров-жирондистов и Дюмурье – Образование министерства из фельяновИзвестие о несчастном исходе сражений при Кьеврене и Турне и об убийстве генерала Дильона вызвало общий ужас. Естественно было предположить, по сходству и единовременности этих двух событий, что они случились по уговору. Все партии обвиняли одна другую. Якобинцы и экзальтированные патриоты уверяли, что имел место предательский умысел против свободы. Дюмурье, не обвиняя Лафайета, но подозревая фельянов, вообразил, что офицеры нарочно хотели расстроить план, чтобы подорвать его популярность. Лафайет жаловался, – но не так горько, как его партия, – что его очень поздно уведомили о том, что надо идти, и не дали средств дойти. Фельяны, сверх того, распустили слух, что Дюмурье хотел погубить Рошамбо и Лафайета, предначертав им план и не давая средств исполнить его. Такого намерения нельзя было предположить, так как Дюмурье, составляя план кампании и этим уклоняясь от своей роли министра иностранных дел, сильно рисковал в случае неудачи. К тому же присоединение Бельгии к Франции входило в план, давно обдумываемый им: как же можно было предположить, что он сам хотел помешать своему успеху? Ясно было, что ни генералы, ни министры не могли тут провиниться, потому что все были заинтересованы в успехе. Но партии всегда всё приписывают не обстоятельствам, а людям; в беде им прежде всего нужно на кого-нибудь накинуться. Де Грав, испуганный неурядицами, вызванными этими первыми военными событиями, сложил с себя обязанности, давно уже тяготившие его, а Дюмурье не захотел занять его должность. Тогда Людовик XVI, опять-таки под влиянием Жиронды, вверил военный портфель Сервану, бывшему военному, известному своими патриотическими убеждениями. Этот выбор дал новые силы Жиронде, которая, имея в своем распоряжении Сервана, Клавьера и Ролана, получила почти большинство в Совете министров. Жирондисты с каждым днем становились недоверчивее, а следовательно, взыскательнее к доказательствам искренности со стороны Людовика XVI. Дюмурье, не особо поддававшийся убеждениям, притом тронутый доверием короля, всегда принимал его сторону, так же как и Лакост, горячо привязавшийся лично к королю. Дюрантон оставался нейтральным и выказывал явное предпочтение только наиболее слабым советам. Серван, Клавьер и Ролан были непреклонны; под влиянием опасений, внушаемых им друзьями, они с каждым днем становились недоступнее и неумолимее. Одно последнее обстоятельство окончательно поссорило Дюмурье с главными членами Жиронды. Вступая в министерство иностранных дел, он потребовал шесть миллионов на секретные расходы, с тем чтобы не давать отчета в этих деньгах. Фельяны этому воспротивились, но Жиронда поддержала его требование, и деньги были ему предоставлены. Когда Петион потребовал денег на парижскую полицию, Дюмурье назначил ему тридцать тысяч франков в месяц, но, выплатив эту сумму всего один раз, отошел от Жиронды и больше не платил. С другой стороны, стало известно или просто возникли подозрения, что он использовал сто тысяч франков на свои личные нужды. Ролан, у которого собиралась вся Жиронда, пришел в негодование, так же, как и все его друзья. Министры поочередно обедали друг у друга, чтобы на досуге толковать о делах. Когда обед случался у Ролана, на нем присутствовали его жена и все их близкие, и можно сказать, что тогда сама Жиронда держала совет. На одном из таких собраний присутствовавшие начали укорять Дюмурье в его секретных расходах. Сначала он отвечал легко и остроумно, потом рассердился и решительно поссорился с Роланом и его друзьями. Он более не появлялся на собраниях под тем предлогом, что не желает говорить о государственных делах при женщине и личных приятелях Ролана. Впрочем, Дюмурье еще несколько раз приезжал к Ролану, но о делах не говорил вовсе или очень мало. Возник еще один спор, который еще более оторвал его от жирондистов. Гюаде, самый нетерпеливый член этой партии, прочел письмо, в котором хотел, чтобы министры пригласили короля взять в духовники присягнувшего священника. Дюмурье стал доказывать, что жирондисты не имеют права вмешиваться в частные религиозные дела короля. С ним, правда, согласились Верньо и Жансонне, но спор оказался очень оживленным и привел к окончательному разрыву. Газеты первыми начали нападать на Дюмурье. Фельяны, уже составившие против него заговор, неожиданно нашли помощников в якобинцах и жирондистах. Дюмурье твердо выстоял бурю, разразившуюся со всех сторон, и принял строгие меры против некоторых журналистов. Еще раньше этого был издан обвинительный декрет против Марата, редактора «Друга народа», ужасного издания, в котором он открыто требовал крови и убийств и осыпал нахальнейшей бранью королевскую семью и всех, казавшихся подозрительными его зарвавшемуся воображению. Чтобы уравновесить действие этой меры, такой же обвинительный декрет был издан против Ройу, редактора «Друга короля», нападавшего на республиканцев с таким же неистовством, с каким Марат преследовал роялистов. Давно уже везде толковали о некоем австрийском комитете. Патриоты говорили о нем в городе так же много, как при дворе говорили об орлеанских происках. Этому комитету приписывалось тайное и вредное влияние, действовавшее будто бы через королеву. Если при Учредительном собрании и существовало что-нибудь вроде австрийского комитета, ничего подобного не было при Законодательном собрании. В то время одно высокопоставленное лицо, находившееся в Нидерландах, передавало королеве от имени ее семейства довольно благоразумные советы, которые еще выигрывали благодаря комментариям французского посредника. Но при Законодательном собрании таких сообщений уже не было вовсе. Семейство королевы продолжало переписываться с нею, но более не советовало ей ни терпения, ни покорности. Только Бертран де Мольвиль и Монморен еще бывали во дворце после ухода из правительства. На них-то и направлялись все подозрения, и они действительно выполняли все секретные поручения. Их публично обвинил журналист Карра. Решившись преследовать его как клеветника, Бертран и Монморен потребовали, чтобы он предъявил доказательства. Карра сослался как на источник опубликованных им сведений на трех депутатов – Шабо, Мерлена и Базира. Мировой судья Ларивьер, который, самоотверженно посвящая себя королю, с большим мужеством вел это дело, имел смелость выдать приказ об аресте указанных депутатов. Собрание, оскорбленное таким посягательством на неприкосновенность своих членов, ответило мировому судье обвинительным декретом и сослало его в Орлеан. Эта неудачная попытка только еще увеличила общее волнение и ненависть ко двору. Жиронда, поняв, что не имеет более влияния на Людовика XVI с тех пор, как им овладел Дюмурье, возвратилась к своей роли ярой оппозиции.
Незадолго до этого была составлена новая конституционная гвардия короля. По закону следовало также составить его гражданский штат, но дворянство не хотело в него вступать, чтобы не признавать конституцию, принимая должности, ею созданные. С другой стороны, и двор не хотел допускать новых людей, поэтому дело было отложено. По этому поводу Барнав писал королеве: «Как вы хотите внушить этим людям хоть малейшее сомнение насчет ваших чувств? Вам хотят устроить военный и гражданский штат, а вы, подобно юному Ахиллу среди дочерей Ликомеда, спешите выбрать меч, пренебрегая простыми украшениями». Министры и сам Бертран де Мольвиль настаивали так же, как Барнав, но ничего не могли поделать, и гражданский штат так и не был составлен. Военный штат, по плану Делессара, был составлен из одной трети линейных войск и двух третей молодых солдат, выбранных из Национальной гвардии. Такой состав должен был устроить всех. Но в смысле патриотизма офицеры и солдаты были выбраны весьма дурно. Они составили коалицию против молодых гвардейцев, говорили им всякие дерзости и вынудили большинство удалиться. Удалившиеся, разумеется, тотчас же замещались верными людьми. Наконец общее число солдат чересчур увеличилось: вместо тысячи восьмисот, дозволенных законом, их стало почти шесть тысяч. Дюмурье несколько раз делал на этот счет замечания королю, который постоянно отвечал одно и то же: что старого герцога Бриссака, командовавшего этими войсками, никак нельзя считать заговорщиком. Между тем новая гвардия вела себя во дворце и других местах так, что повсюду зародились подозрения и клубы взволновались. Около того же времени двенадцать швейцарцев надели в Нёйи белую кокарду, а в Севре был сожжен значительный склад бумаги, и всё это тоже возбудило сильные подозрения. Разнеслась тревога, собрание объявило свои заседания постоянными, как будто снова настали дни, когда тридцать тысяч человек угрожали Парижу. Впрочем, надо признать, что смуты были повсеместными, неприсягнувшие священники возбуждали народ в южных провинциях и злоупотребляли таинством исповеди, чтобы пробудить в людях фанатизм; между иностранными державами явно существовало соглашение: Пруссия собиралась соединиться с Австрией, а иноземные армии начинали принимать угрожающее положение; все умы были заняты недавними несчастиями при Лилле и Монсе. Правда и то, что могущество народа не внушает большого доверия, что в него никогда не верят прежде, нежели увидят его в деле, и беспорядочная толпа, как бы ни была многочисленна, не может держаться против шести тысяч человек, вооруженных и дисциплинированных. Итак, собрание поспешило 28 мая объявить свои заседания постоянными и велело составить точный отчет о составе военного штата короля, о том, сколько в нем имеется людей, кто они и как себя ведут. Удостоверившись в том, что конституция нарушена, депутаты одним декретом распустили гвардию, другим предали герцога Бриссака суду и послали эти два декрета королю на утверждение. Он сначала хотел наложить на декреты вето, но Дюмурье напомнил ему о том, как он распустил свою лейб-гвардию, служившую ему гораздо дольше, и посоветовал принести эту новую, сравнительно ничтожную жертву. Притом Дюмурье убедил короля в реальных ошибках гвардии – и декрет был утвержден. Дюмурье тотчас же стал настаивать на скорейшем составлении новой гвардии, но король, потому ли, что вспомнил свою прежнюю тактику казаться угнетенным, или потому, что рассчитывал на распущенную гвардию, которой тайно продолжал выплачивать жалованье, отказался от новой и остался без защиты против народной ярости. Жиронда, совсем отчаявшись получить поддержку короля, продолжила активно действовать. Она уже издала новый декрет против священников вместо того, который король не захотел утверждать. Так как непрерывно приходили новые отчеты об их мятежном поведении, то священников приговорили к ссылке. Поскольку отобрать виновных было нелегко и эта мера, как все меры, имеющие целью безопасность, основывалась на подозрении, то священники ссылались больше на основании того, что о них становилось известно. По доносу двадцати граждан и с одобрения местной окружной директории департаментская директория приговаривала обвиненного к ссылке: ему предписывалось выехать из округа в суточный срок, из департамента – в трехдневный, а из королевства – в течение месяца. Если священник был совсем беден, ему полагалось по три франка в день, до пересечения границы. По этому строгому закону (изданному 27 мая) можно судить о мере возраставшего раздражения депутатов. За этим декретом последовал другой. Восьмого июня министр Серван, не получив на то приказ короля и не посоветовавшись с товарищами, предложил по случаю предстоявшего празднества Федерации 14 июля образовать лагерь из двадцати тысяч федератов с целью охранять собрание и столицу. Легко себе представить, с каким восторгом этот план был принят большинством собрания – жирондистами. Именно в эту минуту могущество их достигло высшей степени. Они управляли собранием, так как конституционалисты и республиканцы составляли меньшинство, а мнимые беспристрастные были, как всегда, просто равнодушны ко всему и становились все смирнее и покорнее по мере того, как большинство становилось сильнее. Кроме того, жирондисты управляли Парижем через мэра Петиона, вполне им преданного. Их намерение состояло в том, чтобы не из личного честолюбия, а ради возвеличения своей партии и своих убеждений, посредством предлагаемого лагеря завладеть королем и принять предосторожности против его подозрительных намерений. Едва стало известно предложение Сервана, Дюмурье спросил его во время заседания, при всем Совете министров, по какому праву он сделал подобное предложение. Тот ответил, что сделал его в качестве частного лица. «В таком случае, – возразил Дюмурье, – не надо было прописывать вслед за именем ваш титул военного министра». Завязался такой сердитый спор, что, не будь тут короля, могла бы пролиться кровь. Серван вызвался, наконец, взять свое предложение назад, но это оказалось бы бесполезно, потому что собрание ухватилось за него и короля лишь обвинили бы в насилии над министром. Итак, Дюмурье этого не допустил. Предложение осталось, но против него была подана петиция, подписанная восьмью тысячами солдат Национальной гвардии, обиженных тем, что собрание как будто считало их услуги недостаточными для своего охранения. Однако предложение министра всё же обратили в декрет, который поступил к королю на утверждение. Жирондисты предвидели, что он не утвердит ни того ни другого, и только этого и ждали, чтобы произнести окончательный приговор. Дюмурье доказывал в совете, что эта мера будет очень вредна престолу, но еще более – жирондистам, потому что новое войско сформируется под влиянием самых ярых якобинцев. Однако он присовокупил, что королю необходимо принять эту меру, потому что в противном случае вместо двадцати тысяч правильно выбранных людей сорок тысяч пришедших самовольно восстанут и наводнят столицу. Он, кроме того, уверял, что есть средство уничтожить действие этой меры и он в свое время укажет его. Дюмурье также доказывал, что следует утвердить и декрет о ссылке священников, во-первых, потому, что они виновны, а во-вторых, потому, что ссылка спасет их от ярости врагов. Людовик XVI колебался и ответил, что еще подумает. На том же заседании Ролан непременно захотел прочесть королю письмо, которое перед этим ему писал, – что было совершенно бесполезно, так как король уже читал его. Письмо это стало плодом внушения жены Ролана, и написано было ею. Одно время речь шла о том, чтобы написать такое письмо от имени всех министров. Когда остальные отказались участвовать, госпожа Ролан настояла, чтобы муж один решился на это. Тщетно Дюрантон, который был слаб, но благоразумен, основательно доказывал ему, что тон письма не только не убедит короля, но ожесточит его против министров, пользовавшихся общественным доверием, и что это кончится лишь пагубным разрывом между престолом и народной партией. Жиронда хотела окончательного объяснения и предпочитала разрыв неизвестности. Итак, Ролан прочел свое письмо королю и заставил его, при всем Совете министров, выслушать самые резкие увещания. Вот это знаменитое письмо: «Государь, настоящее положение Франции не может долго продлиться; это положение есть кризис, достигший высшей степени. Он должен окончиться с блеском, в этом Ваше Величество заинтересованы столько же, сколько и всё государство. Удостоенный Вашим доверием и поставленный на место, обязывающее меня говорить Вам правду, я дерзну высказать ее Вам всю: долг, возложенный на меня Вами самими. Французы дали себе конституцию; она вызвала много неудовольствия и бунтов; большинство нации хочет удержать ее; оно клялось защищать ее ценою своей крови и с радостью встретило войну, представляющую ему великое средство утвердить ее. Между тем меньшинство, поддерживаемое своими надеждами, собрало все свои силы, чтобы победить. Отсюда внутренняя борьба против законов, анархия, прискорбная для добрых граждан и доставляющая злоумышленникам удобное орудие для клеветы против новых порядков; отсюда раздор, повсюду распространившийся, всюду возбуждаемый, ибо нигде нет равнодушия: каждый хочет либо торжества, либо изменения конституции и действует за или против нее. Я не стану разбирать, какова она сама по себе, а буду рассматривать только, чего требуют обстоятельства, и, сам оставаясь как можно более в стороне, буду искать того, чего можно ждать и чему следует потворствовать. Ваше Величество пользовались большими прерогативами, которые Вы считали принадлежностью Вашего сана; воспитанный в полной обоснованности сохранения их, Вы не могли легко поступиться ими: желание вернуть их было так же естественно, как сожалеть об уничтожении их. Эти чувства, свойственные человеческой природе, конечно, входили в расчет врагов революции; следовательно, они рассчитывали на тайное потворство до тех пор, пока обстоятельства дозволят покровительство явное. Это настроение не могло ускользнуть от самой нации и должно было внушать ей постоянное недоверие. Итак, Ваше Величество постоянно находились в необходимости делать одно из двух: уступать своим первым привычкам и личным привязанностям или приносить жертвы, предписываемые философией и требуемые необходимостью, то есть придавать смелости мятежникам, приводя в беспокойство нацию, или успокаивать нацию, присоединяясь к ней. На всё есть время, и теперь, наконец, настало время колебания. Можете ли Вы, Ваше Величество, ныне открыто соединиться с теми, кто имеет претензию переделать конституцию, или должны великодушно и бесповоротно посвятить себя ее торжеству? Таков, в сущности, вопрос, разрешение которого нынешнее положение делает необходимым. Что же касается другого, свойства весьма метафизического, – созрели ли французы для свободы, – обсуждение его здесь ни к чему послужить не может, потому что речь не о том, чем мы сделаемся через сто лет, а о том, к чему способно настоящее поколение. Из волнений, среди которых мы живем уже четыре года, последовало что? Обременительные для народа привилегии уничтожены; повсеместно распространились понятия о справедливости и равенстве; общественное мнение утвердило пониманием народом своих прав; торжественное признание этих прав сделалось священным догматом; ненависть к дворянству, давно внушенная феодализмом, растравлена явным сопротивлением большинства дворян против уничтожающей их конституции. В первый год революции народ видел в дворянах людей, ненавистных из-за притеснительных привилегий, которыми они пользовались, но перестал бы ненавидеть их по уничтожении этих привилегий, если бы поведение дворянства с того времени не утвердило все возможные поводы опасаться его и бороться против него как против непримиримейшего врага. Привязанность к конституции усилилась в такой же мере: народ не только обязан ей ощутительными благодеяниями, но рассудил, что она готовит ему еще большие, так как люди, привыкшие валить все тяготы на народ, усердно старались уничтожить или изменить конституцию. Декларация прав человека сделалась чем-то вроде политического Евангелия, а Французская Конституция – религией, за которую народ готов положить жизнь. Поэтому усердие не раз уже доходило до того, что дополняло закон, и, когда закон не оказывался достаточно подавляющим, чтобы сдерживать возмутителей, граждане позволяли себе самим наказывать их. Вот почему имущества эмигрантов подвергались опустошениям, вызывавшимся мщением; вот почему столько департаментов сочли себя вынужденными круто поступить со священниками, которые были заклеймены общественным мнением и легко могли сделаться его жертвами. В этом столкновении интересов все чувства окрасились страстью. Отечество – это не пустое слово, прихотливо изукрашенное воображением; это существо, которому принесены жертвы, к которому народ с каждым днем привязывается более; существо, созданное великими усилиями, возвышающееся среди общих тревог, любимое за то, чего стоит, настолько же, как и за то, что от него надеются получить; все нападки, направленные против этого существа, – лишь новое средство разжечь восторженную любовь к нему. До чего же дойдет этот вопрос в ту минуту, когда неприятельские силы, объединенные за нашими границами, сговорятся с внутренними интригами, чтобы нанести отечеству пагубнейшие удары! Во всех частях государства господствует крайнее брожение; оно разразится чем-нибудь страшным – если только сознательному, разумному доверию к намерениям Вашего Величества не удастся успокоить его; но это доверие не основывается на словах и заверениях, оно может иметь основой лишь одни факты. Для французской нации очевидно, что ее конституция может пойти своим путем, что правительство будет иметь всю нужную силу с той минуты, как Ваше Величество непременно захотите торжества этой конституции, будете поддерживать Законодательное собрание всеми силами исполнительной власти и этим отнимете у народа всякий предлог беспокоиться, а у недовольных – всякую надежду. Теперь, например, изданы два важных декрета; оба в высшей степени касаются общественного спокойствия и блага государства; замедление в утверждении их внушает недоверие; если оно еще продлится, то возбудит неудовольствие, и я должен сказать, что при нынешнем брожении умов неудовольствия могут довести до всего. Теперь уже не время отступать; нет даже возможности повременить – революция готова в умах, она довершится ценою крови, и кровью будет закреплена, если мудростью не будут предупреждены несчастия, которых еще можно избежать. Я знаю, что можно вообразить, будто легко всё сделать и всё сдержать посредством крайних мер, но если будет применена сила, чтобы принудить собрание к уступкам, если террор распространится в Париже, а раздор и страх – в окрестностях его, вся Франция воспрянет с негодованием и, терзая сама себя ужасами междоусобной войны, обнаружит мрачную энергию, мать добродетелей и злодеяний, которая всегда бывает пагубна для тех, кто ее вызвал. Благо государства и благо Вашего Величества тесно связаны между собою; никакая сила не в состоянии их разделить: жестокие страдания и верные несчастия окружат Ваш престол, если Вы сами не установите его на основах конституции и не утвердите его в мире. Итак, настроение умов, течение событий, политические соображения, интересы Вашего Величества вменяют Вам в необходимость присоединиться к Законодательному собранию и отозваться на желание народа, то есть вменяют в необходимость то, что принципы представляют обязанностью. Но природная доброта любящего народа готова найти в этом повод к благодарности. Вас жестоко обманывали, государь, внушая вам отдаление или недоверие к этому народу, который так легко тронуть. Беспрестанно возбуждая в Вас тревожные чувства, Вас самого склонили к образу действий, способному внушать народу беспокойство. Пусть он увидит, что Вы решились ввести в силу конституцию, на которую он возложил все свои надежды, – и Вы скоро сделаетесь предметом его благодарений. Поведение священников во многих местах, предлоги, извлекаемые недовольными из фанатизма, заставили собрание издать против возмутителей разумный закон: пусть Ваше Величество утвердит его – он требуется общественным спокойствием и самой безопасностью священников. Если закон этот не будет введен в силу, департаменты окажутся перед необходимостью заменить его, как это делается везде, насильственными мерами. Покушения наших врагов, волнение, обнаружившееся в столице, крайнее беспокойство, возбужденное поведением Вашей гвардии и еще поддерживаемое заявлениями благоволения, которые окружающие Вас заставили Ваше Величество дать ей в прокламации, положение Парижа, его близость к границам – всё это сделало ощутительной потребность лагеря, разумность и безотлагательность которого бросаются в глаза всем здравомыслящим людям. Декрет о том тоже ожидает утверждения Вашего Величества: зачем же проволочками обнаруживать сожаление, тогда как скорость решения заслужила бы признательность? Покушения против этой меры Главного штаба Парижской национальной гвардии уже подали повод к подозрению, что он действовал по внушениям свыше; декламаторство некоторых крайних демагогов уже вызывает подозрение, что они состоят в сношениях с лицами, заинтересованными в низвержении конституции; уже общественное мнение чернит намерения Вашего Величества; еще небольшое замедление, и опечаленный народ вообразит, что имеет в своем короле друга и соумышленника заговорщиков! Боже праведный! Неужели ты поразил слепотой все власти земли, и ужели они никогда не будут получать иных советов, кроме влекущих их к погибели! Я знаю, что строгая речь истины редко допускается к престолу; я знаю также, что именно потому, что она почти никогда не раздается, революции делаются необходимыми; и еще я знаю, что обязан говорить правду Вашему Величеству, не только как гражданин, покорный законам, но и как министр. И я не знаю ничего, что могло бы помешать мне исполнить долг, ясно осознанный моей совестью. В этом же духе я возобновлю мои представления Вашему Величеству касательно обязательности и пользы исполнения закона, предписывающего иметь в совете секретаря. Одно существование закона так красноречиво, что исполнение, казалось бы, должно последовать безотлагательно; но следует использовать все средства для сохранения нужного веса, мудрости, зрелости в прениях, а ответственным министрам необходимо средство доказать свои мнения: если бы это средство имелось, я бы в настоящую минуту не обращался письменно к Вашему Величеству. Жизнь – ничто для человека, ставящего долг выше всего; но после счастья исполнения его единственное благо, которым он еще дорожит, есть сознание, что он его исполнил добросовестно, а для государственного человека это даже обязательно. Париж, 10 июня 1792 года. Ролан».
Король выслушал это чтение с крайним терпением и, выходя, сказал, что уведомит о своих намерениях. Дюмурье был призван во дворец. Король и королева приняли его вместе. – Должны ли мы, – сказали они, – долее переносить дерзость этих трех министров? – Нет, – ответил Дюмурье. – Беретесь ли вы избавить нас от них? – Да, государь, – ответил смелый министр, – но чтобы дело удалось, нужно, чтобы ваше величество согласились на одно условие. Я уже потерял свою популярность, я потеряю ее еще более, удалив трех своих товарищей, вождей могущественной партии. Есть одно только средство убедить публику, что они сменены не в наказание за их патриотизм. – Какое средство? – спросил король. – Утвердить оба декрета, – ответил Дюмурье. И он повторил всё то, что по этому поводу говорил в совете. Королева воскликнула, что это условие слишком тяжелое, но Дюмурье старался растолковать ей, что эти двадцать тысяч человек вовсе не страшны, что декрет не указывает места для лагеря, что их можно, например, послать в Суассон, там занять их военными упражнениями, а потом, по мере того как будет возникать в том надобность, отправлять их в армии. – Но для этого, – сказал король, – нужно, чтобы вы были военным министром. – Несмотря на ответственность, я согласен, – ответил Дюмурье, – но необходимо, чтобы ваше величество утвердили декрет против священников; я могу служить вам только этой ценой. Этот декрет не только не повредит духовным лицам, а напротив, спасет их от народной ярости. Вашему величеству следовало не пропускать первого декрета Учредительного собрания, предписывавшего присягу, а теперь вы уже не можете отступить. – Я был тогда неправ, – воскликнул Людовик XVI, – это не причина повторять ошибку. Королева, не разделявшая религиозных колебаний мужа, встала на сторону Дюмурье, и король на минуту казался готовым согласиться. Дюмурье указал ему на то, каких министров назначить на место Сервана, Клавьера и Ролана. Это были Мурго для внутренних дел и Больё для финансов. Военный портфель вверялся ему, Дюмурье, который временно должен был возглавлять два министерства, пока не нашелся бы человек, годившийся в министры иностранных дел. Тотчас же об этом был отдан приказ, и 13 июня Серван, Клавьер и Ролан получили официальную отставку. Ролан, обладавший всей нужной силой, чтобы исполнить то, что задумывал смелый ум его жены, тотчас же отправился в собрание и прочел свое письмо королю. Это был, конечно, шаг позволительный при открытых, уже неприятельских действиях, но, дав слово королю не разглашать письма, нечестно было читать его публично. Собрание приняло это чтение с живейшими рукоплесканиями, приказало отпечатать его и разослать всем восьмидесяти трем департаментам; наконец, объявило, что за опальными министрами последует доверие нации. В эту-то самую минуту Дюмурье, не смущаясь, дерзнул появиться на кафедре с новым титулом военного министра. Он на скорую руку приготовил отчет о состоянии армии, об ошибках, сделанных администрацией и собранием. Он не пощадил тех, кто заведомо был расположен принять его как нельзя хуже. При самом его появлении на него посыпались ругательства со стороны якобинцев; фельяны соблюдали глубокое молчание. Дюмурье сначала доложил о легкой победе, одержанной Лафайетом, и о смерти Гувийона, который, будучи офицером, депутатом и честным человеком, добровольно искал смерти от отчаяния из-за несчастий родины. Собрание выразило сожаление о таковой утрате, холодно выслушало сожаления Дюмурье и в особенности выраженное им желание избавиться от тех же бедствий той же участью. Но когда он заявил о своем отчете в качестве военного министра, со всех сторон послышались крики с отказом слушать его дальше. Дюмурье холодно потребовал слова и наконец добился тишины. Его упреки раздражили нескольких депутатов. – Слышите? – воскликнул Гюаде. – Он нас учит. – Отчего бы и нет, – спокойно возразил Дюмурье. Тишина снова водворилась, и он мог докончить свое чтение, после которого одни на него зашикали, а другие начали аплодировать. Закончив, он тотчас же сложил свою записку и хотел уйти. – Он бежит! – раздалось вокруг него. – Неправда! – возразил Дюмурье, смело положил записку на стол, твердо подписал ее и тогда уже с невозмутимым спокойствием прошел через ряды собрания. На пути его теснились многие, и несколько депутатов сказали ему: – Вас сошлют в Орлеан. – Тем лучше, – ответил он, – я там буду лечиться ваннами и сывороткой, что мне весьма нужно, и отдохну. Его твердость успокоила короля, который и выразил ему свое удовольствие; но несчастный государь был слишком потрясен и терзался нерешительностью. Осаждаемый ложными друзьями, он опять переменил свои решения и уже не хотел утверждать ни того ни другого декрета. Все четыре министра, собравшись на совет, умоляли короля утвердить их, как он почти обещал. Король сухо отвечал, что может согласиться только на декрет о двадцатитысячном войске, что же касается декрета о священниках, то он вполне решился воспротивиться ему и никакие угрозы не заставят его отступить от этого решения. Он прочел письмо, которым объявлял о своем решении президенту собрания. «Один из вас скрепит подпись», – сказал он министрам таким тоном, какого еще от него не слыхали. Вслед за тем Дюмурье письменно просил отставки. «Этот человек, – воскликнул король, – заставил меня отпустить трех министров за то, что они хотели принудить меня утвердить эти декреты, а теперь сам требует того же!» Упрек этот был несправедлив, так как Дюмурье именно только на этом условии согласился остаться. Людовик XVI повидался со своим министром и спросил его, упорствует ли он в своем намерении. Дюмурье остался непоколебим. «В таком случае, – заявил король, – принимаю вашу просьбу об отставке». Все министры тоже подали в отставку, но король удержал Лакоста и Дюрантона, а остальные министерские вакансии были заполнены господами Лажаром, Шамбона и Терье де Монсьелем, из фельянов. «Король, – пишет госпожа Кампан в своих записках, – в это время впал в уныние, доходившее до физического бессилия. Он десять дней кряду не произнес ни одного слова, даже в семействе, исключая время после обеда, когда он играл в триктрак с сестрой, принцессой Елизаветой, и должен был говорить по необходимости. Королева пробудила его из этого состояния, столь пагубного в такую критическую минуту, когда беспрестанно требовалась деятельность, бросившись к его ногам и подступая к нему то с картинами, долженствовавшими его испугать, то с выражениями любви. Она также напомнила ему о любви, которой он обязан семейству, и наконец сказала даже, что если уж погибать, то с честью, а не дожидаться, чтобы пришли и задушили их обоих в их покоях». Легко себе представить, каково было настроение Людовика XVI, когда он пришел в себя и снова приступил к делам. Раз бросив партию фельянов, чтобы предаться партии жирондистов, он не мог вернуться вновь к первым: возращение не могло доставить ему большого удовольствия или возбудить в них большие надежды. Людовик на опыте познал, как мало умеет сходиться с теми и другими, и, что было еще прискорбнее, он им всем слишком ясно дал это почувствовать. С этой поры король естественным образом должен был устремить все свои мысли и возложить все свои надежды на иностранную помощь. Это стало очевидно для всех и испугало тех, кто в нашествии на Францию видел падение свободы, казнь ее защитников, быть может, даже раздел государства. Людовик XVI ничего такого в иноземцах не видел, потому что человек всегда скрывает от самого себя неудобства того, чего желает. Напуганный шумом, произведенным поражением при Монсе и Турне, он послал в Германию с инструкциями, писанными его собственной рукой, Малле дю Пана. Он советовал государям приближаться осторожно, как можно более щадить жителей областей, через которые войскам придется проходить, и предпослать им манифест с изъявлениями своих миролюбивых и примирительных намерений. При всей умеренности это все-таки было приглашением вторгнуться в страну, да и если таково было желание короля, таково ли было желание иностранных государей, соперников Франции, и раздраженных эмигрантов? Наконец, сам Людовик XVI мог ли поручиться, что не увлечется далее своих намерений? Прусский и австрийский министры сами выразили Малле дю Пану сомнения, которые внушала им необузданность эмиграции, и ему нелегко было успокоить их на этот счет. Королева тоже не доверяла эмигрантам, в особенности она боялась Калонна как опаснейшего из своих врагов. Но все-таки Мария-Антуанетта умоляла своих родных как можно быстрее и деятельнее заняться ее спасением. С этой минуты народная партия должна была смотреть на двор как на врага, тем более опасного, что он располагал всеми силами государства, и начинавшийся бой сделался боем смертельным. Король, составляя новое правительство, не выбрал ни одного определенно высказавшегося человека. В ожидании скорого избавления он думал только о том, как бы протянуть еще несколько дней, а для этого достаточно было самого ничтожного правительства.
Фельяны пытались воспользоваться этим случаем, чтобы снова сблизиться с двором не столько, нужно отдать им справедливость, из личного честолюбия, сколько из участия к королю. Они нисколько не рассчитывали на иностранное нашествие; напротив, большинство их видело в нем преступное покушение и вдобавок равную опасность для двора и нации. Они со всей основательностью предвидели, что король погибнет прежде, нежели подоспеет помощь, а после вторжения опасались бесчеловечных мщений, быть может, раздела территории и, само собой, уничтожения всякой тени свободы. Лалли-Толендаль, уехавший было из Франции, убедившись в невозможности двух палат, Малуэ, сделавший еще попытку в пользу них во время ревизии, Дюпор, Лафайет, Ламеты и другие, желавшие сохранить существовавший порядок, соединились для последнего усилия. Эта партия, подобно всем партиям не отличавшаяся особенным внутренним согласием, объединялась с единственной целью – спасти короля от его ошибок и вместе с тем спасти конституцию. Всякая партия, принужденная действовать втайне, бывает вынуждена прибегать к мерам, которые называются интригами, когда не удаются. В этом смысле фельяны интриговали. Как только они увидели, что Серван, Клавьер и Ролан сменены благодаря содействию Дюмурье, они сблизились с последним и предложили ему свою помощь, с условием, чтобы он наложил вето на декрет о священниках. Дюмурье, может быть, с досады, а может, по недоверию к их средствам, и, вероятно, также вследствие принятого на себя обязательства настоять на утверждении декрета, отказался и уехал в армию с желанием, как он писал к собранию, чтобы пушечное ядро согласовало все мнения о нем. Фельянам оставался Лафайет, который не принимал участия в их тайных происках, однако разделял их нерасположение к Дюмурье и прежде всего хотел спасти короля, не меняя конституции. Средства у них были минимальными. Во-первых, двор, который они старались спасти, не хотел принимать от них спасения. Королева, охотно доверявшая Варнаву, виделась с ним с величайшими предосторожностями и не иначе как тайно. Эмигранты и двор никогда не простили бы ей свиданий с конституционалистами. Ей даже советовали вовсе не иметь с ними сношений, а уж лучше предпочесть им якобинцев, потому что с первыми нужно будет вступать в соглашения, а относительно последних не обязывает ничто. Если к этим часто повторяемым советам прибавить личную ненависть к Лафайету, то станет понятно, как мало двор был расположен принять услуги конституционалистов или фельянов. Кроме этого нерасположения нужно еще принять в соображение незначительность средств, которые они могли применить против народной партии. Лафайета, правда, боготворили его солдаты, и он мог положиться на свою армию, но перед ним стоял неприятель, и ему никак нельзя было обнажить границу. Старик Люкнер, на которого он опирался, был слаб, изменчив, податлив на острастку, хоть и весьма храбр на поле битвы. Но даже рассчитывая на военные средства, конституционалисты не имели никаких гражданских средств. Большинство в собрании принадлежало Жиронде. Национальная гвардия была им отчасти предана, но при этом была исполнена несогласий и пришла в почти совершенное расстройство. Стало быть, конституционалистам оставалось, если бы они решились употребить в дело свои военные силы, идти от границ на Париж, то есть учинить восстание против собрания, а восстание, превосходное средство для партии, занимающей наступательное положение, неприлично и пагубно для партии умеренной, которая сопротивляется, опираясь на законы. Однако фельяны обступили Лафайета и вместе с ним составили проект письма к собранию. Это письмо, написанное от его имени, должно было выразить его чувства к королю и конституции и его неодобрение всего, что клонилось к ущербу того или другой. Друзья его делились на два разряда: одни подстрекали его, другие удерживали. Но, думая лишь о том, что могло быть полезно королю, которому он присягал в верности, Лафайет написал письмо, не смущаясь ожидавшими его вследствие того опасностями. Король и королева, хоть и решились к нему не прибегать, дали ему действовать, усматривая в этом письме только перебранку между друзьями свободы. Письмо принесли в собрание 18 июня. Лафайет, начав с порицания действий последнего правительства, которое он, по его словам, собирался обвинить гласно, когда узнал о его удалении, продолжал так: «Недостаточно того, что это правительство избавлено от вредного влияния; общественное дело в опасности, участь Франции главным образом зависит от ее представителей; нация ждет от них спасения, но, создав себе конституцию, предписала им единственный путь, каким надлежит спасать ее». Заявляя затем о своей неизменной привязанности закону, которому он присягнул, Лафайет описывал состояние Франции, поставленной, по его мнению, между двумя врагами – внешними и внутренними. «Надо уничтожить и тех и других, но вы будете иметь нужную к тому силу лишь настолько, насколько будете держаться конституции и справедливости… Оглядитесь кругом… Можете ли вы скрыть от себя, что некая партия – скажу прямо, во избежание всякой неопределенности: якобинская партия – причинила столько беспорядков? Ее-то я громогласно в них обвиняю! Организованная точно отдельное государство, имея метрополию и разветвления, слепо руководимаянесколькими честолюбивыми вождями, эта секта образует отдельную корпорацию среди французского народа, права которого она противозаконно присваивает себе, подчиняя своему гнету его представителей и уполномоченных. В публичных заседаниях этой секты любовь к законам обзывается аристократизмом, а нарушение их величается патриотизмом. Там тем, кто напал на Дезиля[50], готовятся триумфы, злодеяния Журдана[51]. находят хвалителей; там рассказ об убийстве, осквернившем город Мец, еще недавно вызвал крики адского восторга! Неужели они думают избегнуть за всё это нареканий, похваляясь австрийским манифестом, в котором эти сектанты названы? Или они стали священны потому только, что Леопольд произнес их имя? И неужели потому, что мы должны сражаться против иноземцев, вмешивающихся в наши дела, мы освобождены от обязанности избавить наше отечество от домашнего тиранства?» Напоминая затем о своих давнишних заслугах в деле свободы, исчисляя гарантии, данные им отечеству, генерал отвечал за себя и свою армию и заявлял, что французская нация, если только она не самая низкая во всем мире, может и обязана устоять против заговора государей, объединившихся против нее. «Но, – присовокупил он, – для того чтобы мы, бойцы свободы, плодотворно за нее сражались, необходимо, чтобы число защитников свободы было в наискорейшем времени соразмерено с числом ее противников, чтобы было собрано возможно больше припасов всякого рода для облегчения наших движений, чтобы благосостояние войск, поставка им всего нужного, выдача жалованья, попечение об их здоровье не подвергались более пагубным проволочкам». Следовали еще другие советы, из которых приводим последний и самый важный: «Пусть царство клубов, вами отмененное, уступит место царству закона; их неправильные покушения – твердому и независимому отправлению учрежденных властей; их разрушающие всякий порядок поучения – истинным началам свободы; их безумствующая ярость – спокойному и упорному мужеству нации, сознающей свои права и защищающей их; наконец, их сектантские комбинации – истинным интересам отечества, которые в минуту опасности и должны соединить всех тех, для кого его порабощение и погибель не составляют предмета зверского наслаждения и гнусного расчета». Это значило говорить разыгравшимся страстям: остановитесь; партиям – принесите себя добровольно в жертву; потоку – не теки! Однако, хотя совет и был бесполезен, долг требовал дать его. Правая сторона аплодировала письму; левая промолчала. Едва было окончено чтение, как речь уже зашла о печати и рассылке его всем департаментам. Верньо просил слова и получил его. По его мнению, весьма важно было для свободы, дотоле так усердно защищаемой Лафайетом, провести различие между петициями простых граждан, предлагавших совет или требовавших правосудия, и поучениями вооруженного генерала. Последнему надлежало выражаться не иначе как через министерство, а то свобода погибла. Следовательно, можно было перейти к очередным делам. Тевено возразил, что собрание обязано принять из уст Лафайета истины, которые оно не смело само себе высказать. Это последнее замечание возбудило большой шум. Некоторые члены отрицали подлинность письма. «Даже если не было подписи, – возразил на это депутат Кубе, – никто, кроме Лафайета, не мог его написать». Гюаде просил слова для заявления факта и утверждал, что письмо не могло быть написано Лафайетом, потому что в нем он говорит об отставке Дюмурье, последовавшей 16-го числа, а письмо помечено этим самым 16-м числом. «Невозможно, – присовокупил он, – чтобы подписавшийся говорил о факте, который не должен был быть ему известен. Или подпись не его, или это бланк, отданный в распоряжение известной партией». Эти слова опять вызвали большой шум. Гюаде заявил дальше, что Лафайет, если судить по его хорошо известным мнениям, неспособен написать подобное письмо. «Он должен знать, – присовокупил депутат, – что когда Кромвель…» Депутат Дюма, не в силах сдержать себя при последней фразе, попросил слова; в собрании водворилось продолжительное волнение. Однако Гюаде не уступил слова и продолжил: «Я говорил…» Его опять перебили. «Вы остановились на Кромвеле», – сказали ему. «Я к нему возвращусь, – возразил он. – Я говорил, что Лафайету должно быть известно, что когда Кромвель стал говорить таким языком, свобода уже была утрачена в Англии. Необходимо или удостовериться в том, что какой-то низкий человек прикрыл себя именем Лафайета, или доказать французскому народу великим примером, что вы не впустую дали присягу, поклявшись сохранить конституцию». Множество депутатов заверили, что узнают подпись Лафайета, но, несмотря на это, письмо было отослано Комиссии двенадцати для исследования его подлинности. Таким образом, дело не дошло до напечатания его и рассылки по департаментам. Эта благородная попытка не принесла, следовательно, никакой пользы. С этой минуты генерал стал почти также непопулярен, как и двор, и если вожди Жиронды, будучи просвещеннее народа, не считали его способным предать свое отечество за то только, что он напал на якобинцев, то народ уже был этого мнения, так настаивали на этом в клубах, газетах и публичных местах. Итак, к тревогам, внушаемым народной партии двором, присоединились еще тревоги, причиненные Лафайетом. Тогда этой партией овладело полное отчаяние, и она решилась нанести удар двору прежде, чем он успеет привести в исполнение все заговоры, в которых обвинялся.
Мы уже видели, каков был состав народной партии. Говоря яснее, она характеризовала себя резче, и новые личности привлекали к ней внимание. Робеспьер уже приобрел известность у якобинцев, а Дантон – у кордельеров. Клубы, муниципалитеты и секции заключали в себе много людей, готовых на всякое предприятие по пылкости характера и горячности убеждений. К их числу принадлежали Сержан и Панис. В предместьях несколько батальонных начальников обращали на себя внимание и внушали страх; главным из них был пивовар Сантерр. Ростом, голосом, легкостью речи он нравился народу и приобрел некоторое влияние в предместье Сент-Антуан, батальоном которого командовал. Сантерр уже отличился при нападении на Венсенн, отброшенном Лафайетом в феврале 1791 года, и, подобно всем слишком увлекающимся людям, мог сделаться весьма опасен, смотря по внушениям минуты. Он присутствовал при всех сходках, случавшихся в отдаленных предместьях. Там с ним собирались журналист Карра, преследуемый за нападки на Бертрана де Мольвиля и Монморена; некто Александр, комендант предместья Сен-Марсо; личность, весьма известная под именем Фурнье-Американца; мясник Лежандр, впоследствии ставший депутатом Конвента; золотых дел мастер по имени Россиньоль и несколько других, которые с помощью своих связей с чернью фактически управляли предместьями. Через наиболее высокопоставленных своих представителей они сносились с вождями народной партии и таким образом могли подчинить свои движения высшему руководству. Невозможно с точностью указать тех из депутатов, которые участвовали в этом руководстве. Самые замечательные из них были не парижане, и в Париже имели влияние лишь своим красноречием. Гюаде, Инар и Верньо, все провинциалы, имели больше сношений со своими департаментами, нежели с самим Парижем. К тому же, хоть они и очень горячились на кафедре, однако мало действовали вне собрания и не были способны расшевелить толпу. Кондорсе и Бриссо, парижские депутаты, были не деятельнее предыдущих и, по сходству мнений с депутатами с запада и юга, сделались жирондистами. Ролан со времени отставки замкнулся в своей частной жизни и проживал в скромной квартире на улице Сен-Жак. Убежденный в намерении двора выдать Францию и свободу иностранцам, он оплакивал несчастья своего отечества вместе с несколькими друзьями-депутатами. Однако не было заметно, чтобы в его кружке затевались происки против двора. Он только способствовал печатанию газеты, озаглавленной «Часовой», которую ее редактор Луве, уже известный якобинцам своей полемикой с Робеспьером, составлял в крайне патриотическом духе. Ролан во всё время своей службы использовал особые суммы на просвещение общественного мнения путем прессы, и «Часовой» печатался на остатки от этих сумм.
Около этого времени в Париже жил один молодой марселец, пылкий, исполненный отваги и республиканских иллюзий, которого прозвали Антиноем, так он был хорош собой. Он был прислан от своей общины Законодательному собранию с жалобами на директорию его департамента, ибо раздоры между низшими и высшими властями, муниципалитетами и директориями департаментов сделались общим явлением во всей Франции. Этого молодого марсельца звали Барбару. Обладая значительным умом и большой энергией, он мог сделаться полезным народному делу. Он познакомился с Роланом и вместе с ним скорбел о катастрофах, угрожавших патриотам. Они оба были того мнения, что опасность с каждым днем растет на севере Франции и нужно бы, если уж дело дойдет до последней крайности, уйти на юг и там основать республику, которую со временем можно будет расширить, как некогда Карл VII расширил свое государство из Бурже. Они рассматривали карту бывшего министра Сервана и говорили, что свобода, побитая на Рейне и за Рейном, должна отступить за Вогезы и Луару; что после этих укреплений ей остаются еще на востоке Ду, Эна и Рона, на западе – Вьенна и Дордонь, в центре – скалы и реки Лимузена. «Еще далее, – пишет Барбару в своих записках, – мы рассчитывали на Овернь с ее крутыми курганами, оврагами, древними лесами, и на горы Веле, некогда осаждаемые пожарами, а ныне покрытые елями, – всё дикие места, где люди вязнут в снегу, но живут независимо. Севенны также представляли убежище слишком знаменитое, чтобы не внушать страха тирании, а на крайнем юге мы наталкивались на такие преграды, как Изер, Дюране, Рона от Лиона до моря, Альпы и стены Тулона. Наконец, если бы все эти пункты были взяты силой, нам оставалась Корсика, та самая Корсика, где ни генуэзцам, ни французам не удалось привить тиранию, Корсику, которая ждет лишь земледельцев, чтобы сделаться плодородной, и философов, чтобы просветиться». Естественно было жителям юга мечтать об убежище в родных провинциях в случае нашествия на север. Они тогда еще не забывали и о севере: договорились между собой написать в свои департаменты, чтобы составили лагерь из двадцати тысяч добровольцев, хотя декрет об этом лагере и не был утвержден. Они очень рассчитывали на Марсель, город богатый, многолюдный и необыкновенно демократический. Марсель прислал Мирабо в Генеральные штаты и с тех нор распространил по всему югу дух, одушевлявший и его самое. Мэр этого города был другом Барбару и имел одинаковые с ним убеждения. Барбару написал ему, чтобы тот запасся хлебом, разослал верных людей по соседним департаментам, равно и в армии, стоявшие в Альпах, в Италии и в Пиренеях, с целью подготовить там общественное мнение; чтобы постарался узнать расположения Монтескью, главнокомандующего альпийской армией, и употребил его честолюбие на пользу свободы; наконец, чтобы сговорился с Паоли и корсиканцами с целью приготовить себе последнее убежище и последнюю помощь на крайний случай. Кроме того, мэру советовали удержать деньги от налогов, чтобы не отдать их в руки исполнительной власти и, в случае надобности, применить их против нее. То, что Барбару делал относительно Марселя, другие делали относительно своих департаментов и тоже думали об обеспечении себе убежища. Таким образом, недоверие, перешедшее в отчаяние, подготовляло общее восстание и в приготовлениях к нему уже устанавливалось различие между Парижем и департаментами. Парижский мэр Петион, бывший в короткой дружбе с жирондистами и впоследствии к ним причисленный и вместе с ними осужденный, находился, вследствие своей должности, больше в сношениях с парижскими агитаторами. Он обладал большим спокойствием, наружной холодностью, которую враги принимали за тупость, и честностью, которую сторонники превозносили до небес и даже поносители никогда не оспаривали. Народ, который всегда дает прозвища людям, его занимающим, называл своего мэра Петион-Добродетель. Мы уже упоминали о нем по случаю поездки в Варенн, а также о том, как двор отдал ему предпочтение перед Лафайетом, когда оба были кандидатами в парижские мэры. Двор думал подкупить его, и нашлись бессовестные люди, которые обещали устроить это. Эти люди потребовали деньги и оставили их себе, не попытавшись даже подступиться к Петиону с предложениями, невозможными при его всем известном характере. Радость двора, думавшего найти себе опору и подкупить народного сановника, длилась недолго: двор весьма скоро убедился, что его обманули и добродетель его противников не так продажна, как он воображал. Петион один из первых разделял убеждение, что инстинкты короля, родившегося с неограниченной властью, не могут измениться. Он был республиканцем еще тогда, когда никто не помышлял о республике, и в Учредительном собрании он был по убеждению тем, чем Робеспьер был по злобности нрава. При Законодательном собрании Петион еще более убедился в неисправимости двора; он уверил себя, что двор призывает иностранцев, и, будучи республиканцем сначала по системе, он сделался им ради общественной безопасности. С этой поры он, по собственным словам, стал помышлять о новой революции. Он останавливал бестолково направляемые движения, но потворствовал толкам и, главное, старался согласовать их с законами, которые строго соблюдал и не был согласен нарушать до последней крайности. Хотя в точности неизвестно, насколько Петион участвовал в готовившихся движениях и советовался ли со своими друзьями жирондистами с целью им благоприятствовать, можно сказать по его действиям, что он не сделал ничего, чтобы препятствовать этим движениям. Уверяют, будто он в конце июня побывал у Сантерра вместе с Робеспьером, Манюэлем (прокурором-синдиком коммуны), Силлери (бывшим членом Учредительного собрания) и Шабо (бывшим капуцином, ныне депутатом); будто последний говорил речь секции Кейз-Вен и сказал, что собрание ее ждет. Верны или неверны именно эти факты, однако не подлежит сомнению, что сходки случались, и невероятно, если судить по их известным убеждениям и последующему поведению, чтобы поименованные личности задумались присутствовать на них.
С этой поры в предместьях стали поговаривать о празднестве 16 июня, в день годовщины клятвы, произнесенной в Зале для игры в мяч. Речь шла о том, чтобы посадить дерево свободы на Террасе фельянов и подать петицию как собранию, так и королю. Петиция эта должна была быть подана с оружием в руках. Из этого достаточно ясно видно, что настоящее намерение зачинщиков заключалось в том, чтобы напугать дворец видом сорока тысяч пик. Шестнадцатого июня Генеральному совету коммуны была подана формальная просьба о дозволении гражданам предместья Сент-Оноре собраться 20-го числа при оружии и подать петицию собранию и королю. Генеральный совет перешел к очередным делам и приказал сообщить постановление директории и муниципалитету. Просители не сочли себя побежденными и во всеуслышание объявили, что все-таки соберутся. Мэр Петион сделал сообщение только 18-го числа, да и то только директории, а не муниципалитету. Девятнадцатого июня директория департамента, отличавшаяся каждый раз, как надо было действовать против агитаторов, издала постановление, воспрещавшее вооруженные сходки и предписывавшее начальнику войск и мэру употребить все средства, чтобы рассеять их. Об этом постановлении собранию сообщил министр внутренних дел, и тотчас же возник вопрос, прочесть его или нет. Верньо не хотел чтения, однако не мог настоять на своем: последовало чтение и тотчас за ним – переход к очередным делам. В собрании только перед тем произошли два довольно важных события. Король объявил о своем несогласии на два декрета, касавшихся неприсягнувших священников и учреждения лагеря. Это сообщение было выслушано в глубоком молчании. В тоже время марсельцы появились у решетки – читать петицию. Мы выше видели, какие сношения поддерживал с ними Барбару. Подстрекаемые его советами, они написали к Петиону, предлагая ему все свои силы, и приложили к посланию петицию на имя собрания. В этой петиции они, между прочим, говорили: «Свобода Франции в опасности, но патриотизм юга спасет Францию… День народного гнева наступил… Законодатели! Сила народа в ваших руках – употребите ее на дело; французский патриотизм требует, чтобы вы отправили более внушительные силы к границам и столице… Вы не откажете в разрешении закона тем, кто хочет умереть в защиту его». Это чтение возбудило продолжительные прения. Члены правой стороны утверждали, что разослать эту петицию департаментам значило побудить их к восстанию. Было постановлено разослать ее вопреки этим рассуждениям, без сомнения, весьма правильным, но бесполезным с тех пор, как возникло убеждение, что новая революция одна могла спасти Францию и свободу. Таковы были происшествия 19 июня. Движение продолжалось в предместьях, и Сантерр, как уверяют, говорил своим приближенным, несколько оробевшим вследствие постановления директории: «Чего вы боитесь? Национальной гвардии прикажут не стрелять, и там будет Петион». В полночь мэр – оттого ли, что счел движение неудержимым или решил потворствовать ему, как он это сделал впоследствии, 10 августа, – написал директории, прося ее узаконить сходку разрешением Национальной гвардии принимать в свои ряды жителей предместий. Это средство вполне удовлетворяло тех, кто, не желая беспорядка, желали устрашить короля, и всё доказывает, что таковы действительно были желания Петиона и народных вождей. В пять часов утра 20 июня директория ответила, что остается при своих прежних постановлениях. Тогда Петион приказал дежурному начальнику гвардии держать посты в полном комплекте и удвоить стражу Тюильри, но больше ничего не сделал и, не желая ни возобновить сцену Марсова поля, ни разогнать сходку, прождал до девяти часов утра, пока собрался муниципалитет. На этом собрании Петион допустил принятие решения, противоположного постановлению директории, и гвардия получила приказание принимать в свои ряды вооруженных просителей. Не воспротивившись постановлению, нарушавшему правила административной иерархии, Петион совершил проступок, за которой впоследствии не раз подвергался упрекам. Но каков бы ни был характер этого постановления, оно оказалось излишним, потому что Национальная гвардия не успела сформироваться и сходка вскоре стала такой значительной, что уже не было возможности изменить ни формы ее, ни направления. Было одиннадцать часов утра. Собрание сошлось в ожидании важного события. Прокурор-синдик Редерер получает слово. Он объясняет, что необыкновенно многочисленная сходка граждан составилась вопреки закону и неоднократным предписаниям властей; что эта сходка, по-видимому, имеет целью праздновать годовщину 20 июня и принести новую дань почтения собранию; но если такова цель большинства, то есть повод опасаться, что злоумышленники захотят воспользоваться этой толпой, чтобы поддержать адрес королю, тогда как таковой должен ему подаваться лишь в мирной форме простой петиции. Напомнив затем о постановлениях директории и Генерального совета коммуны о законах, изданных против вооруженных сходок, и о других, постановлявших, что петиция может подаваться двадцатью гражданами, он уговаривает собрание проследить за исполнением их. «Ибо, – присовокупляет Редерер, – ныне сюда идет толпа вооруженных просителей, движимых гражданским чувством, а завтра может собраться толпа злоумышленников, и тогда, спрашиваю вас, господа, что мы сможем им сказать?..» Среди аплодисментов правой стороны и ропота левой, которая неодобрением опасениям и предусмотрительности директории явно выказывала одобрение восстанию, на кафедру всходит Верньо и просит заметить, что злоупотребление, которого прокурор-синдик пугается в будущем, уже состоялось; что несколько раз принимали вооруженных просителей и разрешали им пройти по зале; что это, может быть, было ошибкой, но нынешние просители будут вправе жаловаться, если с ними обойдутся иначе; что если они, как говорят, желают подать петицию королю, то, вероятно, пошлют безоружных просителей, и что, наконец, если уж собрание предполагает какую-нибудь опасность для короля, оно может отправить к нему депутацию из шестидесяти членов для его охраны. Дюмоляр допускает всё, что утверждал Верньо, признает установившееся злоупотребление, но доказывает, что необходимо прекратить его, в особенности в настоящем случае, если не хотят, чтобы собрание и король явились в глазах Европы рабами опустошительной фикции. Он, подобно Верньо, требует, чтобы к королю послали депутацию, но сверх того заявляет, что на муниципалитет и директорию департамента должна быть возложена ответственность за меры, принятые для охраны законов. Шум усиливается. Приходит письмо от Сантерра – его читают вслух среди аплодисментов трибун. «Жители предместья Сент-Антуан, – гласит это письмо, – торжествуют 20 июня. Они оклеветаны и просят, чтобы их допустили к решетке собрания, дабы опровергнуть своих поносителей и доказать, что они всё те же граждане 14 июля». После этого Верньо отвечает Дюмоляру, что если закон нарушен, то это пример не новый, что если этому воспротивиться, то непременно возобновятся кровавые сцены Марсова поля и что в конце концов в чувствах просителей нет ничего предосудительного. «Справедливо беспокоясь о будущем, – присовокупляет Верньо, – они хотят доказать, что, несмотря на все интриги, плетущиеся против свободы, всегда готовы защитить ее». Шум продолжается. Рамон просит слова, и требуется декрет, чтобы удовлетворить его желание. В эту минуту приходит уведомление о том, что просителей восемь тысяч. – Их восемь тысяч! – восклицает Кальве. – А нас всего семьсот сорок пять – удалимся. – К порядку! К порядку! – кричат со всех сторон. Депутата Кальве призывают к порядку, а Рамона торопят говорить, так как восемь тысяч граждан ждут ответа. – Если ждут восемь тысяч граждан, – возражает он, – то двадцать четыре миллиона французов не менее их ждут меня. Затем он повторяет доводы, уже приведенные его друзьями правой стороны. Вдруг просители вторгаются в залу. Собрание в негодовании поднимается с мест, президент прикрывает голову шляпой, и просители послушно удаляются. Тогда собрание соглашается их принять. Петиция, составленная в самом нахальном тоне, выражала основную мысль всех петиций того времени: «Народ готов, дело за вами. Он готов прибегнуть к крайним средствам для того, чтобы исполнить статью 2-ю Декларации прав: статью о сопротивлении угнетению. Пусть то малое число из вас, которое не разделяет ваших и наших чувств, очистит от своего присутствия землю свободы и убирается в Кобленц… Ищите причины угрожающих нам зол: если они проистекают из исполнительной власти – уничтожьте ее!..» Президент, пообещав просителям в своем ответе бдительность со стороны представителей народа и сделав им внушение, чтобы они повиновались законам, разрешает от имени собрания пройти перед ним. Двери распахиваются, и шествие, состоящее в эту минуту из по меньшей мере тридцати тысяч человек, проходит через залу. Легко себе представить, на что способно народное воображение, когда ему дана полная воля. Впереди несут огромные столы с положенными на них экземплярами Декларации прав; женщины и дети пляшут вокруг этих столов, махая масленичными ветвями и пиками, то есть предлагая мир или войну по выбору неприятеля, и хором распевают знаменитую песню Cairn. За ними следуют рыночные носильщики, рабочие всех классов, с плохими ружьями, саблями и острыми орудиями, воткнутыми в толстые палки. Сантерр и маркиз Сент-Юрюж, уже упомянутый по поводу смут 5 и 6 октября, идут во главе всех с обнаженными саблями. Далее в стройном порядке следуют несколько батальонов Национальной гвардии с целью сдерживать толпу своим присутствием. Потом опять женщины, а за ними – еще вооруженные мужчины. На развевающихся знаменах виднеются слова «Конституция или смерть!». Рваные штаны поднимаются в воздух при кликах «Да здравствуют бесштанники!» (санкюлоты). Наконец, еще увеличивает лютость этого странного зрелища ужасная варварская эмблема: кто-то несет насаженное на пику сердце теленка, увенчанное надписью «Сердце аристократа». При виде этой ужасной эмблемы разражается общее негодование, и она немедленно исчезает, но снова появляется у ворот Тюильри. Аплодисменты трибун, крики народа, проходящего через залу, песни, смутный гул и шум, тревожное молчание собрания – всё это составляло нечто странное и страшное даже для тех депутатов, которые видели в толпе помощницу себе. Увы, почему в эти времена раздора недостаточно рассудка! Зачем безумцы, призывая иноземные рати, принуждали своих противников принимать помощь безначальных полчищ, которыми кишат города и которые гниют и копошатся под самой блистательной цивилизацией! Эта сцена длилась три часа. Наконец Сантерр явился снова – благодарить собрание от имени народа – и поднес ему знамя в знак признательности и преданности. Толпа между тем хотела войти в сад Тюильри, но ворота были заперты. Многочисленные отряды гвардии окружали дворец и, протянувшись от Террасы фельянов до реки, представляли грозный фронт. По приказанию короля ворота отворили. Народ тотчас же хлынул в сад и прошел под окнами дворца и перед рядами Национальной гвардии без всякой враждебной демонстрации, но с криками «Долой вето!» и «Да здравствуют санкюлоты!». Однако несколько человек присовокупляли, говоря о короле: «Отчего он не показывается?.. Мы его не тронем». Прежние слова «его обманывают» еще раздавались, но редко. Народ, быстро перенимавший мнения своих вождей, переставал думать, будто короля обманывают. Толпа вышла в ворота сада на Пон-Рояль, прошла вверх по набережной через дворы Лувра и заняла площадь Карусель. Эта площадь, ныне столь обширная, тогда состояла из множества улиц. Вместо громадного двора, простирающегося между дворцом и решеткой, от одного флигеля к другому, тут располагались маленькие дворики, разделенные стенами и жилыми помещениями, выходившими на Карусель, и старинные ворота. Народ наводнил всю окрестность и явился перед королевскими воротами. Людей не впустили; несколько муниципальных чиновников поговорили с толпой, и она, по-видимому, уже решила удалиться. Уверяют, будто в эту минуту Сантерр, выходя из собрания, где он оставался последним, снова разжег уже охладившийся порыв народа и велел поставить пушку перед воротами. Было около четырех часов; два муниципальных чиновника вдруг отворили ворота; это движение парализовало скопившиеся на месте значительные силы, состоявшие из нескольких батальонов гвардии и нескольких жандармских отрядов. Народ в беспорядке ринулся во двор, а оттуда в передние залы дворца. Сантерр, которому, говорят, два свидетеля грозили после обвинением и взысканием за это нарушение святости королевского жилища, обратился к нападавшим: «Будьте свидетелями, что я отказываюсь входить в покои короля». Эти слова не остановили толпу, устремившуюся вперед: она рассеялась по всему дворцу, по всем лестницам и на руках внесла пушку на первый этаж. В ту же минуту нападавшие бросились с топорами и саблями на двери, затворившиеся перед ними.
Людовик XVI между тем удалил множество своих опасных друзей, уже столько раз компрометировавших его, не будучи, однако, в состоянии его спасти. Они и теперь прибежали, но он приказал им уйти из дворца, где их присутствие могло только раздражить народ, отнюдь не сдерживая его. Он удержал при себе только старого маршала Муши, нескольких слуг и преданных офицеров гвардии. В это время раздаются крики народа и стук топоров. Офицеры Национальной гвардии окружают короля, умоляют его показаться и обещаются умереть возле него. Он не задумываясь велит отворить двери. В то же мгновение одна из панелей двери валится к его ногам под сильным ударом. Наконец дверь отворяется и показывается лес штыков и пик. – Я здесь, – говорит Людовик XVI, являясь перед разъяренной толпой. Окружающие теснятся около него и заслоняют его собой. – Окажите почтение вашему государю! – восклицают они, и толпа, конечно не имевшая определенной цели и подговоренная только напугать двор своим вторжением, приостанавливается. Несколько голосов объявляют, что приготовлена петиция, и требуют, чтобы король ее выслушал. Окружающие короля советуют ему перейти в более просторную залу и там выслушать чтение. Народ, довольный тем, что его желание исполняется, идет вслед за королем. Его удается поместить в углубление окна, там для него ставят скамейку, несколько других скамеек расставляют перед ним, к ним прибавляют еще стол, и все размещаются вокруг него. Число защитников увеличивается с приходом гренадеров и нескольких придворных, так что образуется живая стена, за которой король может с меньшей опасностью слушать страшный плебисцит. Среди шума и крика часто повторяются слова «Не нужно вето!», «Не нужно священников!», «Не нужно аристократов!», «Лагерь под Парижем!». Мясник Лежандр подходит и простым языком требует утверждения декрета. – Здесь не место и не время, – с твердостью отвечает король. – Я сделаю всё, чего потребует конституция. Эта твердость не остается без ответа. – Да здравствует нация! – вопит толпа. – Да, – подхватывает Людовик XVI, – да здравствует нация! Я ее лучший друг. – Так докажите! – раздается из толпы голос, и королю подают на пике красный колпак. Отказ был бы опасен, и уж конечно достоинство заключалось не в том, чтобы дать себя убить на месте, отталкивая пустой знак, а в том, чтобы с твердостью выдержать напор толпы, что король и сделал. Он к общему восторгу надевает себе на голову колпак. Так как при этом он задыхается от удушливой жары, один из горожан, полупьяный, держа в руке бутылку и стакан, предлагает ему пить. Король давно уже боится отравы, однако пьет не колеблясь, и толпа снова приходит в восторг. В это время принцесса Елизавета, которая нежно любила брата и одна из всей семьи успела пробраться к нему, ходит от окна к окну, чтобы уберечь королеву от опасности. Народ принимает ее за королеву. Слышатся грозные крики «Вот Австриячка!». Гренадеры, окружившие принцессу, хотят объяснить народу его ошибку, но преданная сестра им не позволяет. «Оставьте, – говорит она, – пусть так думают, а вы спасите королеву». Королева с детьми никак не могла добраться до мужа. Она бежала из внутренних покоев, поспешила в Залу совета и всё не могла пройти к королю из-за толпы, запрудившей весь дворец. Мария-Антуанетта настоятельно требовала, чтобы ее провели к мужу. Окружающим наконец удалось отговорить ее и она, стоя за столом совета с несколькими гренадерами, смотрела, как мимо нее проходил народ, – с тяжким сердцем, с глазами, влажными от сдерживаемых слез. Подле нее плакала дочь, а малютка сын, сначала испугавшийся, скоро успокоился и улыбался с блаженной детской беспечностью. Ему подали красный колпак, и мать надела его ему на голову. Сантерр, стоявший тут же, наказывал народу не забывать уважения и старался успокоить королеву, он повторял ей обычную и, к несчастью, бесполезную фразу: «Государыня, вас обманывают, вас обманывают». Заметив, что маленький принц совсем придушен колпаком, он воскликнул: «Ребенок задыхается» – и избавил его от нелепого убора.
Узнав об опасностях, грозивших дворцу, множество депутатов поспешили к королю и обратились к народу, стараясь внушить ему уважение. Другие отправились в собрание уведомить его о происходившем. Там волнение увеличилось вследствие негодования правой стороны и стараний левой извинить вторжение во дворец государя. Единогласно было постановлено отправить к королю депутацию из двадцати четырех членов. Депутация должна была через каждые полчаса сменяться, чтобы собрание постоянно получало свежие новости. Присланные депутаты говорили по очереди, поднимаемые на плечах гренадеров. Наконец появился Петион и получил упреки за то, что долго медлил. Он уверял, что только в половине пятого узнал о вторжении, происшедшем в четыре часа, что ему потребовалось полчаса на приезд во дворец, а потом встретилось столько преград, что он не мог добраться до короля ранее. Петион подошел к королю. – Ничего не бойтесь, – сказал он ему, – вы среди народа. Людовик XVI взял руку одного из гренадеров, положил ее себе на сердце и сказал: – Посмотрите, бьется ли оно скорее обыкновенного. Этот ответ очень понравился. Петион стал на кресло и, обращаясь к толпе, сказал, что теперь, сделав королю свои представления, ей остается только без шума удалиться, так, чтобы ничем не осквернить этого дня. Несколько очевидцев утверждали, будто Петион сказал «свои справедливые представления». Но и это слово объяснялось бы необходимостью не оскорбить толпы. Сантерр поддержал Петиона своим влиянием, и дворец скоро опустел. Толпа удалилась спокойно и по порядку. Было около семи часов вечера. Король, королева, сестра короля и дети тотчас же сошлись, заливаясь слезами. Король, ошеломленный, еще был в красном колпаке; он только теперь это заметил и отбросил его с негодованием. В эту минуту прибыли новые депутаты осведомиться о состоянии дворца. Королева сама обошла его вместе с ними; она показывала им выломанные двери, переломанную мебель и с горечью отзывалась обо всех этих поруганиях. В числе депутатов был Мерлен из Тионвиля, один из самых горячих республиканцев; королева заметила в глазах его слезы. – Вы плачете, – сказала она ему, – о том, что с королем и его семейством так жестоко обходится тот самый народ, который он всегда стремился осчастливить. – Это правда, – ответил Мерлен, – я плачу о несчастьях женщины, прекрасной, с душою, и матери семейства; но не ошибитесь: у меня нет ни одной слезы о короле или королеве – я ненавижу королей и королев.
Глава X
Последствия событий 20 июня – Речь Верньо – Отрешение Петиона от должности – Лафайет предлагает королю план бегства – Камилл Демулен, Марат, Робеспьер, ДантонНа следующий день после бурного 20 июня, только что описанного нами в главных чертах, Париж всё еще имел угрожающий вид и различные партии бушевали с еще большим неистовством. Негодование было одинаково у приверженцев двора, считавших его поруганным, и у конституционалистов, смотревших на это вторжение как на нарушение законов и общественного спокойствия. И так произошли большие беспорядки, а их еще преувеличивали: стали толковать, что был замысел убить короля и заговор не удался лишь по счастливой случайности. Вследствие вполне естественной реакции всё участие обратилось на королевское семейство, вынесшее столько опасностей и столько оскорблений, а против предполагаемых зачинщиков преобладало сильное недоброжелательство. На всех лицах в собрании была написана печаль; несколько членов энергично восстали против всего, что случилось накануне. Депутат Биго предложил закон против вооруженной подачи петиций и против обычая позволять народным толпам проходить шествием через залу собрания. Хотя уже существовали законы об этом предмете, они были возобновлены декретом. Депутат Давейру требовал судебного преследования возмутителей. – Судебное преследование против сорока тысяч человек! – возразили ему. – Ну, – настаивал он, – если нельзя различить виновных из сорока тысяч, накажите гвардию, которая плохо защищалась, но что-нибудь непременно сделайте. Потом явились министры с отчетом о происшедшем, и начались прения. Один член правой стороны, на том основании, что Верньо был очевидцем, потребовал, чтобы тот описал виденное им. Но депутат так и не встал и хранил молчание. Наиболее смелые члены левой стороны стряхнули с себя эту неловкость и ободрились под конец заседания. Они даже осмелились предложить вопрос о том, нужно ли вето для декретов, вызванных каким-нибудь особым случаем, но это предложение было отвергнуто большинством. К вечеру возникли новые поводы опасаться возобновления вчерашней сцены. Толпа, удаляясь, сказала, что возвратится, и многие думали, что парижане сдержат слово. Однако, вследствие ли остатка доброго чувства, или потому, что народные вожди не одобряли новой попытки в эту минуту, она была весьма легко остановлена, и Петион поспешил во дворец известить короля, что воцарился порядок, а народ, сделав ему свои представления, спокоен и доволен. – Это неправда, – сказал король. – Государь… – Молчите. – Служителю народа не подобает молчать, когда он исполняет свои обязанности и говорит правду. – Вы головой отвечаете за спокойствие Парижа. – Я знаю мои обязанности и сумею исполнить их. – Довольно. Ступайте их исполнять. Удалитесь. Король, при крайней доброте, был способен на вспышки досады, которые придворные называли ударами клыка. Вид Петиона, обвиняемого в потворстве вчерашним выходкам, раздражил Людовика, и это стало причиной вышеприведенного разговора, который мигом облетел весь Париж. Немедленно были выпущены две прокламации, одна от короля, другая от муниципалитета; казалось, будто эти две власти собирались вступить в борьбу. Муниципалитет уговаривал народ оставаться спокойным, уважать короля, уважать и заставлять уважать Национальное собрание; не собираться с оружием, потому что это запрещено законами, а главное – не доверять злоумышленникам, старавшимся снова его раздразнить. Действительно, ходили слухи, будто двор старается вторично поднять народ, чтобы иметь случай стрелять в него картечью. То есть дворец полагал, что против него замышлено убийство, а народ – что задумана бойня. Король говорил в своем манифесте: «Французы, вероятно, не без прискорбия узнали, что толпа, введенная в заблуждение несколькими крамольниками, вооруженною рукою вломилась в жилище короля… Король защищался от угроз и поруганий крамольников лишь своей совестью и любовью к общественному благу. Он не знает, у каких пределов они захотят остановиться, но до каких бы излишеств они ни дошли, они никогда не вырвут у него согласия на всё то, что он будет считать противным общественным интересам. Если тем, кто хочет низвергнуть монархию, нужно еще лишнее преступление – пусть они его совершают… Король приказывает всем административным властям и муниципалитетам наблюдать за безопасностью людей и имуществ». Эти противоположные выражения соответствовали двум мнениям, которые в то время образовались. Все те, кто был приведен поведением двора в отчаяние, еще более озлобились против него и решились всеми возможными способами расстраивать его планы. Народные общества, муниципалитеты, люди с пиками, часть Национальной гвардии, левая сторона собрания отлично поняли прокламацию парижского мэра и дали себе слово остерегаться не более того, сколько было нужно, чтобы не подставлять себя под картечь без решительного результата. Находясь еще в колебании относительно средств, они ждали, исполненные равно недоверия и недоброжелательства. Первым делом следовало заставить министров явиться перед собранием с отчетом о мерах, принятых ими по двум существенным пунктам: 1) по религиозным смутам, возбуждаемым священниками; 2) по безопасности столицы, которую должен был прикрыть лагерь из двадцати тысяч человек, не утвержденный королем. Те, кого чернь называла аристократами, искренние конституционалисты, часть национальных гвардейцев, несколько провинций и в особенности директории департаментов при этом случае высказались энергично. Так как законы были нарушены, то на их стороне оказались все выгоды, и они, не стесняясь, заявили свое мнение. Король получил множество адресов. В Руане и Париже была заготовлена петиция за двадцатью тысячами подписей, которую народ в своей ненависти приравнял к петиции против лагеря, подписанной восемью тысячами парижан. Наконец, было назначено следствие против мэра Петиона и прокурора коммуны Манюэля, обвиняемых в том, что они своим бездействием потворствовали вторжению 20 июня. Все с восторгом говорили о том, как король себя держал в этот роковой день: общественное мнение изменялось, и многие каялись, что подозревали короля в малодушии. Но все скоро поняли, что это пассивное выносливое мужество не чета мужеству деятельному, предприимчивому, предупреждающему опасности вместо того, чтобы дожидаться их с покорностью.
Конституционная партия вела себя крайне деятельно. Все те, кто вместе с Лафайетом сочиняли письмо 16 июня, опять собрались с целью попытаться применить сильную меру. Лафайет пришел в негодование, когда узнал обо всем, что произошло во дворце. Ему доставили несколько адресов от его полков, свидетельствовавших о таком же негодовании. Не разбирая, подсказаны были эти адресы или добровольны, он прервал их общим приказом, в котором обещал сам лично выразить чувства всей армии. Он решился явиться в собрание и изустно повторить то, что писал депутатам 16 июня. Он сговорился с Люкнером, которым легко было руководить, как всяким старым воином, никогда не выходившим из лагеря. Лафайет заставил его написать письмо к королю с выражением тех же чувств, которые он сам собирался излагать в Законодательном собрании. Затем генерал принял все нужные меры, чтобы его отсутствие не могло повредить военным операциям, и оторвался от обожавших его солдат, чтобы отправиться в Париж, не смущаясь ожидавшими его там большими опасностями. Лафайет рассчитывал на свою верную гвардию и на новый порыв с ее стороны. Он также рассчитывал на двор, вражды которого он мог не бояться, так как приехал с целью пожертвовать собой для него. Доказав свою рыцарскую любовь к свободе, он хотел доказать свою искреннюю привязанность к королю и, сверх этой геройской экзальтации, весьма вероятно, что он не оставался равнодушен к славе, ожидавшей его за такой двойной подвиг. Лафайет приехал 28 июня утром. Слух о его приезде быстро разошелся, и люди везде с удивлением и любопытством говорили друг другу, что генерал Лафайет в Париже. До его прибытия собрание было взволновано множеством петиций противоположного содержания. Петиции из Руана, Гавра, департаментов Эна, Сена и Уаза, Па-де-Кале восставали против излишеств 20 июня; петиции из Арраса и Геро как будто почти одобряли их. С одной стороны было прочитано письмо Люкнера за короля, а с другой – возмутительные пасквили против него, вывешенные на парижских стенах. Двадцать восьмого июня значительная толпа повалила в собрание в надежде, что Лафайет, планы которого еще не были известны, может туда явиться. Действительно, около половины второго докладывают, что онпросит допустить его к решетке. Правая сторона встречает его рукоплесканиями, а левая и трибуны – молчанием. «Господа, – начинает он, – я должен прежде всего заверить вас, что по распоряжениям, сделанным с общего согласия маршалом Люкнером и мною, мое присутствие нисколько не компрометирует ни успеха нашего оружия, ни безопасности армии, которой я имею честь командовать». Затем генерал излагает причины, побудившие его приехать: многие утверждали, будто его письмо писано не им, – он приехал признать его своим и, для того чтобы сделать это признание, покинул лагерь, где его окружает любовь его солдат. К этому его побудила более важная причина: 20 июня вызвало негодование его армии, которая обратилась к нему со множеством адресов. Он запретил их и обязался сам сделаться рупором своих войск перед собранием. Солдаты его, присовокупляет Лафайет, уже спрашивают себя, подлинно ли дело свободы и конституции они защищают? Он умоляет Национальное собрание: 1) преследовать судебным порядком зачинщиков 20 июня; 2) уничтожить секту, посягающую на верховенство нации, публичные прения которой не оставляют никакого сомнения относительно гнусности ее замыслов; 3) наконец, проследить, чтобы властям оказывалось должное почтение, и дать армиям уверение, что конституции не будет наносится ущерба дома, пока они защищают ее от внешних врагов, не жалея своей крови. Президент отвечает Лафайету, что собрание не изменит своим клятвам и рассмотрит его петицию. Пока он приглашается принять участие в заседании в качестве почетного гостя. Генерал садится на одну из скамеек правой стороны. Депутат Керсен замечает, что ему следует сидеть на скамье просителей. «Да!», «нет!» раздается со всех сторон. Генерал скромно встает и пересаживается на скамью просителей. Его сопровождают рукоплескания. Гюаде говорит первым и, ловко обходя вопрос, спрашивает, побеждены ли враги, избавлено ли от них отечество, так как господин Лафайет в Париже. «Нет, – отвечает он сам себе, – отечество не избавлено, наше положение не изменилось, однако главнокомандующий одной из наших армий в Париже!» Оратор говорит, что не станет рассматривать, не окружен ли сам господин Лафайет, который видит во французском народе лишь крамольников, нападающих и стращающих власти, своим главным штабом, обманывающим и обольщающим его, но что он обратит внимание господина Лафайета на то, что тот действует антиконституционно, становясь рупором армии, не имеющей по закону совещательного голоса, и что, вероятно, он нарушил правила военной иерархии, приехав в Париж без разрешения военного министра. Поэтому Гюаде требует, чтобы министр объявил, дал ли он отпуск Лафайету, и, сверх того, чтобы чрезвычайная комиссия составила отчет по вопросу о праве генерала занимать собрание предметами чисто политическими. Берется возражать Рамон. Он начинает с весьма естественного и весьма часто применяемого замечания: смотря по обстоятельствам, законы подвергаются разным толкованиям. «Никогда, – сказал он, – мы не были так разборчивы насчет права петиции. Когда на днях явилась вооруженная толпа, ее не спросили, в чем состоит ее задача, ее не упрекнули в посягательстве на независимость собрания; а когда Лафайет, который всей своей жизнью сделался для Америки и Европы знаменем свободы, является перед нами – пробуждаются подозрения! Если уж допускается два веса и две меры, то пусть же будет дозволено оказать некоторое лицеприятие старшему сыну свободы!..» Затем Рамон предлагает отослать петицию в чрезвычайную комиссию для рассмотрения не поведения Лафайета, а самой петиции. После шумных споров и вторичной переклички предложение Рамона утверждается декретом. Лафайет выходит из собрания, сопровождаемый множеством депутатов и солдат гвардии, всеми его приверженцами и прежними товарищами по оружию. Это была решительная минута для него, для двора и для народной партии. Он отправляется во дворец. Вокруг него в группах придворных раздаются самые оскорбительные речи. Король и королева холодно принимают того, кто рискует для них собою. Лафайет уходит из дворца, опечаленный выказанным ему нерасположением – не за себя, но за королевское семейство. У выхода из Тюильри его принимает большая толпа, провожает до квартиры с криками «Да здравствует Лафайет!» и даже сажает перед его дверью зеленое дерево. Эти заявления давнишней преданности тронули генерала и напугали якобинцев. Но нужно было пользоваться этими остатками любви и разжечь их, чтобы получить желанное действие. Король же и королева оба были того мнения, что не следует поддерживать Лафайета. Итак, он очутился покинутым единственной частью Национальной гвардии, на которую можно было бы опереться. Однако, несмотря ни на что, решившись служить королю, хотя бы против его воли, Лафайет сговорился с друзьями. Но между ними не было прежнего согласия. Одни, и в особенности Лалли-Толендаль, желали, чтобы он начал быстро действовать против якобинцев и напал на них в их собственном клубе. Другие, все члены директории и собрания, постоянно опираясь на закон, находя в нем свою единственную поддержку, не хотели советовать нарушения его и отговаривали от открытого нападения. Лафайет предпочел наиболее смелый путь: он созвал своих приверженцев, с тем чтобы вместе с ними отправиться в Клуб якобинцев, выгнать их оттуда и заделать двери. Но хотя было назначено место, где им сойтись, явились немногие, и Лафайет быль поставлен перед невозможностью действовать. Пока он негодовал на отсутствие помощи, якобинцы под влиянием внезапной паники сами ушли из своего клуба. Они побежали к Дюмурье, еще не уехавшему в армию, и просили его принять над ними начальство и во главе их идти против Лафайета, но предложение их не было принято. Лафайет еще день пробыл в Париже, среди доносов, угроз и замыслов убить его, и наконец уехал в отчаянии от бесполезности своего подвига и рокового упрямства двора. И этого-то человека, покинутого всеми в то время, как он подставлял грудь под кинжалы, чтобы спасти короля, обвинили в предательстве Людовика XVI! Придворные уверяли, что средства его были дурно рассчитаны. Конечно, было легче и вернее, по крайней мере на первый взгляд, напустить на Францию восемьдесят тысяч пруссаков; но в Париже, с его намерением не призывать иностранцев, что можно было сделать, как не стать во главе Национальной гвардии, напугать якобинцев и рассеять их? Лафайет уехал с желанием все-таки служить королю и, если получится, устроить его отъезд из Парижа. Он написал собранию письмо, в котором с еще большей энергией повторил всё то, что сам говорил против крамольников.
Едва народная партия избавилась от страха, внушенного присутствием и намерениями генерала, она опять принялась за нападки против двора и еще упорнее стала требовать строгого отчета в мерах, принимаемых им для охранения территории страны. Было уже известно, хотя исполнительная власть не уведомила об этом собрание, что пруссаки нарушили нейтралитет и идут к Кобленцу в количестве 80 тысяч человек – солдаты Фридриха Великого под начальством герцога Брауншвейгского, знаменитого полководца. Люкнер, имея слишком мало войска и не очень-то рассчитывая на бельгийцев, должен был отступить в Лилль и Валансьен. Один офицер, отступая из Куртре, сжег предместья города, и многие думали, что эта жестокая мера была принята нарочно для того, чтобы оттолкнуть бельгийцев. Правительство ничего не делало для усиления армий, едва достигавших на всех трех границах 230 тысяч человек. Оно не прибегало ни к одному из могучих средств, которые пробуждают рвение и энтузиазм нации. Через шесть недель неприятель мог быть в Париже. Королева так и рассчитывала и по секрету говорила одной из своих дам. У нее был маршрут эмигрантов и прусского короля; она знала, в какой день они могли быть в Вердене, в какой в Лилле, знала, что этой последней крепости предстояла осада. Несчастная надеялась быть избавленной через месяц! Увы, почему она лучше не верила искренним друзьям, которые объясняли ей неудобства иностранной, к тому же бесполезной помощи, доказывали, что эта помощь придет вовремя, чтобы скомпрометировать ее, но слишком поздно, чтобы спасти! Почему она не верила собственным опасениям на этот счет и мрачным предчувствиям, подчас ее осаждавшим!
Мы видели, что средством, которым более всего дорожила национальная партия, был лагерь под Парижем из 20 тысяч федератов. Король, как мы уже говорили, на это не согласился. Собрание потребовало у него, в лице его министров, объяснений в том, чем он заменил меры, предписанные неутвержденным декретом. Он ответил новым предложением, состоявшим в том, чтобы направить на Суассон резерв из сорока двух батальонов национальных волонтеров взамен прежнего резерва, истощенного укомплектованием главных армий. Это был почти тот же декрет, с одной только разницей, весьма важной в глазах патриотов: резервный лагерь должен был поместиться между Парижем и границей, а не под самым Парижем. Этот план был встречен ропотом и отослан в военный комитет. После того несколько департаментов и муниципалитетов, подстрекаемые перепиской с Парижем, решились исполнить декрет, хоть и не утвержденный. Департаменты Устье Роны, Жиронда и Геро дали первый пример, за которым вскоре последовали и другие. Таково было начало восстания. Как только стали известны эти частные, добровольные наборы, собрание внесло в предложенный королем проект о сорока двух батальонах изменение, гласившее, что те батальоны, которые из усердия уже двинулись, не будучи еще легально призваны, пройдут через Париж, чтобы записаться в столичном муниципалитете, а затем будут направлены на Суассон для образования лагеря. А те, что успеют прийти в Париж до 14 июля, годовщины Федерации, будут присутствовать при национальном торжестве. Оно не было отпраздновано в 1791 году вследствие бегства в Варенн, и потому его хотели отпраздновать в этом году с особенным блеском. Собрание присовокупило, что тотчас после торжества федераты отправятся к своему месту назначения. Это значило в то же время узаконить восстание и фактически возобновить неутвержденный декрет; вся разница была в том, что федераты должны были пройти через Париж. Но главная задача заключалась в том, чтобы их туда привести, а уж там тысяча обстоятельств могла и задержать их. Декрет был немедленно отослан к королю и на следующий день утвержден. К этой важной мере присовокупили еще другую. Собрание не доверяло части Национальной гвардии, особенно главным штабам, которые, по примеру директорий департаментов, приближаясь к высшей власти своими чинами, клонились больше на ее сторону. Надо было нанести основной удар парижскому Главному штабу, но так как этого нельзя было сделать открыто, то декретом 2 июля постановили, что все главные штабы городов, население которых превышало пятьдесят тысяч человек, будут распущены и вновь избраны. При общем волнении, овладевшем всей Францией и обеспечивавшем все влияние наиболее пылким людям, это собрание не могло не обогатить преданными деятелями народную и республиканскую партии. Это всё были важные победы, силой одержанные над правой стороной и двором. Но и это еще не успокаивало патриотов в виду угрожавших им, по их мнению, опасностей. Сорок тысяч пруссаков, столько же австрийцев и сардинцев, приближавшихся к границам; двор, по всему действовавший заодно с неприятелем, не применявший никаких мер для усиления армий и возбуждения нации, а напротив, расстраивавший посредством вето распоряжения Законодательного собрания и на деньги, предоставляемые на его содержание, вербовавший себе приверженцев; генерал, которого не считали способным присоединиться к эмиграции и выдать Францию, но который очевидно был готов поддержать двор против народа, – все эти обстоятельства пугали и глубоко волновали умы. «Отечество в опасности!» – таков был общий клик. Но как предотвратить эту опасность? Вот в чем была трудность. Мнения не сходились даже насчет причин. Конституционалисты и сторонники двора, перепуганные настолько же, насколько и патриоты, приписывали эти опасности одним крамольникам, боялись только за одну королевскую власть и видели опасность лишь в несогласии. Патриоты, напротив, видели опасность исключительно в иностранном нашествии и обвиняли в ней один только двор, его отказы, медлительность, тайные происки. Петиции сыпались перекрестным огнем. Одни во всем винили якобинцев, другие – двор, обозначаемый разными названиями: то дворец, то исполнительная власть, то вето. Собрание всё выслушивало и отсылало к Чрезвычайной Комиссии двенадцати, на которую давно уже была возложена обязанность приискивать и предлагать средства к спасению. Ее проекта ждали с нетерпением. Пока же угрожающие афиши были вывешены на всех стенах; газеты, не менее смелые, только и говорили, что о принудительном отречении от престола и низложении короля. Это составляло предмет всех разговоров, и лишь еще в собрании соблюдалась некоторая умеренность. Там нападки на королевскую власть оставались только косвенными. Так, например, было предложено отменить вето для декретов, вызванных особенными обстоятельствами; несколько раз заходила речь о личном содержании короля, о преступном использовании назначаемой для него суммы, говорили даже о сокращении ее или подчинении гласной отчетности. Двор никогда не отказывался исполнять настоятельные требования собрания о материальном усилении средств к защите – он не мог бы этого делать, не компрометируя себя слишком открыто, притом ему не могло быть страшно численное усиление армий совершенно, по его мнению, расстроенных. Народная партия, напротив, требовала необычайных средств, изобличавших великое решение и часто дававших победу самому отчаянному делу. Эти-то средства и придумала Комиссия двенадцати после долгих трудов и предложила собранию. Она остановилась на следующем проекте. Когда опасность достигнет крайней степени, Законодательное собрание само об этом заявит торжественной формулой «Отечество в опасности!». После этого заявления все местные власти, общинные советы, так же как окружные и департаментские, даже само собрание, в качестве первой из властей, должны заседать постоянно, без перерыва. Все граждане, под страхом строжайших наказаний, обязаны тогда отдать властям всё имевшееся у них оружие для надлежащей раздачи. Все мужчины, молодые или старые, но способные служить, должны поступать в национальные гвардии. Одни должны быть мобилизованы и отправлены в места пребывания различных властей, окружных или департаментских; другие могут быть посылаемы всюду, куда потребует польза отечества, по Франции или за границу. От тех, для кого этот расход оказывался не по карману, мундира не требовалось. Все гвардейцы, высланные с мест их жительства, должны будут получать жалованье, положенное волонтерам. Властям поручалось готовить военные припасы. Знак восстания, водруженный с умыслом, наказывался смертью. Всякая кокарда, всякий флаг, исключая национальный трехцветный, считались таковыми знаками. По этому плану вся нация должна была быть на страже и под оружием; она имела возможность совещаться и сражаться везде, во всякую минуту; она могла обойтись без правительства и восполнить его недостаток деятельности. Бесцельное волнение толпы регулировалось и направлялось. Если бы, наконец, французы не отозвались на такой призыв, то не стоило заботиться о нации, неспособной действовать самой. Понятно, что по поводу этого плана не замедлили завязаться крайне оживленные прения.
Депутат Пасторе представил предварительный отчет 30 июня. Отчет этот никого не удовлетворил: он выставил неправыми всех и не определял положительным образом средств к предотвращению опасности в будущем. После него депутат Дебри отчетливо и с умеренностью объяснил план комиссии. Раз начавшись, прения вскоре превратились в обмен упреками. Спор дал волю обладателям пылких и опрометчивых воображений, которые прямо хватаются за крайние средства. Великий закон об общественной безопасности, то есть диктатура, закон, долженствовавший состояться лишь при Конвенте, был предложен уже в Законодательном собрании. Депутат Делоне предложил собранию объявить, что до удаления опасности оно будет руководиться лишь неотложным и верховным законом общественного спасения. Это значило, пока лишь отвлеченной и таинственной формулой, но тем не менее очевидно устранить королевскую власть и объявить Законодательное собрание царствующим безусловно. Делоне говорил, что революция не окончена, что те, кто так полагает, ошибаются, что неизменные законы годятся, когда революция будет спасена, а не когда ее еще надо спасать; словом, он говорил всё то, что обыкновенно говорится в пользу диктатуры, всегда приходящей на ум в час опасности. Ответ депутатов правой стороны был совершенно естествен: они находили, что, создавая власть, поглощающую правильные и установленные власти, нарушали присягу, данную конституции. Их противники возражали, что пример такого нарушения уже подан, что не следует дать себя предупредить и застигнуть врасплох. «Однако докажите, – говорили сторонники двора, – докажите, что этот пример подан, что конституция нарушена». «Вы крамольники!» – «Вы изменники!» Вот вечный взаимный упрек, вечный неразрешимый вопрос. Депутат Жокур хотел отослать предложение якобинцам, настолько оно казалось ему свирепым. Пылкий Инар, которому оно пришлось по душе, требовал, чтобы оно было принято к сведению, а речь Делоне – разослана департаментам для противопоставления речи Пасторе, которую он называл приемом опиума, данным умирающему. Депутату Воблану удалось завладеть всеобщим вниманием. Он сказал, что конституция может быть спасена конституцией же, что план Дебри служит этому доказательством, что речь Делоне можно, пожалуй, напечатать, но рассылать департаментам не следует, а надо возвратиться к предложению комиссии. Действительно, прения были отложены до 3 июля. Один депутат еще не говорил – Верньо. Хоть и член Жиронды, и вдобавок ее лучший оратор, он держал себя независимо. По беспечности или по истинной возвышенности духа он, казалось, стоял выше страстей своих друзей; он разделял их горячие патриотические чувства, но не всегда разделял их гнев и озабоченность. Когда он решался высказаться по какому-нибудь вопросу, то увлекал своим красноречием и некоторым общепризнанным беспристрастием ту колебавшуюся часть собрания, которую некогда Мирабо покорял своей диалектикой и жаром. Неуверенные в себе люди везде подчиняются таланту и разуму. Было объявлено, что Верньо будет говорить 3 июля. Громадная толпа собралась слушать великого оратора по вопросу, признанному всеми важнейшим. И вот он говорит. Бросив сначала взгляд на Францию, он продолжает: «Если не верить в несокрушимую любовь народа к свободе, можно было бы усомниться, обращается революция вспять или приходит к своей цели. Наши северные армии двигались в Бельгию – вдруг они отступают; театр войны переносится на нашу территорию, и у несчастных бельгийцев останется от нас только память о пожарах, которыми освещалось наше отступление. В то же время большая армия пруссаков угрожает Рейну, хотя нам и подавали надежду, что поход их будет не столь быстр. Каким образом выбрали именно эту минуту, чтобы отпустить народных министров, чтобы прервать нить их трудов, вверить власть неопытным рукам и отвергнуть полезные меры, которые мы сочли нашим долгом предложить? Или правда, что наших побед страшатся?.. Какую кровь жалеют – кобленцскую или вашу?.. Уж не хотят ли царствовать над покинутыми городами, над опустошенными полями?.. Где же мы, наконец?.. А вы, господа, что вы предпримете великого на пользу общего дела? Вы, которых, как льстят себе, устрашили; вы, совесть которых думают встревожить, называя ваш патриотизм крамольным духом, как будто не были названы крамольниками те, кто дали клятву в Зале для игры в мяч; вы, кто подвергались стольким клеветам за то, что не принадлежите к надменной касте, низвергнутой в прах конституцией; вы, за которыми предполагают преступные намерения, точно вы облечены иной властью, кроме власти закона, и получаете тридцать миллионов в год жалованья; вы, которых сумели разделить, но которые в минуту опасности отложите ненависть, жалкие словопрения и не найдете такой сладости во взаимной ненависти, чтобы предпочесть это адское наслаждение благу Отечества; вы все, наконец, выслушайте меня: какие у вас средства? Что велит вам нужда? Что дозволяет конституция?» Во время этого вступления оратора часто прерывают рукоплескания. Он продолжает и разоблачает двоякого рода опасности, внутренние и внешние. «Чтобы предупредить первые, собрание предложило декрет против священников, и – оттого ли, что дух Медичи еще бродит под сводами Тюильри, или какой-нибудь Летелье еще смущает сердце государя[52] – декрет отвергнут престолом. Непозволительно думать, не нанося оскорбления королю, чтобы он желал религиозных смут. Стало быть, он считает себя настолько могущественным, чтобы обеспечить спокойствие, и ему для этого достаточно прежних законов. Пусть же его министры отвечают за спокойствие головой, если уж имеют средства обеспечить его! Чтобы предупредить внешние опасности, собрание придумало резервный лагерь – король вновь не согласился. Было бы оскорблением полагать, что он хотел выдать Францию неприятелю; стало быть, у него есть достаточные силы, чтобы защитить ее: его министры должны нам отвечать головой за спасение Отечества». До сих пор оратор, как мы видим, наседает исключительно на ответственность министров и только усугубляет ее. «Но, – прибавляет он, – недостаточно того, чтобы ввергнуть министров в бездну, вырытую их злокозненностью или бессилием… Выслушайте меня спокойно, не спешите отгадывать…» При этих словах внимание удваивается; в собрании водворяется глубокое молчание. «От имени короля, – говорит он, – французские принцы старались поднять Европу; в отмщение за достоинство короля был заключен Пильницкий договор; с целью помочь королю король Венгерский и Богемский ведет с нами войну, Пруссия идет на нас. В конституции же я читаю: “Если король станет во главе армии и направит ее силы против нации, или если он не воспротивится формальным актом таковому предприятию, исполняемому во имя его, он будет считаться отрекшимся от престола”. Что такое формальный акт сопротивления? Если бы сто тысяч австрийцев шли на Фландрию и сто тысяч пруссаков на Эльзас, а король выставил против них десять или двадцать тысяч человек – было бы это формальным актом сопротивления? Если бы король, обязанный сообщить о предстоящих неприятельских действиях, знал о движениях прусской армии и не уведомил бы о них собрание, если бы был предложен резервный лагерь, необходимый для отпора неприятелю, а король заменил бы его другим планом, неверным и требующим много времени на исполнение; если бы король предоставил начальство над одной из армий генералу-интригану, подозрительному нации; если бы другой, вскормленный вдали от разврата дворов и привыкший к победам, требовал подкрепления, а король своим отказом сказал бы ему “Я тебе запрещаю победу”, можно ли было бы сказать, что король совершил формальный акт сопротивления? Я преувеличил многие факты, чтобы отнять всякий предлог к применениям, основанным на догадках. Но что если бы, пока Франция купается в крови, король сказал вам: “Правда, неприятель уверяет, будто действует ради одного меня, ради моего достоинства, ради моих прав, но я доказал, что не являюсь соучастником его; я поставил в поле армии, эти армии были слишком слабы, но конституция не определяет степени их силы; я их собрал слишком поздно, но конституция не определяет времени, когда их следует собирать; я остановил генерала в ту минуту, как он был готов победить, но конституция не заказывает побед: я имел министров, которые обманывали собрание и расстраивали правительство, но право на назначение их принадлежало мне; собрание издало полезные декреты, которых я не утвердил, но я имел право и на это; я сделал всё то, что мне предписывала конституция, следовательно, нет возможности сомневаться в моей верности ей”». Шумные рукоплескания разражаются со всех сторон. «Итак, – продолжает Верньо, – если бы король повел такие речи, не были ли бы вы вправе ответить ему: “О король, который подобно тирану Лизандру вообразил, что истина не лучше лжи; который притворился, будто любит законы, с тем только, чтобы сохранить могущество, долженствующее помочь идти наперекор им! Защищал ли ты нас, выставляя против иноземных воинов такие силы, малочисленность которых не оставляла даже сомнения в их поражении? Защищал ли ты нас, отвергая планы, клонившиеся к укреплению страны? Защищал ли ты нас, давая волю генералу, который нарушал конституцию и связывал по рукам и по ногам тех, кто ей служил?.. Ради чего конституция предоставляет тебе выбор министров: ради нашего блага или нашей погибели? Ради чего она делает тебя верховным начальником над армиями – ради нашей славы или нашего стыда? Для того ли, наконец, она дала тебе право утверждать законы, годовое содержание и столько еще прерогатив, чтобы ими конституционным образом губить государство? Нет, нет! Ты, человек, которого не могло тронуть великодушие французов, который склонен лишь к одной любви к деспотизму, ты сделался ничем в глазах этой конституции, столь гнусно тобой нарушенной, в глазах этого народа, столь низко тобою преданного!..” Но нет, – заключает оратор, – если наши армии не полны, король, верно, в том не виновен, верно, он примет нужные меры к нашему спасению, верно, поход прусаков не будет таким торжеством, как они ожидают. Но нужно было всё предусмотреть и всё сказать, ибо одна откровенность может нас спасти». Верньо кончает предложением отправить Людовику XVI послание, твердое, но почтительное, которое поставило бы его перед необходимостью сделать выбор между Францией и иноземцами и убедило, что французы твердо решились погибнуть или победить вместе с конституцией. Кроме того, он требует, чтобы отечество было объявлено в опасности с целью пробудить в сердцах те высокие чувства, которые воодушевляли великие народы и, несомненно, найдутся и у французов, ибо, говорит он, уж никак не во французах, возрожденных 1789 годом, скажется вырождение. Наконец, Верньо требует, чтобы был положен конец всем этим раздорам, принимающим слишком мрачный характер, и чтобы были соединены граждане, оставшиеся в Риме, и граждане, ушедшие на Авентинский холм. Последние слова оратор произнес взволнованным голосом, все были тронуты. Трибуны, правая сторона, левая сторона – аплодировали все. Верньо сходит с кафедры и тотчас же оказывается окружен поздравляющей его толпой. Он один до сих пор решился говорить в собрании о низложении короля, о предмете, о котором все толковали, но в форме гадательной и еще почтительной, если сравнить ее с речами, внушаемыми тогдашними страстями. Дюма берется отвечать. Он хочет экспромтом говорить тотчас после Верньо, перед слушателями, еще преисполненными чувствами, вызванными великим оратором. Он несколько раз требует молчания и внимания, в которых ему отказывают. Он начинает в деталях возражать упрекам исполнительной власти. Отступление Люкнера, говорит он, есть следствие военного случая, которым нельзя управлять из кабинета. – Ведь вы без сомнения верите Люкнеру? – Да, да! – восклицают вокруг, и Керсен требует декрета, заявляющего, что Люкнер сохранил доверие нации. Декрет составляется, и Дюма продолжает. Он справедливо говорит, что если этому генералу доверяют, то нельзя считать причины, побудившие его к отступлению, преступными или подозрительными; что же касается недостатка сил, на который жалуются, то сам маршал знает, что для этого предприятия собраны все войска, какими в то время можно было располагать; что сверх того всё должно было быть приготовлено прежним жирондистским правительством, зачинщиком наступательной войны, и что если не имеется достаточных средств, то виновато в этом единственно правительство; что новые министры не могли всего поправить несколькими курьерами и что, наконец, они дали полную волю Люкнеру и право распоряжаться, смотря по обстоятельствам. В лагере из двадцати тысяч человек отказано, продолжает Дюма, но, во-первых, министры не ответственны за вето, а, во-вторых, план, предложенный вместо первого, лучше, потому что не парализует набор. Декрет против священников не утвержден, но нет надобности в новых законах для обеспечения общественного спокойствия; нужны только тишина, безопасность, уважение к свободе личности и вероисповеданий. Везде, где эта свобода уважалась, священники никогда не бунтовали. Наконец, Дюма оправдывает короля тем, что не он хотел войны, а Лафайета – тем, что он всегда любил свободу. Декрет, предложенный Комиссией двенадцати для определения признаков, по которым отечество должно быть объявлено в опасности, состоялся среди шумных рукоплесканий, но самое объявление пока еще было отложено. Король, вероятно, возбужденный всем сказанным, сообщил собранию о предстоявших неприятельских действиях со стороны Пруссии, основывая это известие на Пильницком договоре, приеме, оказанном беглецам, насилиях, совершаемых против французских торговцев, отсылке французского посланника и выезде из Парижа прусского посланника. Наконец, на движениях прусских войск в числе пятидесяти двух тысяч человек. «Всё мне доказывает, – говорится в послании короля, – что существует союз между Веной и Берлином. (Смех.) Согласно статьям конституции, я извещаю о том Законодательное собрание». «Да, – возражают несколько голосов, – когда пруссаки в Кобленце…» Послание было отослано Комиссии двенадцати. Следуют прения о том, в какой форме объявить отечество в опасности. Постановили, что это объявление должно считаться простой прокламацией и, следовательно, не подлежит королевскому утверждению, хотя это было не слишком верно, так как в нем заключались распоряжения законодательного свойства. Но тогда, еще не смея провозглашать этого вслух, собрание уже руководствовалось законом об общественной безопасности. Споры с каждым днем становились ядовитее. Мечта Верньо об объединении граждан в Риме и на Авентинском холме не сбывалась; обоюдные опасения превращались в непримиримую вражду. Был в собрании один депутат по имени Ламурет, конституционный епископ из Лиона, который в свободе видел только возвращение к первобытному братству и бесконечно огорчался и удивлялся раздорам, разделявшим его товарищей. Он не верил, чтобы между ними в самом деле существовала ненависть, и полагал, что всех их смущают лишь несправедливые подозрения и недоверие. Седьмого июля, в ту минуту, когда должны были продолжаться прения, он попросил слова и, обращаясь к товарищам, убедительнейшим тоном, с благороднейшим лицом сказал им, что каждый день предлагаются страшные меры для устранения опасности, угрожающей отечеству; что он, со своей стороны, верит в средства более мягкие. Раздоры между представителями – вот корень всего зла, и против этого-то раздора нужно принять меры. «О! – восклицает достойный пастырь. – Тот, кому удалось бы водворить между вами согласие, тот был бы истинным победителем Австрии и Кобленца. Каждый день говорят, что это невозможно при том, как далеко зашли дела… Ах, я содрогаюсь! Но это неправда: непримиримы только порок и добродетель. Честные люди спорят оживленно, потому что сознают искренность своих убеждений, но ненавидеть друг друга они не могут. Господа, спасение страны в ваших руках – отчего вы медлите? В чем упрекают друг друга обе части собрания? В желании изменить конституцию при помощи иноземцев с одной стороны и в стремлении опрокинуть монархию с целью водворить республику – с другой. Что же, господа! Разгромите одной и той же анафемой и республику, и двойственность палат; предайте их общему проклятию одной последней и бесповоротной клятвой! Поклянемся иметь один дух, одно чувство; поклянемся в вечном братстве! Пусть неприятель узнает, что мы все хотим лишь одного – и отечество спасено!» Едва оратор успевает договорить, как уже обе стороны собрания оказываются на ногах, аплодируют благородной речи, спешат сбросить с себя бремя взаимной вражды. Среди общих криков восторга предается проклятию всякий проект об изменении конституции, и все бегут с противоположных скамей обниматься. Поносители и защитники Лафайета, вето, содержания короля, бунтовщики и изменники – все в объятиях друг друга; все различия уничтожены – обнимаются Пасторе и Кондорсе, еще накануне ругавшие друг друга в газетах. Нет более ни правой ни левой стороны, депутаты сидят где попало, без различия. Дюма сидит рядом с Базиром, Жокур подле Мерлена, Рамон подле Шабо. Тотчас же решают известить провинции, армию и короля об этом счастливом событии; во дворец отправляется депутация, предводительствуя Ламуретом. Он возвращается с известием, что король сейчас будет, заявит свое удовольствие собранию, как 4 февраля 1790 года, и расскажет, что ему трудно было дожидаться депутации, так его тянуло самому явиться раньше. Эти слова возводят восторг до высшей степени, и, если верить единодушному крику, – отечество спасено! Было ли всё это лицемерием со стороны короля и восьмисот депутатов? Неужели все эти люди вдруг задумали друг друга обмануть, притворились прощающими друг другу нанесенные обиды с целью впоследствии вернее друг друга погубить? Нет, конечно. Подобный замысел не зарождается одновременно у такого множества людей, вдруг, без предварительного умысла. Но ненависть тяготит, сладко скинуть эту тяжесть! К тому же, в виду предстоявших грозных событий, при неуверенности в победе, какая партия не согласилась бы охотно сохранить настоящее, только бы оно было обеспечено? Этот факт доказывает, подобно многим другим, что причиною всей этой ненависти были лишь страх и недоверие, что это чувство исчезало от первой минуты доверия и партия, называемая республиканской, мечтала о республике не по системе, а с отчаяния. Зачем только король, вернувшись во дворец, не сел тотчас же писать к Австрии и Пруссии? Зачем не принял он, кроме этой секретной меры, другую, гласную, широкую? Зачем он не сказал, подобно своему прадеду Людовику XIV, когда приближался неприятель: «Мы все пойдем»? Вечером того же дня собранию было доложено о результате дела, начатого против Петиона и Манюэля: они оба были временно отставлены от должности. По тому, что впоследствии выяснили у самого Петиона, очень может быть, что он был бы в состоянии остановить движение 20 июня, так же, как остановил потом еще не одно. Правду сказать, тогда все подозревали, но еще никто положительно не знал, что он потворствовал агитаторам; сверх того, он подлежал обвинению в нескольких нарушениях закона: например, в крайней медлительности своих сообщений властям или допущении совета коммуны к принятию решения, противоположного постановлению директории. Следовательно, приговор департамента был вполне легален и мужествен, но неразумен. После того, что случилось в то же утро, не было ли, в самом деле, величайшей неосторожностью объявить о временном отрешении от должности двух сановников, пользовавшихся такой популярностью? Правда, король передал дело на усмотрение собрания, но собрание не скрыло своего недовольства и отослало ему приговор, предоставляя решить дело самому. Трибуны опять принялись за свои обычные крики; было подано множество петиций со словами «Петион или смерть!». Потом еще депутат Гранжнев, получивший личное оскорбление, потребовал суда против оскорбителя – и примирение было забыто. Бриссо, до которого дошла очередь выступать по вопросу об общественной безопасности, просил, чтобы ему дали время изменить многие выражения в своей речи из уважения к последовавшему примирению, но все-таки не мог не упомянуть об упущениях и проволочках, в которых обвинялся двор, и, несмотря на мнимое примирение, кончил тем, что потребовал торжественного обсуждения вопроса о низложении, предания министров суду за позднее сообщение о неприятельских действиях Пруссии, снаряжения секретной комиссии из семи членов для наблюдения за общественной безопасностью, наконец, безотлагательного объявления отечества в опасности.
В то же время стал известен заговор, затеянный одним дворянином по имени Дюсальян, который, во главе нескольких инсургентов, овладел фортом Бан в Арденнах и оттуда угрожал всей местности. Правительство также изложило собранию настроение держав. Австрийский дом увлек Пруссию и уговорил ее идти против Франции, но ученики Фридриха Великого роптали против этого неразумного союза. Курфюршества, открыто или тайно, все были врагами Франции. Россия первая высказалась против революции, примкнула к Пильницкой декларации, потакала планам Густава и помогала эмигрантам, впрочем, только до известной степени. В эту самую минуту она вела переговоры с Нассау и Эстерхази – вождями эмигрантов, но вместе с тем дала им лишь один фрегат, чтобы избавиться от их присутствия в Санкт-Петербурге. Швеция со смерти Густава была нейтральна и принимала французские корабли. Дания обещала полный нейтралитет. С туринским двором можно было считать себя в состоянии войны. Папа готовил свои громы. Венеция тоже вела себя нейтрально, но как будто собиралась защищать Триест. Испания, не входя открыто в коалицию, не казалась, однако, расположенной исполнить договор и отплатить Франции за оказанную помощь таковой же. Англия клялась в нейтралитете всё новыми заверениями. Соединенные Штаты рады были бы помочь Франции всеми своими средствами, но эти средства были ничтожны вследствие их отдаленности и малочисленности населения. Ввиду такой картины собрание хотело тотчас же объявить отечество в опасности, однако объявление это было отложено до нового отчета всех комитетов. По завершении этих отчетов, 11 июля, среди глубокого молчания президент произнес торжественную формулу: «Граждане! Отечество в опасности!» С этой минуты заседания были объявлены постоянными; поминутные пушечные выстрелы известили о наступившем великом кризисе; все муниципалитеты, все окружные и департаментские советы стали заседать без перерыва, все национальные гвардии пришли в движение. Посреди площадей были воздвигнуты амфитеатры, и муниципальные чиновники принимали на столах, поставленных на барабанах, имена представлявшихся волонтеров; число записывавшихся доходило до пятнадцати тысяч за один день. Примирение 7 июля и последовавшая за ним клятва не успокоили, как мы видим, ничьих подозрений. Люди всё еще помышляли о том, как бы предохранить себя от дворцовых козней, а мысль о низложении короля или принуждении его к отречению от престола являлась умам как единственно возможное средство против всех зол, угрожавших Франции. Верньо лишь указал на эту мысль; другие же, в особенности депутат Торне, хотели, чтобы на предположение, высказанное Верньо, смотрели как на положительное. Петиции со всех концов Франции в том же смысле поддерживали силой общественного мнения этот отчаянный план депутатов-патриотов. Город Марсель уже прислал угрожающую петицию, прочитанную в собрании 19 июня и приведенную выше. Как только отечество было объявлено в опасности, пришло еще несколько других. В одной предлагалось предать суду Лафайета, уничтожить вето на некоторые случаи, сократить содержание короля, восстановить Петиона и Манюэля в их муниципальных должностях. В другой требовалась, кроме безусловного уничтожения вето, еще и гласность заседаний советов. Но Марсель, подавший первый пример таких смелых действий, скоро довел их до последней крайности: горожане сочинили адрес, которым приглашали собрание отнять корону у царствующей ветви Бурбонов и учредить избирательную монархию, без вето, то есть настоящую исполнительную власть, как в республиках. Глубокое изумление, вызванное этим чтением, было почти тотчас прервано рукоплесканиями трибун и предложением одного из членов напечатать петицию. Однако она была отослана Комиссии двенадцати для применения к ней закона, объявляющего бесчестным всякий проект об изменении конституции. Ужас царствовал при дворе, а также в патриотической партии, которую смелые петиции далеко не успокаивали. Король думал, что ненависть направлена против него лично; он воображал, что 20 июня состоялось неудавшееся покушение на его жизнь, а это, несомненно, было заблуждением, так как не могло быть ничего легче исполнения такого преступления, если бы его задумали. Опасаясь отравы, Людовик и его семья ели у одной из доверенных статс-дам королевы, где им подавались не те кушанья, которые в тот день готовились на королевской кухне. Перед Днем Федерации королева поднесла мужу панцирь, сшитый из сложенных в несколько раз материй и могущий выдержать удар кинжалом. Но, по мере того как шло время, смелость народа возрастала, а покушения всё не было, король начал лучше понимать, какого свойства опасность ему угрожала; он уже догадывался, что не кинжала, а юридического приговора ему следует опасаться, и участь Карла I неотступно преследовала его больное воображение.
Между тем Лафайет, хотя и отвергнутый двором, не отказывался от своего решения спасти короля и предложил ему через верных людей весьма смело задуманный план бегства. Он прежде всего завладел доверием Люкнера и сумел взять со старого маршала слово в случае надобности даже идти на Париж. Вследствие этого Лафайет хотел, чтобы король потребовал к себе его и Люкнера под предлогом присутствия на празднестве Федерации. Ему казалось, что присутствие обоих генералов должно удержать народ в границах и предупредить все опасности этого дня. Затем Лафайет хотел, чтобы король на другой день после церемонии публично выехал из Парижа, якобы чтобы съездить в Компьень и доказать в глазах Европы свою независимость. В случае сопротивления он брался вывезти короля из Парижа при помощи лишь пяти преданных всадников. В Компьене должны были быть заготовлены несколько эскадронов, чтобы конвоировать его в армию, а там уже Лафайет полагался на честность короля относительно сохранения новых учреждений. Наконец, в случае, если бы не удалась ни одна из этих мер, генерал решился идти на Париж со всеми своими войсками. Оттого ли, что этот план требовал слишком большой смелости со стороны Людовика XVI, или просто потому, что королева вследствие своего отвращения к Лафайету не хотела принимать от него помощи, только король снова отказался от предложения и послал генералу ответ холодный, вовсе недостойный усердия, им выказываемого. «Лучший совет, какой можно дать господину Лафайету, – говорилось в этомписьме, – это продолжать служить пугалом бунтовщиков, добросовестно исполняя свою должность в качестве генерала».
День Федерации приближался; народ и собрание не желали, чтобы Петион отсутствовал на торжестве. Король, как мы видели, хотел свалить на собрание решение по поводу приговора департамента, но собрание принудило короля самого высказаться и каждый день торопило его объявить о своем решении, чтобы вопрос этот был решен к 14-му. Двенадцатого июля король утвердил приговор. Это известие еще усилило неудовольствие. Собрание поспешило принять решение со своей стороны – легко отгадать какое: на другой же день оно возвратило Петиону его должность, но из остатка деликатности отложило решение относительно Манюэля, так как все видели его разгуливавшим 20 июня в толпе, в служебном шарфе, но нисколько не применявшим свою власть для восстановления порядка. Наконец настало 14 июля 1792 года. Какая разница с 14 июля 1790-го! Не было уже ни великолепного алтаря, у которого священнодействовали триста священников; ни прежнего обширного поля с шестьюдесятью тысячами национальных гвардейцев, богато одетых и правильно организованных; ни боковых ступеней, запруженных громадной, упоенной радостью толпою; ни, наконец, эстрады, на которой министры, королевская семья и собрание располагались при первой Федерации! Всё было другим: везде взаимная ненависть, везде символы, говорившие о войне. Восемьдесят три палатки изображали восемьдесят три департамента; у каждой палатки стояло по тополю с вершиной, изукрашенной трехцветными вымпелами. Одна большая палатка назначалась собранию и королю, другая – административным властям. Вся Франция точно разбила лагерь в виду неприятеля. Место алтаря занимала усеченная колонна, поставленная на тех же ступенях, оставшихся от первого празднества. С одной стороны – памятник в честь умерших или готовившихся умереть в бою на границах; с другой – огромное дерево, названное древом феодализма. Это дерево возвышалось среди громадного костра, и ветви его были увешены коронами, голубыми лентами, тиарами, кардинальскими шляпами, ключами Святого Петра, мантиями, подбитыми горностаем, грамотами на дворянство, гербами, щитами и проч. Зажечь его пригласили короля. Клятва была объявлена в полдень. Король с утра поехал в Военную школу и там ждал свою свиту, отправившуюся положить камень в фундамент колонны, которую собирались воздвигнуть на развалинах Бастилии. Король держал себя со спокойным достоинством, королева старалась скрыть слишком явное горе; их окружали дети и принцесса. Было сказано несколько трогательных слов, так что не у одного из присутствовавших глаза наполнились слезами. Наконец шествие явилось. До тех пор на Марсовом поле не было почти никого – и вдруг его наводнила толпа. Под балконом, на котором стоял король, прошли в беспорядке женщины, дети, пьяные мужчины с криками «Да здравствует Петион!», «Петион или смерть!» и с теми же словами на шляпах; за ними – федераты, несшие модель Бастилии и печатный станок, который время от времени останавливался, чтобы напечатать патриотические песни, тотчас же раздававшиеся толпе. За ними следовали легионы Национальной гвардии, регулярные линейные полки, едва хранившие правильность строя среди колебавшейся толпы, наконец, сами власти и собрание. Тогда король сошел вниз и, став посреди каре войск, направился вместе с шествием к алтарю. В центре Марсова поля толпа стала такой огромной, что позволяла двигаться лишь очень медленно. В результате усилий со стороны полков король наконец достиг алтаря. Королева, не сходившая с балкона, глядела на эту сцену в подзорную трубу. На какую-то минуту смятение у самого алтаря как будто усилилось, и король спустился на одну ступень ниже – королева вскрикнула, и все вокруг нее всполошились. Однако церемония окончилась благополучно. Тотчас по произнесении клятвы толпа устремилась к древу феодализма. Короля тоже хотели туда повлечь, чтобы он зажег дерево своей рукой, но он избавился от этой обязанности, весьма ловко заметив, что феодализма более не существует, и возвратился к зданию Военной школы. Войска, обрадованные тем, что уберегли его, принялись кричать «Да здравствует король!». Толпа, всегда ощущающая потребность сочувствовать, подхватила и повторила эти крики и так же усердно стала чествовать короля, как оскорбляла его несколько минут назад. Несчастный Людовик XVI казался любимым в течение еще нескольких часов; народ и сам он этому поверили, но ненадолго, иллюзии становились всё невозможнее, и даже самих себя обманывать было уже слишком трудно. Король вернулся во дворец вполне довольный тем, что спасся от опасностей, казавшихся ему значительными, но весьма неспокойный по поводу опасностей, которые предвидел в будущем.
Известия, ежедневно получаемые с границ, еще более увеличивали тревоги и волнения. Объявление отечества в опасности расшевелило всю Францию и вызвало выступление множества федератов. В день празднества их было в Париже только две тысячи, но они беспрестанно прибывали, а их поведение оправдывало и опасения, и надежды, внушаемые их присутствием. Это были волонтеры, цвет экзальтированных безумцев из всех клубов Франции. Собрание положило им полтора франка содержания в день и предоставило трибуны. Вскоре они самому собранию стали предписывать законы своими криками и аплодисментами. Они подружились с якобинцами, составили клуб, превзошедший неистовством все прочие, и каждую минуту были готовы подняться при первом знаке. Они даже прямо заявили об этом собранию адресом, в котором говорили, что не выйдут из Парижа, пока не будут разбиты внутренние враги. Таким образом, план о сборе в Париже инсургентских сил вполне осуществился, несмотря на сопротивление двора. К этому средству присоединились и другие. Солдаты бывшей Французской гвардии были размещены по разным полкам, и собрание постановило собрать их в один жандармский корпус. Их настроение не подлежало сомнению, так как они-то и начали революцию. Тщетны были возражения о том, что солдаты эти, почти все унтер-офицеры в армии, составляли ее главную силу. Собрание ничего не слушало, гораздо более опасаясь внутреннего, чем внешнего врага. Составив себе военную силу, надо было отнять такую же силу у двора, и с этой целью собрание приказало всем полкам удалиться. До этих пор депутаты всё еще не преступали статей конституции, но, не удовольствовавшись устранением войск, им еще предписали отправиться на границу – а это уже было противозаконным присвоением прав короля, верховного главнокомандующего. Главной целью этой меры было удаление швейцарцев, верность которых королю не подлежала сомнению. Чтобы отвратить этот удар, министр стал действовать через швейцарского главнокомандующего д’Аффри. Последний отказался выйти из Парижа, основываясь на заключенных условиях. Собрание как будто согласилось принять его доводы в соображение, однако все-таки предварительно приказало двум швейцарским батальонам временно удалиться. Король, правда, своим вето мог противиться этим мерам, но он потерял всякое влияние и не мог более пользоваться своими прерогативами. Само собрание не всегда могло устоять против предложений некоторых своих членов, тем более что эти предложения неизменно поддерживались рукоплесканиями трибун. Оно всегда высказывалось в пользу умеренности, где только это было возможно, так что в одно и то же время соглашалось на самые провокационные меры и принимало и одобряло самые умеренные петиции. Принятые меры, петиции, все разговоры – всё вообще предвещало новую революцию. Жирондисты ее предвидели и желали, но не видели ясно средств к ней и опасались ее исхода. Их бездействие уже возбуждало жалобы; их обвиняли в вялости и неспособности; все вожди клубов и секций, наскучив красноречием, не приводившим ни к каким результатам, громогласно требовали деятельного и единого руководства, чтобы народные усилия не оставались бесплодными. В Клубе якобинцев имелась особая зала для переписки и встреч. Там был учрежден Центральный комитет федератов. Чтобы решения принимались как можно секретнее и энергичнее, этот комитет поначалу состоял всего из пяти членов. Это были: викарий Вожуа, Дебес из департамента Дром, учитель из города Канн Гийом, страсбургский журналист Симон и Галиссо из Лангра. К ним вскоре присоединились еще Карра, Торса, Фурнье-Американец, Вестерман, Киенлин из Страсбурга, Сантерр, Александр (комендант предместья Сен-Марсо), некий поляк по имени Лазовский (капитан канониров в батальоне Сен-Марсо), бывший член Учредительного собрания Антуан из Меца и двое выборщиков Лагре и Гарен. Манюэль, Камилл Демулен и Дантон вскоре тоже примкнули к комитету и имели в нем большое влияние. Комитет вступил в сношения с Барбару, который обещал содействие своих марсельцев, ожидаемых с нетерпением, завязал сношения с Петионом и получил от него обещание не мешать восстанию с условием, что к его дому будет приставлена стража, чтобы оправдать его бездействие кажущимся насилием, если предприятие не удастся. Комитет окончательно решил, что нужно отправиться с оружием во дворец и низложить короля. Но для этого следовало поднять народ, а чтобы это удалось, требовалось какое-нибудь необыкновенное обстоятельство. Всё дело было в том, чтобы вызвать такое обстоятельство, и у якобинцев шли об этом совещания. Депутат Шабо со свойственным ему жаром распространялся о необходимости энергичного решения и утверждал, что всего желательнее было бы, чтобы двор покусился на жизнь кого-нибудь из депутатов. Гранжнев, сам депутат, слушал его чрезвычайно внимательно; это был человек с посредственным умом, но самоотверженного характера. Он отвел Шабо в сторону. «Вы правы, – сказал он, – необходимо, чтобы один депутат погиб, но двор слишком хитер, чтобы доставить нам такой прекрасный случай. Мы должны сами это сделать! Убейте же меня как можно скорее где-нибудь около дворца! Сохраните это в тайне и приготовьте средства». Шабо в порыве восторга вызывается разделить с ним его участь. Гранжнев соглашается на том основании, что две смерти будут эффектнее одной. Они назначают день, час, уговариваются о средствах разом убить друг друга, а не искалечить, и расходятся, вполне решившись принести себя в жертву общему делу. Гранжнев, не думая изменять своему слову, приводит в порядок свои частные дела и в половине одиннадцатого вечера отправляется на условленное место. Шабо там не оказывается. Он ждет. Шабо не появляется. Гранжнев догадывается, что он передумал, однако надеется, что совершится хоть одна казнь. Он несколько раз прохаживается взад и вперед, ожидая смертельного удара, но все-таки вынужден воротиться домой невредимым.
Итак, народные борцы с нетерпением выжидали случая; случай не являлся, и они обвиняли друг друга в бессилии, в недостатке ловкости и согласованности в действиях. Жирондистские депутаты, Петион, наконец, все видные люди, которые, на кафедре или по своим должностям, были обязаны говорить словами закона, всё более сторонились и порицали эти беспрестанные агитации, которые только компрометировали их, не приводя к результату. Они упрекали агитаторов в том, что те истощают свои силы в частных и бесполезных движениях, подвергавших народ опасности, но не производивших решительного события. Последние, напротив, беснуясь в своих кружках, не прощали депутатам и Петиону публичных речей и обвиняли их в сдерживании народной энергии. Более всего ощущалась потребность в вожде. «Нужен человек!» – стало общим криком. Но кто? Между депутатами такого не нашлось. Они все были более ораторами, нежели заговорщиками, и по своему положению и образу жизни были слишком далеки от толпы, на которую надлежало воздействовать. То же самое можно было сказать и о Ролане, Серване, всех этих людях, мужество которых не подлежало сомнению, но звание которых ставило их слишком высоко. Петион по своей должности легко бы мог состоять в сношениях с толпой, но он был человек холодный, бесстрастный, скорее способный умереть за дело, нежели действовать. Он умел системно останавливать мелкие агитации в пользу решительного восстания, но, строго следуя этой системе, он утрачивал благосклонность агитаторов, которым мешал, не имея над ними власти. Им нужен был такой вождь, который, не выделившись еще совсем из толпы, не потерял бы еще всякой власти над нею и имел от природы дар увлекать людей. Клубы, секции и революционные газеты открыли широкое поле состязанию; на этом поле многие успели обратить на себя внимание, но ни один еще не выказал явного превосходства. Камилл Демулен отличился бойкостью, цинизмом, отвагою, быстротой, с которой нападал на людей, постепенно охладевавших к революции. Он был известен самым низшим классам, но не обладал ни легкими, необходимыми для народного оратора, ни энергией и увлекающей силой, нужными для главы партии. Другой журналист приобрел к этому времени ужасную известность: это был Марат, Друг народа, сделавшийся своими неумолчными призывами к убийству предметом отвращения для всех людей, сохранивших еще сколько-нибудь умеренности. Он родился в Невшателе, изучал естественные и медицинские науки, при этом нападал на наиболее прочно установленные системы взглядов и демонстрировал склад ума, который можно было бы назвать судорожным. Он состоял врачом в придворном штате графа д’Артуа, когда вспыхнула Французская революция, и он не задумываясь ринулся в нее, скоро обратив на себя внимание в своей секции. Марат был менее чем среднего роста, имел огромную голову, грубые, резкие черты, бледный цвет лица и жгучие глаза, был небрежен и неряшлив в одежде. Сам по себе он мог показаться лишь смешным или безобразным, но вдруг это странное тело начинало изрекать дикие, зверские аксиомы, жестким тоном и с невероятно нахальной самоуверенностью. Нужно было, по его словам, отрубить тысячи голов и истребить всех аристократов, делавших свободу невозможной. Им гнушались, его презирали, его толкали, наступали ему на ноги, всячески издевались над его жалкой внешностью, но он, привыкший к борьбе и самым странным положениям, умел презирать тех, кто презирал его, и жалел их как людей, неспособных его понять. Марат в своих листках стал развивать воодушевлявшее его ужасное учение. Подпольная жизнь, на которую он вынужден был обречь себя, чтобы избегнуть правосудия, разожгла его темперамент, а проявления общественного отвращения – еще более. Наши изнеженные нравы были в его глазах не чем иным, как пороками, мешавшими республиканскому равенству, и, в своей жгучей ненависти ко всяким препятствиям, он видел одно только средство к спасению – поголовное истребление. Его занятия и привычка к опытам естественным образом притупили чувство сострадания, а его пылкая мысль, не будучи сдерживаема никаким чувствительным инстинктом, шла к своей цели прямо, кровавыми путями. Марат хотел диктатора, но не для того, чтобы доставить ему наслаждение всемогущества, а чтобы возложить на него ужасное дело очищения общества. Этому диктатору следовало привязать к ногам ядро, чтобы он всегда оставался под рукой у народа; ему надлежало предоставить лишь одно право: указывать жертвы и произносить над ними единственный приговор – смерть. Марат другого наказания не допускал, потому что, по его мнению, следовало не наказывать, а уничтожать препятствие. Всюду видя аристократов, составлявших заговоры против свободы, он отовсюду набирал факты, удовлетворявшие его страсть; он обличал с яростью и легкостью, проистекавшей именно из этой ярости, всех указываемых ему лиц, иногда даже вовсе не существовавших. И обличал он их без личной ненависти, без страха и даже опасности для себя, потому что стоял вне всяких человеческих отношений. Вследствие декрета, недавно изданного против него и Ройу, издателя листка «Друг короля», Марат скрылся у одного бедного безвестного адвоката, предложившего ему приют. К нему направили Барбару, который тоже занимался естественными науками и когда-то знал Марата лично. Барбару не мог не явиться к нему и, слушая его, пришел к выводу, что тот не в своем уме. Если верить этому страшному человеку, французы были школьниками в деле революции. «Дайте мне, – сказал Марат Барбару, – двести неаполитанцев с кинжалами и муфтами на левой руке вместо щитов, с ними я обойду всю Францию и совершу революцию». Он хотел, чтобы собрание приказало всем аристократам носить на руке в виде отличительного знака белую ленту и разрешило каждому убивать их, где только их будет хотя бы трое. Под понятием аристократ он разумел роялистов, фельянов, жирондистов, и когда Барбару сделал замечание насчет трудности распознать их, он сказал: «Ошибиться невозможно: стоит нападать на всех людей, имеющих экипажи, лакеев, шелковые наряды и выходящих из театров, – это наверняка аристократы». Барбару вышел от него объятый ужасом. Марат, обуреваемый своим уродливым мировоззрением, не очень заботился о средствах к революции и притом не был способен подготовлять их. В своих безобразных мечтах он с особенным удовольствием носился с мыслью удалиться в Марсель. Республиканская восторженность этого города внушала ему надежду, что там он будет лучше понят и принят. Ему хотелось получить рекомендацию от Барбару, но последний не решился сделать подобный подарок своему родному городу и оставил без внимания этого безумца, даже не предполагая, что ему предстоит удостоиться апофеоза. Итак, кровожадный Марат не был тем деятельным вождем, который мог бы собрать эти разбросанные, смутно бродившие массы. Робеспьер для этого годился скорее, потому что составил себе в Клубе якобинцев кружок слушателей, завсегдатаев, а постоянные слушатели обыкновенно бывают деятельнее постоянных читателей. Но и он тоже не обладал всеми нужными качествами. Посредственный адвокат, практиковавший в городе Аррасе, он был послан этим городом в качестве депутата в Генеральные штаты. Там он сблизился с Петионом и Бюзо и бурно поддерживал мнения, которые последние защищали с глубоким и спокойным убеждением. Он сначала смешил всех своей тяжеловесной речью и бедностью ораторских приемов, но обратил на себя некоторое внимание своим упорством, особенно во время ревизии. Когда после беспорядков на Марсовом поле разнесся слух, будто против всех подписавшихся под петицией якобинцев будет начато судебное преследование, испуг и молодость Робеспьера возбудили участие Ролана и Бюзо, которые предложили ему приют. Но он скоро оправился и, когда собрание разошлось, прочно водворился в Клубе якобинцев и продолжал вести свои догматические и напыщенные речи. Его избрали прокурором, или, как тогда говорили, общественным обвинителем, но он отказался от этой новой должности и добивался лишь двоякой репутации неподкупного патриота и красноречивого оратора. Его первые друзья – Петион, Бюзо, Бриссо, Ролан – принимали Робеспьера у себя и огорчались его болезненной гордостью, которая проявлялась в каждом его взгляде и каждом движении. Они принимали в нем участие и жалели, что он, много думая о деле, в то же время так много думает о себе. Впрочем, он имел слишком мало влияния, чтобы друзья сетовали на его гордость, и они ему охотно прощали эту слабость ради его усердия. За ним в особенности заметили одно свойство: в кружках всегда молчаливый и редко высказывавший свое мнение, на следующий день он первый с кафедры излагал мысли, перенятые им у других. Ему на это указывали, не делая, впрочем, прямых упреков, – и он возненавидел этот кружок замечательных людей, как недавно ненавидел всё Учредительное собрание. Тогда он совсем ушел к якобинцам, и там, как мы видели выше, не сошелся во мнениях с Бриссо и Луве по вопросу о войне и обозвал их, может быть даже искренне, «дурными гражданами» за то, что они думали иначе, чем он, и красноречиво отстаивали свое мнение. Был ли Робеспьер искренен, немедленно относясь с подозрением к людям, его уязвившим, или сознательно клеветал на них? Это одна из загадок человеческой души. Но при узком и неярком уме, при крайней щепетильности, он очень легко обижался, а убедить его в чем-нибудь было очень трудно, и потому легко могло статься, что ненависть, вытекавшая из гордости, превращалась у него в ненависть из принципа и он действительно считал дурными людей, чем-нибудь обидевших его. Как бы то ни было, Робеспьер в низменном своем кругу возбуждал восторг догматизмом и репутацией неподкупности. Он основывал свою популярность на слепых страстях и посредственных умах. Суровость, холодный догматизм всегда пленяют горячие натуры, иногда даже умы высшего разряда. И в самом деле, были люди, готовые приписать Робеспьеру истинную энергию и таланты много выше тех, какими он обладал в действительности. Камилл Демулен называл его своим Аристидом и находил красноречивым. Иные, не имевшие талантов, но покоренные его педантизмом, твердили, что именно этого человека надлежит поставить во главе Французской революции и что без этого диктатора она остановится. Что касается его самого, Робеспьер дозволял своим приверженцам говорить в этом духе, но не показывался на разных сходках. Он даже как-то пожаловался, что его компрометирует то, что один из его поклонников, живя в одном с ним доме, иногда собирал у себя комитет. Робеспьер держался на заднем плане, давая действовать своим восхвалителям – Панису, Сержану, Осселену – и прочим членам секций и муниципальных советов. Марат, искавший диктатора, захотел удостовериться, сможет ли Робеспьер стать таковым. Неряшливый и циничный демагог, он был прямой противоположностью Робеспьера, сдержанного и очень аккуратного в отношении своей наружности. Депутат почти не выходил из своего изящно убранного кабинета, где его образ был воспроизведен во всех видах – в живописи, в гравюрах, в скульптуре, – и усидчиво работал, изучая Руссо и сочиняя речи. Марат повидался с Робеспьером, но не нашел в нем ничего, кроме мелких личных ненавистей – ни широкой системы, ни кровавой отваги, которую сам черпал в своих уродливых убеждениях, ни гения. Одним словом, он вышел от него, исполненный презрения к этому человечку, неспособному, по его приговору, спасти государство, и еще более уверенный, что он, Марат, один обладает настоящей системой. Приверженцы Робеспьера окружили Барбару и настояли, чтобы он посетил Неподкупного, уверяя, что нужен человек и что Робеспьер один может быть им. Это не понравилось Барбару: его гордость не принимала мысли о диктатуре, и пылкое воображение его уже успело прельститься добродетелью Ролана и талантами его друзей. Однако он побывал у Робеспьера. В их беседе речь коснулась Петиона, который мешал Робеспьеру и, по его словам, был неспособен служить революции. Барбару с досадой возразил на это и с живостью вступился за характер человека, глубоко им уважаемого. Робеспьер говорил о революции и, по обыкновению, повторил, что нужен человек. Барбару ответил, что он не хочет ни диктатора, ни короля. Фрерон возразил, что Бриссо хочет быть тем или другим. Таким образом, собеседники только перекидывались упреками и ни в чем не сошлись. Когда они расстались, Панис, желая смягчить плохое впечатление от свидания, сказал Барбару, что он не так понял, что речь шла лишь о минутной власти и Робеспьер – единственный человек, которому можно таковую доверить. Эти-то неопределенные речи, это мелкое соперничество ошибочно убедило жирондистов, что Робеспьер желает сделаться узурпатором. Его жгучую завистливость они приняли за честолюбие; это была одна из тех ошибок, в которые всегда впадает помутившийся ум партий. Робеспьер, способный разве что ненавидеть истинные достоинства в других, не имел ни силы, ни гения честолюбия, и его приверженцы мечтали для него о гораздо более высоких судьбах, нежели он сам осмелился бы думать.
Дантон был способнее всякого другого стать тем вождем, которого все пламенно призывали, чтобы придать стройность и согласованность революционному движению. Он некогда пробовал служить адвокатом, но неудачно. Бедный и пожираемый страстями, он окунулся в политические смуты с жаром и, вероятно, с надеждой. Он был невежественен, но наделен замечательным умом и широким воображением. Его атлетическая фигура, приплюснутые черты, несколько напоминавшие африканский тип, его громовый голос, странные, причудливые, но зачаровывающие образы, которыми он пересыпал свою речь, – всё это пленяло его слушателей из Клуба кордельеров и секций. Лицо его попеременно выражало грубые страсти, веселость и даже добродушие. Дантон никого не ненавидел, никому не завидовал, но его отвага была невероятной, и в некоторые минуты увлечения он был способен исполнить всё то, что чудовищное воображение Марата способно было задумать. Революция, которая неожиданно для всех, но тем не менее неизбежно подняла подонки общества против сливок его, должна была пробудить зависть, породить идеологии и разнуздать зверские страсти. Робеспьер явился в роли завистника, Марат – идеолога, Дантон – зверя, человека страстного, неистового, подвижного, то жестокого, то великодушного. Если первые двое, обуреваемые один завистью, другой темными идеями, были мало знакомы с потребностями, делающими людей доступными подкупу, то Дантон, страстный, жадный до наслаждений, уж никак не мог быть неподкупен. Под предлогом возвращения ему цены, заплаченной им когда-то за адвокатское место в совете, двор передавал ему довольно значительные суммы, но этим все-таки не переманил его на свою сторону. Дантон брал деньги, но не переставал разглагольствовать по клубам и возбуждать против двора толпу. Когда его упрекнули в том, что он не исполняет условий торга, он ответил, что для того, чтобы сохранить средства быть полезным двору, ему необходимо относиться к нему внешне как к врагу. Итак, Дантон был самым страшным из вождей этих народных полчищ, управляемых и увлекаемых словом. Но он был смел лишь в решительную минуту и неспособен к тем постоянным, неусыпным заботам, каких требует страсть к прочной власти, а потому, хотя имел большое влияние на заговорщиков, еще не управлял ими. Он был только способен в минуту колебания воодушевить их и двинуть к цели решительным толчком. Члены Центрального комитета еще ни на чем не могли сойтись. Двор, извещаемый о малейшем их движении, со своей стороны принимал некоторые меры для предохранения себя от внезапного нападения, чтобы в безопасности дождаться прибытия союзных держав. Двор составил и поместил близ самого дворца клуб, называемый Французским, из рабочих и солдат Национальной гвардии. Оружие было спрятано в помещении, где они собирались, и оттуда, в случае надобности, можно было легко прибежать на помощь королевской семье. Одно это собрание обходилось королю в 10 тысяч франков ежедневно. Марселец по имени Льето, сверх того, содержал отряд, попеременно занимавший трибуны, площади, кофейни, кабаки, чтобы везде говорить в пользу короля и противодействовать бунтовским поползновениям патриотов. Действительно, везде шли споры, которые часто переходили в драку. Но, несмотря на все усилия двора, его сторонников было мало и преданная ему часть Национальной гвардии погрузилась в крайнее уныние. Множество верных слуг престола, доселе удаляемых, теперь спешили к королю, чтобы защитить его и окружить живой стеной. Они собирались во дворце часто и в значительном числе, что еще более увеличивало в народе подозрительность. Их называли рыцарями кинжала после сцены в феврале 1791 года. Распорядились вновь собрать секретно конституционную гвардию короля, которая, будучи распущенной, всё еще получала жалованье. В тоже время вокруг короля шел перекрестный огонь советов, которые производили на его слабый, от природы колеблющийся дух самое прискорбное действие. Несколько благоразумных друзей, в том числе Мальзерб, советовали ему отречься от престола; другие, в большем числе, уговаривали бежать, а впрочем, не были между собой согласны относительно средств, места или результата бегства. Чтобы сколько-нибудь привести в порядок все эти планы, король приказал Бертрану де Мольвилю поговорить с Дюпором, бывшим членом Учредительного собрания. Он сам питал к последнему большое доверие, но вынужден был отдать на этот счет формальное приказание Бертрану, который не хотел входить ни в какие сношения с таким отъявленным приверженцем конституции, как Дюпор. К этой новой группе были еще причислены Лалли-Толендаль, Малуэ, Клермон-Тоннер, Гуверне и несколько других, лично преданных Людовику XVI деятелей, во всем прочем не согласных между собой, особенно насчет участи королевской власти, если бы удалось ее спасти. Решено было, что королю нужно бежать в Нормандию, в замок Гайон. Герцог Лианкур, друг Людовика XVI, был военным начальником в этой провинции; он ручался за свои войска и за жителей Руана, заявивших свои чувства в решительном адресе против событий 20 июня. Герцог вызывался встретить королевскую семью и проводить ее в Гайон, а там сдать на руки Лафайету, который, в свою очередь, проводил бы ее к себе в армию. Он, кроме того, отдавал всё свое состояние на исполнение этого плана и просил разрешения отложить своим детям всего только капитал, приносивший сто луи дохода. Этот план пришелся по душе членам комитета, преданным конституции, потому что отдавал короля в руки не эмиграции, а Лианкура и Лафайета; по той же причине он был противен другим и легко мог не понравиться королю и королеве. Замок Гайон был выгоден тем, что находился всего в тридцати шести лье от моря и представлял, находясь в преданной королю Нормандии, возможность легкого бегства в Англию. Еще одна выгода состояла в том, что замок был в двадцати лье от Парижа, стало быть, король мог отправиться туда, не нарушая конституционного закона, что для него значило много, так как ему не хотелось открытой конфронтации с конституцией. Нарбонн и дочь бывшего министра Неккера тоже придумали план бегства. Эмиграция, со своей стороны, предложила следующее: перевезти короля в Компьень, а оттуда на берега Рейна. Каждый являлся с советом, потому что каждый стремился вдохнуть в бесхарактерного короля отсутствовавшую в нем волю. Но все эти противоречивые внушения только увеличивали колебания несчастного Людовика XVI; осаждаемый советами, пораженный благоразумием одних, увлекаемый страстью других, терзаемый страхом за семью, волнуемый муками совести, он колебался среди всех этих планов и смотрел на приближавшуюся народную волну, не имея духа ни выдержать ее напора, ни бежать от нее. Жирондистские депутаты, так храбро поднявшие вопрос о низложении, остановились, однако, в нерешительности накануне восстания. Хотя двор был почти безоружен и сила, несомненно, была на стороне народа, однако приближение пруссаков и страх, который всегда внушает древняя власть, даже когда она уже утратила силы, убеждали их, что лучше пойти на сделку с двором, нежели рискнуть нападением. Даже в том случае, если бы нападение удалось, жирондисты опасались, что весьма близкое прибытие иноземцев может уничтожить все результаты победы над дворцом и за минутным торжеством последует страшное мщение. Однако, несмотря на свою готовность к соглашению, они не открыли переговоров, не посмели принять на себя инициативу. Они только посоветовались с неким Бозом, придворным живописцем, коротким приятелем Тьерри, камердинера Людовика XVI. Жозеф Боз, испуганный опасностью, грозившей общему делу, посоветовал им написать то, что, по их мнению, могло бы в этой крайности спасти короля и свободу. Они сочинили письмо, под которым подписались Гюаде, Жансонне и Верньо; оно начиналось словами: «Вы нас спрашиваете, милостивый государь, каково наше мнение о настоящем положении Франции…» Это начало достаточно доказывает, что объяснение было запрошено. Для короля, как писали Бозу три депутата, прошло время скрывать от себя правду, и он странно заблуждался бы, если бы не видел, что его поведение становится причиной общего волнения и неистовства клубов, на которое он всегда так жалуется; новые заверения с его стороны были бы бесполезны и казались бы насмешкой; в том положении, до которого дошли дела, необходимы самые решительные меры, чтобы успокоить народ: так, например, все твердо были убеждены, что от короля зависит удалить иностранные войска, следовательно, нужно, чтобы он сделал это прежде всего другого. Потом он должен выбрать патриотическое правительство, отпустить Лафайета, который при существующем положении дел не может более служить с пользой; издать закон о воспитании маленького дофина согласно духу Конституции; подвергнуть расходы из предоставленной ему годовой суммы гласному контролю и торжественно заявить, что он сам не иначе примет прибавление власти, как со свободного согласия народа. На этих условиях, писали жирондисты, можно надеяться, что раздражение уймется и со временем, при последовательности в этой системе, королю вернут доверие, совершенно им утраченное. Если жирондисты и в самом деле давно и до этой минуты тайно хлопотали об учреждении республики, теперь они были очень близки к цели. Остановились бы они в самую минуту удачи для того только, чтобы трое из их товарищей получили правительство? Этого быть не могло. Очевидно, что они стали мечтать о республике, единственно отчаявшись в монархии, что эта мечта никогда не была их настоящим желанием, и даже накануне ее осуществления те самые люди, которых обвиняли в том, будто они втихомолку долго готовили ее, не хотели жертвовать общим делом торжеству этой системы и согласились бы на сохранение конституционной монархии, лишь бы она была окружена достаточными гарантиями. Жирондисты, требуя удаления войск, довольно ясно доказывали, что их занимает исключительно настоящая опасность, и внимание, которое они обращали на воспитание дофина, тоже говорит о том, что монархия не казалась им невыносимой в будущем. Многие уверяли, будто Бриссо, со своей стороны, делал двору предложения для предотвращения низложения короля, с условием, чтобы ему была выплачена весьма крупная сумма. Автор этого мнения – Бертран де Мольвиль, который всегда клеветал по двум причинам: по злости сердечной и по извращенности ума. Он не привел никаких доказательств, а неизменная бедность Бриссо и его экзальтированные убеждения ручаются за него. Ничего нет невозможного в том, чтобы двор дал денег Бриссо, но это еще не доказывает, что он эти деньги требовал или принял их. Вышеприведенный рассказ о том, как какие-то мошенники обещали двору подкупить Петиона, и многие другие в том же роде достаточно показывают, какую веру следует придавать подобным обвинениям в продажности, так часто и легко возводимым. К тому же, оставляя в стороне Бриссо, три жирондистских депутата даже не были обвинены, а под письмом к Бозу подписались они одни. Король, глубоко уязвленный, менее чем когда-либо был способен последовать их мудрым советам. Тьерри дал ему прочесть письмо, но он резко оттолкнул его, повторяя свои постоянные отговорки: война вызвана не им, а патриотическим правительством, а конституцию он в точности соблюдает, тогда как другие всеми силами стараются разрушить ее. Это было не совсем справедливо, потому что, хоть Людовик и не вызвал войны, всё же его обязанностью было вести ее как следует; что же касается точного соблюдения буквы закона – этого было мало; следовало не нарушать и духа его, призывая иностранцев. Умеренность и осторожность, с которой жирондисты вели себя в собрании, когда другие серьезно подняли вопрос о низложении, следует приписать, вероятно, надежде, что их советы не будут оставлены без внимания. Каждый раз, как они от имени Комиссии двенадцати говорили об опасности отечества и средствах пособить ему, им отвечали: «Добирайтесь до причины опасности». Верньо, Бриссо и жирондисты отвечали, что комиссия не теряет из вида причину и в свое время разоблачит ее, но в настоящую минуту не следует подбавлять огня. Так было суждено, чтобы все средства и замышляемые планы разбились в прах и катастрофа, теперь уже неминуемая, нагрянула совсем скоро.

Глава XI
Прибытие марсельцев в Париж – Кровавые сцены на Елисейских Полях – Манифест герцога Брауншвейгского – Секции Парижа требуют низложения короля – Штурм дворца Вслед за праздником, данным федератам, Центральный комитет решил, что 26 июля три колонны двинутся к дворцу с красным знаменем, на котором будет надпись «Те, кто будут стрелять в народ, будут немедленно умерщвлены». Задача состояла в том, чтобы взять короля в плен и посадить его в Венсенн. Версальская Национальная гвардия была приглашена участвовать в этом движении, но извещена так поздно и так бестолково, что ее офицеры приехали в Париж в самое утро назначенного дня и явились в мэрию с вопросом, что нужно делать. Сверх того, тайна была так плохо сохранена, что двор обо всем знал, всё королевское семейство было готово и дворец полон народа. Петион, видя, что распоряжения сделаны дурно, опасаясь измены, а главное, принимая во внимание, что марсельцев еще нет, поспешил в предместья, чтобы остановить движение, которое, не удайся оно, непременно погубило бы народное дело. Страшные гвалт и сумятица стояли в предместьях; всю ночь напролет били в набат. Чтобы еще больше возбудить народ, распустили слух, будто во дворце есть склад оружия, который необходимо захватить. Петион с великим трудом восстановил некоторый порядок. Хранитель государственной печати Шампьон де Сиссе[53], тоже туда отправившийся, получил несколько ранений; наконец народ согласился разойтись, и восстание было отсрочено. Мелкие ссоры и столкновения, которые всегда предшествуют окончательному разрыву, происходили повсюду. С 20 июня король велел запереть сад Тюильри, была отперта только Терраса фельянов, ведущая в собрание, и на ней поставили часовых с предписанием никого не впускать с террасы в сад. На депутата д’Эпремениля, оживленно беседовавшего с кем-то на террасе, стали шикать, загнали его в сад и толкали до Пале-Рояля, где нанесли ему несколько ранений. После того как запрет входить в сад был несколько раз нарушен, повели речь о том, чтобы заменить этот запрет декретом. Однако декрет не состоялся; предложили только поставить надпись «Запрещается заходить на иностранную территорию». Надпись была поставлена, и народ не ступал более в сад ни ногой, хотя король снял запрещение. Петион
Петион
Наконец 30 июля марсельцы прибыли. Их было пятьсот человек, в том числе самые буйные, экзальтированные головы. Барбару поехал встречать их в Шарантон. По этому случаю был составлен новый план с участием Сантерра: собрать все предместья под предлогом встречи марсельцев, затем в стройном порядке отправиться на площадь Карусель и без шума стать на ней лагерем, пока собрание, хотя бы временно, не низложит короля или он сам добровольно не отречется от престола. Этот план нравился филантропам народной партии, которые хотели совершить переворот без кровопролития. Однако он не удался, потому что Сантерр не смог собрать своего предместья и встретил марсельцев с небольшим количеством людей. Сантерр тотчас предложил им обед, который был подан на Елисейских Полях. В тот же день и в тот же момент группа гвардейцев и других лиц, гражданских и военных, преданных двору, обедали близ места, где давался обед в честь марсельцев. Этот обед, конечно, не мог быть задуман умышленно: ведь марсельцам обед предложили экспромтом, потому что первоначально замышлялся вовсе не пир, а восстание. Однако было невозможно, чтобы столь близкие соседи столь противоположных убеждений мирно окончили свой обед. Чернь стала оскорблять роялистов, которые стали защищаться; патриоты, призванные на помощь черни, начали драку. Она продолжалась недолго. Марсельцы обратили своих противников в бегство, одного убили и нескольких ранили. В одну минуту смятение овладело всем Парижем. Федераты ходили по улицам и срывали со встречных кокарды из шелковых лент, на том основании, что они должны быть шерстяные. Несколько беглецов в крови пришли во дворец, где были ласково приняты и окружены весьма естественным попечением, так как там на них смотрели как на друзей, сделавшихся жертвами своей преданности. Дежурные гвардейцы рассказали об этом народу, может быть, с преувеличением, и это дало повод к новым слухам и новой ненависти к королевскому семейству и придворным дамам, которые, как говорили, утирали своими платками пот и кровь раненых. Сочинили даже, будто эта сцена была подготовлена, и это сделалось поводом нового обвинения против дворца. Парижская национальная гвардия тотчас же просила об удалении марсельцев, но трибуны ее освистали, и петиция была оставлена без внимания. Среди этих-то обстоятельств в народе распространили манифест, который был приписан герцогу Брауншвейгскому и оказался подлинным. Мы говорили выше о поручении, данном Малле дю Пану. Он от имени короля подал мысль о манифесте и составил текст документа, но эта мысль скоро была искажена. Манифест, пропитанный кобленцскими страстями и подписанный именем герцога, был напечатан и разослан так, чтобы опередить прусскую армию. Приводим этот документ целиком. «Их Величества Император и Король Прусский вверили мне начальство над союзными армиями, которые они приказали собрать на границах Франции, и поэтому я пожелал объявить жителям этого королевства причины, побудившие к этой мере обоих государей, и намерения, ими руководившие. Произвольно уничтожив права и отобрав владения немецких князей в Эльзасе и Лотарингии, смутив и разрушив у себя дома благоустроенный порядок и законное правительство, совершив против священной особы короля и против его августейшего семейства насилия и покушения, до сих пор еще продолжаемые и с каждым днем возобновляемые, те, что присвоили себе бразды правления, наконец переполнили меру, добившись объявления несправедливой войны Его Величеству Императору и напав на его провинции, находящиеся в Нидерландах. Некоторые владения Германской империи захвачены, и многие другие спаслись от той же опасности, лишь уступив повелительным угрозам господствующей партии и ее эмиссаров. Его Величество Король Прусский, соединенный с Его Величеством Императором узами тесного оборонительного союза, влиятельный член Германского союза, не мог не прийти на помощь своему союзнику и союзным государствам, и в этом двояком качестве он является на защиту монарха и Германии. К этим великим интересам присоединяется еще равно важная цель, близкая сердцу обоих государей, а именно: прекратить внутреннюю анархию Франции, остановить нападки на престол и алтарь, восстановить легальную власть, возвратить королю безопасность и свободу, которых онлишен, и дать ему возможность пользоваться законною, принадлежащей ему властью. Убежденные, что здравая часть французской нации гнушается излишеств фикции, наложившей на нее свое иго, и что большинство жителей с нетерпением ожидает минуты помощи, чтобы открыто высказаться против гнусных предприятий угнетателей, Его Величество Император и Его Величество Король Прусский призывают их и приглашают безотлагательно возвратиться на путь разума и справедливости, порядка и мира. В этих видах я, нижеподписавшийся, главнокомандующий обеими армиями, объявляю: 1. Оба союзных двора, вовлеченные в настоящую войну неодолимыми обстоятельствами, не ставят себе иной цели, кроме счастья Франции, не имея в виду обогатить себя завоеваниями. 2. Они не намерены вмешиваться во внутреннее управление Франции, но единственно хотят освободить короля, королеву и королевское семейство из плена и доставить Его Христианнейшему Величеству нужную безопасность, дабы он мог, не подвергаясь опасности и не встречая препятствий, созвать кого захочет и трудиться над обеспечением счастья своих подданных, согласно своим обещаниям и насколько от него будет зависеть. 3. Соединенные армии будут охранять города, села и деревни, жизнь и имущество всех, кто покорится королю и будет содействовать восстановлению порядка во всей Франции. 4. Национальным гвардиям строго наказывается временно наблюдать за спокойствием городов и деревень, за безопасностью всех французов и их имуществ до прибытия войска Их Императорского и Королевского Величеств или до тех пор, пока не будет сделано другого распоряжения, под страхом личной за то ответственности. С теми же, напротив, из национальных гвардейцев, которые бы стали сражаться против войск обоих союзных дворов и будут взяты с оружием в руках, будет поступлено как с неприятелями, и таковые будут наказаны как бунтовщики против своего государя и возмутители общественного порядка. 5. Генералов, офицеров, унтер-офицеров и солдат французских линейных войск тоже приглашают возвратиться к прежней службе и тотчас же покориться королю, их законному государю. 6. Члены департаментов, округов и муниципалитетов отвечают своими головами и имуществами за все проступки, поджоги, убийства, грабежи, насилия, какие они допустят совершиться, не употребив явных усилий, чтобы таковым помешать на своей территории. Они равно будут обязаны исправлять свои должности временно до тех пор, пока Его Христианнейшее Величество, снова получив полную свободу, окончательно распорядится или пока не будет сделано новое распоряжение от его имени. 7. Жители городов, сел и деревень, которые осмелились бы защищаться против войск Их Императорского и Королевского Величеств и стрелять по ним в открытом поле или из окон, дверей и иных отверстий своих домов, будут тотчас же наказаны по всей строгости военного права, а дома их будут разрушены или сожжены. Все жители вышеперечисленных городов, сел и деревень, которые, напротив, поспешат покориться своему королю, отворяя двери войскам Их Величеств, будут немедленно приняты под их непосредственное покровительство; их особы и имущества окажутся под покровительством закона, и будут приняты меры к безопасности всех и каждого из них. 8. Город Париж и все его жители, без различия, будут обязаны тотчас же безотлагательно покориться королю, возвратить ему полную свободу и обеспечить ему, равно как и всем королевским особам, неприкосновенность и почтение, к которым естественный и человеческий закон обязывает подданных относительно своих государей. Их Императорское и Королевское Величества делают лично ответственными во всех событиях, под страхом военного суда и без надежды на помилование, всех членов Национального собрания, департамента, округа, муниципалитета и Парижской национальной гвардии, мировых судей и всех прочих, в чьих руках Париж будет находиться. Кроме того, Их Величества объявляют, ручаясь честным словом императора и короля, что если дворец Тюильри будет взломан, если будет совершено малейшее насилие, нанесено малейшее оскорбление королю, королеве и королевскому семейству, если не будут немедленно приняты меры для их безопасности, то они отомстят навеки памятным наказанием, предавая город Париж военной экзекуции и совершенному разрушению, а мятежников, виновных в таковых покушениях, – заслуженным казням. Их Императорское и Королевское Величества, напротив, обещают жителям Парижа ходатайствовать перед Его Христианнейшем Величеством о прощении их вин и заблуждений, если они скоро и точно исполнят настоящее приказание. Наконец, Их Величества, признающие действительными во Франции лишь законы, вытекающие из воли короля, пользующегося полной свободой, заранее протестуют против подлинности всех заявлений, могущих быть сделанными от имени Его Христианнейшего Величества, пока его священная особа, особы королевы и его королевского семейства, не будут в безопасности. В виду чего Их Величества приглашают и просят Его Христианнейшее Величество указать тот из городов его королевства, наиболее близкий к границам, в который ему благоугодно будет удалиться с королевой и семейством под сильным и верным конвоем, высланным для этого. А также я заявляю и обязываюсь, от собственного моего частного имени и в вышеупомянутом моем качестве, заставить вверенные моему начальству войска везде соблюдать строгую дисциплину, обещая обращаться мягко и умеренно с благомыслящими подданными, которые окажутся мирными и покорными, и употреблять силу лишь против тех, которые провинятся в сопротивлении или непокорстве. По этим причинам я самым настоятельным образом приглашаю и увещеваю всех жителей королевства не сопротивляться шествию и операциям командуемых мною войск, а лучше всюду добровольно впускать их и оказывать им всякое доброжелательство, помощь и пособие, каких могут потребовать обстоятельства. Дан в главной квартире, в Кобленце, 25 июля 1792 года. Подписано: Карл-Вильгельм-Фердинанд, герцог Брауншвейг-Люнебургский».
В этом манифесте особенно удивительным показалось то, что, будучи помечен 25 июля в Кобленце, он уже 28-го очутился в Париже и был напечатан во всех роялистских газетах. Он произвел необыкновенно сильное впечатление, какое страсти всегда производят на страсти. Все давали себе слово не уступать этому врагу, приближавшемуся с такой надменной речью, с такими страшными угрозами. При тогдашнем состоянии умов вполне естественно было опять обвинить короля и двор. Людовик XVI поспешил отречься от этого манифеста посланием к собранию и мог это сделать тем искреннее, что этот документ совсем не походил на ранее посланный ему, но он мог бы видеть уже из этого примера, насколько его партия пойдет дальше него, если когда-нибудь одержит победу. Ни его отречение, ни выражения, в которых оно было сделано, ничто не смягчило собрания. Говоря между прочим о народе, счастье которого всегда было ему так дорого, Людовик присовокупил: «Сколько несчастий могли бы еще быть изглажены малейшим признаком его возвращения ко мне!» Эти трогательные слова уже не возбудили того восторга, который некогда вызывали; в них увидели только коварство, и многие депутаты потребовали напечатать послание именно с тем, чтобы ясно показать публике противоречие между словами и поступками короля. С этой минуты волнение уже не переставало возрастать, обстоятельства делались всё более зловещими. Собрание узнало о постановлении, изданном департаментом Устье Роны с целью удержать налоги, чтобы из них платить войскам, самовластно посланным против савойцев; причем меры, принятые собранием, признавались недостаточными. Депутаты отменили это постановление, изданное под влиянием Барбару, но не могли помешать исполнению его. В тоже время разнесся слух, что приближаются сардинцы в числе 50 тысяч. Министру иностранных дел пришлось самому явиться в собрание уверять, что их никак не более 11 или 12 тысяч человек. За этим слухом последовал другой, будто несколько федератов, находившихся в Суассоне, отравлены толченым стеклом, примешанным к их хлебу. Уверяли даже, что умерло уже 160 человек, а 800 лежат больные. Когда навели справки, оказалось, что мука стояла в церкви, окно почему-то разбилось и несколько кусков стекла попали в хлеб. Больных и умерших не оказалось вовсе. Двадцать пятого июля был издан декрет, предписывавший парижским секциям не прерывать своих заседаний. Перед тем они, собравшись, поручили Петиону предложить от их имени низложение Людовика XVI. Третьего августа утром парижский мэр, которому это поручение придало мужества, явился в собрание подать петицию от имени 48 парижских секций. Он описал поведение Людовика XVI с начала Французской революции, изобразил благодеяния, будто бы оказанные нацией королю, и неблагодарность монарха. Затем он представил опасности, в то время занимавшие всеобщее воображение, – приближение иностранцев, ничтожество средств к обороне, бунт одного из генералов против собрания, неповиновение множества директорий, а также страшные и нелепые угрозы, сделанные от имени герцога Брауншвейгского, – и вывел из всего этого заключение, что необходимо низложить короля. Затем Петион просил собрание поставить этот важный вопрос на очередь. Это предложение, до сих пор делаемое только клубами, федератами и общинами, получало совсем иной характер, будучи представлено от имени Парижа мэром этого города. В утреннем заседании оно было принято скорее с удивлением, нежели с удовольствием. Но вечером начались прения, и горячность известной части собрания развернулась без всякого удержу. Одни хотели, чтобы вопрос был обсужден немедленно, другие – чтобы он был отсрочен. Кончилось тем, что его отложили до четверга, 9 августа, и продолжали принимать и читать петиции, в которых еще энергичнее выражались те же чувства и то же желание. Секция Моконсейль зашла дальше других: она не ограничилась требованием низложения, а произнесла приговор в этом духе, своей собственной властью. Она объявила, что не признает Людовика XVI королем французов и собирается спросить Законодательное собрание, желает ли оно, наконец, спасти Францию. Сверх того, она приглашала все секции державы (уже не использовалось слово «королевство») последовать ее примеру. Как мы уже видели, собрание не так быстро следовало за революционным движением, как низшие власти, потому что находилось в необходимости осторожнее относиться к законам, охранение которых было ему вверено. Вследствие этого народные начальники часто опережали депутатов, и власть уходила из рук последних. Депутаты отменили постановление секции Моконсейль; Верньо и Камбон отозвались об этом акте в самых строгих выражениях, назвав его противозаконным присвоением верховной власти народа. Но они, как видно, порицали в нем не столько нарушение принципов, сколько преждевременность петиции и в особенности неприличные выражения относительно Национального собрания. Конец всем сомнениям приближался. В один и тот же день собрались, с одной стороны, Центральный комитет федератов, с другой – друзья короля, которые готовили его бегство. Комитет отложил восстание до того дня, когда должно было последовать обсуждение вопроса о низложении, то есть до вечера 9-го числа или утра 10-го. Друзья короля в то же время толковали о бегстве в саду Монморена; Лианкур и Лафайет повторяли свои предложения. Всё было готово. Бертран де Мольвиль без проку истощил королевскую кассу на ссуды роялистским клубам, уличным ораторам, мнимым деятелям, которые никого не обращали и только прибирали дворцовые деньги. Но недостаток денег пополнился щедрыми займами верноподданных. Мы уже приводили в пример самопожертвование Лианкура – он отдал всё золото, какое удалось достать. Другие тоже отдали всё, что имели. Преданные друзья решились следовать за королевской каретой и, если потребуется, умереть возле нее. Когда все распоряжения были сделаны, заговорщики собрались у Монморена и после совещания, продолжавшегося весь вечер, решили не откладывать отъезд. Король, увидевшись с ними тотчас после, на всё согласился и приказал окончательно договориться с министрами Монсьелем и Сен-Круа. Каковы бы ни были мнения людей, соединившихся для этого предприятия, для них было великой радостью верить в близкое избавление государя. Но на другое утро всё уже стало иным. Король послал сказать, что не поедет, потому что не желает быть причиной междоусобной войны. Все те, кто, расходясь во всем прочем, принимали одинаковое участие в его спасении, были поражены ужасом. Они узнали, что король высказал не настоящую причину своего отказа. Настоящими причинами были, во-первых, ожидаемое в самом скором времени прибытие герцога Брауншвейгского, во-вторых, отсрочка восстания, в-третьих, отказ королевы довериться членам конституционной партии. Она явно выразила свое отвращение, объявив, что лучше умереть, чем отдать себя в руки людям, столько им вредившим. Итак, все усилия конституционалистов и опасность, которой они подвергались, не принесли никакой пользы. Лафайет жестоко скомпрометировал себя. Было уже известно, что он уговорил Люкнера идти в случае надобности на столицу. Сам Люкнер, призванный в собрание, сознался в этом Комиссии двенадцати. Старик был слаб, настроение его изменялось. Каждый раз, как он переходил из рук одной партии в руки другой, он давал вырвать у себя признание во всем, что слышал и говорил накануне, потом извинялся в своих признаниях тем, что плохо знает французский язык, плакал и жаловался, что окружен одними крамольниками. Гюаде изловчился и заставил его признаться в предложениях Лафайета, а Бюро де Пюзи, обвиненного в том, будто он служил в этом деле посредником, потребовали к ответу. Это был один из друзей и офицеров Лафайета; он от всего твердо отказался и сделал это таким тоном, который убедил собрание в том, что ему не были известны переговоры начальника. Вопрос о том, предать ли Лафайета суду, был пока отсрочен. Подходил день, назначенный для прений о низложении; план восстания был установлен, и все его знали. Марсельцы из своей слишком отдаленной казармы переселились в секцию кордельеров, где помещался клуб с тем же названием. Таким образом, они располагались в центре Парижа и весьма близко к месту действий. Два муниципальных чиновника оказались настолько смелы, что велели раздать патроны заговорщикам; словом, всё было готово к 10 августа. Восьмого августа провели последнее совещание по поводу участи Лафайета: он был освобожден от суда большинством голосов. Несколько депутатов, раздраженные таким исходом дела, потребовали поименной переклички, и опять оказалось 446 голосов в пользу генерала, а против 224. Народ, возмущенный этим известием, столпился у входа в залу, ругал выходящих депутатов, в особенности известных как члены правой стороны – Воблана, Жирардена, Дюма и других. Со всех сторон выражали возмущение народным представительством и вслух говорили, что нечего ждать спасения от собрания, оправдавшего изменника Лафайета. На следующий день между депутатами заметно необычайное волнение. Те из них, кто накануне подвергся поруганиям, жалуются лично или письменно. В ответ на донесение о том, что депутат Босарон едва не был повешен, с трибун раздается зверский хохот; когда вслед за тем докладывают, что депутат Жирарден получил удар, те самые люди, которые знали об этом лучше всех, осведомляются, как и куда. «Разве неизвестно, – спокойно отвечает Жирарден, – что подлецы бьют не иначе как сзади?» Наконец один из членов требует перехода к очередным делам. Однако собрание постановляет позвать прокурора-синдика коммуны Редерера и возложить на него обязанность, под личную его ответственность, охранять безопасность и неприкосновенность членов собрания. Кто-то предлагает сделать запрос парижскому мэру о том, может ли он обеспечить общественное спокойствие. Гюаде возражает, что в таком случае следует сделать еще один запрос и заставить его заявить, может ли он отвечать за безопасность и неприкосновенность территории. Между тем среди всех этих противоречивых предложений легко было видеть, что собрание страшилось решительной минуты и сами жирондисты предпочли бы, чтобы низложение состоялось путем прений, а не сомнительного и кровопролитного нападения. Но вот является Редерер и объявляет, что одна секция решила бить в набат и идти на собрание и на дворец Тюильри, если не будет постановлено низложение. Петион всходит на кафедру, не высказывается положительно, но намекает на темные замыслы, перечисляет предосторожности, принятые для предупреждения грозящих движений, и обещает снестись с директорией департамента и принять предлагаемые им меры, если они покажутся ему лучше мер, принятых муниципалитетом. Петион, как и все его приятели-жирондисты, предпочел бы приговор собрания неверному бою против дворца. Так как почти не подлежало сомнению, что большинство подаст голос в пользу низложения, то ему хотелось остановить исполнение планов комитета федератов. Поэтому он явился в наблюдательный комитет якобинцев и уговаривал Шабо приостановить восстание, на том основании, что жирондисты решили действовать в пользу низложения и немедленного созыва Национального конвента, что они уверены в большинстве и не следует рисковать нападением, исход которого все-таки сомнителен. Шабо ответил, что ничего нельзя надеяться получить от собрания, оправдавшего злодея Лафайета, что он, Петион, дает себя обманывать друзьям, что народ, наконец, твердо решил сам себя спасти и набат ударит в предместьях в тот же вечер. – Значит, вы вечно будете делать глупости? – возразил Петион. – Горе вам, если восстание состоится! Я знаю ваше влияние, но и я имею некоторое влияние, и я его употреблю против вас. – Вы будете арестованы, – отвечал Шабо, – вам не дадут действовать.
Возбуждение умов действительно было слишком велико, чтобы опасения Петиона могли быть оценены и его влияние могло подействовать. Весь Париж находился в волнении; барабан бил тревогу во всех кварталах; батальоны гвардии собирались и отправлялись на свои посты в весьма различном настроении. Секции наполнялись не большинством граждан, а наиболее пламенными сторонниками низложения. Центральный комитет федератов разместился на трех пунктах. Фурнье с несколькими другими был в предместье Сен-Марсо; Сантерр с Вестерманом занимали предместье Сент-Антуан; наконец, Дантон, Камилл Демулен и Карра стали с марсельским батальоном у Клуба кордельеров. Барбару, расставив разведчиков в собрании и около дворца, приготовил курьеров для немедленной отправки на юг. Сам он, кроме того, запасся ядом – так мало были уверены в успехе – и ждал в Клубе кордельеров результата восстания. Где был Робеспьер, неизвестно. Марата Дантон спрятал в один из подвалов, а сам завладел ораторской кафедрой Клуба кордельеров. Каждый был в нерешительности, как всегда перед принятием важного решения. Но Дантон, соразмеряя свою смелость с огромным значением настоящего события, гремел не умолкая; он перечислял все злодеяния двора, напоминал о его ненависти к конституции, его обманчивые речи, лицемерные обещания, всегда опровергаемые делами, наконец, его очевидные махинации с целью привести во Францию иноземцев. «Народ, – говорил он, – может прибегнуть уже только к самому себе, ибо конституции недостаточно, а собрание оправдало Лафайета; значит, вам остается спасать самих себя. Спешите же! Ибо в эту самую ночь клевреты, скрытые во дворце, должны сделать вылазку против народа и перерезать его, прежде чем выйти из Парижа и уйти в Кобленц. Спасайтесь же! К оружию! К оружию!» В эту минуту неподалеку раздается выстрел, крик «К оружию!» делается общим, восстание провозглашается открыто. Это произошло в половине двенадцатого ночи. Марсельцы строятся у ворот кордельеров, завладевают пушками, и число их увеличивается с приходом огромной толпы. Камилл Демулен и другие бросаются бить в набат, но не находят одинакового рвения во всех секциях. Они стараются воспламенить усердие; вскоре секции собираются и назначают комиссаров, которым поручают отправиться в ратушу, сменить прежний муниципалитет и овладеть всей властью. Наконец народ бежит к колоколам, силой завладевает ими. Зловещий звук раздается по всей громадной столице, переходит от улицы к улице, из здания в здание, призывая депутатов, должностных лиц, граждан к их местам, достигает дворца и там возвещает, что близка роковая ночь – ночь страшная, бурная, кровавая, последняя ночь, проведенная государем под кровом отцов своих!..
Эмиссары двора известили короля, что минута катастрофы близка, и привели при этом слова председателя Клуба кордельеров, сказавшего своим людям, что теперь уже речь не о простой прогулке, как 20 июня. Если 20 июня было угрозой, то 10 августа должно стать решительным ударом. В этом никто более и не сомневался. Король, королева, дети их и сестра, принцесса Елизавета, не ложились и после ужина перешли в Залу совета, где находились все министры и немногие офицеры высших чинов. Там в смятении шли совещания о том, как спасти королевское семейство. Средства обороны имелись незначительные, так как почти все были уничтожены либо декретами собрания, либо промахами самого двора. Конституционная гвардия, распущенная декретом собрания, не была заменена королем, который предпочел продолжать тайно выдавать жалованье старой гвардии, нежели составить новую: значит, во дворце было меньше на тысячу восемьсот солдат. Полки, казавшиеся расположенными к королю, во время недавнего праздника Федерации были удалены из столицы всё теми же декретами. Швейцарцев не оказалось возможности удалить благодаря их условиям, но у них отняли артиллерию, и двор, когда собирался бежать в Нормандию, послал туда один из этих верных батальонов под предлогом наблюдения за привозом хлеба. Этот батальон еще не был отозван назад. Во дворце находилось не более восьми или девяти сотен швейцарцев, стоявших в казармах Курбевуа и выпущенных по разрешению Петиона. Жандармский корпус был сформирован только недавно из прежних солдат Французской гвардии, зачинщиков беспорядков 14 июля. Наконец, Национальная гвардия не имела ни тех начальников, ни той организации, ни той преданности, как 6 октября 1789 года. Главный штаб ее, как мы видели, был сформирован заново. Множеству граждан опротивела служба, а те, кто еще не дезертировали, были запуганы яростью черни. Итак, Национальная гвардия, подобно всем государственным учреждениям, состояла из нового, революционного поколения. Она, как и вся Франция, делилась на конституционалистов и республиканцев. Весь батальон «Дочерей Святого Фомы» был предан королю, остальные относились к нему или равнодушно, или враждебно. Канониры, составлявшие главную ее силу, были решительно республиканцами. Трудность канонирской службы отпугнула от нее богатую буржуазию, поэтому пушки очутились в руках слесарей и кузнецов, а они разделяли чувства народа. Итак, королю оставались восемь или девять сотен швейцарцев и один с небольшим батальон Национальной гвардии. Читатели помнят, что со времени выхода Лафайета в отставку руководство над Национальной гвардией поочередно переходило от одного к другому из числа начальников легионов. В этот день оно выпало на долю командира Манда – военного, нелюбимого двором вследствие его конституционных убеждений, но внушавшего ему полное доверие своей твердостью, знанием дела и преданностью обязанностям. Манда, оказавшись главнокомандующим в эту роковую ночь, быстро сделал единственно возможные распоряжения. Пол большой галереи, соединявшей Лувр с дворцом Тюильри, уже был разбит и содран на порядочном протяжении, чтобы преградить путь наступлению. Поэтому Манда не подумал защищать эту часть дворца, а все заботы свои обратил на дворы и сады. Несмотря на тревогу, гвардейцев собралось немного. Батальоны были не полны, и наиболее ревностные гвардейцы сами поспешили во дворец, где Манда выстроил их и разместил вместе со швейцарцами по дворам, садам и покоям. Кроме того, он поставил пушку во Дворе швейцарцев и пушки во Дворе принцев. Пушки эти, к несчастью, были вверены канонирам Национальной гвардии, так что неприятель находился в крепости с самого начала. Но швейцарцы, исполненные усердия и преданности, наблюдали за канонирами, готовые при первом подозрительном движении завладеть пушками, а канониров выкинуть за ограду дворца. Манда, сверх того, поставил несколько форпостов с жандармами под колоннадой Лувра и в ратуше. Но жандармские части, как мы сейчас упомянули, состояли из прежних солдат Французской гвардии. К этим защитникам дворца следует еще прибавить толпу старых слуг престола, которые, вследствие преклонных лет или умеренности своих убеждений, не решились удалиться в эмиграцию и теперь, в минуту опасности, поспешно сошлись: одни – чтобы оправдать себя в том, что не уехали в Кобленц, другие – просто для того, чтобы умереть за своего государя. Они наскоро расхватали всё оружие, какое могли достать во дворце, и красовались теперь со старыми саблями, старыми пистолетами, привязанными к поясу платками; некоторые взяли лопатки и щипцы из каминов. Дело не обошлось без шуток даже в эту страшную минуту, когда двору надлежало вести себя серьезно. Это стечение бесполезных лиц не только не могло принести пользы, но еще производило неприятное впечатление на Национальную гвардию, смотревшую на них с недоверием, и лишь увеличивало и без того уже порядочный сумбур. Все члены директории департамента собрались во дворце; тут же были добродетельный герцог Ларошфуко и Редерер, прокурор-синдик; Петион, которого вызвали, явился с двумя муниципальными чиновниками. Его заставили подписать приказ о том, чтобы силу встречать силой – и он подписал, чтобы не казаться сообщником инсургентов. Его присутствие во дворце радовало защитников, для которых выгодно было иметь заложником любимца народа. Собрание, узнав об этом, потребовало его к себе декретом; королю советовали не отпускать его, но это показалось ему недостойной мерой, и Петион беспрепятственно вышел из дворца. Добившись приказа об отпоре силе силой, придворные начали излагать различные мнения о том, как его применить. В этом состоянии экзальтации умам должны были представиться множество сумасбродных идей. Одна между прочими отличалась большой смелостью и могла бы с большой вероятностью удаться: предупредить приступ и разогнать бунтовщиков, которых было еще не очень много, с марсельцами – не более нескольких тысяч человек. В эту минуту, действительно, предместье Сен-Марсо не всё еще собралось; Сантерр мешкал в предместье Сент-Антуан; один Дантон с марсельцами решились собраться в секции кордельеров и с нетерпением ожидали у моста Сен-Мишель прибытия остальных. Энергичной вылазкой можно было разогнать их, и в эту минуту колебаний малейшая паника неминуемо помешала бы восстанию состояться. Манда предложил другой план, более верный и законный: дождаться марша предместий, но напасть на них в двух решительных пунктах, лишь только они двинутся. Он советовал броситься неожиданно на тех, кто выйдет на площадь ратуши, и сделать то же у Лувра с теми бунтовщиками, которые придут с Пон-Нёф, вдоль набережной Тюильри. С этой целью Манда приказал жандармам, поставленным у колоннады, дать пройти мятежникам и потом напасть на них с тыла, в то время как жандармы, стоявшие на площади Карусель, напали бы на них с фронта. Успех подобного распоряжения был почти несомненен. Коменданты различных постов, в том числе и ратуши, получили от Манда нужные приказания. Мы уже видели, что в ратуше составился новый муниципалитет. Из прежних членов были оставлены только Дантон и Манюэль. Этому-то мятежному муниципалитету предъявляется приказ Манда. Муниципалитет тотчас же требует к себе главнокомандующего. Предписание это посылается во дворец, где никто еще не знает о новой коммуне. Манда колеблется, но все вокруг него и даже сами члены директории департамента, не зная о происшедшем и полагая, что не следует еще нарушать закон отказом, уговаривают его идти. Манда решается. Он сдает сыну, бывшему с ним, дворец, а также подписанный Петионом приказ об отпоре силе силой, и отправляется в муниципалитет. Было около четырех часов утра. Явившись в ратушу, он крайне изумляется, найдя там новую власть. Его окружают, допрашивают о данном им приказании, затем отпускают, но президент при этом делает выразительный жест – это смертный приговор. Несчастного хватают на выходе из залы и расстреливают тут же из пистолета. Тело его раздевают, обыскивают и, не найдя приказа, отданного им сыну, бросают его в реку, куда за ним скоро должно было последовать множество трупов. Этот кровавый акт парализовал все оборонительные средства дворца, уничтожил всякое единство и помешал исполнению плана защиты. Однако не всё еще было потеряно, и восстание еще не вполне организовалось. Марсельцы, с нетерпением прождав жителей предместья Сент-Антуан, которые всё не являлись, начали даже думать, что дело не удастся. Но Вестерман, приставив шпагу к груди Сантерра, принудил его идти. Тогда одно за другим подошли все предместья, одни улицей Сент-Оноре, другие через Пон-Нёф и Пон-Рояль и через площадь Лувра. Марсельцы шли во главе колонн с бретонскими федератами, нацелив свои пушки на дворец. К великому множеству мятежников, количество которых ежеминутно возрастало, прибавилась толпа любопытных, так что неприятель казался еще более страшным, нежели был в действительности. Пока вся эта толпа шла к дворцу, Сантерр поспешил в ратушу, чтобы выпросить себе назначение в главнокомандующие Национальной гвардией, а Вестерман остался с инсургентами руководить приступом. Следовательно, повсюду царствовала сумятица, невообразимая до такой степени, что Петион, который по условленному плану должен был бы сидеть дома под стражей, всё еще ждал этой стражи, долженствовавшей избавить его от ответственности. Он сам послал в ратушу напомнить об аресте, и наконец вокруг его дома поставили несколько человек, чтобы он казался арестованным.
Дворец между тем был полностью осажден. Восставшие расположились на площади, и при занимавшемся утреннем свете можно было видеть их сквозь щели старых ворот и из окон; видна была их артиллерия, нацеленная на дворец; слышны были их смутные крики, их угрожающие песни. Защитники хотели было вернуться к первоначальному плану – опередить их; но когда они узнали о смерти Манда, то почли за лучшее дождаться нападения, чтобы не выходить из границ строгой законности. Редерер обошел ряды гарнизона и обратился к Национальной гвардии и швейцарцам с предписываемой законом прокламацией, которой воспрещалось нападать, но разрешалось и приказывалось давать отпор силе силой. Королю посоветовали, чтобы он сам сделал смотр людям, готовившимся защищать его. Несчастный государь провел всю ночь за выслушиванием различных советов, а в редкие минуты отдыха молился за жену, сестру, детей. «Ваше величество, – сказала ему королева, – вот минута, когда вам нужно показаться!» Уверяют даже, что она вырвала пистолет из-за пояса старика д’Аффри и с живостью подала его королю. Ее глаза были красны от слез, но голова высоко поднята, ноздри слегка раздувались от гордости и гнева. Что до короля, он не боялся за себя лично и даже выказал большое хладнокровие в эту минуту великой опасности, но он боялся за семью, и это страдание было написано на лице его. Однако он явился с твердостью. Король был в фиолетовом кафтане, при шпаге, но прическа его, не поправленная со вчерашнего дня, растрепалась. Когда он вышел на балкон, то без смущения увидел многочисленную артиллерию, наведенную на дворец. Его присутствие в последний раз возбудило нечто вроде восторга: гренадеры подняли свои шапки на сабли и штыки; древний крик «Vive le roi!» еще раз – в последний – огласил своды родного дворца. Воспрянули последние остатки мужества, унылые сердца отогрелись, на мгновение еще вспыхнула надежда, даже уверенность. В эту-то минуту прибыло несколько новых батальонов Национальной гвардии; они выдвинулись позже других и теперь являлись по приказу, раньше данному несчастным Манда. Они входили в то самое мгновение, как во дворе раздавались крики, приветствующие короля. Некоторые подхватили этот крик, другие, не разделявшие эти чувства, вообразили себя в опасности и, вспоминая народные басни, представили себе, что их сейчас выдадут рыцарям кинжала. Они стали кричать, что злодей Манда их предал, и возбудили движение, похожее на бунт. Канониры, следуя этому примеру, обратили свои орудия против фасада дворца. Завязался спор с преданными батальонами; канониры были обезоружены и сданы под стражу одному из отрядов, прибывавших в сад. Между тем король, показавшись на балконе, сходил с лестницы, собираясь делать смотр во дворах. Узнав о его приближении, каждый становился в строй. Людовик прошел по всем рядам со спокойным лицом и окинул всех взглядом, проникающим в сердца. Обращаясь к солдатам, он сказал им твердым голосом, что тронут их преданностью, что будет с ними до конца и что, защищая его, они защищают своих жен и детей. Потом он прошел через двери, отправляясь в сад, но в эту минуту услышал крики «Долой вето!», испускаемые одним из вошедших батальонов. Два сопровождавших его офицера попытались отговорить короля делать смотр в саду, другие посоветовали посетить следующий пост; он мужественно на это согласился. Но чтобы туда дойти, нужно было пройти мимо Террасы фельянов, заполненной народом. Во время этого перехода короля отделяла от рассвирепевшей толпы только трехцветная лента. Однако он шел вперед и даже видел, как батальоны прямо перед его глазами прошли через сад и присоединились к неприятелям на площади Карусель. Эта измена, измена канониров, крики «Долой вето!» отняли у короля всякую надежду. В это же время жандармы, стоявшие под колоннадой Лувра и в других местах, тоже разошлись или примкнули к народу. Со своей стороны, Национальная гвардия, на которую считали возможным положиться, разместившись по покоям, была недовольна соседством собравшихся тут же дворян и смотрела на них недоверчиво. Королева старалась успокоить ее. «Гренадеры, – сказала она, указывая на дворян, – это ваши товарищи, они пришли умирать вместе с вами». Однако, несмотря на эту наружную бодрость, ее душой овладело отчаяние. Смотр окончательно погубил дело, и Мария-Антуанетта горько жаловалась на недостаток энергии со стороны короля. Нельзя не повторить, что за себя лично несчастный государь не выказал ни малейшего страха. Он даже не надел под платье панциря, который был на нем 14 июля, говоря, что в день сражения его грудь должна быть открыта, как грудь последнего его слуги. Стало быть, у него не было недостатка в мужестве, и впоследствии он являл этому высокие доказательства, но ему не хватало смелости действовать наступательно, не хватало последовательности в той степени, чтобы не бояться кровопролития, когда он соглашался на вступление во Францию иноземной армии. Не подлежит сомнению, как это и было сказано много раз, что если бы он сел на лошадь и сам со своими отрядами поскакал на мятежников, восстание было бы подавлено. В это время члены директории департамента, видя беспорядок и отчаиваясь в успехе обороны, явились к королю и посоветовали ему удалиться в собрание. Как ни нападали впоследствии на этот совет, лучшего в ту минуту нельзя было придумать. Этим отступлением предотвращалось всякое кровопролитие, а королевская семья избегала почти верной смерти, если бы дворец был взят приступом. При тогдашнем положении дел успех приступа не вызывал сомнений, а если бы таковые и были возможны, то одного сомнения довольно было, чтобы не подвергаться риску. Королева восстала и против этого совета. «Ваше величество, – сказал ей тогда Редерер, – вы рискуете жизнью вашего супруга и ваших детей; подумайте об ответственности, которую вы берете на себя». Спор вышел довольно оживленный. Наконец король решился уйти в собрание. – Пойдем! – сказал он с покорным видом своей семье и окружавшим его. – Вы отвечаете за жизнь короля и моих детей, – сказала королева Редереру. – Я ручаюсь в том, что умру, защищая их, – ответил он, – но более ничего не обещаю. Шествие двинулось через сад, Террасу фельянов и двор Манежа. Все дворяне и дворцовые служители бросились за королем, чем могли его компрометировать, раздражая народ и возбуждая неудовольствие короля своим присутствием. Редерер тщетно старался удержать их и изо всех сил твердил, что по их милости короля с семейством зарежут. Ему удалось отстранить большую часть их, и можно было идти свободнее. Отряд швейцарцев и Национальной гвардии сопровождает королевскую семью. Ее встречает и провожает депутация от собрания. В эту минуту толпа так плотно сжимается, что не остается прохода. Тогда один гренадер берет на руки дофина и проносит его высоко над головой. Королеве кажется, что у нее похищают сына, и она вскрикивает, но ее успокаивают, а гренадер входит в собрание и ставит ребенка на стол. Вслед за ним входят и король с семейством в сопровождении двух министров. «Я пришел, – говорит Людовик XVI, – чтобы не дать совершиться ужасному преступлению, и полагаю, господа, что я нигде не могу быть в большей безопасности, чем среди вас». Верньо, исполняющий обязанности президента, отвечает королю, что он может положиться на твердость собрания, члены которого поклялись умереть, защищая законные власти. Король садится возле президента, но вследствие замечания Шабо о том, что его присутствие может помешать свободе прений, его помещают в ложу журналиста, записывающего отчет о заседаниях. Железную решетку выламывают, чтобы в случае вторжения в ложу король с семейством мог беспрепятственно броситься в самое собрание. Король помогает своими руками, решетка валится вниз, и ругательства и угрозы начинают свободнее долетать до последнего убежища низвергнутого государя. Редерер начинает рассказ обо всем происшедшем: он описывает ярость толпы, опасности, которым подвергается дворец, так как дворы уже заполнены чернью. Собрание приказывает двадцати комиссарам идти унимать народ. Комиссары отправляются. Вдруг раздается пушечный залп. Воцаряется общий ужас. «Предваряю вас, – объявляет король, – что я сейчас только запретил швейцарцам стрелять». Но пушечные выстрелы раздаются снова, к ним прибавляется ружейный огонь; смятение достигает крайней степени. Вскоре приходит известие, что комиссары, посланные собранием, рассеяны толпой. В ту же минуту толпа с мощными ударами кидается на дверь залы; у одного из входов показываются вооруженные «граждане». «К нам ломятся силой!» – восклицает один из муниципальных чиновников. Президент надевает шляпу; множество депутатов бросается отгонять наступающих; наконец смятение затихает, и под шум непрерывных пушечных и ружейных раскатов депутаты кричат: «Да здравствуют нация, свобода, равенство!»
Во дворце между тем завязался убийственный бой. По уходе короля все решили, что народ не станет неистовствовать в покинутом жилище, к тому же в общем переполохе было не до того, и никто не сделал распоряжений очистить дворец. Единственное, что было сделано, это отозвали внутрь дворца все войска, занимавшие дворы, так что солдаты очутились в покоях, безо всякого порядка, вместе с придворными офицерами и прислугой. Толпа собралась огромная, и была такая давка, что почти нельзя было двигаться, несмотря на размеры помещения. Народ, по-видимому, не знавший об уходе короля, довольно долго прождав у главного входа, выломал ворота топорами и бросился в главный двор. Тут люди построились в колонны и развернули против дворца орудия, неосторожно оставленные войсками на дворе. Однако приступ еще не начался. Народ делал дружелюбные знаки солдатам, стоящим у окон. «Отдайте нам дворец, – кричали многие, – и мы друзья!» Швейцарцы, обнаружив миролюбивые намерения, бросили из окон патроны. Несколько человек из осаждающих, посмелее, отделились от колонн и подошли к самому подъезду. Поперек главной лестницы был поставлен деревянный барьер, за которым стояли вперемешку гвардейцы и швейцарцы. После довольно продолжительного спора, который, однако, еще не дошел до боя, барьер был снял. Тогда наступающие поднялись на лестницу, повторяя, что дворец непременно должен быть отдан им. Уверяют, будто в эту минуту несколько человек, оставшихся на дворе, крючьями подтащили к себе часовых швейцарцев, поставленных снаружи, и убили их; что, кроме того, кто-то выстрелил из ружья в одно из окон, и швейцарцы в негодовании тоже ответили выстрелами. Раздался страшный залп, и вошедшие во дворец выбежали из него назад с криком «Измена!». Трудно было дознаться среди этой сумятицы, с какой стороны прозвучали первые выстрелы. Наступающие уверяли, что они подошли дружелюбно, а когда уже совсем проникли во дворец, против них открылся предательский огонь. Это не очень правдоподобно, потому что швейцарцы были далеко не в таких условиях, чтобы вызывать на бой. Не обязанные драться после того, как ушел король, они должны были думать только о том, как бы самим спастись, а измена не стала бы к тому средством. Если бы даже вопрос о том, кто первый начал враждебные действия, мог сколько-нибудь изменить нравственный характер событий, пришлось бы сознаться, что первоначальное несомненное наступление последовало со стороны инсургентов, напавших на дворец. Остальное уже было лишь делом случая, неизбежным последствием. Как бы то ни было, те, кто проникли на главную лестницу, вдруг услышали залп и, убегая, на самой лестнице приняли град пуль. Тогда швейцарцы организованно спустились на главный двор. Там они завладели одним из орудий и, несмотря на страшный огонь, повернули его и выстрелили в марсельцев, значительное число которых упало. Марсельцы отступили и, так как огонь продолжался, покинули двор. Паника охватила народ, он со всех сторон устремился в предместья. Если бы швейцарцы в ту же минуту двинулись вперед и если бы жандармы, поставленные у Лувра, тоже напали на беглецов, победа осталась бы за дворцом. Но в это самое время пришел приказ короля с запрещением стрелять, вверенный им генералу д’Эрвильи. Д’Эрвильи явился, как раз когда швейцарцы обратили наступавших в бегство. Он приказал швейцарцам от имени короля идти за ним в собрание. Швейцарцы, в довольно значительном числе, последовали за д’Эрвильи среди убийственного огня, и дворец оказался лишен большинства своих защитников. Однако в восьми покоях и на лестнице еще оставалось много несчастных швейцарцев, до которых приказ не дошел и которым предстояли ужаснейшие опасности без средств к защите. Тем временем осаждающие успели опомниться. Марсельцы сбретонцами, полные ярости, снова бросились на приступ. Вестерман, впоследствии выказавший истинный талант, с большим умением руководил их усилиями, они с жаром кинулись вперед, добрались до приемных покоев, поднялись по лестнице и овладели дворцом. Чернь, вооруженная пиками, вторглась следом; остальное не представляло собой ничего иного, как бойню. Несчастные швейцарцы тщетно молили о пощаде, бросая оружие, – они были избиты без милосердия. Дворец подожгли; за прислугой организовали погоню: одни спаслись, другие были убиты. Некоторые из жертв выказали большое мужество, кто-то – большую находчивость и ловкость в измышлении хитростей для своего спасения, когда защищаться стало уже нелепостью; между разъяренными победителями были даже движения честности, и золото, найденное во дворце, из народного ли тщеславия, или из бескорыстия, порождаемого экзальтацией, было отнесено в собрание. Собрание между тем ожидало исхода боя в сильнейшей тревоге. Наконец, в одиннадцать часов раздались тысячекратно повторяемые победные возгласы. Под напором толпы, упоенной радостью и яростью, дверь уступила. Зала наполнился взятыми в плен швейцарцами, которых народ щадит, желая принести в дань собранию этот акт милосердия. И всё это время король и его семейство, укрываемые в тесной ложе журналиста, присутствовали при гибели своего престола и радости своих победителей. Верньо, вышедший ненадолго из залы для составления декрета о низложении, возвратился с этим знаменитым декретом, которым: Людовик XVI временно лишается королевского сана; постановляется план воспитания наследника престола; созывается Национальный конвент. Где же тут давно замышленный план об уничтожении королевской власти, когда и теперь еще короля лишь временно низлагали и занимались вопросом о воспитании наследного принца? С какою робостью, напротив, прикасались к этой древней власти! С какими колебаниями приступали к этому древу, под тенью которого поколения французов бывали то счастливы, то несчастны, но, как бы там ни было, жили! Однако народное воображение проворно: теперь уже не много ему потребовалось времени, чтобы скинуть с себя остатки благоговения, и временно низложенная монархия скоро должна была подвернуться окончательному уничтожению. И гибла она не в лице Людовика XI, Карла IX, Людовика XIV, а в лице Людовика XVI, одного из честнейших королей, когда-либо занимавших престол.

Глава XII
Продолжение, конец и последствия 10 августа – Положение королевской семьи и партий – Состояние армий – Дюмурье – Настроение держав – Бойня в тюрьмахШвейцарцы мужественно защищали дворец Тюильри, но усилие их были тщетны: осаждавшие вломились во дворец по главной лестнице. Народ, одержав победу, со всех сторон наводнял эти покои, в которых всегда предполагал необыкновенные сокровища, безграничное блаженство, грозное могущество и ужасные заговоры. Сколько предстояло разом отмщений – богатству, пышности и власти! Восемьдесят швейцарских гренадеров, не успевшие уйти, отчаянно защищают свои жизни, но их нещадно убивают. Толпа бросается в покои и с ожесточением накидывается на бесполезных приверженцев короля, сбежавшихся защищать его и преследуемых как рыцари кинжала всей ненавистью народа. Их немощное оружие только больше раздражает победителей и придает большее вероятие замыслам, приписываемым двору. Всякая запертая дверь выламывается. Два привратника не пускают в залу совета, жертвуя собой этикету, – и немедленно оказываются умерщвлены. Многочисленная прислуга королевского семейства беспорядочно бежит по громадным галереям, некоторые бросаются из окон или ищут в этих огромных пространствах темный угол, чтобы укрыться от смерти. Горничные королевы убегают в одну из ее комнат и каждую минуту ждут, что на них нападут в этом убежище. Принцесса Тарентская приказывает растворить все двери, чтобы сопротивлением не увеличивать еще больше раздражение толпы. Победители являются, схватывают первую попавшуюся женщину, и вот уже клинок занесен над ее головою. «Пощадите женщин! – раздается голос. – Не бесчестьте нацию!» После этих слов клинок опускается, придворных дам королевы не только щадят, но выводят из дворца те же люди, которые сию минуту готовы были растерзать их, а теперь, с подвижностью чувств, свойственной народу, провожают, охраняют и пекутся о спасении их с самой изысканной преданностью. Насытившись убийствами, народ принимается опустошать: мятежники ломают великолепную мебель, проникают в покои королевы, где предаются самому грязному веселью, забираются в самые отдаленные углы, отыскивают бумаги, срывают все замки, словом, удовлетворяют разом и любопытство, и страсть к разрушению. Ко всем этим ужасам прибавляется пожар. Пламя, поглотив мелкие строения, начинает охватывать и самое здание, угрожая совершенным уничтожением этому величественному месту пребывания высшей власти. Страшное зрелище не ограничивается оградой дворца – улицы кругом устланы трупами и обломками. Всякий, кто бежит или только подозревается в бегстве, считается врагом и преследуется выстрелами. Непрерывные ружейные залпы заменяют грохот пушек и возвещают о новых ежеминутных убийствах. Сколько ужасов представляют последствия победы, кто бы ни были побежденные и победители и за какое бы дело ни происходило сражение!
Так как исполнительная власть была уничтожена временным низложением Людовика XVI, то в Париже оставались только две власти: коммуна и собрание. Депутаты секций, как мы видели выше, сойдясь в ратуше, забрали в свои руки муниципальную власть и, выгнав прежних чиновников, руководили восстанием ночью и днем 10 августа. Они обладали настоящей, фактической властью; они кипели всем увлечением победы и были представителями того революционного класса, нового и пламенного, который во всё время сессии боролся против инерции людей другого разряда, более просвещенных, но менее деятельных. Первой задачей депутатов от секций стало сменить всех высших чиновников, которые, стоя ближе к верховной власти, были ей преданы. Они предварительно отрешили от должности Главный штаб Национальной гвардии и расстроили оборону дворца Тюильри, вызвав оттуда Манда и отдав Сантерру начальство над Национальной гвардией. Они поспешили временно лишить власти директорию департамента, которая со своего возвышенного места постоянно перечила народным страстям и не разделяла их.
 Дантон
Дантон
Что касается муниципалитета, депутаты секций сменили Генеральный совет, сами заняли его место и сохранили только мэра Петиона, прокурора-синдика Манюэля и шестнадцать муниципальных администраторов. Всё это происходило, пока продолжалось нападение на дворец. Дантон смело руководил этим бурным заседанием, и когда картечь швейцарцев отогнала толпу на набережные и до самой ратуши, он вышел со словами: «Наши братья просят помощи – пойдем выручать их!» Его присутствие содействовало возвращению народа на место сражения и отчасти решило победу. По окончании боя завели речь о том, чтобы освободить Петиона из-под стражи и восстановить его в должности мэра. Однако из истинного ли участия к его личности, или из нежелания поставить над собой вождя слишком добросовестного для первой поры восстания, решено было оставить его под стражей еще день или два под предлогом заботы о безопасности его жизни. В тоже время из залы Генерального совета были вынесены бюсты Людовика XVI, Байи и Лафайета. Новый поднимавшийся класс революционеров устранял своих знаменитостых предшественников, чтобы заместить их собой. Инсургенты коммуны должны были искать сношений с собранием. Они упрекали его в колебаниях и даже отчасти роялизме, но всё же видели в нем единственную ныне существующую высшую власть и вовсе не были расположены не признавать этой власти. В самое утро 10 августа в собрание явилась депутация известить его о составлении инсургентской коммуны и изложить всё, ею сделанное. Дантон был в числе депутатов. «Народ послал нас к вам, – сказал он, – и поручил объявить, что всё еще считает вас заслуживающими его доверия, но не признает иного судьи чрезвычайных мер, к которым необходимость вынудила его прибегнуть, кроме всего французского народа, нашего и вашего верховного владыки…» Депутаты ответили этим посланникам через своего президента в том смысле, что они одобряют всё сделанное, но советуют мир и порядок. Кроме того, они сообщили мятежникам декреты, изданные в этот день, с приглашением довести их до общего сведения. Затем депутаты составили прокламацию, напоминавшую о должном уважении к личностям и имуществам, и поручили нескольким своим членам отнести ее народу. Первой заботой собрания в эту минуту был вопрос: чем заменить отмененную королевскую власть? На министров, собранных под названием исполнительного совета, были временно возложены административные заботы и исполнение законов. Министр юстиции, как хранитель государственной печати, должен был прикладывать ее к декретам и провозглашать их от имени законодательной власти. Нужно было затем выбрать лиц, могущих составить правительство. Первой мыслью было призвать на прежние места Ролана, Клавьера и Сервана, смененных за их привязанность к народному делу, так как новая революция естественно должна была хотеть того, чего не хотела королевская власть. Итак, эти три министра были единодушно вновь водворены: Ролан в министерстве внутренних дел, Серван в военном и Клавьер в финансовом министерстве. Оставалось еще назначить министров юстиции, иностранных дел и морского. Тут выбора было больше, и давнишние желания о скромных, безвестных достоинствах или пламенном патриотизме, неприятном двору, могли быть осуществлены беспрепятственно. Дантона, имевшего такую власть над толпой, оказавшегося столь влиятельным в последние сорок восемь часов, сочли человеком нужным, и, хотя он не нравился жирондистам в качестве избранника черни, его назначили министром юстиции большинством в 284 голоса против 222. Дав это удовлетворение народу и предоставив место энергичному человеку, собрание решилось к морским делам приставить ученого, и выбор пал на математика Монжа, которого предложил знавший и ценивший его Кондорсе. Наконец, министром иностранных дел был назначен Лебрен, и в его лице наградили скромных тружеников, прежде исполнявших всю работу, честь которой приписывалась министрам. Заместив исполнительную власть, собрание объявило, что все декреты, к которым Людовик XVI приложил свое вето, получают силу закона. Немедленно было постановлено приняться за образование лагеря под Парижем, и канониры в тот же день получили разрешение приступить к сооружению эспланад на Монмартре. После революции в Париже нужно было обеспечить ее успех в департаментах, в особенности в армиях, которыми командовали генералы, вызывавшие подозрение. Посланники, выбранные из собрания, были отправлены в провинции и армии, чтобы разъяснить события 10 августа и с полномочиями переменить – в случае надобности – всех гражданских и военных начальников.
Нескольких часов оказалось достаточно на все эти декреты; и пока собрание ими занималось, его беспрестанно отрывали другие заботы. Драгоценности, выносимые из дворца, складывались в залу; швейцарцы, дворцовая прислуга, все лица, остановленные в бегстве или спасенные от ярости народа, препровождались туда же как в общее убежище. Толпы просителей то и дело приходили рассказывать о том, что они сделали или видели, или о своих открытиях по поводу мнимых заговоров двора. Произносились всякого рода обвинения против королевского семейства, которое всё это слышало из своего тесного помещения. Людовик XVI спокойно слушал речи и в промежутках разговаривал с Верньо и другими депутатами, помещавшимися совсем близко от него. Запертый в течение пятнадцати часов, он попросил поесть, и поделился тем, что ему подали, с женой и детьми. Это простое требование вызвало гадкие замечания по поводу его будто бы страсти к еде! Маленький дофин глубоко спал на коленях матери, истомленный жарой; молодая принцесса и принцесса Елизавета, с красными от слез глазами, сидели подле королевы. Позади них находились несколько преданных вельмож, не оставивших своего государя в несчастье. Пятьдесят человек, взятых из отряда, конвоировавшего королевскую семью из дворца в собрание, составили ее стражу. И вот из этой-то ложи низверженный монарх смотрел на обломки великолепия своего дворца, присутствовал при уничтожении своей вековой власти и видел, как клочки ее раздавались народным властям. Шум продолжался не унимаясь; народу не довольно было временного упразднения королевской власти, он требовал полного ее истребления. Петиции за петициями поступали об этом предмете, и в ожидании ответа толпа волновалась за дверями залы, наводняла коридоры, осаждала входы и раза два или три с таким неистовством принималась за двери, что так и ждали, что они будут выломаны, и собрание боялось за несчастную семью, доверившуюся ему. В одну такую минуту Анри Ларивьер, посланный с несколькими другими депутатами унимать народ, вошел и громко воскликнул: «Да, господа, я знаю, я видел, я заверяю, что народ решился тысячу раз скорее погибнуть, чем обесчестить свободу каким-либо актом бесчеловечности, и наверное нет здесь ни одной головы, которая не могла бы рассчитывать на французскую честность». Эти успокоительные и мужественные слова заглушили рукоплескания. Верньо заговорил в свою очередь и ответил просителям, требовавшим, чтобы декрет о временном упразднении престола был превращен в декрет об окончательном низложении: «Я очень рад, что мне доставляется случай разъяснить намерение собрания в присутствии граждан. Оно постановило временное управление исполнительной власти и созывает Конвент, который бесповоротно решит великий вопрос о низложении. Поступая таким образом, оно осталось в границах своих полномочий, не дозволяющих ему самому сделаться судьей над королевской властью, и обеспечило спасение государства, поставив исполнительную власть перед невозможностью вредить. Таким образом, собрание удовлетворило все потребности, не преступая своей власти». Слова эти произвели благоприятное впечатление, и сами просители, успокоенные ими, взялись вразумить и угомонить народ. Нужно было прекратить это продолжительное заседание. Собрание приказало принесенные из дворца вещи отнести в коммуну на сохранение, швейцарцев и всех арестованных держать под стражей у фельянов или препроводить в различные места заключения, наконец, королевскую семью содержать в Люксембургском дворце, пока не соберется Конвент. В час ночи, в субботу, 11 августа, королевское семейство проводили в назначенное ему помещение, состоявшее из четырех келий бывших монахов-фельянов. Свита короля расположилась в первой келье, сам король – в другой, королева с сестрою и детьми – в двух остальных. Жена швейцара прислуживала королеве и принцессам, заменив собой толпу дам, еще накануне оспаривавших друг у друга заботу о них. Заседание было прервано в три часа утра. В Париже было еще неспокойно. Во избежание беспорядков окрестности дворца были иллюминованы и большинство граждан находилось под ружьем.
Таков был этот знаменитый день, таковы его непосредственные результаты. Король и его семейство, пленные, содержались в здании фельянов, а три опальных министра были вновь водворены в своих должностях. Дантон, еще накануне прятавшийся, оказался министром юстиции; Петион сидел у себя дома под арестом, но к имени его, произносимому с восторгом, прибавлялся титул отец народа. Марат выполз из подвала, куда его запрятал Дантон, и теперь, вооруженный саблей, разгуливал по Парижу во главе Марсельского батальона. Робеспьер, который не принимал участия в этих ужасных сценах, ораторствовал у якобинцев и толковал нескольким оставшимся с ним членам о том, как можно использовать победу, о необходимости заменить нынешнее собрание другим и отдать Лафайета под суд. На следующий день надо было первым делом опять унимать народ, который всё еще не успокоился и не переставал избивать всех, кого принимал за беглых аристократов. Заседание собрания снова началось только 11-го числа, в 7 часов утра. Королевское семейство опять поместили в ложе журналиста, оно должно было присутствовать при предстоявших решениях и при всем, что еще могло совершиться в Законодательном собрании. Петион, наконец освобожденный из-под ареста и сопровождаемый толпой народа, пришел дать отчет о состоянии города, который он уже обошел, стараясь поселить в нем тишину и дух мира. Сами граждане составили его охрану. Он был принят собранием как нельзя лучше и тотчас же опять ушел продолжать свое миротворное дело. Швейцарцы, накануне заключенные в здании фельянов, находились в опасности. Толпа выла, требуя их смерти, называя их сообщниками дворца и убийцами народа. Ее кое-как успокоили, объявив, что швейцарцев будут судить и будет назначен военный суд, которому и поручат карать так называемых заговорщиков 10 августа. «Я требую, – воскликнул свирепый Шабо, – чтобы они были отведены в Аббатство для суда… На земле равенства закон должен сносить все головы, даже те, которые сидят на престоле». Офицеры уже были переведены в Аббатство, солдат перевели туда же. Это стоило бесконечного труда, и пришлось обещать народу, что судить их будут скоро. Желание мстить всем защитникам королевской власти и в их лице отплатить за все перенесенные опасности, как мы видим, овладевало уже умами и готовило жестокие раздоры. Всякий, кто до сих пор следил за успехами революции, уже наблюдал зачатки разногласий, начинавших возникать в народной партии. Мы уже видели, как собрание, составленное из людей образованных и спокойных, очутилось в оппозиции к клубам и муниципалитетам, где собирались люди ниже его по образованию и талантам, но которых самое их положение, менее возвышенные нравы и стремительное честолюбие влекли к деятельности и к ускорению событий. Мы видели, что накануне 10 августа Шабо разошелся во мнениях с Петионом, который, так же, как и большинство собрания, предпочитал декрет о низложении короля насильственным мерам. И вот эти люди, вчера советовавшие крайнюю жестокость, на другой день являлись перед собранием, гордые победой, одержанной почти против его воли, и напоминали ему, в двусмысленно почтительных выражениях, что оно оправдало Лафайета, но не должно более компрометировать своей слабостью благо народа. Эти люди наполняли коммуну вместе с честолюбивыми буржуа, агитаторами низкого полета, клубистами; они царили в клубах якобинцев и кордельеров, а некоторые из них даже заседали на крайних скамьях Законодательного собрания. Бывший капуцин Шабо, самый горячий из всех, то и дело переходил с кафедры собрания на кафедру якобинцев и только и знал, что грозить пиками и набатом. Собрание провозгласило временное упразднение престола, а эти люди требовали окончательного низложения; собрание назначило дофину наставника, значит, в будущем предполагало монархию, а они хотели республики; большинство собрания находило, что следует энергично защищаться против иноземцев, но миловать побежденных; они, напротив, утверждали, что следует не только отбиваться от иноземцев, но еще и истребить тех, кто, укрываясь во дворце, намеревались убивать народ и привести в Париж пруссаков. Увлекаясь в своем порыве до самых крайних мыслей, эти люди утверждали, что для образования нового собрания не нужно избирательных коллегий, а просто все граждане должны быть признаны способными отдать свой голос. Один якобинец даже предложил дать политические права женщинам. Наконец, они громко говорили, что народ должен явиться с оружием, чтобы заявить свою волю Законодательному собранию. Марат еще больше подстрекал умы, без того уже хватившие через край, и толкал ко мщению, убежденный, согласно своей ужасной системе, что надлежит очистить Францию. Робеспьер, исходя не столько из системы очищения или кровожадного нрава, сколько из зависти к собранию, взводил на него упреки в слабости и роялизме. Превозносимый якобинцами, выдвинутый перед 10 августа как единственный и необходимый диктатор, он ныне провозглашался красноречивейшим и неподкупнейшим защитником прав народа. Дантон, не думавший ни о том, чтобы вызвать себе похвалы, ни о том, чтобы заставить себя слушать, своей смелостью, однако, решил успех 10 августа. И теперь еще, пренебрегая показной стороной дела, думал только, как бы овладеть исполнительным советом, членом которого был, покоряя и увлекая своих товарищей. Неспособный к ненависти или зависти, он не питал злобы против тех депутатов, блеск которых так неприятно слепил Робеспьера, а только обходил их как людей бездеятельных и предпочитал им энергичных представителей низших сословий, более рассчитывая на них для продолжения и довершения революции. Вне Парижа никто не подозревал об этих раздорах; французскому обществу ничего не было видно, кроме сопротивления собрания чрезмерной пылкости народа и оправдания Лафайета, которое произнесли вопреки коммуне и якобинцам. Но всё это приписывалось роялистскому и фельянскому большинству; жирондистам продолжали удивляться, равно уважая Бриссо и Робеспьера, а в особенности боготворя Петиона, столько вынесшего от двора в качестве мэра. И никто не осведомлялся, находил ли его Шабо слишком умеренным, оскорблял ли он гордость Робеспьера, относился ли к нему Дантон как к честному, но бесполезному человеку, а Марат – как к заговорщику, подлежащему очищению. Следовательно, Петион всё еще был окружен почтением толпы, но, подобно Байи после 14 июля, он в скором времени должен был сделаться ненавистной помехой, так как не мог одобрять излишеств, которым уже не был в состоянии препятствовать.
Главная коалиция новых революционеров образовалась у якобинцев и в коммуне. Все планы предлагались и обсуждались у якобинцев; потом те же люди отправлялись в ратушу исполнять, в силу своей муниципальной власти, то, что они в своем клубе могли только планировать. Генеральный совет коммуны сам по себе составлял уже род собрания, столь же многочисленного, как и Законодательное, со своими трибунами, бюро, своими, гораздо более шумными, рукоплесканиями и силой, уже гораздо более значительной. Мэр всё еще был президентом этого собрания, прокурор-синдик – его официальным оратором, на которого возлагались все нужные обвинения. Петион уже более не являлся туда. Прокурор Манюэль, далее уносимый революционной волной, говорил там каждый день. Но владыкой этого собрания был Робеспьер. Он держался в стороне три первых дня после 10 августа и явился, когда уже восстание вполне свершилось. Когда Робеспьер подошел к бюро, чтобы дать проверить свои полномочия, он имел такой вид, будто вступал во владение, а не подчинялся проверке. Гордость его не только не отталкивала, а напротив, удвоила почтение к нему. Его репутация как человека талантливого, неподкупного, постоянного, делала его особой важной и достопочтенной, которую все эти буржуа с гордостью приветствовали в своей среде. Впредь до Конвента, членом которого он надеялся быть, Робеспьер пользовался тут властью более осязаемой, нежели та, которую он имел в Клубе якобинцев над мнениями своих слушателей. Первой заботой коммуны было прибрать к рукам полицию, ибо во время междоусобицы власть преследовать и арестовывать своих врагов есть самая важная и завидная из властей. Мировые судьи, отчасти обладавшие этой властью, разгневали общественное мнение преследованиями народных агитаторов и вследствие этого, добровольно или нет, находились во вражде с патриотами. Они особенно хорошо помнили того судью, который в деле о Бертране де Мольвиле и журналисте Карра осмелился потребовать к себе двух депутатов. Итак, мировых судей сменили, и все атрибуты, касавшиеся их власти, были переданы муниципальным властям. Собрание в этом случае согласилось с коммуною и постановило, что полиция так называемой общей безопасности будет вверена департаментам, округам и муниципалитетам. Обязанности ее состояли в обнаружении угроз внутренней и внешней безопасности государства; составлении переписи граждан, подозрительных своим мнением или поведением; временном их аресте, рассеянии и даже обезоруживании при необходимости. Эту обязанность должны были исполнять сами муниципальные советы, так что фактически всем граждан поручалось подсматривать за неприятельской партией, на нее доносить и преследовать ее. Понятно, как должна была быть деятельна, но и строга такая демократически устроенная полиция! Весь совет принимал донос, а наблюдательный комитет коммуны рассматривал его и распоряжался арестом. Муниципалитеты всех городов, имевших население выше двадцати тысяч человек, могли прибавлять особые регламенты к этому закону общей безопасности. Конечно, Законодательное собрание не имело в виду подготовлять таким образом кровавые казни, начавшиеся впоследствии; окруженное врагами внутри и снаружи, оно просто приглашало всех граждан наблюдать за ними, точно так, как призвало всех участвовать в управлении и сражениях. Парижская коммуна поспешила воспользоваться этой новой властью и устроила множество арестов. Победители, раздраженные вчерашними опасностями и еще больше – опасностями завтрашними, хватали своих врагов, теперь приниженных, но могущих скоро оправиться при помощи иноземцев. Наблюдательный комитет Парижской коммуны был составлен из рассвирепевших людей. Главою их стал Марат, а из всех людей на свете он был самый опасный на подобной должности. Кроме этого главного комитета, Парижская коммуна учредила еще по особому комитету в каждой секции. Она постановила выдавать паспорта лишь по обсуждении дела секционными собраниями и еще приказала, чтобы путешественников сопровождали – либо в муниципалитет, либо к парижским воротам – два свидетеля – для подтверждения тождественности лица, взявшего паспорт, с лицом, уезжающим по нему; одним словом, принимались все меры, чтобы сделать невозможным бегство подозрительных лиц под вымышленными именами. Коммуна приказала также составить список врагов революции и пригласила граждан прокламацией доносить на виновных 10 августа. Она велела арестовать писателей, поддерживавших роялистское дело, и отдала их станки писателям-патриотам. Марат потребовал и получил с триумфом четыре станка, отнятых у него, как он говорил, по приказанию изменника Лафайета. Комиссары обошли тюрьмы и выпустили всех заключенных, содержавшихся за речи против двора. Всегда готовая во всё вмешаться коммуна, по примеру собрания, послала от себя депутатов просветить и наставить армию Лафайета. На коммуну сверх всего была возложена еще одна важная обязанность – сторожить королевское семейство. Собрание сначала приказало перевести его в Люксембургский дворец, но вследствие замечания, что дворец этот трудно будет караулить, перерешило в пользу здания министерства юстиции. Однако коммуна, уже заведовавшая столичной полицией и считавшая себя специально приставленной к королю, предложила Тампль, объявляя, что может отвечать за вверенных ей пленных лишь в башне этого древнего аббатства. Собрание согласилось и поручило августейших пленников мэру и главнокомандующему Сантерру под их личную ответственность. Король и его семейство были переведены в Тампль вечером 13 августа. Двенадцать комиссаров Генерального совета должны были день и ночь дежурить там. Наружными работами Тампль был обращен в род крепости. Многочисленные отряды Национальной гвардии поочередно составляли ее гарнизон, и войти туда можно было только с дозволения муниципалитета. Кроме того, собрание постановило взять из казначейства пятьсот тысяч франков на содержание королевской семьи до тех пор, пока сойдется Конвент. Обязанности коммуны были, как мы видим, весьма обширны. Поставленная в центре государства, там, где власть велика, склонная по своей энергии сама исполнять всё то, что, по ее мнению, слишком мягко делалось другими властями, она, естественно, всё время захватывала чужие права. Собрание, сознавая необходимость удерживать коммуну в известных границах, постановило избрать новый департаментский совет на место того, который был распущен в день восстания. Коммуна, в виду угрожавшего ей стеснения от поставленной над ней власти, которая, вероятно, свяжет ей руки, как прежний департамент, рассердилась на этот декрет и приказала секциям приостановить начатые уже выборы. Прокурор-синдик Манюэль был тотчас же отправлен от ратуши к собранию с протестом от муниципалитета. «Делегаты граждан парижских, – сказал он, – имеют надобность в неограниченных полномочиях; власть, поставленная между ними и вами, только бросит семена раздора. Народу придется, чтобы избавиться от этой власти, посягающей на его верховенство, снова вооружиться мщением». Вот какие угрожающие речи уже приходилось выслушивать собранию. Депутаты подчинились и, сочтя невозможным или неосторожным сопротивляться в эту минуту энергии коммуны, решили, что новый совет не будет иметь никакой власти над муниципалитетом и будет простой финансовой комиссией, заведующей податями и налогами в департаменте Сена.
Другой, более важный вопрос заботил умы и должен был еще гораздо сильнее вывести наружу разногласия между коммуною и собранием. Первая неотступно требовала наказания тех, кто стрелял по народу и теперь был готов показаться, как только подойдет неприятель. Их звали заговорщиками 10 августа, или просто изменниками. Военная комиссия, снаряженная уже 11 августа для суда над швейцарцами, казалась недостаточной, потому что ее задача ограничивалась судебным преследованием военных лиц. Военный суд департамента казался подчиненным формальностям, притом на все власти, существовавшие до 10 августа, народ смотрел подозрительно. Итак, коммуна 13-го числа потребовала учреждения специального суда для расследования преступлений 10 августа, с дарованием ему достаточной свободы действий, чтобы он мог настичь всех, кого народ называл изменниками. Собрание препроводило петицию об этом своей чрезвычайной комиссии. Четырнадцатого числа новая депутация коммуны является в Законодательное собрание и требует декрета касательно чрезвычайного судилища, причем объявляет, что если декрет еще не дан, то ей поручено дождаться его. Депутат Гастон, сказав этой депутации несколько строгих слов, удаляется. Собрание продолжает отказывать в чрезвычайном судилище и ограничивается тем, что препоручает расследование преступления 10 августа существующим судам. Это известие повергает Париж в сильное волнение. Секция Кейз-Вен является в Генеральный совет коммуны и объявляет, что предместье Сент-Антуан ударит в набат, если требуемый декрет не будет дан немедленно. Генеральный совет посылает новую депутацию и во главе ее – Робеспьера, который начинает говорить от имени муниципалитета и обращается к депутатам с самыми дерзкими намеками. «Спокойствие народа, – говорит он, – зависит от наказания виновных, а вы между тем ничего для этого не сделали. Вашего декрета недостаточно. Он не объясняет свойств и размеров преступлений, подлежащих наказанию, ибо упоминает только о преступлениях 10 августа, тогда как преступления врагов революции простираются гораздо позднее 10 августа и дальше Парижа. При помощи такого поворота сам изменник Лафайет уклонился бы от ударов закона! Что касается формы суда, народ не может долее терпеть ту, которую вы сохранили. Двойные инстанции причиняют бесконечные проволочки; притом все прежние власти подозрительны. Нужны новые; нужно, чтобы требуемый суд был составлен депутатами, выбранными из секций, и имел право судить виновных полновластно и безапелляционно». Эта грозная петиция показалась еще жестче от тона Робеспьера. Собрание ответило парижскому народу адресом, в котором отвергло всякую мысль о чрезвычайной комиссии и безапелляционном суде как недостойную свободы и приличную единственно деспотизму. Эти разумные доводы не произвели никакого действия, а только усилили раздражение. Во всем Париже только и стало речи, что о набате, и на следующий день один представитель коммуны явился в собрание и заявил: «Как гражданин, как должностное лицо, назначенное народом, я пришел объявить вам, что сегодня в полночь ударит набат и барабан забьет тревогу. Народу наскучило ждать мщения. Берегитесь, чтобы он сам не расправился. Я требую, чтобы вы, не поднимаясь с мест, постановили, что от каждой секции будет назначено по одному гражданину для составления уголовного суда». Эта угрожающая речь возмутила собрание и в особенности депутатов Шудье и Тюрио, которые сделали посланцу коммуны резкий выговор. Однако начались прения, и предложение коммуны, активно поддерживаемое наиболее пламенными членами собрания, было превращено в декрет. Избирательному собранию назначено было сойтись для избрания членов чрезвычайного судилища. Разделенное на два отдела, оно должно было судить окончательно и безапелляционно. Это стало первым опытом революционного суда, первым сокращением форм правосудия из духа мщения. Этот суд назвали судом 17 августа.
Еще неизвестно было, какое впечатление произвела на армию последняя революция и как военные приняли декреты 17 августа. Это был вопрос первостепенной важности, от которого зависела участь новой революции. Граница всё еще была разделена на три сегмента – северный, центральный и южный. Люкнер командовал на севере, Лафайет в центре и Монтескью на юге. После несчастных дел при Монсе и Турне Люкнер, понуждаемый министром Дюмурье, пробовал действовать наступательно в Нидерландах, но отступил и, очищая Куртре, сжег предместья, что стало важным поводом обвинения министерства перед самым низложением. С тех пор армии оставались в полнейшем бездействии, жили в укрепленных лагерях и довольствовались легкими схватками. Дюмурье, оставив министерство, отправился к Люкнеру в качестве генерал-лейтенанта и был дурно принят армией, в которой господствовал дух партии Лафайета: Люкнер, в ту минуту совершено подчиненный этому влиянию, держал Дюмурье безвыездно в одном из этих лагерей, при Моде, и предоставил там ему, с небольшим числом войск, заниматься окопами и стычками. Лафайет, желая приблизиться к Парижу из-за опасностей, которыми был окружен король, предпочел бы принять начальство над Северной армией. Однако ему не хотелось расставаться со своими войсками, душевно ему преданными; он сговорился с Люкнером поменяться позициями и переместиться, каждому со своим корпусом, одному на север, другому в центр. Это перемещение двух армий перед лицом неприятеля могло бы повлечь за собой опасности, если бы, к великому счастью, война не была в совершенном застое. Итак, Люкнер перешел в Мец, а Лафайет в Седан. Во время этого движения Дюмурье, получивший приказание следовать со своим небольшим отрядом за армией Люкнера, к которой он принадлежал, внезапно остановился перед неприятелем, пригрозившим ему атакой, и был вынужден остаться в своем лагере или открыть путь во Фландрию герцогу Саксен-Тешенскому. Он созвал других генералов, занимавших отдельные лагеря неподалеку от него, снесся с генералом Дильоном, который подходил с частью армии Лафайета, и потребовал созыва военного совета в Валансьене, чтобы необходимостью оправдать перед ним свое ослушание Люкнера. Тем временем Люкнер пришел в Мец, а Лафайет в Седан, и не будь событий 10 августа, Дюмурье был бы, может быть, предан военному суду за отказ идти вперед. Таково было положение армий, когда они узнали о ниспровержении престола. Первой заботой Законодательного собрания было, как мы видели, послать трех комиссаров с поручением сообщить армиям его декреты и взять с них новую присягу. Когда комиссары прибыли в Седан, их принял муниципалитет, получивший от Лафайета приказание арестовать их. Мэр расспросил депутатов о происшествиях 10 августа и объявил, согласно секретным инструкциям Лафайета, что Законодательное собрание, очевидно, было уже не свободно, когда провозгласило временное низложение короля, что его комиссары – посланцы шайки бунтовщиков и крамольников и он их арестует во имя конституции. Они действительно были посажены в тюрьму, и Лафайет, чтобы укрыть исполнителей приказания от последствий, взял всю ответственность на себя. Тотчас после этого он заставил свою армию вторично присягнуть королю и закону, распорядившись, чтобы эту присягу повторили все подчиненные ему корпуса. Лафайет рассчитывал на семьдесят пять департаментов, одобрительно отозвавшихся на его письмо от 16 июня, и намеревался сделать попытку, противоположную злодеяниям 10 августа. Дильон, стоявший в Валансьене под начальством Лафайета и бывший чином выше Дюмурье, повиновался своему главнокомандующему, присягнул со своими войсками и предписал Дюмурье сделать то же в его лагере при Моде. Но Дюмурье, лучше понимавший будущее, притом раздраженный против фельянов, под властью которых находился, воспользовался этим случаем, чтобы ослушаться их и расположить в свою пользу новое правительство, отказываясь от присяги за себя и свои войска. Семнадцатого августа, в тот самый день, когда таким бурным образом создалось новое судилище, собрание узнало из письма, что комиссары, посланные к Лафайету, арестованы по его приказанию и он не признает власти собрания. Это известие более раздражило, нежели испугало; против Лафайета кричали и бесновались хуже, чем когда-либо. Народ требовал обвинения его и бранил собрание за то, что оно раньше не обвинило предателя. Тотчас же был издан декрет против департамента Арденны; туда были отправлены новые комиссары с такими же полномочиями, как и первые, и с поручением освободить заключенных. Еще несколько комиссаров отправились в армию Дильона. Девятнадцатого августа утром собрание объявило Лафайета изменником отечества и издало против него обвинительный декрет. Положение, однако, выходило опасное, и, если не подавить этого сопротивления, новой революции было не выжить. Франция, разделенная на республиканское население и конституционную армию, стояла перед неприятелем разъединенная, в разладе с собою, в одинаковой опасности от возможности иноземного вторжения или страшной внутренней реакции. Революция 10 августа должна была претить Лафайету как уничтожение революции 1791 года, как осуществление всех аристократических пророчеств, как оправдание всех упреков, взводимых двором на свободу. Он не мог видеть в этой победе демократии ничего, кроме кровавой анархии и бесконечного хаоса. На наш взгляд, этому хаосу были пределы, и родную землю по крайней мере защитили от иноземцев; но Лафайету будущность представлялась страшной, неведомой; отстаивать землю было едва возможно среди политических судорог, и он должен был ощущать желание противиться этому хаосу, вооружаясь против обоих врагов, внутреннего и внешнего. Но его положение было слишком трудным, и ни одному человеку не удалось бы его преодолеть. Его армия была предана ему, но армии не имеют личной воли, не могут иметь иной воли, кроме сообщаемой им высшей властью. Когда революция вспыхивает с такой силой, как в 89-м году, тогда, слепо увлеченные, армии выходят из повиновения старой власти, потому что новый импульс сильнее; но тут было другое дело. Опальный, пораженный обвинительным декретом, Лафайет не мог одной своей военной популярностью поднять войска против внутренних властей, не мог личным влиянием бороться против революционного импульса из Парижа. Поставленный между двумя неприятелями, неуверенный в том, где его прямой долг, он мог только колебаться. Собрание, напротив, не колебалось; оно посылало декрет за декретом и, присовокупляя к ним энергичных комиссаров, должно было одержать верх над колебаниями генерала и заставить армии решиться. Действительно, войска Лафайета понемногу засомневались и отступились от него. Гражданские власти, оробев, подчинились новым комиссарам. Пример Дюмурье, который высказался в пользу революции 10 августа, окончательно решил дело, и оппозиционный генерал остался один со своим главным штабом, составленным из офицеров фельянской или конституционной партии. Буйе, энергичность которого не подлежала сомнению, сам Дюмурье, великий талант которого невозможно оспаривать, бывали в таких точно положениях в разные времена и вынуждены были обратиться в бегство. Лафайету не суждено было выпутаться удачнее. Написав различным гражданским властям, поддерживавшим его в сопротивлении, письма, в которых он брал на себя всю ответственность за приказы, отданные им против комиссаров собрания, он выехал из лагеря 20 августа с несколькими офицерами, своими друзьями и товарищами по оружию и по убеждениям. Бюро де Пюзи, Латур-Мобур, Намет сопровождали его. Они покинули лагерь, увозя с собой лишь месячный оклад и имея при себе нескольких слуг. Лафайет оставил в армии всё в полном порядке и тщательно сделал все нужные распоряжения на случай неприятельского нападения. Он отослал обратно нескольких всадников, поехавших конвоировать его, чтобы не отнимать у Франции ни одного из ее защитников, и 21-го числа направился с друзьями по дороге в Нидерланды. Доехав до австрийских форпостов, измучив дорогой своих лошадей, эти первые эмигранты свободы были арестованы против всякого права, в качестве военнопленных. Великая радость распространилась в союзном лагере, когда в нем раздалось имя Лафайета и выяснилось, что он стал пленником аристократической лиги. Иметь возможность истязать одного из первых поборников революции и сверх того – возможность обвинить самую революцию в гонении на своих первых деятелей, видеть воочию осуществление всех предрекаемых сумасбродств – как было не радоваться всей европейской аристократии? Лафайет требовал для себя и своих друзей подобающей ему по праву свободы; напрасно. Ему предложили купить ее ценою отречения, не от всех своих убеждений, а лишь от одного – касательно уничтожения дворянского звания. Он отказался и даже грозил, если будут ложно толковать его слова, опровергнуть толкование в присутствии официального лица. Итак, Лафайет принял заточение в награду за свое упорство и в эту тяжкую минуту, когда он считал свободу погибшей в Европе и во Франции, нисколько не смутился духом и не переставал смотреть на нее как на величайшее из благ. Он исповедовал ее и перед лицом угнетателей, державших его в темнице, и перед своими прежними друзьями, оставшимися во Франции. «Любите свободу, невзирая на ее бури, и служите Отечеству», – писал он последним. Пусть читатели сравнят это отступничество с отступничеством Буйе, который вышел из своего отечества с тем, чтобывернуться в него с иностранными государями, или с отступничеством Дюмурье, рассорившегося – не по убеждениям, а с досады – с Конвентом, которому служил. Нельзя не отдать справедливости человеку, который покидает Францию, лишь когда в ней начинается гонение на истину, в которую он верует, и не проклинает эту истину, не отрекается от нее среди неприятельских армий, а исповедует ее и томится за нее в темницах. Однако не будем слишком строги к Дюмурье, достопамятные заслуги которого мы скоро будем иметь случай оценить. Этот гибкий и ловкий человек в совершенстве угадал рождавшуюся силу. Сделав себя почти независимым своим отказом повиноваться Люкнеру и оставить лагерь при Моде, а потом принести присягу, требуемую Дильоном, он тотчас же получил награду за усердие в виде назначения начальником над Северной и Центральной армиями. Дильон, храбрый, пылкий, но близорукий, сначала был отставлен за то, что повиновался Лафайету, но потом получил обратно чин и место благодаря заступничеству Дюмурье, который, желая дойти до своей цели и на пути к ней задеть как можно меньше людей, поспешил ходатайствовать за него перед комиссарами собрания. Итак, Дюмурье оказался главнокомандующим по всей границе, от Меца до Дюнкерка. Люкнер оставался в Меце при своей армии, бывшей Северной. Вдохновляемый сначала Лафайетом, он как будто восстал против 10 августа, но вскоре за тем, уступая своей армии и комиссарам собрания, подчинился декретам и, поплакав еще, послушно последовал сообщенному ему импульсу.
События 10 августа и подступавшая осень были достаточными причинами, чтобы заставить коалицию наконец деятельно приняться за войну. Настроение держав относительно Франции не изменилось. Англия, Голландия, Дания и Швейцария по-прежнему обещали соблюдать строгий нейтралитет. Швеция после смерти Густава тоже искренне клонилась к нейтралитету; итальянские княжества косо смотрели на Францию, но, к счастью, были бессильны. Испания всё еще не высказывалась, терзаемая враждебными интригами. Оставалось трое явных врагов: Россия и два главных германских двора. Но Россия пока еще ограничивалась только недружелюбными демонстрациями и отсылкой французского посла, так что одни Пруссия с Австрией подошли с оружием к границе Франции. Из германских государств лишь три курфюрста и ландграфы обоих Гессенов приняли деятельное участие в коалиции; прочие ждали, чтобы их к тому принудили. В этом положении дел 138-тысячная армия, в совершенстве организованная и дисциплинированная, угрожала Франции, которая могла выставить против нее не более 120 тысяч солдат, разбросанных вдоль громадного протяжения границы, ни в одном месте не составлявших достаточной силы, лишенных офицеров, не имевших доверия ни к самим себе, ни к своим начальникам, и до тех пор постоянно побеждаемых в форпостной войне – единственной еще завязавшейся. План коалиции состоял в том, чтобы смело вторгнуться во Францию через Арденны, а потом идти через Шалон прямо на Париж. Прусский и австрийский монархи лично приехали в Майнц. Наследники традиций и славы Фридриха Великого, 60 тысяч пруссаков, одной колонной двигались на французский центр; они шли через Люксембург на Лонгви. Двадцать тысяч австрийцев, предводительствуемых генералом Клерфэ, поддерживали их с правой стороны, заняв Стене, а 16 тысяч австрийцев под началом князя Гогенлоэ-Кирхберга и 10 тысяч гессенцев составляли левый фланг пруссаков. Принц Конде с 6 тысячами французских эмигрантов двинулся на Филипсбург. Еще несколько отрядов эмигрантов были рассеяны по обеим армиям. Иностранные дворы не хотели дать эмигрантам сплотиться в одно целое, чтобы они не приобрели слишком большого веса, и потому сначала думали причислить их к немецким полкам, однако потом согласились оставить отдельными отрядами, только с тем, чтобы эти отряды разместить по разным армиям. Отряды были полны офицеров, решивших сделаться солдатами, и составляли блестящую кавалерию, впрочем, более способную удивить своей храбростью в день боя, нежели выдержать продолжительную кампанию.
Размещение французских армий было самым неудобным для сопротивления такой массе сил. У трех генералов, Бернонвиля, Моретона и Дюваля, набиралось не более 30 тысяч человек, и то в трех разных лагерях при Моде, Мобеже и Лилле. Вот и все средства Франции на всей границе севера и у Нидерландов. Армия Лафайета, расстроенная отъездом своего генерала и находившаяся в самом неопределенном нравственном состоянии, стояла лагерем близ Седана; в ней было 23 тысячи человек. Дюмурье собирался принять над нею начальство. Армия Люкнера – 20 тысяч человек – стояла близ Седана и получила, как и все остальные, нового генерала, Келлермана. Собрание, хоть и недовольное Люкнером, не хотело вовсе его увольнять; отдав его место Келлерману, оно дало ему титул генералиссимуса и возложило на него заботу об организации новой резервной армии и почетную обязанность помогать генералам своими советами. Оставались еще Кюстин, занимавший Ландау с 15 тысячами, и, наконец, Бирон, который стоял в Эльзасе с 30 тысячами, слишком далеко от главного театра войны, чтобы иметь влияние на исход кампании. Единственные два сборища, поставленные на пути большой союзной армии, были оставленные Лафайетом 23 тысячи и 20 тысяч Келлермана, расставленные вокруг Меца. Если бы главная неприятельская армия, соотнося свои движения со своей целью, быстро пошла на Седан, пока войска Лафайета, в беспорядке, еще не прибранные к рукам Дюмурье, не имели ни дружности в действиях, ни руководства, то главный оборонительный корпус был бы снят с дороги, Аргонские горы открылись бы, а другие генералы вынуждены были бы быстро отступить, чтобы сойтись опять за Марной. Может быть, они не успели бы пройти из Лилля и Меца в Шалон и Реймс; тогда Париж оказался бы открытым, и новому правительству остался бы только нелепый план пригородного лагеря или бегство за Луару. Но если Франция защищалась со всей отчаянностью, внушаемой революцией, то иностранные державы наступали со всей неуверенностью и разногласиями во мнениях, свойственными коалиции. Король Пруссии, упоенный надеждой на легкое завоевание, обманываемый и даже обольщаемый эмигрантами, которые представляли ему поход против Франции в виде простой военной прогулки, хотел, чтобы действовали быстро и смело. Но герцог Брауншвейгский был слишком осторожен для этого. Ввиду поздней поры и настроения жителей, совсем не похожего на то, что говорили эмигранты, он рассудил, что благоразумнее будет обеспечить себе прочную базу для дальнейших операций на реке Мозель осадой Меца и Тионвиля, а возобновление полевых военных действий отложить до следующей весны. Тогда можно будет пользоваться преимуществами, вытекающими из предварительных завоеваний. Эта борьба между торопливостью государя и осмотрительностью полководца, медлительность австрийцев, приславших под началом князя Гогенлоэ всего 18 тысяч вместо 50, – всё это мешало решительному движению. Однако прусская армия все-таки продолжала идти к центру и 20 августа дошла до Лонгви, одной из передовых крепостей на этой границе. Дюмурье, который был всегда того мнения, что если французы вторгнутся в Нидерланды, то там непременно вспыхнет революция и эта диверсия спасет Францию от напора Германии, всё подготовил так, чтобы двинуться вперед еще в тот день, как получил свое назначение. Он уже собирался начать действовать наступательно против принца Саксен-Тешенского, когда Вестерман, так отличившийся 10 августа и посланный комиссаром в армию Лафайета, приехал к нему с известием о том, что происходило на главном театре войны: 22 августа Лонгви открыл свои ворота пруссакам после артобстрела, продолжавшегося несколько часов. Причинами этому были беспорядок, царствовавший в гарнизоне, и малодушие коменданта. Гордые этой победой и взятием Лафайета, пруссаки более прежнего склонялись на сторону быстрых наступательных действий. Армия Лафайета погибала, и новому главнокомандующему надо было самому явиться, чтобы успокоить ее своим присутствием и толково направить ее действия. Вследствие этого известия Дюмурье бросил свой любимый проект и приехал в Седан, где его присутствие сначала вызвало только ненависть и упреки: в нем видели врага Лафайета, всё еще нежно любимого. К тому же ему приписывали эту несчастную войну, потому что она была объявлена, когда он был министром; наконец, на него смотрели как на человека пера, а вовсе не дела, особенно военного. Эти суждения выражались во всем лагере и часто доходили до самого главнокомандующего. Но Дюмурье этим не смутился. Сначала он успокоил войска тем, что сам держался твердо и спокойно, и скоро дал им почувствовать влияние более энергичного начальства. Но все-таки положение 23 тысяч человек расстроенного войска, имевших перед собою 80 тысяч превосходно дисциплинированных солдат, было в полном смысле отчаянное. Пруссаки, взяв Лонгви, обложили блокадой Тионвиль и шли на Верден, гораздо менее способный держаться, нежели крепость Лонгви. Генералы, которых Дюмурье созвал на совет, все были того мнения, что следует не ждать пруссаков в Седане, а быстро отступить за Марну, по возможности лучше там укрепиться и соединениться с прочими армиями, чтобы прикрыть столицу, отделенную от неприятеля лишь пространством в сорок миль. Они все думали, что, если рискнуть поражением, выдвигаясь вперед, разгром будет полным, деморализованное войско нигде не остановится от Седана до самого Парижа и пруссаки пройдут прямо туда, со скоростью победителей. Таково было военное положение и мнение о нем генералов.
В Париже мнение о ситуации составилось не лучше, и раздражение возрастало вместе с опасностью. Впрочем, громадная столица, которая никогда не видела неприятеля в своих стенах и имела о собственном могуществе понятие, соответствовавшее размерам и населению, с трудом представляла себе, что можно проникнуть в ее стены. Парижане гораздо менее страшились военной опасности, которой им было не видно за отдаленностью, нежели опасности, исходившей от реакции роялистов. Тогда как на границе видели только одних пруссаков, дома не видели ничего, кроме аристократов, глухо подкапывавшихся под свободу. Народ говорил себе, что король, положим, и арестован, но партия его от этого не испарилась и, как и до 10 августа, всеми неправдами стремится впустить в Париж иноземцев. Он себе представлял все знатные столичные дома наполненными вооруженными сборищами, готовыми из них выйти при первом знаке, освободить Людовика XVI и выдать беззащитную Францию мечу эмигрантов и союзников. Эти сношения между врагами внутренним и внешним занимали все умы. «Нужно избавиться от изменников», – твердили все, и уже начинала проясняться адская мысль – истребить всех побежденных; мысль эта у большинства была больше выходкой расходившегося воображения, но у некоторых – или более кровожадных, или более пламенных, или по своему положению более способных действовать – могла превратиться в настоящий, обдуманный план. Мы выше приводили толки о том, будто народ должен был отмстить за раны и побои, понесенные 10 августа, и упоминали о жестокой ссоре, возникшей между собранием и коммуною по поводу чрезвычайного судилища. Судилище, уже снявшее голову с Дегремона и несчастного Лапорта, интенданта, заведовавшего личными расходами короля, всё еще действовало недостаточно быстро, по мнению бешеного народа, везде видевшего врагов. Ему требовались более короткие формы для наказания изменников, и в особенности добивался он немедленного суда над обвиняемыми, отосланными в Верховный суд в Орлеане. Это были по большей части бывшие министры и сановники, обвинявшиеся, как известно, в двуличности. В их числе находился и Делессар, министр иностранных дел. Со всех сторон кричали о медлительности процедуры, требовали перевода подсудимых в Париж и быстрого суда над ними. Собрание, с которым по этому поводу посоветовались, или, вернее, которому было приказано уступить общему желанию и декретом постановить перевод подсудимых, с твердостью настояло на отказе. Верховный суд, объясняло оно, есть конституционное учреждение, которое собрание изменить не властно, потому что не имеет учредительных полномочий и потому что каждый обвиненный имеет право быть судимым только по существовавшим до его ареста законам. Этот вопрос снова наплодил ворох петиций, и собрание неоднократно вынуждено было бороться против коммуны и рассвирепевших секций. Оно ограничилось сокращением некоторых форм процедуры, но постановило, что все подсудимые, подлежавшие ведению Верховного суда, останутся в Орлеане и не будут переведены из-под юрисдикции, назначенной им конституцией. Таким образом, слагались два мнения: одно требовало пощады побежденным и направления всей энергии против иноземцев, другое – прежде всего истребления внутренних врагов. Последняя мысль была не столько мнением, сколько слепым, лютым инстинктом, сложившимся из страха и гнева, который должен был возрастать вместе с опасностью. Парижане тем больше раздражались, чем большая опасность грозила городу, объекту всех восстаний, главной цели похода неприятельской армии. Они обвиняли собрание, состоявшее из депутатов департаментов, в желании отступить в провинции. Жирондистов в особенности, большей частью принадлежавших к южным провинциям и образовавшим столь ненавистное коммуне умеренное большинство, обвиняли в склонности пожертвовать Парижем из ненависти к столице. Им приписывалось довольно естественное чувство, и парижане могли полагать, что они их даже сами вызвали; но эти депутаты слишком искренне любили свою родину и общее дело, чтобы помышлять об оставлении Парижа. Они, правда, всегда думали, что, если пропадет север, то можно будет уйти на юг; даже в ту минуту некоторые из них считали более благоразумным перенести правительство за Луару, но в их сердцах не было желания жертвовать ненавистным городом. Дух их был слишком возвышен, они были еще слишком могущественны, слишком рассчитывали на будущий Конвент, и мысль отступиться от Парижа не могла прийти им в голову. Против жирондистов взводилось двоякое обвинение: в снисхождении к изменникам и в равнодушии к интересам столицы. Вынужденные вести борьбу против людей более горячих и необузданных, даже имея за собой правоту и число, они должны были уступать деятельной энергии своих противников. Так, в исполнительном совете их было пятеро против одного; а кроме трех министров – Сервана, Клавьера и Ролана – двое других, Монж и Лебрен, были выбраны ими же. Но Дантон, который не был их личным врагом и лишь не разделял их мнений и умеренности, один властвовал в совете и отнимал у них всякое влияние. Пока Клавьер старался собрать кое-какие деньги, пока Серван спешил доставить подкрепление генералам, пока Ролан выпускал мудрейшие циркуляры, имевшие целью просветить провинции, давать указания местным властям, препятствовать всяким превышениям полномочий и останавливать всякого рода насилие, Дантон занимался тем, что замещал все административные должности своими людьми. Он всюду рассылал своих верных кордельеров, добывал себе этим путем обширные связи и опору и делился со своими друзьями выгодами революции. Он увлекал или запутывал своих товарищей и встречал препятствия лишь только в непреклонной строгости Ролана, который часто отвергал предлагаемых им лиц или меры. Дантон сердился, не разрывая, однако, с Роланом хороших отношений, и старался везде где мог поставить на своем. Дантон, который хотел сохранить свое владычество в Париже, твердо решился не допускать перемещения за Луару. Одаренный необыкновенной отвагой, этот человек, провозгласивший восстание накануне 10 августа, когда все еще колебались, уже никак не был способен перед чем-нибудь отступить. Хозяйничая в совете, находясь в коротких отношениях с Маратом и наблюдательным комитетом коммуны, имея влияние во всех клубах, наконец, живя среди толпы, как в стихии, которую он поднимал по желанию, Дантон был человеком наиболее могущественным во всем Париже. И это могущество, основанное на необузданном нраве, близком к народным страстям, не предвещало ничего хорошего побежденным. В своей революционной пылкости Дантон склонялся ко всем замыслам о мщении, которых чуждались жирондисты. Он был главой той парижской партии, которая говорила: «Мы не отступим, мы погибнем в столице, под ее развалинами, но наши враги погибнут прежде нас». Так слагались страшные чувства, следствием которых должны были стать неописуемые ужасы.
Двадцать шестого августа известие о взятии Лонгви быстро распространилось и вызвало в Париже общее волнение. Весь день шли споры о его достоверности; наконец сомневаться стало невозможно, выяснилось, что крепость сдалась, выдержав бомбардировку в продолжение всего нескольких часов. Брожение было так велико, что само собрание декретом постановило смертную казнь всякого, кто предложит сдать осаждаемую крепость. По требованию коммуны был отдан приказ о том, чтобы Париж с окрестностями в несколько дней поставил 30 тысяч человек, вооруженных и экипированных. При господствовавшем тогда энтузиазме такая поставка не представляла трудности, а число защитников города успокаивало по поводу любой опасности. Никто не мог себе представить, чтобы какие-нибудь 100 тысяч пруссаков могли справиться с несколькими миллионами людей, решившихся обороняться. С удвоенной энергией продолжались работы в лагере под Парижем, и женщины сбирались в церквях и помогали готовить всё необходимое. Дантон явился в коммуну, и она по его предложению приступила к самым крайним мерам. Решено было составить по секциям перепись всех бедняков и дать им оружие и жалованье, кроме того, был отдан приказ арестовывать подозрительных лиц и отбирать у них оружие. Подозрительными же были названы все подписавшиеся под петицией против 20 июня и декрета о лагере под Парижем. Чтобы привести эту меру в исполнение, решили предпринять повальные обыски домов и организовали их с ужасающей методичностью. Городских застав велено было не отпирать в течение двух суток, начиная с вечера 29 августа, и ни по какой причине никому не выдавать разрешения на выход из города. На Сене поставили брандвахты[54], чтобы и этим путем невозможно было бежать. Окрестным общинам велели арестовывать всякого, кто будет найден в полях или по дорогам. Барабанный бой должен был извещать о начале поисков, и при этом сигнале всякий гражданин обязывался идти домой, а если бы его застали у других, с ним поступили бы как с лицом, заподозренным в учинении сходки. По этой причине все секционные собрания и даже суд должны были на эти два дня прервать свои заседания. В десять часов вечера хождение и езду по улицам следовало прекратить, и город оставался иллюминован в течение всей ночи. Таковы были меры, принятые для ареста, как тогда говорили, дурных граждан, скрывавшихся с 10 августа. Уже с вечера 27-го числа начались обыски, грозившие заключением под стражу целой партии по доносам другой. Все лица, принадлежавшие ко двору по должности, по званию или по частым посещением дворца; все лица, принимавшие его сторону во время различных роялистских движений; все, кто имел подлых врагов, способных мстить путем доноса, – всех забрали в эти дни. Было арестовано от 12 до 15 тысяч человек. Этими арестами распоряжался наблюдательный комитет коммуны. Арестованные сначала отводились в комитет секции, а оттуда уже в комитет коммуны. Там с ними проводился краткий допрос об их мнениях и поступках, доказывавших большую или меньшую энергичность этих мнений. Нередко допрашивал только один член комитета, пока прочие, измученные несколькими бессонными днями и ночами, спали по стульям и столам. Арестанты сначала запирались в ратуше, а потом уже размещались по тюрьмам, где еще оставалось сколько-нибудь места. Там, в этих тюрьмах, оказались представители всех убеждений, всех отмененных званий, наконец, множество простых буржуа, уже считавшихся такими же аристократами, как принцы и герцоги. Раздоры господствовали в Париже – между республиканцами, которым угрожало прусское оружие, и роялистами, которым угрожали республиканцы. Комитет общей защиты, учрежденный в собрании для обдумывания средств сопротивления врагам, собрался 30 августа и пригласил к себе исполнительный совет на совещание. Собрание было многочисленным, потому что кроме членов комитета явилось множество депутатов, которым хотелось присутствовать на этом заседании. Прозвучало несколько советов. Министр Серван не испытывал никакого доверия к армиям, и не допускал, что с оставленными Лафайетом 23 тысячами Дюмурье может остановить пруссаков. Он не видел между ними и Парижем ни одной позиции, достаточно крепкой, чтобы задержать их. Все были того же мнения на этот счет; предлагали поставить всё население Парижа под стены города, чтобы биться до конца. Речь шла и о том, чтобы в крайнем случае уйти в Сомюр: тогда между врагами и хранителями национальной верховной власти возникнут новые препятствия, новые пространства. Верньо и Гюаде отсоветовали уходить из Парижа. После них заговорил Дантон. «Вам предлагают покинуть Париж, – сказал он. – Вам небезызвестно, что, по мнению врагов, Париж есть представитель Франции, и уступить им этот пункт – значит выдать им Революцию. Отступить – значит погубить себя. Мы должны всеми средствами продержаться здесь и спасти себя смелостью. Из предлагаемых планов ни один не показался мне решительным. Не нужно скрывать от себя положение, в которое поставило нас 10 августа. Этот день разделил нас на республиканцев и роялистов – первые немногочисленны, вторых много. В этом состоянии слабости мы, республиканцы, поставлены между двух огней – неприятельским снаружи и роялистским у себя дома. Существует роялистская директория, тайно заседающая в Париже и поддерживающая сношения с прусской армией. Сказать вам, где она собирается и из кого состоит, министры не имеют возможности. Но чтобы ее расстроить и помешать ее пагубным сношениям с иноземцами, нужно… нужно использовать в отношении роялистов террор». При этих словах, сопровождаемых выразительным жестом, ужас появился на всех лицах. «Нужен, говорю я вам, террор, – повторил Дантон. – Важнее всего удержаться в Париже, а истощая свои силы в неверных сражениях, вы этого не достигнете». Тяжкое чувство охватило совет. К речи не было прибавлено ни одного слова, и каждый удалился, не постигая в точности и не смея даже доискиваться, что готовит министр. Он же немедленно отправился в наблюдательный комитет коммуны, располагавший личностями всех граждан; там царил Марат. Его слепыми, невежественными товарищами были Панне и Сержан, уже упомянутые по поводу 20 июня и 10 августа, и еще четверо: Журдейль, Дюплен, Лефор и Ланфан. Там в ночь на 31-е было задумано зверское убийство несчастных, содержавшихся в парижских тюрьмах. Плачевный и страшный пример того, к чему могут увлечь политические страсти! Дантон, никогда не испытывавший ненависти к своим личным врагам и часто поддающийся чувству жалости, со своей обычной смелостью взялся осуществить кровавые мечты Марата, и они вдвоем составили такой заговор, который нельзя назвать беспримерным в истории, но который в конце XVIII века не мог быть объяснен невежеством и лютостью нравов. Мы уже упоминали некоего Майяра, который тремя годами раньше в памятные дни 5 и 6 октября пошел в Версаль во главе взбунтовавшихся женщин. Этот человек, бывший судебный пристав, неглупый, но кровожадный, составил шайку из людей грубых и готовых на всё. Он был известен как главарь этой шайки и, если только верить недавно сделанному открытию, ему дали знать, чтобы он был готов действовать по первому знаку, занял верные позиции, заготовил орудия убийства, принял меры, чтобы не слышны были крики жертв, запасся уксусом, метлами из остролиста, негашеной известью, крытыми повозками и прочим. С этих пор уже глухо пронеслась молва о предстоявшей страшной экспедиции. Родственники арестантов находились в смертельной тревоге, и заговор, подобно тому, как это происходило перед 10 августа и 20 июня, прорывался зловещими признаками. Со всех сторон твердили, что нужно грозным примером устрашить заговорщиков, которые из глубины темниц поддерживают сношения с иноземцами. Все жаловались на медлительность суда и требовали быстрого правосудия. Бывший министр Монморен был оправдан судом 17 августа, и тотчас же поднялся крик, что измена закралась всюду, что виновным обеспечена безнаказанность. В течение дня уверяли, будто один приговоренный к смерти сделал важное признание. Признание заключалось в том, что будто бы следующей ночью пленники должны бежать из тюрем, вооружиться, разойтись по городу, совершить ужасную месть, потом похитить короля и предать Париж пруссакам. А между тем эти самые пленные трепетали за свою жизнь, их родные изнывали от страха за них, а королевская семья в башне Тампля не ждала ничего, кроме смерти. В Клубе якобинцев, в секциях, в совете коммуны, в большинстве собрания имелось множество людей, в самом деле веривших в эти воображаемые заговоры и находивших поголовное истребление арестантов делом законным. А ведь не создала же природа такую толпу извергов за один день! Только дух партий способен вдруг затмить разум стольких людей. Печальный урок! Люди верят в опасность, твердят, что от нее нужно обороняться; они повторяют это до опьянения, и, пока большинство только легкомысленно толкует о том, что нужно бить, находятся люди, которые на самом деле бьют с кровожадным усердием. В субботу 1 сентября истек срок, положенный для закрытия городских ворот и проведения обысков; свобода сообщения восстановилась. Но тут вдруг разносится известие о взятии Вердена. Верден осажден совсем недавно, но народ воображает, что он уже взят, что крепость сдана изменой, как Лонгви. Дантон тотчас заставляет коммуну постановить декретом, что завтра, 2 сентября, барабан будет бить тревогу, колокола ударят в набат, пушки будут стрелять и все свободные от службы граждане с оружием соберутся на Марсовом поле, останутся на нем лагерем весь день, а на следующий день отправятся в Верден. По этим страшным приготовлениям очевидно, что речь идет не об одном только ополчении. Сбегаются родные арестантов и совершают невероятные усилия, чтобы добиться освобождения: Манюэль, прокурор-синдик, освободил, говорят, по мольбе одной самоотверженной женщины двух пленниц из семьи Латремуль. Другая женщина, госпожа Фосс-Ландри, непременно хочет следовать в тюрьму за своим дядей, аббатом Растиньяком. «Это с вашей стороны неосторожно, – говорит ей Сержан, – тюрьмы небезопасны». Следующий за этим день 2 сентября приходится на воскресенье, и народное буйство усиливается от праздности. Везде составляются сборища, идут толки о том, что неприятель через три дня может быть в Париже. Коммуна извещает собрание о мерах, принятых ею к ополчению граждан. Верньо в порыве патриотического восторга поздравляет парижан с их мужеством, хвалит за то, что они обратили свое рвение на дело, что полезнее всяких петиций, – на дело военное. «План неприятеля, – присовокупляет он, – как видно, состоит в том, чтобы идти прямо на столицу, оставляя укрепленные места за собою. Что ж! Этот план будет нашим спасением и его погибелью. Наши армии, слишком слабые, чтобы противиться ему, будут достаточно сильны, чтобы не давать ему покоя с тыла, и когда он придет сюда, преследуемый нашими батальонами, то найдет парижскую армию, построенную в боевом порядке под стенами столицы, и, окруженный со всех сторон, будет поглощен землею, которую он осмелился осквернить. Посреди этих лестных надежд есть одна опасность, которой не следует от себя скрывать, – опасность паники. Наши враги на нее рассчитывают, расточают золото, чтобы сеять ее, а есть, вы знаете, люди из такой грязной тины, что не выносят даже мысли о малейшей опасности. Я бы желал, чтобы можно было по каким-нибудь приметам узнать это отродье, не имеющее души, но имеющее человеческое лицо, и собрать всех их в одном городе – хоть в Лонгви, – который назывался бы городом подлых трусов; там, по крайней мере, сделавшись предметом позора, они более не сеяли бы страха между своими соотечественниками, не были бы более причиной того, что карликов принимают за великанов, а пыль, поднимаемую эскадроном улан, – за целые полки! Парижане! Именно теперь пришло время обнаружить большую энергию! Почему лагерные работы не продвинулись дальше? Где заступы и ломы, воздвигнувшие Алтарь Отечества и уровнявшие Марсово поле? Вы показали большое усердие, когда речь шла о празднествах, верно, вы выкажете не меньшее теперь, когда речь идет о бое; вы воспевали свободу – пришло время защищать ее! Нам предстоит низвергать уже не бронзовых королей, а королей живых, во всеоружии их могущества. Итак, предлагаю, чтобы Национальное собрание дало первый пример и послало двенадцать комиссаров не увещание читать, а работать и копать землю своими руками, при всех гражданах». Это предложение принимается с живейшим восторгом. После Верньо говорит Дантон, сообщает о принятых уже мерах и предлагает новые. «Часть народа, – говорит он, – двинется к границе, другая станет строить укрепления, третья, с пиками, будет защищать наши города. Но этого недостаточно: требуется всюду разослать курьеров, которые будут приглашать всю Францию подражать Парижу; надо издать декрет, обязывающий каждого гражданина под страхом смертной казни лично служить или сдать свое оружие… Пушки, которые вы скоро услышите, не тревогу возвестят, а атаку против врагов родины. Чтобы их победить, подавить, требуется что? Смелость, смелость и смелость!» Слова и мимика министра глубоко волнуют присутствующих. Его предложение принимается, он уходит в наблюдательный комитет. Все власти, собрание, коммуна, секции, якобинцы заседают в полном сборе. Министры, собравшись в здании морского ведомства, ждут Дантона, чтобы открыть совет. Весь город – на ногах. Глубоким ужасом наполнены тюрьмы. В Тампле королевская семья, которой каждое движение угрожает более, чем всем другим пленникам, тревожно спрашивает о причине такого необычайного волнения. Сами тюремщики оцепенели от ужаса: тюремщик Аббатства с утра выпроводил жену и детей. Обед заключенным подают двумя часами раньше обычного; приборы накрыты без ножей. Пораженные этими странностями, несчастные настойчиво расспрашивают своих сторожей, но те не отвечают. Наконец в два часа барабаны бьют тревогу, колокола ударяют в набат, гремят пушки. Толпы граждан направляются к Марсову полю, другие обступают коммуну и собрание и наполняют площади. В ратуше содержатся двадцать четыре священника, арестованных за то, что отказались присягнуть, и подлежавших перемещению в Аббатство. Случайно или умышленно, только для перемещения их выбрана именно эта минута. Их рассаживают в шести наемных каретах и шагом, под конвоем бретонских и марсельских федератов, везут к Сен-Жерменскому предместью: вдоль набережных, через Пон-Нёф и по улице Дофина. Их обступают и осыпают бранью. «Вот, – говорят федераты, – вот те злодеи, которые собирались перерезать наших жен и детей, пока мы дрались бы на границе». Эти слова еще более увеличивают волнение. Дверцы карет отворены; несчастные священники хотят захлопнуть их, чтобы укрыться, но им не дают, и они вынуждены терпеть побои и ругательства. Наконец они въезжают во двор Аббатства, где уже собралась громадная толпа. Этот двор вел к тюрьмам и служил сообщением с залой, где заседал комитет секции Четырех Наций. Первый фиакр подъезжает к двери комитета, его встречает толпа бешеного народа и Майяр. Первый арестант выходит, думая, что его проведут в комитет, но его закалывают прямо на месте. Второй откидывается назад в карету, но его вытаскивают силой и убивают так же, как и первого; остальные двое подвергаются той же участи. Покончив с одним фиакром, принимаются за другой, за третий и так до конца. Из всех двадцати четырех священников спасся только один, аббат Сикар, – каким-то чудом. В эту минуту прибегает Бийо-Варенн, член коммуны, единственный из организаторов этой ужасной бойни, который неизменно одобрял ее и с бесстрашной жестокостью выдерживал самый вид резни. Он является в шарфе, идет по трупам и обращается к толпе убийц: «Народ, ты истребляешь своих врагов – ты исполняешь свой долг». Возвышается другой голос, голос Майяра: «Здесь больше нечего делать – пойдем в церковь кармелитов». Вся шайка бросается за ним к этой церкви, где заперты двести священников. Они вторгаются в церковь и избивают несчастных, которые молились и обнимались в ожидании смерти. Убийцы с воплями требуют архиепископа Арльского, ищут его, узнают и убивают ударом сабли. Натешившись саблями, они принимаются за ружья, стреляют целыми залпами наудачу в залу, в сад, стены и деревья, на которых некоторые из жертв ищут спасения. Пока последних добивают в церкви, Майяр возвращается в Аббатство с частью своей шайки. Весь в поту и в крови он является в комитет и требует вина для молодцов-тружеников, избавляющих нацию от ее врагов. Трепещущий комитет велит выдать им три дюжины бутылок. Вино ставится во дворе на столы, окруженные трупами недавно убитых. Убийцы пьют. Вдруг, указывая на тюрьму, Майяр восклицает: «В Аббатство!» Другие бросаются за ним – ломать дверь. Испуганные арестанты слышат вой и вопли, предвестники смерти. Тюремщик и его жена лишаются чувств. Двери отворяются. Первых попавшихся под руку арестантов хватают, вытаскивают за ноги и окровавленных бросают во дворе. Пока шайка режет и колет без разбора, Майяр и его доверенные помощники требуют ключи различных отделений и тюремные реестры. Один из них становится на табурет под самой дверью и говорит: – Друзья мои, вы хотите истребить аристократов, потому что они враги народа и намеревались перерезать ваших жен и детей, пока вы бы дрались на границе. Вы правы, несомненно; но вы добрые граждане, любите правосудие и были бы в отчаянии, если бы окунули свои руки в невинную кровь. – Да, да! – кричат палачи. – Ну так я спрашиваю вас, когда вы хотите, ничего не слушая, ринуться, подобно разъяренным тиграм, на людей, вам неизвестных, не рискуете ли вы смешать невинных с виновными? Эту речь перебивает один из присутствующих, вооруженный саблей, который в свою очередь кричит: – Уж не хотите ли вы нас усыпить? Если бы пруссаки и австрийцы были в Париже, стали бы они разбирать правых? У меня жена и дети, которых я не желаю оставлять в опасности. Если хотите, дайте, пожалуй, оружие этим негодяям, будем драться с ними один на один, и, прежде чем мы уйдем, Париж будет от них очищен. – Он прав, надо войти! – кричат остальные и двигаются вперед. Их, однако, останавливают и заставляют согласиться на некоторый род суда. Решено, что возьмут тюремные реестры, один из убийц будет исполнять роль президента, читать имена и причины заключения и в ту же минуту решать участь арестанта. «Майяр! Майяр – президент!» – вопят несколько голосов, и Майяр тотчас вступает в должность. Новоявленный президент садится к столу, кладет перед собой тюремный реестр, окружает себя несколькими людьми, наудачу взятыми в заседатели суда, нескольких рассылает в разные отделения тюрьмы приводить арестантов, а других оставляет перед входом для совершения бойни. Чтобы избавить себя от изъявлений отчаяния, они уславливаются, что когда президент произнесет слова: «Перевести этого господина в тюрьму Ла Форс», арестанта, не ведающего того, что его ждет, вытолкают в дверь, прямо на сабли и пики. Первых приводят швейцарцев, содержавшихся в Аббатстве, тогда как офицеры их были переведены в Консьержи. – Это вы избивали народ 10 августа, – обращается к ним Майяр. – На нас напали, и мы повиновались нашим начальникам, – отвечают несчастные. – Впрочем, – холодно объявляет им Майяр, – дело лишь в том, чтобы перевести вас в тюрьму Ла Форс. Но швейцарцы уже видели мельком грозные сабли по ту сторону двери и не поддаются обману; вместо того, чтобы выходить, они пятятся назад. Наконец один из них с большой твердостью спрашивает, куда пройти. Ему отворяют дверь, и он головой вперед бросается в самую середину сабель и пик, за ним бросаются другие, и все погибают. Палачи возвращаются в тюрьму, женщин собирают в одной зале и выводят других арестантов. Первыми падают несколько человек, обвиненных в фабриковании фальшивых ассигнаций. После них приводят знаменитого Монморена, оправдание которого наделало столько шума, хотя не доставило ему свободы. Он объявляет президенту-самозванцу, что был судим правильным судом и другого признать не может. «Будь по-вашему, – отвечает ему Майяр, – в таком случае вы будете ждать нового суда в Ла Форс». Бывший министр, обманутый этими словами, просит, чтобы ему прислали карету. Ему отвечают, что карета ждет его у выхода. Он просит еще, чтобы ему дали с собой кое-какие вещи, выходит – и падает мертвый. Приводят Тьерри, камердинера короля. «Каков хозяин, таков и слуга», – говорит Майяр, и несчастного закалывают. Потом очередь доходит до мировых судей, Бюоба и Бокильона, обвиненных в участии в секретном тюильрийском комитете. Этого довольно, чтобы казнить и их. Так подступает ночь: и каждый заключенный, слыша вопли убийц, уверен, что его смертный час пришел. Что же в эти часы делали законные власти, административные учреждения, граждане Парижа? В этой громадной столице спокойствие и убийство, тишина и террор могут царствовать вместе, так далека одна часть ее от другой. Собрание весьма поздно узнало об ужасах, творившихся в тюрьмах, и, пораженное неслыханной вестью, отправило депутатов успокаивать народ и спасать жертвы. Коммуна послала от себя комиссаров выпустить арестованных за долги и разделить невинных и виновных. Якобинцы, хотя у них шло заседание и им было известно, что происходит, хранили молчание. Министры, собравшиеся в здании морского ведомства на совет, еще не были извещены и ждали Дантона, который находился в наблюдательном комитете. Главнокомандующий Сантерр объявил коммуне, что отдал приказание, но его не слушаются, и почти все его люди заняты охраной городских ворот. Верно то, что в эти дни отдавались приказания непонятные и противоречивые и обнаруживались все признаки тайной власти, действовавшей вразрез с властью гласной. В самом дворе Аббатства стоял взвод Национальной гвардии, которому было приказано впускать всех, но никого не выпускать. В других местах такие же посты ждали приказаний и не получали их. Растерялся ли Сантерр, как 10 августа, или сам участвовал в заговоре? Пока комиссары, публично посланные от коммуны, советовали успокоиться и унимали народ, другие члены той же коммуны являлись в комитет Четырех Наций, заседавший подле самого места, где происходило побоище, и говорили: «Всё ли здесь идет так же хорошо, как в церкви кармелитов? Коммуна прислала нас предложить вам помощь, если требуется». Комиссары, посланные собранием и коммуной, чтобы остановить побоище, не могли ничего сделать. Они застали несчетную толпу, толкавшуюся около тюрьмы и присутствующую при этом страшном зрелище под крики «Vive la nation!». Старик Дюсо, став на стул, пытался заговорить о милосердии, но его не стали слушать. Базир схитрил: притворился сочувствующим толпе, но, как только он заикнулся о пощаде, его тоже перестали слушать. Манюэль, прокурор коммуны, исполненный жалости, подвергался величайшим опасностям и так и не смог спасти ни одной жертвы. Получив такие известия, коммуна встревожилась несколько более и послала вторую депутацию – «успокаивать умы и разъяснять народу его действительные интересы». И этой, столь же бессильной, как и первой, удалось освободить лишь нескольких женщин и должников.
Побоище продолжается всю эту страшную ночь. Убийцы чередуются и становятся попеременно то судьями, то палачами. В одно и то же время они пьют и ставят на стол свои стаканы, захватанные кровавыми пальцами. Среди этой бойни они, однако, щадят несколько жертв и, оставляя им жизнь, ощущают непостижимую радость. Один молодой человек, за которого ходатайствует одна из секций, оправдан и объявлен незаряженным аристократизмом; при криках «Vive la nation!» кровавые руки палачей поднимают его и выносят вон. Почтенный Сомбрёйль, смотритель Дома инвалидов, приговорен, как и прочие, к перемещению в Да Форс. Дочь видит его из тюрьмы. Она бросается сквозь пики и сабли, обвивает отца руками, прижимается к нему с такой силой, заливается такими горячими слезами, таким душераздирающим голосом молит убийц, что они в изумлении забывают на мгновение свою ярость. Вдруг, как бы вздумав подвергнуть последнему искусу невольно тронувшую их любовь девушки, подают ей какой-то сосуд, наполненный кровью: «Пей! – говорят они ей. – Пей кровь аристократов!» Она пьет – и отец ее спасен. Дочери писателя Казота тоже посчастливилось объятиями своими оградить отца; и она молила, подобно дочери Сомбрёйля, но была счастливее нее, и ей не пришлось покупать жизнь отца такой ужасной ценой. Из глаз этих лютых людей льются слезы умиления, но они опять принимаются за прерванное дело, требуют новых жертв! Один из них возвращается в тюрьму за следующими арестантами, вдруг узнает, что несчастные, которых он пришел убивать, просидели без воды двадцать два часа, и хочет идти убивать тюремщика! Другой принимает участие в арестанте, которого ведет к Майяру, потому что услышал от него наречие своей родины. – За что ты здесь? – спрашивает он этого арестанта, имя которого Журньяк де Сен-Меар. – Если ты не изменник, то президент, который не дурак, сумеет отдать тебе справедливость. Не трепещи и отвечай толково. Журньяк представлен Майяру, который смотрит в реестр. – А! Это вы, господин Журньяк, пишете в «Газете двора и города»? – Нет, – отвечает арестант, – это клевета, я никогда в ней не писал. – Берегитесь, не обманывайте нас, – говорит Майяр. – Здесь каждая ложь наказывается смертью. Не отлучались ли вы недавно с целью отправиться в армию эмигрантов? – И это клевета; у меня есть свидетельство в том, что вот уже двадцать три месяца я не выезжал из Парижа. – От кого свидетельство? Подлинна ли подпись? К счастью, в числе слушателей находится человек, которому лицо, подписавшее свидетельство, знакомо лично. Подпись рассматривается и объявлена подлинной. – Вы видите, – повторяет Журньяк, – меня оклеветали. – Если бы клеветник был здесь, – возражает Майяр, – с ним поступили бы со всей строгостью правосудия. Но отвечайте: была ли какая причина заключать вас в тюрьму? – Была, – отвечает Журньяк, – я известен как аристократ. – Аристократ! – Да, аристократ; но вы здесь не за тем, чтобы судить мнения, вы должны судить лишь действия. Мои действия безупречны:в заговорах я не участвовал никогда, солдаты в полку, которым я командовал, боготворили меня. Пораженные такой твердостью, судьи переглядываются, и Майяр делает знак, означающий помилование. Тотчас же крики «Vive la nation!» раздаются со всех сторон. Арестанта обнимают. Два человека хватают его и, ограждая руками, невредимого выводят сквозь грозные шеренги пик и сабель. Журньяк хочет дать им денег, они не берут и только просят позволения обнять его. Другого арестанта, также спасенного, провожают домой с таким же радушием. Палачи, все в крови, желают быть свидетелями радости его семейства – и немедленно затем возвращаются и продолжают побоище. Если в эти плачевные сентябрьские дни некоторые из этих дикарей сделались не только убийцами, но и ворами, то были и такие, кто приносил в комитет и клал на стол окровавленные драгоценности, найденные на убитых. В эту ужасную ночь шайка разделилась и разошлась по всем прочим тюрьмам Парижа. В Шатле, в Ла Форс, в Консьержери, в тюрьме Бернардинов, Сен-Фирмене, в Сальпетриере, Бисетре – везде та же бойня, те же реки крови, как в Аббатстве.
Заря понедельника, 3 сентября, осветила страшное ночное побоище, и Париж онемел от ужаса. Бийо-Варенн опять явился в Аббатство, где накануне поощрял тружеников, и снова сказал им похвальное слово: «Друзья, избивая злодеев, вы спасли отечество. Франция обязана вам вечной благодарностью, и муниципалитет не знает, как с вами расплатиться. Он предлагает вам каждому по 24 ливра, которые будут немедленно выплачены». Эти слова заглушаются рукоплесканиями, и шайка следует за Бийо-Варенном в комитет требовать обещанной платы. «Где вы хотите, чтобы мы нашли на это суммы?» – спрашивает президент, обращаясь к Бийо. Бийо отвечает, снова расхвалив совершенное дело, что у министра внутренних дел должны водиться суммы на такие цели. Идут к Ролану, который только утром узнал о ночных ужасах. Он с негодованием отвечает отказом на подобное требование. Убийцы возвращаются в комитет, требуя, под страхом смерти, платы за свои отвратительные «труды», и членам приходится отдать всё, что было у них в карманах. Наконец коммуна доплатила остальное, и в ее расходных книгах можно прочесть записи о нескольких суммах, выданных сентябрьским палачам, и, между прочими, за 4 сентября сумму в 1463 ливра. Молва обо всех этих ужасах разнеслась по Парижу и внушила настоящий ужас. Якобинцы продолжали молчать. Коммуна начинала говорить, но все-таки утверждала, что народ прав, убивал лишь виновных и напрасно только расправился сам, а не предоставил этого мечу закона. Генеральный совет отправил новых комиссаров «унимать брожение и воротить заблудших к здравым принципам». Это подлинные выражения народных властей! Всюду встречались люди, которые, скорбя о страданиях несчастных жертв, присовокупляли: «Если бы их оставили в живых, они через несколько дней нас бы перерезали». Другие говорили: «Если мы будем побеждены и перебиты пруссаками, по крайней мере они легли прежде нас».
Собрание, среди этих чудовищных беспорядков, переживало тяжелые часы. Депутаты издавали декрет за декретом, требуя у коммуны отчета о состоянии Парижа, а коммуна отвечала, что прикладывает все усилия, чтобы восстановить порядок и закон. Между тем собранию, состоявшему главным образом из тех самых жирондистов, которые так мужественно преследовали сентябрьских убийц, не пришла мысль всем составом отправиться в тюрьмы и грудью стать между убийцами и жертвами. Это можно приписать только глубокому изумлению и чувству своего бессилия; отчасти также, может быть, неполноте того чувства самоотвержения, которое внушает опасность; наконец, пагубному убеждению, разделяемому даже несколькими депутатами, что все эти жертвы – опасные заговорщики, и если их не убить, придется быть убитыми ими. Один человек обнаружил в этот день великое благородство характера и с высоким мужеством восстал против убийц. Он был героем второго дня их трехдневного царствования. В понедельник утром, как только узнал о ночных злодеяниях, он написал мэру Петиону, еще не знавшему о них, и Сантерру, который бездействовал, и потребовал содействия обоих. В то же время он послал собранию письмо, которое было встречено рукоплесканиями. Этот честный человек, столь искусно оклеветанный партиями, был Ролан. В письме своем он восставал против беспорядков, против узурпаций коммуны, против бешенства народа и объявлял, что готов умереть на посту, указанном ему законом. Кто желает составить понятие о тогдашнем состоянии умов, о ярости, господствовавшей против тех, кого называли изменниками, об осторожности, с которой приходилось говорить, имея дело с обезумевшими страстями, – может судить о моменте по следующему отрывку. Уж конечно, нельзя усомниться в мужестве человека, который один, во всеуслышание, назначал все власти ответственными за побоище, а между тем вот в каких мягких выражениях ему приходилось говорить об этом предмете: «Вчера был такой день, на события которого, вероятно, лучше набросить покров. Я знаю, что народ, ужасный в своем мщении, все-таки вносит в него своего рода правосудие, не берет себе в жертвы всё, что ни попадается под руку; направляет свою ярость против тех, кто, по его мнению, слишком долго был щадим мечом закона, в необходимости немедленного заклания кого убеждает его опасность настоящих обстоятельств. Но я знаю также, что легко злодеям, предателям злоупотреблять этим брожением и нужно остановить его; я знаю, что мы обязаны заявить всей Франции, что исполнительная власть не могла ни предусмотреть этих чрезвычайных событий, ни воспрепятствовать им; я знаю, что в обязанности законных властей входит положить им конец или считать себя уничтоженными. Я знаю и то, что это заявление выставляет меня предметом ярости агитаторов. Пусть же они берут мою жизнь – я дорожу ею лишь для свободы, для равенства. Если они будут нарушены, всё равно господством ли иностранных держав, или безрассудством обманутого народа, – тогда я прожил достаточно; но до последнего моего вздоха мой долг будет исполнен. Это единственное благо, которого я желал, и никакая сила земная не может лишить меня его». Собрание встретило это письмо аплодисментами и, по предложению Ламурета, повелело коммуне дать отчет о состоянии Парижа. Коммуна опять ответила, что спокойствие восстановлено. Видя мужество министра внутренних дел, Марат и его комитет рассвирепели и осмелились издать приказ о его аресте. Так велика была их слепая ярость, что они смели подступить к министру, человеку, в ту минуту еще пользовавшемуся полной популярностью. Дантон, узнав об этом, стал бранить членов комитета, называя их бешеными. Хотя непреклонность Ролана каждый день в чем-нибудь мешала ему, он был далек от ненависти к министру, притом, по логике своей страшной политики, он боялся всего, что считал бесполезным, а схватить первого государственного министра во время исполнения им своих служебных обязанностей он считал сумасбродством. Ролан отправился в мэрию, а оттуда в комитет и совсем рассорился с Маратом. Однако его успокоили, их помирили и отдали ему приказ о его аресте, которой он тотчас показал Петиону, рассказывая, что сделал. – Смотрите, – сказал он мэру, – на что способны эти бешеные! Но я сумею их образумить. – Напрасно, – холодно возразил Петион, – этим актом они погубили бы только самих себя. Петион, со своей стороны, хотя и холоднее Ролана, но выказал не меньшее мужество. Он писал Сантерру, который, по бессилию или сообщничеству, ответил, что сердце его растерзано, но он не может сделать так, чтобы приказания его исполнялись. Тогда Петион лично отправился на все места побоищ. В тюрьме Ла Форс он собственноручно стащил с окровавленных стульев двух муниципальных чиновников, которые в своих должностных шарфах усердно исполняли роль, принятую Майяром в Аббатстве. Но как только он удалился, отправляясь в другие места, чиновники возвратились – и казни продолжились. Везде бессильный, Петион пришел к Ролану, который от горя занемог. Удалось только одно – оградить Тампль, хотя находившиеся в нем царственные заложники особенно возбуждали народную ярость. Однако тут вооруженной силе посчастливилось, и трехцветная цента, протянутая между стенами и толпой, удержала ее на должном расстоянии и спасла королевское семейство. Чудовища, проливавшие кровь с воскресенья, так втянулись в свою адскую работу, что уже не могли остановиться. Они внесли в экзекуцию некоторую правильность – прерывали ее по временам, чтобы убрать трупы и поесть.
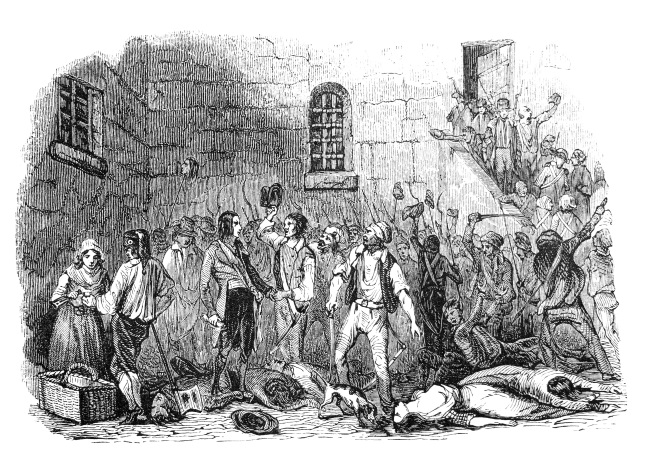 Резня в тюрьмах
Резня в тюрьмах
Даже женщины приходили в тюрьмы с провизией, причем объясняли, что несут обед мужьям, которые заняты в Аббатстве. В Ла Форс, Бисетре и Аббатстве побоище длилось дольше, нежели в других тюрьмах. В Ла Форс содержалась злополучная принцесса Ламбаль, славившаяся при дворе своей красотой и близкими отношениями с королевой. Полумертвую, ее приводят в приемную. – Кто вы? – спрашивают ее палачи в муниципальных шарфах. – Луиза Савойская, принцесса Ламбаль. – Какова была ваша роль при дворе? Известны вам дворцовые заговоры? – Я не знала ни о каких заговорах. – Клянитесь любить свободу; клянитесь ненавидеть короля, королеву и королевское звание. – Первую клятву я дам; второй не могу – это было бы против сердца. – Да клянитесь же! – шепчет ей один из присутствующих, желающий спасти ее. Но несчастная уже ничего не видит и не слышит. – Освободить, – говорит президент. Здесь, как и в Аббатстве, было придумано слово, которое служило условным сигналом смерти. Бедную женщину выводят. По словам нескольких рассказчиков, ее не намеревались убивать, а хотели действительно освободить. Но у выхода ее встречают звери, жаждущие крови. Занесенная сабля ранит ее в затылок, и кровь струится из раны. Однако она идет, поддерживаемая двумя людьми, которые всё еще хотят ее спасти, но, сделав несколько шагов, падает под смертельным ударом. Ее прекрасное тело мигом растерзано; убийцы над ним измываются и рвут его на части. Голову, сердце, другие части трупа они насаживают на пики и носят по Парижу. «Нужно нести их к подножию престола», – говорят они на своем ужасном языке. Они бегут к Тамплю и будят своими исступленными воплями несчастных пленников, которые со страхом спрашивают, что случилось. Муниципальные чиновники не разрешают им смотреть на гнусное шествие, проходящее под окнами, и в особенности на кровавую голову, поднимаемую к ним на пике. Наконец один гвардеец говорит королеве: «Не хотят, чтобы вы видели голову Ламбаль». От этих слов королева лишается чувств; принцесса Елизавета, король и его камердинер уносят ее, а вопли толпы еще долго раздаются вокруг Тампля.
День 3 сентября и ночь на 4-е всё еще осквернялись убийствами. В Бисетре в особенности бойня продолжалась дольше и была еще страшнее, нежели в других тюрьмах. Там содержались несколько тысяч арестантов. Они было хотели защищаться – в них стреляли из пушек. Один член Генерального совета коммуны даже имел дерзость просить войска для усмирения защищающихся арестантов. Его не стали слушать. Петион еще раз сам побывал в Бисетре, но ничего не добился. Кровь для всей этой толпы обратилась в потребность – эта потребность заменила политический фанатизм. Побоище там длилось до 5 сентября. Наконец почти не осталось жертв; тюрьмы опустели; палачи требовали еще крови, но распорядители как будто начинали делаться доступными состраданию. Коммуна начинала выражаться мягче: «глубоко тронутая строгостями, совершенными против заключенных», она отдавала новые приказания о прекращении этих строгостей, и на этот раз они исполнялись лучше. Но уж очень мало оставалось несчастных, которым эта поздняя жалость могла пригодиться. Цифра убитых различно оценивается в современных отчетах: от шести до двенадцати тысяч во всех парижских тюрьмах. Но не меньше самых экзекуций приводит в недоумение смелость, с которой распорядители в них признавались, и наглость, с какой они советовали и другим городам подражать им. Наблюдательный комитет не побоялся разослать всем французским общинам циркуляр, который история обязана сохранить со всеми семью приложенными к нему подписями. Вот этот монументальный документ:
«Париж, 2 сентября 1792 года. Братья и друзья, после того как ужасный заговор двора, имевший целью избиение всех патриотов французского государства, заговор, в котором оказываются скомпрометированными многие члены Национального собрания, поставил 9-го числа прошлого месяца Парижскую коммуну перед жестокой необходимостью употребить могущество народа во спасение нации, она ничего не упускала, чтобы заслужить признательность отечества. После сочувствия, засвидетельствованного ей самим собранием, кто бы подумал, что новые заговоры стали составляться в тайне и разражались в ту самую минуту, как Национальное собрание спешило отставить ее в награду за ее пламенный патриотизм! При этом известии поднявшиеся со всех сторон изъявления народного неудовольствия дали Национальному собранию почувствовать непреложную необходимость соединиться с народом и возвратить коммуне всю силу, которой оно же само ее наделило. Гордая тем, что пользуется всей полнотой национального доверия, которое она будет стараться заслужить всё больше и больше, поставленная у фокуса всех заговоров, решившаяся погибнуть за общее благо, коммуна тогда только похвалится исполнением своего долга, когда достигнет вашего одобрения, которое есть цель всех ее желаний. Исповедуя принципы совершеннейшего равенства, не добиваясь иного преимущества, кроме права первой являться на место опасности, она поспешит снизойти на уровень незначительнейшей общины государства, как только нечего будет более опасаться. Извещенная, что против нее шли варварские орды, Парижская коммуна спешит уведомить своих братьев из всех департаментов, что часть свирепых заговорщиков, содержавшихся в тюрьмах, умерщвлена народом. Это был акт правосудия, казавшийся необходимым для того, чтобы страхом удержать легионы изменников, заключающиеся в стенах города, в ту минуту, как народ собирался идти на врага. И нация после долгого ряда измен, доведших ее до края бездны, без сомнения, поспешит принять эту полезную и нужную меру, и все французы тогда скажут себе: мы идем на врага и не оставляем за собой разбойников, которые перерезали бы наших жен и детей. Подписано: Дюплен, Панис, Сержан, Ланфан, Марат, Лефор, Журдейль, администраторы наблюдательного комитета, учрежденного при мэрии». По этому документу можно судить, до какой степени фанатизма довела близость опасности. Но пора снова обратить наши взоры на театр войны: там мы находим лишь славные воспоминания.
Глава XIII
Военные планы Дюмурье – Победа при Вальми – Отступление союзников и причины этого отступленияДюмурье, как мы видели, уже держал военный совет в Седане. Дильон на этом совете подал голос за отступление в Шалон, чтобы иметь перед собой Марну и защитить переход через нее. Беспорядок, в котором находились 23 тысячи солдат, оставленных Лафайетом; невозможность сопротивляться 80 тысячам пруссаков, превосходно организованных и выдержанных; приписываемое неприятелю намерение совершить быстрое нашествие, без осады крепостей, – таковы были соображения, заставлявшие Дильона полагать, что остановить пруссаков нельзя, а нужно поспешить с отступлением, чтобы искать более крепкие позиции и хоть этим вознаградить слабость и расстройство армии. Совет был так поражен этими доводами, что единодушно подтвердил мнение Дильона, и Дюмурье, которому, как главнокомандующему, надлежало решить дело, сказал, что подумает. В этот вечер 28 августа было принято решение, которое спасло Францию. Многие оспаривают друг у друга эту честь, но всё доказывает, что она принадлежит одному Дюмурье. Притом выполнение окончательно укрепило ее за ним и заслужило ему всю славу сполна. Францию, как известно, защищают с востока Рейн и Вогезы, с севера – ряд крепостей, творение Вобана, а также Маас, Мозель и несколько небольших речек, которые в соединении с крепостями составляют на границе достаточную преграду. Неприятель проник во Францию с севера и начертал свой поход между Седаном и Мецем, предоставляя нападение на нидерландские крепости герцогу Саксен-Тешенскому и маскируя одним корпусом Мец и Лотарингию. По этому плану нужно было бы быстро идти вперед, воспользоваться расстройством французской армии, вселить во французов страх решительными ударами и разбить 23 тысячи Лафайета прежде, нежели новый полководец успел бы возвратить им уверенность в себе и согласовать их действия с другими корпусами. Но борьба между самонадеянностью прусского короля и осмотрительностью Брауншвейга парализовала всякое решение и мешала союзникам действовать либо вполне смело, либо вполне осторожно. Взятие Вердена еще более возбудило тщеславие Фридриха-Вильгельма и рвение эмигрантов, но не прибавило энергичности Брауншвейгу, нисколько не одобрявшему вторжения с теми средствами, которыми он располагал, при царившем в стране настроении. После взятия Вердена 2 сентября союзная армия в течение нескольких дней растянулась по равнинам, окаймлявшим Маас, заняла Стене, а вперед не сделала ни шага. Дюмурье был в Седане, а его армия стояла лагерем по окрестностям. От Седана до Пасавана простирается лес, имя которого навеки прославлено во французских летописях, – Аргонский лес, покрывающий пространство от тридцати до пятнадцати лье и совершенно непроходимый для армии, исключая немногочисленные главные проходы, из-за неровностей местности и множества водоемов. Через этот-то лес неприятель должен был пройти в Шалон, а потом на дорогу в Париж. Имея подобный план, странно, что он еще не подумал занять главные проходы и опередить Дюмурье, который, будучи в Седане, был отделен от них всей длиной леса. Вечером после заседания военного совета французский генерал рассматривал карту с одним офицером, к даровитости которого питал величайшее доверие: это был Тувено. Указывая пальцем на Аргонский лес и перерезавшие его просеки, Дюмурье сказал: «Вот Фермопилы Франции. Если я смогу быть там прежде пруссаков – всё спасено». Эти слова воспламенили Тувено, и оба офицера вместе начали обдумывать подробности этого прекрасного плана. Выгоды он представлял громадные: кроме того, что не приходилось отступать и Марна не делалась последней оборонительной линией, неприятель должен был потерять много драгоценного времени, поскольку оказывался перед необходимостью остаться в Шампань-Пульезе, бесплодная почва которого не могла доставить продовольствия целой армии. Ему не уступалась, как случилось бы при отступлении в Шалон, провинция Трех епископств, местность богатая и плодородная, где он мог бы благополучно перезимовать даже в том случае, если бы не перешел Марну. Если бы неприятель, потратив время перед лесом, захотел обогнуть его и двинулся бы на Седан, то нашел бы перед собой нидерландские крепости, и нельзя было предположить, чтобы он мог их взять. Если бы он пошел вверх, к другому краю леса, то наткнулся бы на Мец и Центральную армию; тогда началась бы погоня, и, объединившись с армией Келлермана, можно было составить войско в 50 тысяч человек, опиравшееся на Мец и другие крепости. Во всяком случае поход его выходил неудачным, а кампания пропадала даром, потому что был уже сентябрь, а в такую пору войска обыкновенно располагаются на зимовку. План этот был превосходен, но требовалось еще его исполнить, а пруссаки, выстроенные вдоль леса, тогда как Дюмурье находился у одного из его концов, могли уже прежде занять все проходы. Итак, участь этой великой мысли и всей Франции обусловливалась случайностью и возможным промахом неприятеля. Пять узких проходов, известных под названиями Ле-Шен-Попюле, Круа-о-Буа, Гранд-Пре, Ла-Шалад и Лез-Ислет, пересекали Аргонский лес. Важнейшими из них были проходы Гранд-Пре и Лез-Ислет, и, к несчастью, они-то и были самыми удаленными от Седана и самыми близкими к неприятелю. Дюмурье решил двинуться туда со всеми своими силами. В то же время он приказал генералу Дюбуке оставить департамент Нор и занять проход Ле-Шен-Попюле, тоже очень важный, но весьма близкий к Седану, так что занятие его было не так спешно. Дюмурье представлялись две дороги к Гранд-Пре и Лез-Ислет – одна позади леса, другая перед ним, прямо перед неприятелем. Первая была безопаснее, но длиннее; она выдавала неприятелю план генерала и давала ему время опередить его. Другая дорога была короче, но тоже выдавала цель Дюмурье и подвергала его большой опасности: надо было пройти вдоль леса, мимо Стене, где стоял Клерфэ со своими австрийцами. Однако Дюмурье предпочел именно этот путь; он рассчитывал, что австрийский генерал, лишь только увидит французов, как с осторожностью, свойственной австрийцам, непременно станет укрепляться в превосходном лагере при Бруэне, а он тем временем ускользнет от него и доберется до проходов. И вот 30 августа Дильон трогается первым и с 8 тысячами человек отправляется по направлению к Стене, причем держит путь между Маасом и Аргонским лесом. Он застает Клерфэ занимающим оба берега реки с 25 тысячами австрийцев. Генерал Мячинский с полутора тысячами солдат нападает на форпосты Клерфэ, в то время как Дильон, немного отставший, идет к нему на помощь со всей своей дивизией. Завязывается оживленная перестрелка, и Клерфэ, немедленно перейдя Маас, располагается при Бруэне, как весьма удачно предвидел Дюмурье. Дильон между тем смело продолжает путь между рекой и лесом. Дюмурье следует непосредственно за ним с 15 тысячами, составляющими его главный корпус, и оба идут к назначенным им постам. Второго сентября Дюмурье был в Беффю, и ему оставался до Гранд-Пре всего один переход. Дильон в тот же день находился в Пьермоне и с крайней смелостью приближался к Лез-Ислет. К счастью для него, генерал Гальбо, посланный подкрепить верденский гарнизон, опоздал и, отступая, заранее занял проход Лез-Ислет. Дильон пришел туда же 4 сентября со своими восемью тысячами, расположился там и, сверх того, занял еще проход Ла-Шалад, тоже вверенный ему, но второстепенный по важности. В то же время Дюмурье пришел в Гранд-Пре 3-го числа, нашел место свободным и занял его. Таким образом, 3 и 4 сентября проходы были заняты французскими солдатами, и дело спасения Франции весьма подвинулось. Этим смелым движением Дюмурье получил возможность бороться против нашествия. Но это было еще не всё: надо было сделать эти проходы необоримыми, а для этого требовалось множество распоряжений, успех которых сильно зависел от случая. Дильон укрепился в Лез-Ислет; он срубил много деревьев, поставил отличные брустверы и, искусно располагая артиллерию, расставил батареи так, что проход сделался неприступным. Точно так же занял он проход Ла-Шалад и овладел двумя дорогами – в Сент-Мену и из Сент-Мену в Шалон. Дюмурье устроился в Гранд-Пре, в лагере, защищенном столько же природой, сколько и военным искусством. Возвышенности, расположенные амфитеатром, составляли позицию армии. У подножия этих высот простирались обширные луга, перед которыми протекала река Эр, образуя передовое укрепление лагеря. Перед Эр было перекинуто два моста: на этих мостах поставили два многочисленных отряда авангарда с приказанием в случае атаки отступить и сжечь их. Неприятелю, оттеснив эти форпосты, предстояло перебраться через Эр без помощи мостов и под огнем всей французской артиллерии. Перейдя реку, ему нужно было миновать целый бассейн из лугов, со всех сторон обстреливаемый перекрестным огнем, а затем взять с боем крутые, почти неприступные укрепления. В случае, если бы враги преодолели все эти препятствия, Дюмурье мог отступить на другой склон занимаемых им высот, найти там реку Эну, протекавшую вдоль этого склона, перейти еще два моста, разрушив их и оставить еще одну реку между собой и пруссаками. Такой лагерь можно было считать неодолимым, и в нем французский полководец находился в достаточной безопасности, чтобы спокойно заниматься всем театром войны. Седьмого сентября генерал Дюбуке с 6 тысячами войска занял проход Ле-Шен-Попюле. Оставался свободным лишь один проход, гораздо менее важный, Круа-о-Буа, находившийся между Гранд-Пре и Ле-Шен-Попюле. Дюмурье, перерезав дорогу и навалив на ней срубленных деревьев, поставил туда одного полковника с двумя батальонами и двумя эскадронами. Таким образом, поместившись в центре леса, в неприступном лагере, он защищал главный проход с помощью 15 тысяч человек; он имел справа, на расстоянии четырех лье, Дильона, который защищал Лез-Ислет и Ла-Шалад с 8 тысячами, слева – Дюбуке, защищавшего проход Ле-Шен-Попюле с 6 тысячами, а в промежутке – полковника, наблюдавшего с небольшим отрядом за проходом Круа-о-Буа. Распределив таким образом всю защиту, генерал имел возможность дождаться подкреплений. Он велел Бернонвилю оставить нидерландскую границу, где герцог Саксен-Тешенский не предпринимал ничего важного, и быть в Ретеле 13 сентября с 10 тысячами солдат. Он назначил Шалон местом склада военных и съестных припасов, а также местом сбора посылаемых ему новобранцев и подкреплений. Так он скапливал позади себя все средства к достаточной обороне. В то же время Дюмурье известил исполнительную власть о занятии им Аргонского леса. «Гранд-Пре и Лез-Ислет, – писал он, – наши Фермопилы; но я надеюсь, что буду счастливее Леонида». Он просил, чтобы от Рейнской армии, которой ничто не угрожало, отделили несколько полков для присоединения к Центральной армии, отныне вверенной Келлерману. Так как план пруссаков явно состоял в том, чтобы идти прямо на Париж – потому что они заслонили собою крепости Монмеди и Тионвиль, не останавливаясь, чтобы брать их, – он хотел, чтобы Келлерману отдали приказ обойти их с левого фланга, проходя через Линьи и Бар-ле-Дюк; тогда он мог бы напасть на них с фланга и с тыла во время их наступательного движения. Вследствие всех этих распоряжений, если бы пруссаки, вынужденные отказаться от Аргонского леса, прошли выше, Дюмурье раньше них пришел бы в Ревиньи и застал бы там Келлермана, пришедшего из Меца. Если бы они спустились к Седану, Дюмурье последовал бы за ними, там соединился бы с 10 тысячами Бернонвиля и дождался бы Келлермана на берегах Эны. В том и другом случае вследствие соединения армия составила бы силу в 60 тысяч человек, способных выступить в открытом поле.
Исполнительная власть ничего не забыла из того, что могло бы содействовать Дюмурье в его превосходных распоряжениях. Серван, военный министр, хоть и болел непрерывно, усердно заботился о снабжении армий, о перевозке вещей и припасов, о сборе новых ополчений. Из Парижа каждый день выступали от полутора до двух тысяч волонтеров. Влечение к армии было повальным, народ толпами стремился к границе. Патриотические общества, общинные советы, само собрание беспрестанно должны были принимать и напутствовать ополченцев, отправлявшихся в Шалой, общее место сбора. Этим юным солдатам не хватало лишь дисциплины и привычки к бранному полю; но и ту и другую они могли легко приобрести под начальством искусного полководца. Жирондисты были личными врагами Дюмурье и мало доверяли ему после того, как он выжил их из правительства; они даже хотели было обойти его с должностью главнокомандующего и отдать ее одному офицеру по имени Гримоар. Но с тех пор, как на Дюмурье оказались взвалены, так сказать, судьбы отечества, жирондисты к нему примкнули. Ролан, лучший, бескорыстнейший из них, написал Дюмурье трогательное письмо, в котором уверял его, что всё забыто и друзья его желают лишь одного – радоваться его победам. Итак, Дюмурье энергично овладел границей и сделался центром обширных движений, дотоле слишком медленных и несогласованных. Он благополучно занял проходы Аргонского леса, стал на позицию, дававшую армиям время собраться и организоваться позади него, затребовал к себе последовательно все корпуса, чтобы составить внушительную силу, и поставил Келлермана перед необходимостью спрашивать его приказаний. То есть распоряжался энергично, действовал быстро, подбадривал солдат, часто появляясь между ними, выказывая им большое доверие и стараясь внушить желание скорой встречи с неприятелем. Так наступило 10 сентября. Пруссаки прошли по всем французским постам, завязали стычки у всех укреплений и везде получили отпор. Дюмурье устроил секретное сообщение внутри леса и на все угрожаемые пункты посылал неожиданные отряды, которые в глазах врагов удваивали его силы. Одиннадцатого числа была сделана общая попытка против Гранд-Пре; но генерал Миранда, стоявший при Мортоме, и генерал Штенгель, находившийся при Сен-Жувене, с полнейшим успехом отразили все атаки. На нескольких пунктах солдаты, ободренные своей позицией и спокойствием начальников, перескакивали через брустверы и сами шли на штыки неприятеля. Эти схватки занимали армию, которая иногда терпела недостаток в провизии вследствие беспорядка, неизбежного в импровизированном комиссариате. Но веселость генерала, который холил себя не больше, чем солдат, всех заставляла покоряться, и, несмотря на начинавшуюся, кажется, дизентерию, в лагере Гранд-Пре жилось довольно сносно. Только высшие офицеры, которые сомневались в возможности продолжительного сопротивления, и правительство, которое тоже не верило в эту возможность, говорили об отступлении за Марну и осаждали Дюмурье своими советами. Он же писал энергичные письма министрам и заставлял молчать своих офицеров, повторяя им, что, когда ему понадобятся советы, он созовет военный совет. Хорошие качества непременно имеют свои неудобства. Крайняя решительность гения Дюмурье нередко влекла необдуманные шаги; ему уже не раз случалось неверно рассчитать материальные препятствия: например, когда он приказал Лафайету перейти из Меца в Живе. Здесь он опять совершил капитальную ошибку, которая, будь у него меньше силы духа и хладнокровия, повлекла бы за собой потерю всей кампании. Между проходами Ле-Шен-Попюле и Гранд-Пре находился, как мы уже говорили, проход, которому приписывалась второстепенная важность, и потому его защищали лишь два батальона и два эскадрона. Подавленный громадными заботами, Дюмурье не поехал лично удостовериться в маловажности этого пункта. Притом, не имея много свободных людей, он слишком легко поверил, что нескольких сотен человек будет достаточно. В довершение всего командовавший этим постом полковник убедил его, что можно отозвать часть даже уже посланных туда войск и что если разобрать дороги, то достаточно будет нескольких волонтеров, чтобы поддержать в этом проходе оборонительное положение. Дюмурье поверил на слово полковнику, старому солдату, которого считал заслуживающим доверия. В это время Брауншвейг посылал разведывать французские посты и в какой-то момент решил пойти вдоль леса до Седана и обогнуть его с этого края. Должно быть, во время этого движения лазутчики открыли упущение французского генерала. Австрийцы и эмигранты, под командованием принца де Линя, напали на проход Круа-о-Буа. Деревья еще только начинали рубить, дороги еще не были испорчены, так что проход был легко занят 13-го числа утром. Едва Дюмурье получил эту скорбную весть, он послал генерала Шазо, человека замечательной храбрости, с двумя бригадами, шестью эскадронами и четырьмя восьмифунтовыми орудиями, приказав ему снова занять проход и прогнать оттуда австрийцев. Он велел идти прямо на штыки с величайшей живостью и прежде, чем неприятель успеет укрепиться. Прошло 13-е, а потом и 14 сентября, а Шазо всё не мог выполнить это приказание. Наконец, 15-го он напал на неприятеля и вытеснил его из прохода; в этом наступлении был убит принц де Линь. Но спустя два часа на Шазо самого напали силы, много превосходившие числом его войско, и он опять был вытеснен из прохода. Кроме того, Шазо был отрезан от Гранд-Пре и не мог отступить к главному корпусу армии, который по этой причине значительно ослабел. Тогда Шазо отошел в Вузье. Генерал Дюбуке, командовавший проходом Ле-Шен-Попюле и до тех пор удачно державшийся, увидев себя отделенным от Гранд-Пре, рассудил, что не следует рисковать быть окруженным неприятелем, который, перерезав линию при Круа-о-Буа, не замедлит явиться. Он решился уйти и отступить через Аттиньи и Сомпюи на Шалон. Таким образом, терялся плод стольких смелых комбинаций и счастливых случайностей; единственное препятствие, которое можно было противопоставить иноземному вторжению, Аргонский лес, было устранено, и дорога в Париж оказалась открытой. Дюмурье, отделенный от Шазо и Дюбуке, остался с 15 тысячами, и если бы неприятель, быстро выходя из прохода Круа-о-Буа, обогнул позицию Гранд-Пре и занял переправы через Эну, то французский главнокомандующий проиграл бы. Имея перед собой 40 тысяч пруссаков, а сзади 20 тысяч австрийцев, запертый со своими 15 тысячами среди этих армий, двух рек и леса, ему оставалось одно из двух – сложить оружие или дать без проку перебить всех своих солдат до последнего. Тогда единственная армия, на которую рассчитывала Франция, была бы уничтожена и союзники направились бы прямо к столице. В этом отчаянном положении генерал не растерялся и сохранил изумительное хладнокровие. Первой его заботой было в тот же день подумать об отступлении, потому что прежде всего надо было выбраться из этого Кавдинского ущелья[55]. Он сообразил, что правой стороной опирается на Дильона, который всё еще держит Лез-Ислет и дорогу в Сент-Мену, и что если таким образом обогнуть его, то они оба будут смотреть неприятелю в лицо – один в Лез-Ислет, другой в Сент-Мену – представят двойной укрепленный фронт и смогут дождаться присоединения генералов Шазо, Дюбуке, Бернонвиля, и самого Келлермана, который, выступив уже десять дней назад, мог прибыть с минуты на минуту. Этот план был наилучшим и наиболее последовательным в системе Дюмурье, состоявшей в том, чтобы не отступать внутрь страны, к открытой местности, а держаться в трудных местах и стараться соединиться с Центральной армией. Если же, напротив, он отступил бы на Шалон, его преследовали бы как беглеца; он с невыгодой для себя совершил бы отступление, которое мог первоначально исполнить с пользой, а главное – стало бы невозможно соединиться с Келлерманом. Упорствовать в своей системе после такого случая, какой приключился в проходе Круа-о-Буа, было большой смелостью, и в эту минуту нужно было иметь столько же гения, столько и энергии, чтобы не уступить многократно повторяемому совету отойти за Марну. Дюмурье немедленно приказал Бернонвилю, уже направлявшемуся к Ретелю, Шазо, от которого только что получил успокоительные вести, и Дюбуке, отступившему на Аттиньи, собраться в Сент-Мену. В тоже время он еще раз дал знать Келлерману, чтобы тот шел не останавливаясь, потому что имел повод опасаться, что Келлерман, узнав о потере проходов, захочет вернуться в Мец. Сделав все эти распоряжения, приняв прусского офицера, присланного парламентером, и показав ему лагерь в величайшем порядке, Дюмурье в полночь снялся с лагеря и пошел к двум мостам, служившим выходом из лагеря Гранд-Пре. К счастью, неприятель еще не думал выходить через Круа-о-Буа и опережать французские позиции. Небо было покрыто грозовыми тучами и скрывало отступление французов: они всю ночь шли сквернейшими дорогами, и армия, которой, к счастью, некогда было тревожиться, удалилась, не подозревая причины этого быстрого отступления. На другое утро, то есть 16 сентября, все войска уже перешли через Эну: Дюмурье ушел от неприятеля и в боевом порядке строился на высотах Отри, за четыре лье от Гранд-Пре. Погони не было, он уже считал себя спасенным и шел к Даммартену, чтобы выбрать место для дневной стоянки, как вдруг увидел суету, беготню, услышал крики о том, что всё пропало и что неприятель, бросившись на задние ряды, привел их в полный беспорядок. Дюмурье вернулся к арьергарду и застал генерала Миранду и старого генерала Дюваля задерживающими беглецов и с большой твердостью восстанавливающими строй армии, на минуту смущенной и напуганной прусскими гусарами. Неопытность новобранцев и страх измены, наполнявший тогда все сердца, делали подобные панические сцены весьма частыми. Однако положение было быстро исправлено. Войска расположились на биваке в Даммартене, и Дюмурье надеялся скоро стать спиной к Лез-Ислет и счастливо окончить это опасное отступление. Он двадцать часов не сходил с лошади и только собирался спешиться в шесть вечера, как вдруг снова услышал крики «Спасайся!» и проклятия, обрушиваемые на генералов и в особенности на главнокомандующего, который будто бы предался неприятелю. Дюмурье приказал развести большие костры и объявил, что войска всю ночь не сойдут с места. Так они провели десять часов во мраке и грязи. Более полутора тысяч беглецов, разбежавшихся по полям и деревням, разнесли по всей Франции известие, что Северная армия, последнее упование отечества, потеряна, ибо передана неприятелю. Уже на следующий день всё было исправлено. Дюмурье написал собранию со своей обычной уверенностью: «Я был вынужден бросить лагерь при Гранд-Пре. Отступление уже началось, как вдруг на армию напал панический страх: 10 тысяч французов бежали от полутора тысяч прусских гусар. Потери не превышают пятидесяти человек и кое-какого багажа. Всё исправлено, и я за всё отвечаю». Только такие заверения могли успокоить Париж и исполнительный совет, который собирался уже снова настоять, чтобы главнокомандующий отступил за Марну.
Сент-Мену, куда шел Дюмурье, стоит на Эне, одной из двух рек, огибавших лагерь Гранд-Пре. Ему приходилось идти вверх по ее течению, а прежде нужно было еще перейти три довольно глубоких речки, в нее впадающих: Турб, Бион и Ов. За этими тремя потоками находилось то место, которое он намеревался занять. Перед городом Сент-Мену кругообразно поднимаются высоты в три четверти лье. У подножья их простирается низменность, где Ов образует болота, прежде чем впадает в Эну. Эта низменность окаймлена справа высотами Гирон, спереди – высотами Ла-Люн, а слева – высотами Жизокур. В центре бассейна находятся еще несколько возвышенностей, однако пониже той, на которой построен Сент-Мену. Большая дорога из Шалона в Сент-Мену проходит через этот бассейн, почти параллельно течению Ова. Над этим-то бассейном и в Сент-Мену стал Дюмурье. Он занял наиболее важные позиции и спиной оперся на Дильона, наказав генералу твердо держаться против неприятеля. Таким образом, Дюмурье занимал большую дорогу в Париж на трех пунктах: Лез-Ислет, Сент-Мену и Шал он. Однако пруссаки могли, пробравшись проходом Гранд-Пре, оставить его в Сент-Мену и поспешить прямо в Шалон. Поэтому он приказал Дюбуке, получив известие о благополучном прибытии его в Шалон, стать со своей дивизией в лагере Л’Эпин и собрать там всех новоприбывших волонтеров, чтобы предохранить Шалон от неожиданного нападения. Затем к Дюмурье присоединился Шазо, а потом и Бернонвиль. Последний появился в виду Сент-Мену 15 сентября. Видя армию, расположенную в отличном порядке, он сначала вообразил, что это неприятель: ему никак не верилось, чтобы Дюмурье, побитый, как все говорили, так скоро и удачно выпутался. Под влиянием этой мысли Бернонвиль отошел к Шалону, но потом, узнав о своей ошибке, вернулся и занял позицию при Маффрекуре, справа от лагеря. С ним были 10 тысяч славных солдат, которых Дюмурье целый месяц упражнял в форпостной войне в лагере при Моде. Получив подкрепление от Бернонвиля и Шазо, Дюмурье мог насчитать 35 тысяч человек. Таким образом, благодаря его твердости и присутствию духа, генерал опять оказался на весьма крепкой позиции и был в состоянии еще долго оказывать сопротивление. Вокруг него медленно совершалось двойное движение: маневр Брауншвейга, который всё еще шел неуверенно, и маневр Келлермана, который, выступив из Меца 4 сентября, две недели спустя еще не дошел до условленного пункта. Но если медлительность Брауншвейга спасала Дюмурье, то медлительность Келлермана, напротив, ставила его в крайне опасное положение. Келлерман, осторожный и нерешительный, хоть и очень храбрый, попеременно то шел вперед, то отступал назад, смотря по движениям прусской армии, и еще 17-го числа, узнав о потере Аргонских проходов, совершил попятное движение. Однако 19-го вечером он уведомил Дюмурье, что находится всего в двух лье от него. Дюмурье оставил для него незанятыми высоты Жизокур, находившиеся слева от лагеря и обстреливавшие дорогу в Шалон и речку Ов. Келлерман дал знать главнокомандующему, что в случае сражения может развернуться на второстепенных высотах и идти в Вальми, по ту сторону Ова. Но Дюмурье не имел времени лично отправиться и разместить войска своего товарища, а Келлерман, перейдя Ов в ночь на 19-е, прямо отправился в Вальми, в центр бассейна, и пренебрег высотами Жизокур, которые обстреливали высоты Ла-Люн с пруссаками.
Действительно, в этот самый момент пруссаки, выходя из прохода Гранд-Пре, появились в виду французской армии и взбирались на высоты Ла-Люн. Они тотчас отказались от быстрого движения на Шалон, радуясь, как рассказывают, что застали обоих французских главнокомандующих вместе, и надеясь одним ударом разбить обоих. Их цель состояла в том, чтобы овладеть дорогой в Шалон, двинуться на Витри, вытеснить Дильона из Лез-Ислет, окружить таким образом Сент-Мену со всех сторон и принудить обе армии сложить оружие. Двадцатого сентября утром Келлерман, который, вместо того чтобы занять высоты Жизокур, направился в самый центр бассейна, к мельнице Вальми, вдруг увидел неприятеля выше себя, на занятых им высотах Ла-Люн. С одной стороны у него была речка Гирон, которой владели французы, но которую можно было у них отнять, а с другой – высоты Жизокур, которых он не пожелал занять и на которых располагались пруссаки. В случае поражения Келлерман попадал в болота, образуемые Овом позади мельницы при Вальми, и мог быть совсем разбит, прежде чем успел бы соединиться с Дюмурье, занимавшим задний план этого амфитеатра. Тогда он позвал к себе своего товарища. Но прусский король, заметив большую суматоху во французской армии и вообразив, что французские генералы намерены идти на Шалой, захотел преградить им путь и приказал тотчас же начинать атаку. Прусский авангард встретил по дороге в Шалой авангард Келлермана. Произошла стычка, и французы, сначала отброшенные, были потом приведены обратно и поддержаны карабинерами генерала Валенса. С высот Ла-Люн началась канонада, и французская артиллерия бойко отстреливалась с мельницы Вальми. Позиция Келлермана была крайне рискованной: его войска были скучены в беспорядке на высоте Вальми, и им было слишком тесно сражаться. С высот Ла-Люн их громили пушки, с высотЖизокур левый фланг сильно беспокоил прусский огонь; речка Гирон была, правда, занята французами, но Клерфэ мог напасть на этот пост с 20 тысячами австрийцев и отбить его. Тогда, громимый со всех сторон, Келлерман был бы отброшен из Вальми в Ов, и Дюмурье не смог бы ему помочь. Последний тотчас послал генерала Штенгеля с сильной дивизией, чтобы удержать французов на Гироне и прикрыть правый бок Вальми; кроме того, он приказал Бернонвилю поддерживать Штенгеля с шестнадцатью батальонами и отправил Шазо с десятью батальонами и восьмью эскадронами на дорогу в Шалон, чтобы занять Жизокур и поддержать Келлермана слева. Но Шазо, придя в Вальми, спросил у Келлермана приказаний, вместо того чтобы занять Жизокур, и оставил пруссакам время расположиться там и открыть убийственный огонь. Однако Келлерман, поддержанный справа и слева, все-таки смог удержаться на мельнице. К несчастью, граната, упавшая в артиллерийский ящик, взорвала его и привела пехоту в беспорядок; огонь с высот Ла-Люн еще увеличил его, и первая линия уже начинала подаваться. Келлерман, заметив это, прискакал сам, вновь построил ряды и восстановил порядок. В эту минуту Брауншвейг рассудил, что можно взобраться на возвышенность и штыками сбросить с нее французские войска. Был полдень. Густой туман, до этой минуты облекавший обе армии, рассеялся, они ясно различали одна другую, и молодые французские новобранцы видели пруссаков, приближавшихся тремя колоннами с уверенностью старых, закаленных вояк. Они в первый раз сходились на поле битвы, в первый раз собирались скрестить штыки. Они не знали ни себя, ни своих врагов, и тревожно переглядывались. Келлерман въехал в укрепления, расставил свои войска колоннами в один батальон во фронте и наказал им не дожидаться пруссаков, а, как только они будут на нужном расстоянии, бежать им навстречу, в штыки. Он возвысил голос и крикнул: «Vive la nation!» В эту минуту можно было стать храбрецами или трусами. Но призыв всех воодушевил, и молодые солдаты, повторяя его, пошли на врага. При виде этого зрелища Брауншвейг, который весьма неохотно решился на атаку и опасался результата, остановил свои колонны и приказал им вернуться в лагерь. Этот опыт оказался решающим. С этой поры иностранцы поверили в храбрость всех этих «башмачников» и «портных», из которых, по словам эмигрантов, состояла французская армия. Они видели людей экипированных и храбрых; офицеров опытных, в орденах; генерала Дюваля, высокий рост и седины которого внушали почтение; Келлермана; наконец, Дюмурье, выказывавшего столько твердости и искусства против неприятеля, так сильно превосходившего его числом. В эту минуту над Революцией был произнесен иной приговор, и этот хаос, до тех пор осмеянный, стал казаться грозным порывом энергии. В четыре часа Брауншвейг попытался возобновить атаку. Уверенность французских войск опять сбила его с толку, и он вторично отступил. Переходя от одного удивления к другому, находя лживым всё, что ему рассказывали, прусский полководец уже двигался не иначе как с величайшей осмотрительностью, и хотя его много упрекали за то, что он не повел атаку упорнее и не сбросил французов с их позиции, но знатоки находят, что он был прав. Келлерман, поддерживаемый справа и слева всей французской армией, был в состоянии выдержать атаку, а Брауншвейг, если бы дал себя один раз побить и загнать в теснину в крайне неудобной местности, рисковал совсем пропасть. К тому же он все-таки занял дорогу в Шалон, а следовательно, отрезал французов от их центра и надеялся принудить их покинуть позицию в течение нескольких дней. Он не сознавал того, что, имея в своей власти Витри, единственное, что грозило французам, – лишь небольшое замедление в подвозе провианта. Таково было знаменитое дело 20 сентября 1792 года, в котором более двадцати тысяч раз стреляли из пушек, вследствие чего оно было названо канонадой при Вальми[56]. Потери были примерно одинаковые с обеих сторон и равнялись в каждой армии восьми или девяти сотням солдат. Уверяют, будто в тот же вечер эмигранты выслушали гневный выговор от прусского короля и будто с этого дня значительно убавилось влияние Калонна, наиболее хвастливого из эмигрантских министров и наиболее щедрого на преувеличенные обещания и сведения, опровергаемые реальностью. В ту же ночь Келлерман без шума переправился обратно через Ов и стал на те самые высоты Жизокур, которые следовало занять с самого начала и которыми пруссаки в этот день воспользовались. Пруссаки же остались на высотах Ла-Люн. Размещение армий получилось любопытное: французы были обращены лицом к Франции, точно наступали на нее, а пруссаки – спиною, как будто защищали.
Тут Дюмурье начал новый ряд действий, исполненных энергии и твердости, – на этот раз против собственных офицеров и французских властей. Имея около 70 тысяч войска, отличный лагерь, не нуждаясь в провианте, или по крайней мере нуждаясь в нем редко, он мог позволить себе ждать. У пруссаков, напротив, имелся недостаток в пище, болезни начинали опустошать их армию, а при этих условиях промедление пагубно. Сверх того, отвратительная осень в глинистой, сырой местности не позволяла им задерживаться долго. Если бы они, несколько поздно, спохватились и захотели с прежней быстротой и энергией идти на Париж, Дюмурье мог последовать за ними и окружить их, как только они забрались бы подальше. Эти взгляды были в высшей степени верны и благоразумны. Но в лагере, где офицерам надоели лишения, а Келлерману было не очень приятно подчиняться высшей власти, и в Париже, где жители чувствовали себя отрезанными от главной армии, где не видели между собою и пруссаками никаких препятствий и даже встречали прусских улан на расстоянии пятнадцати лье от столицы, – не могли одобрить плана Дюмурье. Собрание, совет, решительно все сетовали на его упрямство, писали ему настоятельнейшие письма, требуя, чтобы он оставил свою позицию и отступил за Марну. Лагерь на Монмартре и армия между Шалоном и Парижем – вот двойная преграда, которой непременно требовали испуганные умы. «Уланы вас беспокоят? – писал Дюмурье. – Ну, убивайте их, это меня не касается. Я не изменю своего плана из-за этой сволочи». Но приказания и настояния не прекращались. В лагере офицеры беспрестанно отпускали замечания. Только солдаты, поддерживаемые веселостью генерала, – который не упускал случая пройтись по рядам, ободрить их, объяснить критическое положение пруссаков, – терпеливо переносили лишения. Однажды Келлерман собрался уже уйти, и Дюмурье вынужден был, подобно Колумбу, обещать сняться с лагеря, если по истечении определенного срока пруссаки не начнут отступление.
Прекрасная армия союзников действительно находилась в плачевном состоянии; она гибла от голода и в особенности от жестоких последствий дизентерии. Распоряжения Дюмурье значительно этому способствовали. Так как мелкие стычки перед фронтом лагеря были признаны бесполезными, потому что не приводили ни к какому результату, обе армии договорились прекратить их, но Дюмурье уточнил, что это только перед фронтом. В тоже время он отрядил всю свою кавалерию в окрестности – перехватывать обозы неприятеля, который, прибыв через проход Гранд-Пре и поднявшись вверх по берегу Эны вслед за отступившей французской армией, был вынужден получать свой провиант теми же извилистыми путями. Французская кавалерия пристрастилась к этим выгодным экспедициям и с большим успехом занималась ими. Наступали последние дни сентября; положение прусской армии становилось невыносимым, и во французский лагерь явились несколько офицеров-парламентеров. С той и другой стороны соблюдалась величайшая вежливость. Сначала речь шла только об обмене пленными; пруссаки требовали, чтобы правом обмена могли пользоваться и эмигранты, но в этом им было отказано. От обмена пленными разговор перешел на причины войны, и пруссаки почти признали ее неразумной. Тут характер Дюмурье обнаружил себя решительно. Не имея надобности драться, он писал прусскому королю докладные записки, в которых доказывал ему, как для него невыгоден союз с австрийским императором против Франции. В то же время он послал ему двенадцать фунтов кофе, единственные остававшиеся в обоих лагерях. Его записки не могли не быть оценены, но не могли также не быть дурно приняты. Так и вышло. Брауншвейг ответил ему от имени прусского короля декларацией столь же дерзкой, как и первый его манифест, и на этом переговоры прервались. Собрание же на запрос Дюмурье ответило, как некогда римский сенат, что с неприятелем можно будет тогда лишь входить в переговоры, когда он выйдет из Франции. Эти переговоры только послужили поводом к клевете на главнокомандующего, которого уже тогда стали подозревать в тайных сношениях с иноземцами, и к пренебрежительным выходкам против него со стороны гордого государя, оскорбленного неожиданным исходом войны. Но таков уже был Дюмурье: при несомненном мужестве и уме у него не хватало той сдержанности, того достоинства, которые внушают людям уважение, тогда как гений только озадачивает их. Между тем, согласно тому, что предвидел французский полководец, пруссаки, не в силах далее бороться с голодом и болезнями, уже 15 октября начали сниматься с лагеря. В Европе конца не было изумлению, догадкам и басням, когда эта хваленая армия, такая могучая, вдруг униженно отступила перед взбунтовавшимися буржуа и мастеровыми, которых предполагалось погнать с барабанным боем назад в их города и наказать за то, что они из них вообще решились выйти! Вялая погоня и почти беспрепятственное удаление пруссаков через аргонские проходы вызвали предположения о секретных условиях и даже торге, заключенном будто бы с прусским королем. Военные факты лучше всяких предположений объяснят отступление союзников. Далее оставаться в таком бедственном положении не было никакой возможности. Действовать наступательно в такую позднюю и ненастную пору также не приходилось. Единственное, что оставалось, – это отступление к Люксембургу и Лотарингии, с тем чтобы там устроить себе прочную основу операций, с которой на следующий год и начать сызнова кампанию. К тому же в этот момент Фридрих-Вильгельм был занят мыслью об участии в разделе Польши, после того как сам же подстрекал поляков против России и Австрии. Стало быть, неудобные время и местность, отвращение к неудачному предприятию, сожаления о союзе с Австрией против Франции, наконец, новые интересы на Севере – всё это составляло достаточное побуждение к отступлению. Оно совершилось в величайшем порядке, так как неприятель, хоть и решил удалиться, все-таки был весьма силен. Стараться совсем закрыть ему путь к отступлению и принудить проложить себе этот путь победой стало бы такой неосторожностью, на которую Дюмурье не был способен. Следовало довольствоваться тем, чтобы утомлять его мелкими стычками, а это хотя и делалось, но не с достаточной энергичностью, по вине самих Дюмурье и Келлермана. Опасность миновала, кампания закончилась, каждый мог опять заняться собой и своими делами. Дюмурье думал о своей экспедиции в Нидерланды, Келлерман – о своем месте главнокомандующего в Меце, и погоня за пруссаками не удостоилась со стороны обоих генералов того внимания, которого заслуживала. Дюмурье послал генерала д’Арвиля к проходу Ле-Шен-Попюлё с поручением догнать эмигрантов; генералу Мячинскому приказал ждать их в Стене, у выхода из леса, чтобы окончательно добить; отрядил Шазо в ту же сторону, чтобы занять дорогу в Лонгви; поставил Бернонвиля, Штенгеля и Валенса с 25 тысячами позади прусской армии с приказанием энергично преследовать ее. И в то же время он наказал Дильону, который благополучно держался в Лез-Ислет, подвинуться к Клермону и Варенну, чтобы перерезать путь к Вердену. Эти распоряжения были, несомненно, хороши, но следовало исполнить их лично; главнокомандующему следовало, по весьма верному и возвышенному суждению Жомини[57], нагрянуть прямо на Рейн и со всей армией спуститься по его берегу. В эту минуту удачи он сокрушил бы всё перед собою и за один поход взял бы Бельгию. Но Дюмурье думал ехать в Париж, чтобы готовить вторжение через Лилль. Генералы Штенгель, Бернонвиль и Валенс, со своей стороны, действовали недостаточно согласованно и преследовали пруссаков вяло. Валенс, подчиненный собственно Келлерману, вдруг получил приказ присоединиться к своему начальнику в Шалоне, чтобы вместе отправиться в Мец. Надо признать, комбинация эта была довольно странной, так как Келлерман углублялся в страну, чтобы потом опять направиться к лотарингской границе. Естественнее было бы избрать путь на Витри или Клермон, и тогда это движение совпало бы с погоней за пруссаками, согласно распоряжениям Дюмурье. Едва последний узнал о приказе, отданном Валенсу, он велел ему продолжать начатое на том основании, что, пока Северная и Центральная армии остаются вместе, высшее начальство принадлежит одному ему, Дюмурье. Он имел по этому поводу весьма оживленное объяснение с Келлерманом, который отменил свое первое решение и согласился отправиться на Сент-Мену и Клермон. А погоня все-таки велась весьма вяло. Один Дильон занялся ею с горячим усердием и едва не дал себя побить, слишком опрометчиво бросившись за неприятелем. Несогласие между главнокомандующими и их разобщенность, когда миновала опасность, были единственной причиной, по которой отступление досталось пруссакам так дешево. Много было толков о том, будто отступление это было куплено и заплачено было за него продуктом большой кражи, о которой мы будем говорить дальше; будто это было делом, условленным с Дюмурье; будто о том же, наконец, ходатайствовал Людовик XVI из своей темницы. Как мы показали выше, это отступление вполне удовлетворительно объясняется естественными причинами; но есть еще множество доводов, доказывающих нелепость этих предположений. Так, например, неправдоподобно, чтобы государь, недостатки которого уж никак не заключались в низкой алчности, пошел на подкуп; неясно, почему бы, если существовал договор, Дюмурье не оправдать себя и свои действия признанием такового договора, нисколько для него не постыдного; наконец, Клери, камердинер короля, утверждает, что ничего подобного мнимому письму, написанному будто бы Людовиком XVI Фридриху-Вильгельму и препровожденному к нему через посредство Манюэля, не было. Всё это одна ложь, и отступление союзников было просто естественным последствием войны. Дюмурье, при всех сделанных им ошибках, при всей рассеянности его в Гранд-Пре, при всем нерадении его в момент отступления, всё же был спасителем Франции и Революции, вероятно, продвинувшей, Европу на несколько столетий. Приняв армию распущенную, недоверчивую, раздраженную, он сумел возвратить ей доверие и согласие, водворил на всей границе единство и энергию, ни разу не отчаялся среди самых бедственных обстоятельств, после потери проходов подал пример неслыханного хладнокровия и упорствовал в своей первоначальной мысли – промедлить, несмотря на опасность, вопреки желаниям своей армии и правительства, – с такой стойкостью, которая вполне доказывает силу его ума и характера. Никто, как он, не спас отечество от иноземцев и контрреволюции и не подал великий пример человека, спасающего своих сограждан против собственной их воли. Завоевание, как бы ни было оно обширно, никогда не представит такой нравственной красоты.
Глава XIV
Новое избиение заключенных в Версале – Выборы в Национальный конвент – Положение и планы жирондистов, характеристика вождей этой партииПока французские армии останавливали союзников, Париж всё еще пребывал в смятении. Мы уже видели, до каких безобразий дошла коммуна, как она неистовствовала в сентябре, как бессильны были власти и как безучастно вели себя военные в эти ужасные дни. Мы видели, с какой наглостью наблюдательный комитет признал себя виновником побоищ и советовал другим французским общинам поступать так же. Однако комиссары, разосланные коммуной, везде были отвергнуты, потому что Франция не разделяла ярости, которую в столице возбуждала близость опасности. Но в окрестностях Парижа убийства не ограничились описанными выше. В городе образовалась шайка убийц, которых сентябрьская бойня приучила к крови и которые ощущали потребность проливать ее еще. Несколько сотен человек отправились забирать из орлеанских тюрем обвиненных в государственной измене. Эти несчастные по последнему декрету должны были быть переведены в Сомюр. Но в дороге пункт назначения был изменен, и их повезли в Париж. Девятого сентября там узнали, что 10-го они должны приехать в Версаль. Тотчас же, вследствие ли новых приказаний, или просто потому, что одного этого известия было довольно, чтобы пробудить их кровожадность, шайка убийц в ночь на 10 сентября ворвалась в Версаль. Немедленно пронесся слух, что готовится новое побоище; версальский мэр принял все возможные предосторожности. Президент уголовного суда поскакал в Париж известить министра Дантона об опасности, угрожавшей арестантам, но в ответ на все свои настояния добился лишь одного: – Эти люди ведь большие преступники! – Пусть так, – возразил президент Алькье, – но право наказания принадлежит одному закону. – Да разве вы не видите, – наконец произнес Дантон грозным голосом, – что я ответил бы вам иначе, если бы мог? Какое вам дело до этих арестантов? Возвратитесь к вашей должности и больше не занимайтесь ими… На следующий день арестантов привезли в Версаль. Толпа неизвестных ринулась к каретам, окружила их, отделила от конвоя, стащила с лошади начальника конвоя Фурнье, силой увела мэра, который с полным самоотвержением решил дать себя убить на своем посту, и тут же умертвила несчастных арестантов в количестве пятидесяти двух человек. Тут погибли Делессар и д’Абанкур, преданные суду как министры, и Бриссак, бывший начальник конституционной гвардии, распущенной при Законодательном собрании. Тотчас после этой экзекуции убийцы бросились к городским тюрьмам и повторили подвиги первых чисел сентября, применяя те же средства и пародируя, как и там, судебные формы. Это последнее событие, случившееся спустя пять дней после первого, утвердило окончательный и всеобщий террор. Наблюдательный комитет не унимался: опорожнив тюрьмы казнями, он снова наполнял их арестантами. Приказов об арестах было так много, что министр внутренних дел Ролан, обличая перед собранием эти новые акты произвола, положил на стол от пяти до шести сотен таких приказов, подписанных иные одним лицом, иные двумя, по большей части вовсе немотивированных или основанных на простом подозрении в недостатке патриотизма. Коммуна, пользуясь своим могуществом в Париже, в то же время рассылала комиссаров в департаменты с поручением оправдывать свои действия, советовать следовать ее примеру, рекомендовать избирателям угодных ей депутатов, поносить тех, кто перечил ей в Законодательном собрании. Кроме того, она добывала громадные деньги, захватывая суммы, найденные у личного казначея короля Сетёя, церковное серебро и дорогую домашнюю утварь эмигрантов, наконец, вытребовав у казначейства значительные суммы под предлогом содержания касс вспомоществования и окончания лагерных работ. Все вещи, принадлежавшие несчастным погибшим в парижских тюрьмах и в Версале, были секвестрованы и сданы в обширные залы наблюдательного комитета. Коммуна ни за что не соглашалась представить ни самих вещей, ни оценки их, и даже не дала об этом ответа ни министру внутренних дел, ни директории департамента, превращенной, как известно, в простую комиссию сбора податей. Мало того, коммуна начала распродавать собственной властью мебель и убранство больших особняков, опечатанных с самого отъезда владельцев. Тщетно высшая администрация запрещала ей так поступать: все подчиненные, на которых возлагалось исполнение данных приказаний, или сами были преданы коммуне, или не имели сил действовать – и приказания оставались неисполненными. Национальная гвардия, заново сформированная под названием вооруженных секций из людей самого разного рода, находилась в полнейшем расстройстве. Она или потворствовала беззакониям, или – из нерадения – не мешала им. Некоторые посты были покинуты вследствие того, что люди, занимавшие их, не будучи сменены даже по истечении сорока восьми часов, уходили измученные и рассерженные. Все мирные граждане ушли из гвардии, еще недавно столь организованной, столь полезной, а Сантерр, ее начальник, был слишком слаб и недостаточно умен, чтобы вновь организовать ее. Итак, безопасность столицы была отдана на произвол судьбы. Из остатков королевского величия самыми драгоценными, а следовательно, возбуждавшими наибольшую жадность, были сокровища в Гард-Мёбль, роскошном хранилище всего имущества, некогда служившего блеску престола. С 10 августа толпа покушалась на это здание, и не одно обстоятельство уже возбудило бдительность смотрителя. Он беспрестанно представлял прошения об отправке ему достаточной стражи, но вследствие ли беспорядка, невозможности усмотреть за всем, или, наконец, из умышленной небрежности, его требования оставлялись без внимания. В ночь на 16 сентября все эти богатства были разворованы, и большая часть их попала в неизвестные руки. Этот новый скандал приписывали тем же людям, которые тайно организовали побоища. Однако в настоящем случае этими людьми уже не руководили ни фанатизм, ни кровожадность, а если предположить, что их соблазнила кража, то ведь в складах коммуны тоже было чем поживиться. Правда, некоторые говорили, будто этот разбой был совершен с целью заплатить прусскому королю за его отступление, но это чистейший вздор. Другое предположение состояло в попытке покрыть расходы партии. Это звучит правдоподобнее, но нимало не доказано. Впрочем, эта колоссальная кража не должна особо влиять на суждение о коммуне и ее вождях. Во всяком случае несомненно, что, имея на сохранении громадные ценности, коммуна так и не отдала в них отчета: печати, приложенные к шкафам, были сломаны, но замки остались целы, что указывает на организованную кражу, а не случайный грабеж; и, наконец, все эти драгоценности исчезли навеки. Часть их была нагло украдена деятелями вроде Сержана, которого прозвали Агатом, потому что он стал щеголять безделушкой из агата; другая часть ушла на чрезвычайное правительство, учрежденное коммуной. Эта была война против прежнего общества, а всякая война марается убийствами и грабежом.
Таково было положение Парижа, пока шли выборы в Национальный конвент. От этого нового собрания порядочные граждане ждали силы и энергии, необходимых для восстановления порядка; они надеялись, что сорок дней беспорядков и злодеяний, начавшиеся 10 августа, будут лишь случайным эпизодом революции, прискорбным, но мимолетным. Даже депутаты, так малодушно исполнявшие свои обязанности в Законодательном собрании, откладывали энергию до созыва Конвента – надежды всех партий. Выборы волновали всю Францию. Клубы получили еще большее влияние. Парижские якобинцы напечатали и пустили по рукам список всех голосов, поданных в последнюю законодательную сессию, чтобы этот список служил избирателям подспорьем. Депутаты, голосовавшие против законов, предложенных народной партией, а в особенности оправдавшие Лафайета, были отмечены особо. При всем том, в провинциях, где столичные раздоры еще не успели внедриться, жирондисты, даже самые ненавистные парижским агитаторам, избирались из уважения к их общепризнанным талантам и достоинствам. Почти все члены настоящего собрания были избраны вновь. Многие члены Учредительного собрания, исключенные из Законодательного известным декретом, были призваны к участию в Конвенте. Особо стоит отметить в их числе Бюзо и Петиона. Между новыми членами явились люди, отличившиеся в своих департаментах энергией или экзальтацией, а также писатели, подобно Луве, приобретшие известность в столице и провинциях своим талантом.
В Париже яростная партия, господствовавшая с 10 августа, прибрала выборы к рукам и выдвинула всех своих любимцев. Робеспьер и Дантон были избраны первыми. Якобинцы и совет коммуны приняли это известие с рукоплесканиями. После них были избраны Камилл Демулен, прославившийся своими статьями; Давид – благодаря своим картинам; Фабр д’Эглантин, известный своими комическими сочинениями и активным участием в революционных смутах; Лежандр, Панис, Сержан, Бийо-Варенн, известные своим образом действий в коммуне. К ним присоединились прокурор-синдик Манюэль; Робеспьер-младший, брат знаменитого Максимилиана; Колло д’Эрбуа, бывший актер; герцог Орлеанский, отрекшийся от своих титулов и принявший имя Филиппа Эгалите. Наконец, вслед за всеми этими именами, к общему удивлению, явилось имя старика Дюсо, одного из выборщиков 1789 года, того самого, который так энергично противился бешеным выходкам толпы, так много пролил над ними слез. Его избрание было последним отблеском 1789 года. В этом странном собрании недоставало только циника и кровопийцы Марата. В этом диковинном человеке имелось нечто, ужасавшее даже свидетелей сентябрьских дней. Капуцин Шабо, увлекавший якобинцев своей горячностью, сделался апологетом Марата, а так как все дела предварительно обсуждались якобинцами, то избрание его, предложенное у них в клубе, скоро состоялось в собрании. Марат, журналист Фрерон и несколько других темных личностей удачно заключали собой это пресловутое представительство, которое, имея в своей среде нескольких торговцев, одного мясника, актера, гравера, живописца, адвоката, трех-четырех писателей и павшего принца, весьма подходящим образом олицетворяло разнообразие и сумбур, царившие в то время в громадной столице Франции.
Депутаты постепенно прибывали в Париж, и, по мере того как число их возрастало, а дни, породившие такой глубокий ужас, отходили дальше, жители начинали успокаиваться и высказываться против столичных беспорядков. Страх перед неприятелем уменьшился по милости Дюмурье в Аргонском лесу; ненависть к аристократам переходила в жалость после страшного избиения их в Париже и Версале. Эти злодеяния, встретившие столько заблуждающихся поклонников или робких порицателей, теперь сделавшиеся еще безобразнее вследствие присоединения к убийствам воровства, возбуждали всеобщее отвращение. Жирондисты, негодуя на такие несчетные преступления и разгневанные гнетом, которому сами подвергались целый месяц, стали более твердыми и энергичными. Блистая перед глазами Франции талантом и мужеством, взывая к справедливости и гуманности, они, конечно, должны были получить перевес в общественном мнении и уже громко грозили своим противникам. Однако если жирондисты решительно выступали против парижских крайностей, они не испытывали и не возбуждали всех тех личных неприязненных чувств, которые растравляют вражду партий. Бриссо, не переставая состязаться красноречием с Робеспьером в Клубе якобинцев, внушил ему глубокую ненависть. Благодаря своему образованию и таланту Бриссо производил эффектное впечатление, но не пользовался достаточным личным уважением и не имел достаточно ловкости, чтобы стать вождем партии. Злоба Робеспьера льстила ему, приписывая ему эту роль. Когда почти накануне восстания жирондисты написали письмо Бозу, королевскому живописцу, пронесся слух о сделке и о том, будто Бриссо с кучей золота собирается в Лондон. Ничего подобного не было, но Марат, которому для обвинения довольно было самых незначительных или даже достоверно опровергнутых слухов, тем не менее во время повальных арестов воображаемых заговорщиков 10 августа издал приказ и против Бриссо. Из-за этого поднялся большой шум, и арест не состоялся. Но якобинцы все-таки говорили, что Бриссо продался Брауншвейгу. Робеспьер это повторял и верил этому, до того склонен был его извращенный ум верить в преступность тех, кого он ненавидел. Луве внушил ему такую же ненависть, сделавшись помощником Бриссо у якобинцев и в газете «Часовой». Луве, смелый и даровитый, прямо нападал на людей, и эти-то беспощадные нападки, ежедневно воспроизводимые газетой, сделали его самым ненавидимым и опасным врагом партии Робеспьера. Министр Ролан не угодил всей якобинской и муниципальной партии своим мужественным письмом от 3 сентября и своим сопротивлением превышениям власти, совершаемым коммуной; но так как он ни с кем лично не соперничал, то гнев против него был, так сказать, несколько отвлеченным. Лично он оскорбил одного Дантона, сопротивляясь ему в исполнительном совете, но это было не страшно, потому что не было на свете человека менее злопамятного, чем Дантон. Однако в лице Ролана его противники ненавидели главным образом его жену – гордую, строгую, мужественную госпожу Ролан, остроумную, собиравшую вокруг себя всех этих жирондистов, таких образованных, таких блестящих, воодушевлявшую их своими взорами, награждавшую своим уважением, сохранявшую в своем кружке наравне с республиканской простотой вежливость и изящество, так ненавистные грубым, темным людям. Они уже старались выставлять Ролана в низком и смешном виде: жена его, говорили они, управляет за него, руководит его друзьями, даже награждает их своими милостями. Марат на своем гнусном наречии называл ее Цирцеей партии. Гюаде, Верньо, Жансонне, хоть и придали блеск Законодательному собранию и боролись в нем против якобинской партии, тогда еще не возбуждали такой ненависти, как впоследствии. Гюаде даже нравился энергичным республиканцам своими нападками на Лафайета и двор. Живой, всегда готовый выдвинуться вперед, он переходил от сильнейшего увлечения к величайшему хладнокровию; владел собой на кафедре и удивлял умением кстати вставить слово и своими изящными жестами. Понятно, что он, подобно всем людям, пристрастился к тому, в чем был мастером, и находил слишком большое удовольствие в нанесении ударов партии, которая вскоре ответила ему. Верньо нравился горячим головам не так, как Гюаде, потому что никогда не выказывал такой ярости против двора, но зато он меньше рисковал уязвлять из добродушия и некоторой вялости; он менее своего друга Гюаде задевал личности. Страсти мало тревожили этого трибуна; они позволяли ему дремать среди треволнений партий и, не особенно выставляя его напоказ, позволяли избегать и ненависти. Однако он не оставался равнодушным. У него было благородное сердце, светлый, прекрасный ум, и затаенный огонь его натуры изредка бросался в голову, согревал его и поднимал до возвышеннейшей энергии. Он не имел такой живости в возражениях, как Гюаде, но воодушевлялся на кафедре – и тогда, благодаря необычайной гибкости голоса, излагал свои мысли с легкостью и красноречием, которых мало кто достигал. Речь Мирабо была, как и его характер, неровной и могучей; речь Верньо, всегда изящная и благородная, становилась в эти моменты величественной и энергической. Всем увещаниям госпожи Ролан не всегда удавалось разбудить этого атлета, порой испытывавшего отвращение к человечеству, часто недовольного неосторожностью своих друзей, а главное – мало убежденного в пользе слов против силы. Жансонне, исполненный здравого смысла и честности, но одаренный посредственным красноречием и способный только составлять дельные доклады, пока мало являлся на кафедре. Однако сильные страсти и упорный характер должны были доставить ему у друзей большое влияние, а у врагов – ненависть, всегда более направленную против характера, нежели против таланта. Кондорсе, некогда маркиз и всегда философ, ум возвышенный, беспристрастный, отлично судивший об ошибках своей партии, малопригодный для треволнений демократии, редко выдвигался вперед, еще не имел прямого личного врага и брал на себя работу, требовавшую глубокого умственного труда. Бюзо, рассудительный, с возвышенной душой и при этом мужественный, брал красотой и простой, твердой речью, унимал страсти благородством своей личности и имел на окружающих большое нравственное влияние. Барбару, избранный своими согражданами, только недавно приехал с юга с приятелем, тоже депутатом в Национальный конвент. Приятеля звали Ребекки. Это был человек малообразованный, но смелый, предприимчивый, чрезвычайно преданный Барбару. Читатели помнят, что последний боготворил Ролана и Петиона, на Марата смотрел как на бешеного зверя, а на Робеспьера – как на честолюбца, особенно после того как Панне представил его ему как необходимого диктатора. Возмущенный совершенными в его отсутствие злодеяниями, Барбару охотно приписал их этим людям, которых уже прежде ненавидел, и с самого своего прибытия высказался с такою энергичностью, которая сделала всякое примирение невозможным. Неровня своим друзьям по уму, но не лишенный понятливости, притом впечатлительный, красавец, герой, он сыпал угрозами и в несколько дней навлек на себя столько же злобы, как те люди, которые во всё время всей сессии Законодательного собрания не переставали задевать чужие мнения. Ядром и центром всей партии был Петион, пользовавшийся всеобщим уважением. Будучи мэром при Законодательном собрании, он приобрел громадную популярность своей борьбой с двором. Правда, 9 августа он предпочел сражению путь совещательный, а после того высказался против сентябрьских побоищ и отделился от коммуны, как это сделал Байи в 1790 году. Но эта спокойная, молчаливая оппозиция еще не рассорила его с крайней партией, а только внушила ей страх перед ним. Просвещенный, спокойный, говоривший редко, никогда ни с кем не состязаясь талантом, он имел на всех, даже на самого Робеспьера, влияние, принадлежавшее разуму холодному и бесстрастному. Хоть он и слыл жирондистом, но все партии добивались его одобрения, все его боялись и в новом собрании он имел сторонниками не только правую сторону, но и среднюю и даже значительную часть левой стороны.
Таково было положение жирондистов относительно парижской крайней партии: за них стояло большинство общественного мнения, не одобрявшее совершенных чрезвычайных действий; они завладели большей частью депутатов, ежедневно прибывавших в Париж; на их стороне были все министры, кроме Дантона, который часто одерживал верх над советом, но не использовал своего могущества против них; наконец, они указывали как на своего главу на мэра Парижа, человека в тот момент наиболее уважаемого. Но они были в Париже не у себя дома, а среди своих врагов; им приходилось страшиться неистовства низших классов, шевелившихся под ними, а в особенности – будущего, так как это неистовство должно было расти вместе с революционными страстями. Первое, в чем их упрекнули, это в желании пожертвовать Парижем. Их уже обвиняли в стремлении удалиться в департаменты за Луару. Так как Париж после 2 и 3 сентября провинился перед ними еще более, то за ними стали предполагать намерение бросить его и уверяли, что жирондисты предлагают собрать Конвент в другом месте. Мало-помалу подозрения сложились в нечто более определенное. Их начали упрекать в намерении нарушить национальное единство и сделать из восьмидесяти трех департаментов восемьдесят три государства, равноправных и связанных между собой лишь федеративными узами. К этому присовокуплялось еще, что этим жирондисты хотели уничтожить первенство Парижа и обеспечить себе личное господство – каждый в своем департаменте. Тогда-то и была выдумана клевета о федерализме. Действительно, когда Франции грозило вторжение пруссаков, жирондисты помышляли о том, чтобы в крайнем случае уйти в южные департаменты; правда также, что при виде парижских безобразий и тиранства они опять-таки нередко обращались мыслью к департаментам. Но от этого до федеративного проекта еще далеко. К тому же поскольку вся разница между правительствами федеративным и центральным заключается в большей и меньшей активности местных учреждений, то преступность такового помысла была уж очень неопределенна, даже если допустить ее. Жирондисты, впрочем, не видя в этой мысли ничего преступного, не отпирались от нее, и многие из них, негодуя на нелепые гонения против системы, спрашивали, не свободны ли, наконец, и не благополучны ли Новый Свет, Голландия или Швейцария при федеративных порядках? И неужели такое уж великое заблуждение или преступление – уготовить и Франции подобную долю? Бюзо в особенности отстаивал это учение, и Бриссо, большой поклонник американцев, тоже защищал его, скорее как философское мнение, нежели как систему, применимую к Франции. Разглашенные, эти беседы придали клевете еще больше веса. В Клубе якобинцев вопрос о федерализме был обсужден серьезно и поднял жестокую бурю против жирондистов. Там уверяли, что они хотят сломить революционное могущество, отнимая у него единство, в котором и состоит его сила; и это для того лишь, чтобы самим сделаться правителями в своих провинциях. Жирондисты, со своей стороны, отвечали более основательными упреками, но, на беду, тоже преувеличенными: уклоняясь от правды, они теряли свою силу. Жирондисты упрекали коммуну в захвате верховной власти, в посягательстве на национальное верховенство, в присвоении себе такой власти, какая подобает лишь всей Франции; упрекали ее в стремлении подчинить себе Конвент точно так же, как в свое время Законодательное собрание. Они говорили, что, заседая близ коммуны, национальные представители не находятся в безопасности, что они заседают фактически среди сентябрьских убийц. Они обвиняли коммуну в том, что она бесчестила революцию в течение сорока дней, последовавших за 10 августа, и в том, что парижскими депутатами избрали исключительно людей, отличившихся в этих ужасных сатурналиях. До сих пор всё это была правда. Но жирондисты присовокупляли обвинения, столь же неопределенные, как те, которые терпели они сами. Они во всеуслышание обвиняли Марата, Дантона и Робеспьера в домогательстве верховной власти: Марата потому, что он каждый день писал о диктаторе, который бы очистил общество от заражавших его скверной членов; Робеспьера потому, что он постоянно ораторствовал в коммуне и дерзко говорил в собрании и накануне 10 августа, а Панис предлагал его Барбару в качестве диктатора. Дантона, наконец, потому, что он пользовался в правительстве, в народе, везде, где только ни показывался, влиянием, свойственным сильному человеку. Их называли триумвирами, хотя между ними существовало весьма мало согласия. Марат был просто безумный изувер; Робеспьер пока оставался еще только ревнивцем, так как был лишен всякого величия, чтобы его можно было назвать честолюбцем; наконец, Дантон был человек деятельный, страстно преданный делу революции и налагавший на всё руку более из усердия, нежели из личного честолюбия. Но между этими людьми еще не имелось ни узурпатора, ни заговорщиков, в чем-нибудь согласившихся, и неосторожностью было дать противникам, без того уже сильным, преимущество, которым всегда пользуются люди, несправедливо обвиняемые. Однако жирондисты больше щадили Дантона, потому что между ними не было ничего личного, а Марата они слишком презирали, чтобы прямо на него нападать. Но они беспощадно набрасывались на Робеспьера, потому что их раздражал успех его так называемой добродетели и красноречия; они испытывали к нему то неприязненное чувство, которое ощущает истинное превосходство против чрезмерно восхваляемой посредственности. При всем том перед открытием Национального конвента члены его попытались кое о чем сговориться, состоялось несколько собраний, на которых было предложено объясниться откровенно и покончить с этими зловредными распрями. Дантон вполне искренне приступал к делу, потому что не вносил в него гордости и желал успеха прежде всего революции; Петион выказал большую холодность и рассудительность; но Робеспьер был настроен скептически как человек уязвленный; а жирондисты держали себя гордо и строго как люди правые, негодующие и уверенные, что оружие отмщения в их руках. Барбару сказал, что невозможен союз между преступлением и добродетелью, и обе стороны разошлись более далекие от примирения, чем до этого свидания. Все якобинцы примкнули к Робеспьеру, жирондисты и умеренные депутаты – к Петиону. Мнение последнего, так же, как и всех благоразумных людей, было следующим: прекратить всякие обвинения, так как всё равно не было возможности схватить зачинщиков сентябрьских побоищ и кражи в Гард-Мёбль; не говорить больше о триумвирах, потому что их честолюбие не было ни настолько доказано, ни настолько очевидно, чтобы его можно было наказать; относиться с презрением к двум десяткам негодяев, попавших в Конвент в результате выборов в Париже; наконец, поспешить исполнить цель Конвента, то есть составить конституцию и решить участь Людовика XVI. Таково было мнение хладнокровных людей; другие же, менее спокойные, настроили, как водится, планов, которые хоть и не могли еще быть выполнены, были опасны тем, что раздражали и настораживали их противников. Они предлагали отрешить от должности муниципалитет, в случае надобности перенести Конвент куда-нибудь из Парижа, превратить его в судебное место для безапелляционного суда над заговорщиками, наконец, приставить к нему особую стражу из телохранителей, взятых изо всех департаментов. Эти планы остались без последствий и только разожгли страсти. Жирондисты возлагали все надежды на совесть общества, которая, по их мнению, должна была проснуться от их красноречия и рассказов о совершенных злодеяниях. Они договорились общими силами громить своих противников с кафедры Конвента.
Национальный Конвент

Глава XV
Открытие Конвента – Уничтожение королевской власти – Объявление единства и нераздельности Республики – Перемены в исполнительной власти – Дантон оставляет министерство – Учреждение комитетовДвадцатого сентября 1792 года депутаты, составлявшие Конвент, сошлись во дворце Тюильри для открытия нового собрания. Они предварительно организовались, проверили свои полномочия и немедленно приступили к составлению бюро. Петион почти единогласно был провозглашен президентом. Бриссо, Кондорсе, Рабо Сент-Этьена, Ласурса, Верньо и Камю выбрали секретарями. Такой результат выборов ясно показывает, как велико в то время было влияние жирондистской партии. Законодательное собрание, не прекращавшее своих заседаний с 10 августа, получило уведомление, что организовался Национальный конвент и законодательная сессия окончена. Собраниям оставалось только слиться вместе, и Конвент отправился занять залу Законодательного собрания. Уже 21-го числа Манюэль, временно отрешенный от своей должности вместе с Петионом и ставший вследствие этого весьма популярным, сделалпредложение, которое крайне смутило врагов Жиронды. «Граждане представители, – говорит он, – нужно, чтобы здесь всё дышало достоинством и величием, которые внушили бы уважение миру. Я требую, чтобы президент Франции имел помещение в Тюильрийском дворце, был защищен обществом и законом и граждане при виде его вставали». Шабо и секретарь коммуны Тальен энергично восстают против этого церемониала, заимствованного у монархии. Шабо говорит, что представители народа должны уподобиться гражданам, из рядов которых они вышли, санкюлотам, образующим большинство нации. Тальен присовокупляет, что президента следует искать где-нибудь, где обитают гений и добродетель. Предложение Манюэля отвергается, и враги Жиронды уверяют, что она хотела доставить королевские почести своему вождю Петиону. За этим предложением беспрерывно следуют несколько других. Со всех сторон хотят заявить чувства, воодушевляющие собрание и Францию. Требуют, чтобы новая конституция имела своей основой равенство, чтобы верховенство народа было объявлено декретом, чтобы все поклялись в ненависти к королевской власти, диктаторству, триумвирату, ко всякой личной власти и чтобы смертная казнь была постановлена против любого, кто предложит подобную власть. Дантон останавливает этот поток предложений, заставляя собрание принять декрет о том, что новая конституция не будет иметь силы, пока ее не утвердит народ. К этому присовокупляют, что существующие законы временно останутся в силе, а подати будут взиматься по-прежнему, впредь до новых решений. Вслед за этими предложениями и декретами Манюэль, Колло д’Эрбуа и Грегуар приступают к вопросу о королевской власти и требуют немедленного ее уничтожения. Народ, говорят они, сейчас объявлен верховным владыкой, но он будет им действительно только тогда, когда избавится от соперничающей с ним власти королей. Собрание, трибуны, все встают, давая знать о своем единодушном одобрении. Однако Базир находит, что по столь важному вопросу следовало бы открыть торжественные прения. «К чему тут прения, – возражает Грегуар, – когда все между собою согласны? Двор есть лаборатория преступлений, фабрика разврата; история королей – история мученичества нации. Мы всё равно проникнуты этими истинами – к чему же прения?» Прения действительно закрываются. Водворяется глубокая тишина, и, согласно с единодушным заявлением собрания, президент объявляет, что королевская власть во Франции упраздняется. Декрет встречен общими рукоплесканиями; постановляется немедленное его обнародование, а также рассылка армиям и всем муниципалитетам. Когда провозгласили Республику, пруссаки еще не покинули французскую территорию. Дюмурье, как мы видели выше, перешел в Сент-Мену, и канонада 21-го числа, столь счастливо окончившаяся, еще не была известна в Париже. На следующий день Бийо-Варенн предложил вести новое летосчисление уже не с 1789 года и писать не год IV свободы, а год I Республики. Это предложение приняли, 1789 год перестал считаться началом свободы, и новая республиканская эра открылась в тот же день, 22 сентября 1792 года. В тот же вечер пришло известие о канонаде при Вальми, и повсюду начала распространяться радость. По просьбе граждан Орлеана, недовольных своим начальством, декретом постановили, что все члены администрации и судов будут избраны вновь и условия, определенные Конституцией 1791 года, будут считаться недействительными. Судей уже не требовалось брать из среды юристов, а администраторов – среди землевладельцев. Законодательное собрание уже отменило денежный ценз и предоставило избирательное право всем совершеннолетним гражданам. Конвент окончательно стер последние разграничения, призывая всех граждан к исполнению разнообразнейших должностей. Так было положено начало безусловному равенству.
Двадцать третьего сентября выслушали всех министров. Депутат Камбон составил отчет о состоянии финансов. Предыдущими собраниями было постановлено заготовить два миллиарда семьсот миллионов ассигнаций; два миллиарда пятьсот миллионов было израсходовано; оставалось двести миллионов, из которых сто семьдесят шесть еще надо было заготовить, а в наличности имелось всего двадцать четыре. Подати удерживались департаментами на закупки хлеба; нужны были новые источники. Так как число эмигрантских имуществ ежедневно возрастало, можно было выпускать бумажные деньги, представлявшие эти имущества, и Конвент постановил заготовить новые ассигнации. Ролан говорил о состоянии Франции и столицы. Столь же строго, но еще смелее, нежели 3 сентября, он описал парижские беспорядки, изложил их причины и средства к предотвращению таковых в будущем. Он советовал скорее учредить правительство, сильное и энергичное, как единственную гарантию порядка в свободном государстве. Его отчет произвел благоприятное впечатление, был встречен рукоплесканиями и не вызвал взрыва со стороны людей, принимавших на свой личный счет всё, что говорилось о парижских смутах. Но едва бросили этот первый взгляд на состояние Франции, как пришло известие о беспорядках, вспыхнувших в некоторых департаментах. Ролан написал Конвенту письмо, в котором изобличил эти новые смуты и потребовал их подавления. Тотчас по окончании чтения депутаты Керсен и Бюзо бросаются к кафедре – обличать злодеяния всякого рода, которые начинают совершаться повсюду. «Убийствам, – говорят они, – подражают департаменты. В этом следует обвинять не анархию, а тиранов нового сорта, возвышающихся над едва только освобожденной Францией. Из Парижа ежедневно исходят эти пагубные внушения. На всех стенах столицы можно прочесть афиши, призывающие к убийству, поджогам, грабежам, и роковые списки, в которые каждый день вносятся имена новых жертв. Как предохранить народ от страшной нужды, если столько граждан осуждены скрывать свое существование? Как дать Франции надежду на конституцию, если Конвент, который должен создать ее, ведет свои прения фактически под дамокловым мечом? Ради чести революции нужно прекратить все эти безобразия и провести различие между гражданской храбростью, не убоявшейся деспотизма 10 августа, и жестокостью, служившей 2 и 3 сентября немой и скрытой тирании». Итак, принимая во внимание вышеизложенное, ораторы требуют учреждения комитета, которому следует: 1. Составить отчет о состоянии Республики и в особенности Парижа. 2. Представить проект закона против людей, призывающих к убийствам. 3. Отдать отчет в средствах и предоставить в распоряжение Конвента вооруженную общественную силу, взятую из всех департаментов. В ответ на это предложение все члены левой стороны, состоящей из самых горячих членов нового собрания, поднимают крик и шум. Зло преувеличивают, уверяют они. Лицемерные жалобы, сию минуту изложенные, исходят из глубины темниц, в которые справедливо заперты подозрительные лица, уже три года готовившие междоусобную войну. Обжалование зла было неизбежно: народ находится в разгаре революции и обязан принять энергичные меры к своему спасению. Теперь эти критические минуты прошли, и заявлений, уже сделанных Конвентом, будет достаточно, чтобы унять смуты. Да и к чему чрезвычайная юрисдикция? Разве мало старых законов против призывов к убийствам? Не хотят ли таким образом учредить новый военный закон? Те самые люди, которые требовали учреждения чрезвычайного суда 17 августа и совсем скоро после этого вынуждены были требовать революционного суда, восставали против закона, по их словам, кровавого! – Кровавый закон, – восклицает Керсен, – когда я хочу именно предотвратить кровопролитие! Однако противники с горячностью требуют отсрочки вопроса. – Отсрочить подавление убийств, – возражает Верньо, – значит разрешить их! Враги Франции с оружием стоят на нашей земле, а вы хотите, чтобы французские граждане, вместо того чтобы сражаться, резали друг друга наподобие воинов Кадма[58]. Наконец предложение Керсена и Бюзо приняли и издали декрет о законе, каравшем призывы к убийству, и об организации департаментской гвардии. Это заседание 24 сентября сильно взволновало умы; однако не были произнесены конкретные имена и обвинения оставались общими. На следующий день обе стороны сходятся, сохраняя вчерашнее озлобление; одна ропщет против изданных декретов, другая жалеет, что мало наговорила против разрушающей общественный строй фракции. Мерлен, некогда судебный пристав и муниципальный чиновник в Тионвиле, а потом депутат Законодательного собрания, где он отличился наряду с самыми завзятыми патриотами, – Мерлен, прославившийся своей храбростью и горячностью, просит слова. «На очереди, – говорит он, – стоит разъяснение вопроса, действительно ли в недрах Национального конвента существует, как меня вчера уверял Ласурс, фракция, желающая учредить триумвират или диктатуру. Нужно, чтобы или всякое недоверие прекратилось, или чтобы Ласурс указал виновных. И тогда я клянусь заколоть их перед глазами собрания». Ласурс в ответ на этот прямой запрос приводит свой разговор с Мерленом и снова намекает, не называя их, на честолюбцев, замышляющих возвыситься на развалинах уничтоженной королевской власти. «Это те самые люди, которые затеяли убийства и грабежи, – говорит он, – которые издавали приказы об аресте членов Законодательного собрания, которые указывают кинжалам на мужественных членов Конвента и сваливают на народ преступления, совершаемые по их же приказаниям. Когда настанет время, я сам сорву с них покров, который теперь лишь приподнял, даже если придется пасть под их ударами». А триумвиров все-таки не называют. Осселен всходит на кафедру и, указывая на парижскую депутацию, членом которой состоит, заявляет, что против нее стараются возбудить недоверие, но она не настолько невежественна и не настолько испорчена, чтобы носиться с такими замыслами, как триумвират и диктатура; что он клянется в противном и просит, чтобы первый, кто будет уличен в подобных намерениях, был предан анафеме и смерти. – Пусть каждый вслед за мною всходит на кафедру и делает то же заявление! – присовокупляет он. – Да! – восклицает Ребекки, неустрашимый друг Барбару. – Да, такая партия, обвиняемая в тиранических замыслах, существует, и я ее назову: это партия Робеспьера. Марсель ее знает и прислал нас сюда за тем, чтобы противоборствовать ей. Эта смелая речь поднимает бурю. Все взоры устремляются на Робеспьера. Дантон спешит говорить, чтобы умиротворить раздор и отстранить обвинения, которые, как он отлично понимает, направлены отчасти и против него. – Для Республики, – говорит он, – прекрасен тот день, когда откровенное, братское объяснение успокоит недоверие. Толкуют о диктаторах, о триумвирах; но это обвинение неопределенно – оно должно быть подписано! – Я подпишусь! – восклицает Ребекки и бросается к столу. – Прекрасно, – отвечает Дантон. – Если есть виновные, пусть погибнут, хотя бы это были лучшие мои друзья. Что до меня – жизнь моя известна. В патриотических обществах, 10 августа, в исполнительном совете я служил делу свободы без всяких личных видов, с энергией, свойственной моему темпераменту. Стало быть, я не боюсь обвинений, но и всех хочу от них избавить. Есть, не спорю, в числе парижских депутатов один человек, которого можно назвать главарем республиканцев. Это Марат. Меня часто обвиняли в подстрекательстве его прокламаций; но ссылаюсь на свидетельство президента и прошу его заявить, как часто он видел меня воевавшим с Маратом в коммуне и комитетах. Впрочем, этот писатель, предмет стольких нареканий, провел часть своей жизни в подвалах и темницах. Страдания раздражили его нрав, следует извинять его вспышки. Но бросьте эти личные споры и постарайтесь обратить их на пользу общего дела. Объявите смертную казнь всякому, кто предложит триумвират или диктатуру. – Предложение вызывает рукоплескания. – Это не всё, – продолжает Дантон, – в публике ходит еще другой страх, и его также нужно рассеять. Уверяют, будто часть депутатов мечтает о федеративной системе и разделении Франции на множество участков. Для нас важно составлять одно целое. Объявите же другим декретом единство Франции и ее правительства. Положив эти основы, устраним всякое недоверие и будем согласно идти к нашей цели! Бюзо отвечает Дантону, что диктатура берется, а не испрашивается, и потому законы такого рода суть иллюзия; что о федеративной системе никто и не думал; что предложенная департаментская гвардия есть средство к объединению, так как все департаменты будут призваны общими силами охранять национальное представительство; что, впрочем, пожалуй, полезно издать закон об этом предмете, только он должен быть зрело обдуман, а потому нужно отослать предложения Дантона Комитету шести, учрежденному накануне. Робеспьер, лично обвиненный, просит слова. Он начинает с того, что будет защищать не себя, а общее дело, в его лице подвергшееся нападению. Затем он обращается к Ребекки: – Гражданин, не убоявшийся обвинить меня, благодарю вас. По вашему мужеству узнаю знаменитый город, депутатом которого вы состоите; отечеству, вам, мне – нам всем полезно будет это обвинение. Вам указывают, – продолжает он, – на партию, задумывающую будто бы новую тиранию, и вождем этой партии называют меня. Обвинение неопределенно, но благодаря всему, что я сделал для свободы, мне будет легко ответить на него. В Учредительном собрании я три года боролся против всех фракций, каким бы именем они ни прикрывались, я боролся против двора, пренебрег его дарами, я… – Не в том вопрос! – восклицают несколько депутатов. – Надо же ему оправдаться, – возражает Тальен. – Так как меня обвиняют в измене отечеству, – продолжает Робеспьер, – то не вправе ли я против этого обвинения привести всю мою жизнь? Он продолжает перечислять свои двойные заслуги – против аристократии и против лжепатриотов, надевших личину свободы. Говоря это, он рукой указывает на правую сторону Конвента. Сам Осселен, наскучивши этим перечнем, прерывает Робеспьера и требует от него прямого объяснения. – Дело не в том, что вы сделали вообще, а в том, в чем вас сегодня обвиняют. Тогда Робеспьер ссылается на свободу мнений, на священное право защиты, на общее дело, компрометируемое этим обвинением. Его снова приглашают говорить покороче, но он продолжает в том же духе. Напомнив об изданных по его настоянию декретах против вторичного избрания членов Учредительного собрания и назначения депутатов на правительственные места, он спрашивает – похоже ли всё это на честолюбие? Потом он начинает бранить своих противников, возобновляет обвинения их в федерализме и кончает тем, что требует утверждения декретов, предложенных Дантоном, и серьезного рассмотрения обвинений, взведенных на него. Барбару вскакивает в нетерпении. – Барбару из Марселя, – восклицает он, – желает подписаться под доносом, сделанным Ребекки против Робеспьера! И далее он рассказывает маловажную и избитую историю о том, как перед 10 августа Панне сводил его к Робеспьеру и по окончании свидания представлял его как единственного человека, диктатора, могущего спасти общее дело. И как на это он, Барбару, ответил, что никогда марсельцы не склонят голову ни перед королем, ни перед диктатором. Мы уже приводили эти факты, и читателю легко судить, могли ли такие неопределенные и малозначащие речи друзей Робеспьера служить основой обвинения. Барбару попунктно перебирает все обвинения против жирондистов; он требует, чтобы против федерализма был издан декрет, чтобы все члены Конвента поклялись выдержать блокаду в столице и скорее погибнуть в ней, чем ее покинуть. После прервавших его рукоплесканий Барбару продолжает говорить, что замыслов диктатуры оспаривать нельзя, что захват коммуны, приказы об аресте членов национального представительства и рассылка комиссаров по департаментам – всё это доказывает намерение присвоить себе власть. Но город Марсель бдительно наблюдает за безопасностью своих депутатов и, всегда готовый предупредить полезные декреты, прислал батальон федератов вопреки королевскому вето, а теперь опять посылает восемьсот своих граждан; что к этому отряду город присовокупил двести человек конницы, хорошо экипированных, и это войско послужит началом департаментской гвардии. «Что касается Робеспьера, – в заключение говорит Барбару, – то мне крайне прискорбно его обвинять, потому что я его некогда любил и уважал. Да мы все его любили и все уважали, однако же – обвинили. Но пусть он признается в своей неправоте – и мы отстанем. Пусть он не жалуется больше: если он спасал свободу пером, мы ее защищали собою. Граждане, когда настанет день опасности, тогда нас можно будет судить, тогда мы увидим, сумеют ли авторы гневных афиш умереть с нами!» Громкие рукоплескания провожают Барбару до места. Услышав выражение «гневные афиши», Марат требует слова; вслед за ним слова требует Камбон и получает предпочтение. Он показывает афиши, подписанные именем Марата, где диктатура предлагается как вещь необходимая. Тут все немедленно отодвигаются от Марата, который отвечает улыбкой на выказываемое ему презрение. За Камбоном следуют еще несколько обвинителей Марата и коммуны. Марат долго пытается добиться слова, но Панис получает его прежде и возражает на всё, сказанное Барбару. Он неловко отрицает факты реальные, но не могущие быть доказанными, которые лучше бы признать, выставив таким образом на вид их малозначительность. Тогда его перебивает Бриссо и требует объяснения приказа о своем собственном аресте. Панис ссылается на обстоятельства, слишком, говорит он, легко забытые; на террор и беспорядок, царствовавшие в то время в умах; на множество доносов против заговорщиков 10 августа; на силу слухов, распространившихся против Бриссо и на необходимость разъяснить их. После этих беспрестанно прерываемых продолжительных объяснений Марат наконец добивается слова. Он в первый раз является на кафедру. Один вид его вызывает общее движение негодования, и поднимается страшный гвалт. «Долой! Долой!» – кричат со всех сторон. Небрежно одетый, в фуражке, которую он, впрочем, кладет на кафедру, обводя собрание судорожной и презрительной улыбкой, он начинает: – У меня, без сомнения, много личных врагов в этом собрании… – Все! Все! – кричат большинство депутатов. – У меня, – снова начинает Марат с той же уверенностью, – в этом собрании много личных врагов: призываю их к приличию. Пусть они пощадят человека, который принес и свободе, и им самим больше пользы, нежели они думают. Толкуют о триумвирате, о диктатуре и приписывают эти замыслы парижской депутации. Я обязан по справедливости заявить, что мои товарищи, в особенности именно Робеспьер и Дантон, всегда были против них и я по этому поводу вынужден был вести с ними постоянную полемику. Я первый, один во Франции, один между всеми политическими писателями, подумал об этой мере как о единственном способе раздавить изменников и заговорщиков. Меня одного следует наказать. Но прежде чем наказывать, следует выслушать. Тут раздается несколько рукоплесканий, но они быстро стихают. Марат продолжает: – Среди вечных махинаций вероломного короля, зловредного двора и лжепатриотов, в обоих собраниях, продававших общественную свободу, станете ли упрекать меня в том, что я придумал единственное средство к спасению и призвал мщение на преступные головы? Нет, ибо народ отрекся бы от вас. Он почувствовал, что ему остается одно это средство избавиться от изменников: только сделавшись самому диктатором. Я более чем кто-либо содрогался при мысли об этих страшных движениях, и, именно для того, чтобы они не оставались вечно бесплодными, я бы желал, чтобы ими управляла справедливая и твердая рука. Если бы при взятии Бастилии осознали необходимость этой меры, пятьсот злодейских голов пали бы по моему слову и мир был бы упрочен тогда же. Но вследствие того, что не была выражена эта столь же мудрая, сколько и необходимая энергия, сто тысяч патриотов перебито и еще стольким же грозит тот же конец. Я не хотел сделать из этого диктатора, трибуна, триумвира (имя тут ни при чем) такого тирана, какого может выдумать лишь глупость. Я хотел создать жертву, обреченную отечеству, доле которого не позавидовал бы ни один честолюбец. Доказательством служит то, что я предлагал облечь такого диктатора властью лишь на несколько дней, чтобы эта власть была ограничена правом казнить изменников, и на это время ему приковали к ноге ядро – тогда он постоянно был бы под рукой народа. Мои идеи, какими бы возмутительными они вам ни казались, стремились единственно к общественному благополучию. Если вы не доросли до того, чтобы понимать меня, тем хуже для вас! Глубокое молчание, царившее в собрании до сих пор, нарушается несколькими взрывами хохота, которыми оратор не смущается. Он невозмутимо продолжает: – Таково было мое мнение, написанное, подписанное, публично отстаиваемое. Надо было оспаривать его, просветить меня, а не доносить на меня деспотизму. Меня обвиняют в честолюбии! Смотрите сами и судите меня. Если бы я только согласился молчать за деньги, я бы сидел по горло в золоте, а я беден! Постоянно преследуемый, я скитался из подвала в подвал и проповедовал истину на плахе! Вы же – откройте глаза. Вместо того чтобы убивать время на скандальные препирательства, усовершенствуйте Декларацию прав, установите конституцию и создайте основы того справедливого и свободного образа правления, который составляет истинную цель ваших трудов. Этот странный человек овладевает общим вниманием, и собрание, поставленное в тупик такой страшной и такой обдуманной системой, дослушивает его молча. Это молчание придает нескольким сторонникам Марата смелость аплодировать, но подражателей не находится, и Марат возвращается на свое место, не получив ни рукоплесканий, ни проявлений неудовольствия. Верньо, самый чистый, самый мудрый из жирондистов, считает своим долгом возразить, чтобы пробудить оцепеневшее негодование депутатов. Он сожалеет, что ему выпало несчастье ответить человеку, обремененному декретами. Шабо и Тальен протестуют и спрашивают, о тех ли декретах речь, которые изданы против него судом Шатле за то, что он разоблачил Лафайета? Верньо повторяет, что ему прискорбно отвечать человеку, не очистившемуся от многочисленных тяготевших над ним обвинительных декретов, человеку, с которого так и струятся клевета, желчь и кровь! Ропот возобновляется, но Верньо твердо продолжает и, отличив от прочих парижских депутатов Давида, Дюсо и нескольких других, берет в руки пресловутый циркуляр коммун и прочитывает его весь. Но поскольку циркуляр этот уже известен, он не производит такого эффекта, как другой документ, который в свою очередь читает депутат Буало. Это листок, напечатанный у Марата тем же утром, где он говорит: «Одна мысль меня подавляет – это то, что все мои усилия для спасения народа не приведут ни к чему без нового восстания. Ввиду закалки большинства депутатов в Конвенте я отчаиваюсь в общественном благе. Если во время первых восьми заседаний не будут положены основы конституции, не ждите от этого собрания больше ничего. Вас ждут пятьдесят лет анархии, и вас выведет из нее лишь диктатор, истинный патриот и государственный человек… О, народ-болтун! Если бы ты умел действовать!..» Чтение этого документа несколько раз прерывается возгласами негодования. Как только чтение заканчивается, толпа накидывается на Марата. Одни грозят ему и кричат: «В Аббатство его! На гильотину!» Другие засыпают презрительными словами. Он отвечает на эту бурю всё той же улыбкой. Буало требует обвинительного декрета, и большинство собрания хочет немедленно приступить к голосованию. Марат хладнокровно настаивает, чтобы его снова выслушали. Его хотят слышать не иначе как у решетки, обвиненным. Насилу добивается он слова. Что касается декретов, которыми его не устыдились попрекнуть, он ими хвалится, потому что они – награда за его мужество. Притом народ, посылая его в Национальный конвент, очистил его от обвинительных декретов и решил спор между его обвинителями и им. От прочитанной же сейчас статьи он отрекаться не станет, потому что ложь, говорит он, никогда не коснулась его уст, а сердце его чуждо страха. «Требовать от меня отречения, – присовокупляет Марат, – всё равно что требовать, чтобы я не видел того, что вижу, не чувствовал того, что чувствую. Никакая сила под луною не в состоянии так перевернуть понятия: я могу отвечать за чистоту моего сердца, но не могу изменить моих понятий; они таковы, каковыми внушает мне их самая суть дела». Затем Марат объясняет собранию, что эта статья, напечатанная десять дней назад, перепечатана против его воли его издателем, но в первом же номере «Journal de la Republique Frangaise» он поместил новое изложение своих принципов, которыми собрание, без сомнения, останется довольно, если выслушает. Собрание соглашается на чтение новой статьи и, задобренное умеренными выражениями, употребленными Маратом в этой статье, озаглавленной «Новый путь», обходится с ним мягче, решаясь даже в некоторых местах выразить одобрение. Но он опять всходит на кафедру, со своим обычным нахальством заявляя, что если бы в этот же день не вышел оправдывающий его номер газеты, его отправили бы в тюрьму. «Однако, – продолжает он, показывая пистолет, который всегда носит в кармане, – и у меня есть чем защитить свою свободу, и если бы вы издали против меня обвинительный декрет, я всадил бы себе пулю в лоб здесь же, на этой самой кафедре. Вот плод моих трудов, опасностей, страданий! Останусь же между вами, назло вашей ярости!» В депутатах вновь пробуждается негодование, они кричат, что это сумасшедший, злодей, и шум долго не унимается. Прения продолжались несколько часов, но к чему они пришли?.. Не узнав ничего нового о мнимом проекте диктатуры, узнали многое о характере партий и их взаимных претензиях. Дантон явился добродушным и исполненным доброжелательства к своим товарищам, но с условием, чтобы не затрагивали его действий; Робеспьер – полным желчи и надменности; Марат – поразительным феноменом цинизма и смелости, отвергаемым даже собственной партией, но старающимся приучить умы к своим зверским принципам. Оказалось, что все трое преуспевают в революции посредством разных способностей и пороков, между собою не ладят, друг от друга отрекаются и очевидно имеют только ту любовь к влиянию, которая свойственна всем людям и еще не означает собой тиранию. Собрание согласилось с жирондистами, проклинавшими сентябрьские ужасы, им принесли дань уважения, подобавшую их талантам и безусловной честности, но обвинения их нашли преувеличенными и неосторожными, а в негодовании их нельзя было не подметить примеси личного чувства. С этой минуты Конвент распался на правую и левую стороны, как на первых порах в Учредительном собрании. С правой стороны поместились все жирондисты и те, кто, не будучи лично связаны с их участью, разделяли их благородное негодование. В центре в значительном числе собрались депутаты честные, но смирные, которые, не будучи склонны ни по характеру, ни по таланту принять участие в борьбе партий чем-либо большим, кроме голоса, искали одной безвестности. Весьма значительное число их, чрезвычайное уважение к собранию, усердие, с которым якобинская и муниципальная партии старались оправдать себя перед ними, – всё их успокаивало. Они уверяли себя, что авторитета Конвента со временем станет достаточно, чтобы унять агитаторов; они не прочь были отложить энергию до поры до времени и были рады, что могли сказать жирондистам о том, что их обвинения рискованны. Они пока еще являлись лишь рассудительными и беспристрастными, иногда выказывали некоторую ревность к чересчур частому и блестящему красноречию правой стороны, но подходило время, когда под гнетом тирании они должны были сделаться малодушными и раболепными. Их назвали Равниной* в противоположность А также Болотом и Брюхом. – Прим. ред. Горе, то есть левой, якобинской стороне. На ступенях Горы помещались депутаты Парижа и те из депутатов департаментов, кто был обязан своим избранием проискам клубов, а также те, кто уже по приезде своем заразились мыслью не давать ни малейшей пощады врагам революции. Тут насчитывалось и несколько недюжинных умов, точных, строгих, положительных, которым филантропические теории жирондистов претили как пустые отвлеченности. Однако Гора еще была не очень многочисленна. Равнина в союзе с правой стороной составляла громадное большинство, сделавшее президентом Петиона и одобрявшее нападки жирондистов на сентябрьские деяния, кроме нападок личных. После высказывания обоюдных обвинений обеих партий собрание перешло к очередным делам, но вчерашнего декрета не отменило и осталось при трех решениях: 1. Потребовать у министерства внутренних дел точного и верного отчета о состоянии Парижа. 2. Составить проект закона против лиц, призывавших к убийствам и грабежам. 3. Придумать средство окружить Конвент департаментской гвардией. Что касается доклада о состоянии Парижа, все знали, с какой энергией и в каком духе он будет составлен, так как это было поручено Ролану. Комиссия, снаряженная по остальным двум пунктам, подавала не меньше надежд, так как вся была составлена из жирондистов и членами ее были, между прочими, Бюзо, Ласурс, Керсен. Против последних двух проектов в особенности восстала Гора. Депутаты спрашивали, не военное ли положение и побоища Марсова поля хотят возобновить, или Конвент хочет обзавестись клевретами и телохранителями, как совсем недавно король? Одним словом, они, по справедливому замечанию жирондистов, повторяли все доводы, приводимые двором против их же лагеря. Многие из членов левой стороны, и даже из пламеннейших, были, в качестве членов Конвента, весьма возмущены захватами, совершаемыми коммуной, и никто, помимо парижских депутатов, не защищал ее, когда на нее нападали, а это случалось каждый день. Поэтому декреты быстро следовали один за другим. Так как коммуна медлила с обновлением своего личного состава, исполнительному совету было приказано принять меры к таковому обновлению и доложить собранию в трехдневный срок. Назначили комиссию из шести членов для принятия заявления, подписанного всеми, кто сдавал какие-либо вещи на сохранение в ратушу, и для розыска этих вещей. Директории департамента, низведенной коммуною до звания простой административной комиссии, вернули все ее атрибуты и титул директории. Общинные выборы для назначения мэра, муниципалитета и Генерального совета, которые якобинцы недавно придумали сделать гласными, чтобы запугивать людей слабых, снова были сделаны секретными. Выборы, уже состоявшиеся этим способом, объявили недействительными, и секции должны были начать их заново по предписанной форме. Наконец, было постановлено, что все арестанты, забранные не по законному приказу, будут немедленно освобождены. Это был серьезный удар по наблюдательному комитету, который свирепствовал именно против конкретных людей. Все эти декреты были даны в первые дни октября, и коммуна, теснимая не на шутку, увидела себя перед необходимостью покориться власти Конвента. Однако наблюдательный комитет сдался не без боя. Члены его явились в собрание разгромить своих врагов. Они прямо объявили о том, что имелось в хранившихся у них бумагах. Бумаги были найдены у Лапорта, заведовавшего суммами, отпускаемыми на личное содержание короля, и, как известно, осужденного на смерть судом 17 августа. Члены наблюдательного комитета вскрыли письмо, в котором говорилось о том, во сколько обошлись некоторые декреты, изданные предыдущими собраниями. И теперь они намерены изобличить депутатов, купленных двором, и доказать подложность их патриотизма. – Назовите их! – в негодовании воскликнули депутаты. – Мы еще не можем указать их, – ответили члены комитета. Тогда собрание, с целью опровергнуть клевету, тут же на месте назначило комиссию из двадцати четырех человек, не принадлежавших ни к Учредительному, ни к Законодательному собранию, и поручило ей просмотреть бумаги и представить о них доклад. Марат, изобретатель этой уловки, напечатал в своей газете, что дал сдачи роландистам за обвинение коммуны, и объявил о мнимом открытии измены жирондистов. Однако по изучении бумаг ни один из депутатов Конвента не оказался скомпрометированным, и наблюдательный комитет объявили клеветником. Поскольку, по причине их количества, комиссии неудобно было разбирать бумаги в ратуше, они были перевезены в помещение одного из комитетов собрания. Марат, лишившись таким образом материалов для своих ежедневных обвинений, очень рассердился и уверял в своей газете, что собрание сделало это, чтобы уничтожить все улики.
Положив предел безобразиям коммуны, Конвент занялся исполнительной властью и постановил, что депутаты не могут быть министрами. Дантон, вынужденный выбирать между должностями министра юстиции и члена Конвента, предпочел, подобно Мирабо, место, которое обеспечивало ему кафедру, и вышел из состава правительства, причем не сдал отчета в секретных расходах, говоря, что уже сдал таковой совету. Это было не вполне верно, но собрание поглядело на его ответ сквозь пальцы. Вследствие отказа Франсуа де Нёвшато министром юстиции стал Тара, хороший писатель и умный идеолог, прославившийся превосходной редакцией «Журналь де Пари». Серван, утомленный многотрудной должностью, приходившейся свыше не способностей его, а сил, предпочел принять начальство над обсервационной армией, которая составлялась вдоль Пиренеев. Лебрену, уже состоявшему министром иностранных дел, был временно вверен и военный портфель. Ролан, наконец, тоже подал в отставку, устав от анархии, столь противной его честным правилам и непреклонной любви к порядку. Жирондисты предложили собранию просить его остаться. Но представители Горы, а в особенности Дантон, которому Ролан беспрестанно перечил, не согласились, находя такую меру несовместной с достоинством Конвента. Дантон утверждал, что Ролан слаб и позволяет жене управлять собой; на этот упрек друзья министра ответили письмом 3 сентября и могли бы еще напомнить по этому поводу Дантону оппозицию, которую он сам постоянно встречал от него в совете. Упрашиваемый жирондистами и всеми порядочными людьми, Ролан остался министром. «Остаюсь, – писал он собранию, – потому что клевета на меня нападает и опасности ждут меня, потому что Конвент, по-видимому, желает, чтобы я остался. Я очень рад, – так оканчивал он письмо свое, – что не находят, чем попрекнуть меня, кроме союза с воплощением мужества и добродетели». Перешли к очередным делам. Собрание разделилось на несколько комитетов: комитет наблюдательный – из тридцати членов; военный – из двадцати четырех; счетный – из пятнадцати; комитет уголовного и гражданского законодательства – из сорока восьми; комитет ассигнаций, монет и финансов – из сорока двух. Шестому комитету, наиболее важному из всех, была поручена главнейшая цель, ради которой созвали Конвент, – составление проекта конституции. Этот комитет был составлен из девяти членов, пользовавшихся известностью и почти без исключения преданных правой стороне. Философия имела между ними своих представителей в лице Сийеса, Кондорсе, Томаса Пейна, американца, недавно пожалованного во французские граждане и члена Национального конвента; представителями собственно Жиронды были Жансонне, Верньо, Петион и Бриссо, центр представлял Барер, Гору – Дантон. Читателя, вероятно, удивляет, как этот деятельный и неугомонный, но отнюдь не склонный теоретизировать трибун попал в такой сугубо философский комитет; по характеру, если не по таланту, скорее Робеспьер должен был бы занять это место. Достоверно то, что Робеспьер гораздо более желал этого отличия и был глубоко оскорблен, что его обошли. Дантона предпочли потому, что он по своим природным способностям годился на всё и еще не отделял себя от товарищей никакими неприязненными чувствами. Позаботившись о восстановлении в столице порядка, об организации исполнительной власти, о распределении комитетов и работе над конституцией, оставалось решить последний пункт, один из важнейших подлежавших обсуждению Конвента – вопрос об участи Людовика XVI и его семейства. Собрание до сих пор хранило по этому поводу глубочайшее молчание; об этом говорили везде – в Клубе якобинцев, в коммуне, во всех частных и публичных местах – только не в Конвенте. Однажды во время прений по поводу отправки в Париж нескольких эмигрантов, схваченных с оружием в руках, некий голос спросил, не лучше было бы, вместо того чтобы заниматься этими второстепенными преступниками, подумать о высокопоставленных, сидящих в Тампле. Ответом на эти слова сначала было гробовое молчание. Наконец Барбару решился заговорить и потребовал, чтобы прежде решили, будет ли Конвент судебным местом, так как судить можно и нужно многих, помимо тампльских заключенных. Поднимая этот вопрос, Барбару намекал на проект объявления Конвента чрезвычайным судом для суда над агитаторами, триумвирами и прочее. После некоторого обсуждения предложение отослали в законодательный комитет.
Глава XVI
Положение военных дел в конце октября 1792 года – Дюмурье приезжает в Париж – Клуб якобинцев – Состояние французского общества – Первые предложения касательно процесса Людовика XVIВ этот момент военное положение Франции серьезно изменилось. К середине октября неприятеля уже выгнали из Шампани и Фландрии, а вторжение в иностранные владения последовало в трех пунктах: в Пфальце, Савойе и в графстве Ницца. Мы видели, как пруссаки отступили из лагеря Ла-Люн, вернулись через Аргонский лес, оставляя в его проходах убитых и раненых, и спаслись от окончательной гибели лишь по небрежению французских генералов, каждый из которых преследовал свою особую цель. Герцогу Саксен-Тешенскому во время нападения на Нидерланды посчастливилось не больше. Пока пруссаки шли к Аргонскому лесу, герцог, не желая от них отстать, решился на рискованное предприятие. Однако хотя наша северная граница была почти открыта, его средства были не более значительны, и он насилу набрал 15 тысяч человек. Тогда герцог предпринял ряд фальшивых атак вдоль всей линии крепостей, вспугнул один из маленьких французских лагерей и вдруг явился перед Лиллем, чтобы попробовать свои силы в осаде, с которой не могли сладить величайшие полководцы, имея в своем распоряжении большие армии. Только возможность успеха оправдывает в войне жестокие предприятия. Герцог мог атаковать лишь один пункт крепости и установил две батареи, которые бомбардировали крепость шесть дней подряд и подожгли двести домов. Говорят, сама эрцгерцогиня София пожелала присутствовать при этом ужасном зрелище. Если это правда, то она могла быть свидетельницей только геройства осаждаемых и бесчеловечности австрийцев. Жители Лилля ни за что не соглашались сдаться, и 8 октября, в то самое время, когда пруссаки уходили из Аргонского леса, их союзник оказался перед необходимостью оставить Лилль. Генерал Ла Бурдоне, прибывший из Суассона, и Бернонвиль, прибывший из Шампаньи, принудили герцога Альберта быстро удалиться от границы, и сопротивление Лилля, разглашенное по всей Франции, вызвало всеобщий восторг. Около того же времени Ктостин в Пфальце устраивал смелые выходки, имевшие, впрочем, результат скорее блестящий, нежели истинно полезный. Находясь при армии Бирона, расположенной вдоль Рейна, он стоял с 17 тысячами недалеко от Шпейера. Главная неприятельская армия, углубляясь во Францию, плохо позаботилась о прикрытии своего тыла. Шпейер, Вормс и Майнц защищались лишь небольшими отрядами. Ктостин это заметил, пошел на Шпейер и вступил в него 30 сентября. Успех придал ему смелости, и 5 октября генерал с такой же легкостью вступил в Вормс и заставил гарнизон сложить оружие. Потом он взял Франкенталь и тотчас же обратил свои мысли на важную крепость Майнц, главнейший пункт отступления пруссаков, где они имели неосторожность оставить лишь самый незначительный гарнизон. Ктостин, имея всего 17 тысяч без осадной артиллерии, не мог думать об осаде, но всё же решился на смелое дело. Идеи, поднявшие Францию, волновали и Германию, в особенности университетские города. В Майнце имелся университет, и Ктостин быстро сумел завязать в городе связи. Он подошел к стенам, опять отошел вследствие полученного, но оказавшегося ложным известия о приближении австрийского корпуса, затем подошел опять и постоянными, широкими движениями обманул врага в отношении возможностей своей армии. В крепости задумались и начали совещаться. Мысль о капитуляции нашла сильную поддержку среди сторонников французов, и 21 октября ворота перед Кюстином открылись. Гарнизон сложил оружие, исключение составили восемьсот австрийцев, которые отправились догонять главную армию. Весть об этих подвигах прогремела везде и произвела необычайное впечатление. Победы, конечно, дались весьма дешево и имели малую цену в сравнении с упорством жителей Лилля и великолепным хладнокровием, выказанным в Сент-Мену, но было уж очень приятно переходить от чисто оборонительных действий к завоеваниям. До сих пор Ктостин поступал отлично, и если бы он сумел оценить свое положение и закончить кампанию возможным тогда решительным движением, его можно было бы только похвалить. В этот момент армии Дюмурье, Келлермана и Ктостина по счастливейшей случайности стояли так, что могли совсем уничтожить пруссаков и за один поход завладеть всей линией Рейна вплоть до моря. Если бы Дюмурье, менее поглощенный другой мыслью, оставил Келлермана при себе и погнался за пруссаками со своими 80 тысячами, и если бы в то же время Ктостин, спустившись по Рейну, бросился на них с тыла, – они погибли бы неминуемо. Потом следовало спуститься по Рейну до Голландии, там герцог Альберт был бы захвачен врасплох и принужден либо сдаться, либо прорываться – и Нидерланды были бы покорены. Трир и Люксембург, включенные в описанную нами линию, пали бы неизбежно – Франция достигла бы Рейна, и кампания была бы окончена в месяц. На такое движение гения Дюмурье хватило бы более чем, но мысли его давно приняли другое направление. Он горел желанием вернуться в Бельгию и только и думал, как пройти туда прямее и помочь Лиллю, потеснив герцога Альберта. Итак, он предоставил погоню за пруссаками одному Келлерману. И Келлерман еще мог бы идти на Кобленц, пока Кюстин шел бы туда же из Майнца. Но, будучи человеком мало предприимчивым, Келлерман не надеялся на свои войска, которые казались измученными, и расположился по квартирам вокруг Меца. Кюстин, со своей стороны, желая заявить независимость и щеголяя блестящими набегами, вовсе не имел охотыприсоединяться к Келлерману и ограничивать свои действия Рейном. Поэтому он даже не подумал идти в Кобленц. Так был оставлен без внимания этот прекрасный план, описанный военным историком Жомини. Кюстин, хоть и не лишенный ума, был человеком заносчивым, вспыльчивым и непоследовательным. Ему прежде всего хотелось обрести независимость от Бирона и всякого другого начальника и для этого вздумалось завоевать всё, что возможно. Взятие Мангейма стало бы нарушением нейтралитета пфальцграфа, а это было запрещено исполнительным советом, поэтому Кюстин задумал уйти подальше от Рейна, в самую Германию. Франкфурт-на-Майне показался ему завидной добычей, и он решился идти туда, хотя этот вольный город, торговый, нейтральный во всех войнах и вполне расположенный к французам, не заслуживал такого пагубного предпочтения. Так как его особо никто не защищал, занять его было немудрено, но трудно в нем удержаться и, следовательно, бесполезно вступать. Эта экскурсия могла иметь лишь одну цель: собрать контрибуцию, а налагать таковую на нейтральный народ, входивший в расчет разве что своими пожеланиями, да и теми скорее заслуживавший благосклонности французов, которым он желал успеха, одобряя их принципы, – было противно всякой справедливости. Кюстин имел бестактность вступить во Франкфурт. Это случилось 27 октября. Он собрал контрибуцию, рассердил жителей, сделал из них врагов Франции и, сверх того, рисковал, бросившись вдруг на Майн, быть отрезанным от Рейна пруссаками, если бы они поднялись до Бингена, или пфальцграфом, если бы он, прекратив нейтралитет, вышел из Мангейма. Известия об этих набегах на неприятельскую территорию продолжали радовать Францию, которая не могла не удивляться тому, как это она завоевывает, когда еще несколько дней назад боялась, что завоюют ее самое. Испуганные пруссаки перекинули через Рейн висячий мост, чтобы подняться вверх по правому берегу и встретить французов. К счастью для Ктостина, они потратили на эту переправу двенадцать дней. Уныние, болезни, разлука с австрийцами сократили эту армию до 50 тысяч человек. Клерфэ со своими 18 тысячами следовал за движением французских войск к Фландрии и шел на помощь герцогу Альберту. Эмигрантский отряд распустили, и эта блестящая милиция присоединилась к корпусу Конде или поступила на иностранную службу.
Пока эти события происходили на северной и рейнской границах, французское оружие с успехом действовало и на границе с Альпами. Монтескью, командовавший Южной армией, вторгся в Савойю, и один из его наместников по его приказу занял графство Ницца. От Монтескью, этого генерала, выказавшего себя в Учредительном собрании истинно просвещенным государственным человеком, но не имевшего времени выказать военные качества, которыми он, как уверяют, был одарен, потребовали в Законодательном собрании отчета в своих действиях по обвинению в излишней медлительности. Ему удалось убедить своих обвинителей, что эта медлительность была следствием недостатка средств, а не рвения, и он возвратился в Альпы. Но Монтескью принадлежал к первому поколению революционеров и потому никак не уживался с новым. Потребованный вторично, он непременно лишился бы места, когда наконец узнали бы о его вступлении в Савойю. Тогда отставку на время отложили и дозволили ему продолжать начатое завоевание. По плану, задуманному Дюмурье, когда он, будучи министром иностранных дел, в то же время заведовал и военными делами, Франция должна была двинуть армии до своих естественных границ, Рейна и Альп. Для этого требовалось завоевать Бельгию, Савойю и Ниццу. Это предоставляло Франции возможность, не выходя из естественных принципов своей политики, обобрать единственных врагов, воевавших с нею, – австрийцев и туринский двор. Монтескью начинал исполнять свою часть этого плана, неудавшегося в апреле в Бельгии и до сих пор отсроченного. Он дал дивизию генералу Ансельму с приказанием перейти речку Вар и по сигналу идти к Ницце, а сам с большей частью своей армии направился из Гренобля на Шамбери. Поручив держать в страхе сардинские войска, сам он прошел из форта Барро в Монмельян, благополучно разделил сардинцев и отбросил их в долины. Пока его соратники преследовали их, он двинулся к Шамбери и 28 сентября торжественно вступил в город, к великой радости его жителей, которые любили свободу как истые дети гор, а французов – как люди, говорившие на том же языке, имевшие те же нравы и живущие в том же регионе. Монтескью тотчас же созвал савойцев для обсуждения вопроса о присоединении к Франции. В то же время генерал Ансельм, получив требуемое подкрепление из шести тысяч марсельцев, приблизился к Вару, неровному, как все горные потоки, – то чрезвычайно обильному, то совсем высохшему, так что нельзя было построить через него даже постоянного моста. Ансельм смело перешел Вар и занял Ниццу, оставленную графом Сент-Андре по просьбе самого городского начальства, которое торопило приход французов, чтобы остановить расходившуюся чернь. Сардинские войска отступили к долинам; Ансельм погнался за ними, но был остановлен грозной крепостью Саорж. Тем временем эскадра адмирала Трюге, соотнеся свои движения с движениями генерала Ансельма, заставила сдаться Виллафранку и пошла на маленькое княжество Онейль. В порту Онейля обыкновенно гнездились множество корсаров, и по этой причине взять его было небесполезно. Но пока французская шлюпка подходила для переговоров, несколько человек на ней убили общим залпом. Это было явное нарушение международного права, и тогда адмирал выстроил свои корабли перед портом и закидал его ядрами, а затем высадил часть войск, которые разграбили город и перебили множество находившихся в нем монахов. Одним словом, с несчастным Онейлем поступили по всей строгости военных законов. После этой экспедиции эскадра вернулась в Ниццу, где Ансельм, отделенный от остальной армии водами Вара, находился в весьма большой опасности. Однако если тщательно обороняться от крепости Саорж и щадить жителей – чего он не делал, – еще можно было удержаться в завоеванном городе. В это самое время генерал Монтескью шел из Шамбери в Женеву, собираясь напасть на Швейцарию, весьма недружелюбно расположенную к Франции и усматривавшую в нашествии на Савойю опасность для своего нейтралитета. Впрочем, чувства кантонов к Франции были различны. Все аристократические республики порицали революцию. В особенности Берн и его президент глубоко ее ненавидели, тем более что угнетенный кантон Во благоговел перед нею. Швейцарская аристократия, подстрекаемая президентом кантона и английским посланником, требовала войны, ссылаясь на избиение швейцарской гвардии 10 августа, разоружение швейцарского полка в Э, наконец, на занятие ущелий Поррантрюи, зависевших от Базельского епископства и занятых Бироном с целью замкнуть Юру. Однако умеренная партия одержала верх, и было решено оставаться в состоянии вооруженного нейтралитета. Бернский кантон, наиболее раздраженный и недоверчивый, послал в Ньон полк и под предлогом того, что этого потребовало женевское начальство, поставил в Женеве гарнизон. Согласно договорам, Женева в случае войны между Францией и Савойей не должна была принимать гарнизон ни от той, ни от другой державы. Французский посланник тотчас выехал из города, и исполнительный совет, понуждаемый Клавьером, который когда-то был изгнан из Женевы и потому усердно желал впустить туда революцию, приказал Монтескью оружием заставить Швейцарию соблюдать трактаты и, сверх того, самому поставить туда гарнизон, то есть сделать именно то, в чем упрекали бернцев. Монтескью чувствовал, что, во-первых, не имеет средств взять Женеву, а во-вторых, что, нарушая нейтралитет и вступая в войну со Швейцарией, он откроет восток Франции и правый фланг ее оборонительной линии. Он решился, с одной стороны, напугать Женеву, а с другой – постараться уговорить исполнительный совет. В крайнем случае он намеревался бомбардировать Женеву и смелым походом идти на Во, чтобы поднять там революцию. Женева согласилась выслать бернские войска с тем, чтобы Монтескью отошел от города на десять лье, – что он немедленно и исполнил. Но эта уступка не понравилась в Париже, и Монтескью застрял в Каруже, где его окружали женевские изгнанники, желавшие возвратиться в родной город, – застрял между страхом поссорить Францию со Швейцарией и ослушаться исполнительного совета, который не сдавался на разумнейшие военные и политические соображения. Переговоры об этом к концу пока не близились, хотя стоял уже конец октября. Вот в каком положении в октябре 1792 года находилось французское оружие от Дюнкерка до Базеля и от Базеля до Ниццы.
Пока война собиралась перейти из Шампани в Бельгию, Дюмурье просил разрешения приехать в Париж на два или три дня, чтобы сговориться с министрами насчет вторжения в Нидерланды и общего плана военных действий. Его враги распустили слух, будто он едет пожинать лавры и бросает свою армию лишь ради мелочного удовлетворения тщеславия. Это было преувеличением, потому что простые передвижения войск могли совершаться и без него. Его присутствие в совете, напротив, должно было быть очень полезно; да к тому же можно было простить ему нетерпение насладиться славой, столь естественное в каждом человеке и столь извинительное, когда оно идет не в ущерб обязанностям. Дюмурье приехал в Париж 11 октября. Его положение стало затруднительным, потому что усложнились отношения со всеми партиями. Неистовство якобинцев ему претило, а с жирондистами он порвал, выживая их из правительства несколько месяцев назад. Однако Дюмурье был отлично принят в Шампани и еще лучше в Париже, особенно министрами и самим Роланом, который личное неудовольствие не ставил ни во что, когда речь шла об общем деле. Двенадцатого числа Дюмурье явился в Конвент. Как только о нем доложили, со всех сторон раздались рукоплескания и радостные возгласы. Он сказал простую, энергичную речь, в которой коротко изложил всю Аргонскую кампанию и с величайшей похвалой отозвался о своих войсках и даже о Келлермане. Тотчас после этого депутаты поспешили обступить Дюмурье, и заседание было прекращено. В особенности многочисленные депутаты Равнины, не находя для генерала упреков ни в холодности к революции, ни в разрыве с ними, объявили о своем самом искреннем и горячем радушии. Жирондисты от них не отстали, но – по их ли вине, или по вине Дюмурье – примирение оказалось неполным, и между ними можно было заметить остаток холодности. Депутаты Горы, упрекавшие Дюмурье в минутной привязанности к Людовику XVI и находившие его по манерам, достоинствам и высокому положению слишком похожим на жирондистов, остались недовольны любезностями, которые те ему оказывали, и придали этим любезностям несоразмерное значение. После Конвента следовало посетить якобинцев; это была такая сила, к которой победоносный полководец никак не мог не явиться на поклон. Там совершалось брожение общественного мнения, там вырабатывали планы и заявляли приговоры. Каждый раз, как речь заходила о важном законе, о крупной революционной мере, якобинцы спешили открыть у себя прения и подать свое мнение. Немедленно после того они рассыпались по коммуне и секциям, писали ко всем примыкавшим клубам, и мнение, ими высказанное, желание, ими выраженное, возвращалось со всех пунктов Франции в форме адресов, а из всех кварталов Парижа – в форме вооруженных петиций. Когда в муниципальных советах, в секциях, во всех собраниях, облеченных хоть какой-нибудь властью, из последнего остатка уважения к легальности еще случались колебания касательно какого-либо вопроса, якобинцы, считавшие себя совершенно свободными, смело решали вопрос, и каждое восстание предлагалось ими задолго до исполнения. Кроме этой инициативы по каждому вопросу, они еще присваивали себе право неумолимого инквизиторства по всем деталям работы правительства. Если министр, начальник какого-нибудь бюро или подрядчик в чем-нибудь обвинялся, якобинцы отправляли от себя комиссаров, которые требовали, чтобы им показали бумаги и книги, и спрашивали отчеты. И отчеты сдавались им без надменности, без пренебрежения и без нетерпимости. Каждому гражданину, недовольному действиями правительства, да и не только его, стоило лишь явиться в общество, и он непременно находил себе защитников и заступников. То солдаты жаловались на своих начальников, то рабочие на хозяев, то, наконец, актриса на своего директора. Однажды один якобинец пришел требовать удовлетворения за унижение, нанесенный его супружеской чести его женой и товарищем! Всякий спешил записаться в реестры общества, чтобы заявить о своем патриотизме. Почти все депутаты, недавно прибывшие в Париж, не замедлили туда явиться, за одну неделю их насчитали сто тринадцать, и даже те, кто не имел намерения бывать на заседаниях, все-таки просили о допущении на них. Провинциальные якобинские общества писали запросы о том, усердно ли бывают в Клубе депутаты их департаментов. Столичные богачи старались загладить вину за свое богатство, отправляясь в Клуб якобинцев и надевая там красный колпак. Пока зала была битком набита членами, а трибуны – посторонними слушателями, снаружи стояла громадная толпа и требовала, чтобы ее впустили. Иногда эта толпа начинала сердиться, особенно когда дождь увеличивал неприятности такого ожидания. И тогда какой-нибудь якобинец (чаще всего Марат) ходатайствовал о допущении доброго народа, страдавшего у входа. И как только вход разрешали, несметная толпа мужчин, женщин и детей вваливалась в залу и смешивалась с якобинцами. Собрания происходили вечером. Гнев, возбужденный и сдержанный в Конвенте, тут мог излиться свободно. Ночное время, множество присутствовавших – всё способствовало разгорячению голов; нередко слишком затянувшееся заседание превращалось в настоящий содом, в котором агитаторы черпали на следующий день храбрость для самых смелых инициатив. И между тем это общество, так далеко зашедшее по части демагогии, еще не было тем, чем оно сделалось впоследствии. Оно еще терпело у входа экипажи людей, приходивших отрекаться от неравенства. Некоторые члены тщетно пробовали говорить в шляпах – их заставляли снимать шляпы. Бриссо, правда, недавно был исключен из общества торжественным решением, но Петион продолжал в нем председательствовать среди аплодисментов. Шабо, Колло д’Эрбуа, Фабр д’Эглантин были любимыми ораторами. Марат еще казался дик и странен, и Шабо говорил, что это ёж, которого нельзя ухватить ни с какой стороны. Дюмурье принял Дантон, который председательствовал в этот вечер. Его встретили громкие рукоплескания, ему простили даже предполагаемую дружбу жирондистов. Генерал сказал несколько подходящих слов и обещал «ранее конца месяца идти во главе шестидесяти тысяч человек против королей, чтобы избавить народы от тирании». Дантон, отвечая в том же стиле, заявил, что, собрав французов в лагерь при Сент-Мену, Дюмурье заслужил признательность родины, но теперь открывается новое поприще: он должен сшибить короны перед красным колпаком, которого общество его удостоило, и тогда имя его займет место между прекраснейшими именами Франции. Затем Колло д’Эрбуа сказал речь, которая может служить образчиком как языка, так и симпатии, которую в ту минуту питали к генералу. «Не король тебя назначил, о Дюмурье, а твои соотечественники! Помни, что полководец республики никогда не должен служить никому, кроме ее одной. Ты слыхал о Фемистокле: он спас Грецию при Саламине, но, оклеветанный врагами, был вынужден искать убежища у тиранов. Ему предложили служить против своего отечества – вместо ответа он вонзил себе меч в сердце. Дюмурье, ты имеешь врагов, ты будешь оклеветан – помни Фемистокла! Пребывающие в рабстве народы ждут тебя и твоей помощи – ты их скоро освободишь. Какая славная миссия!.. Однако тебе нужно беречься излишнего великодушия к врагам. Ты проводил прусского короля слишком по-французски… Но мы надеемся, что Австрия поплатится вдвойне. Ты пойдешь в Брюссель, Дюмурье… В Брюсселе свобода возродится под твоими ногами. Граждане, девушки, женщины будут тесниться вокруг тебя. Каким блаженством ты будешь наслаждаться, Дюмурье!.. Жена моя, уроженка Брюсселя, тоже обнимет тебя!» Дантон вышел вместе с Дюмурье; он завладел им и в некотором роде угощал его Республикой как любезный хозяин. Так как Дантон выказал в Париже такую же твердость, какую выказал Дюмурье в Сент-Мену, то их обоих считали спасителями революции и обоим аплодировали во всех публичных местах, где они показывались. Какой-то инстинкт сближал этих двух людей. Они походили друг на друга гениальностью и страстью к удовольствиям, оба были развратны – но разврат у них был разный. Разврат Дантона был народным, а Дюмурье – придворным; генерал был счастливее своего товарища тем, что служил революции благородно, с оружием в руках, тогда как Дантон имел несчастье запятнать себя сентябрьскими ужасами.
Блестящие салоны, где, бывало, знаменитые прежде люди наслаждались своей славой, где в течение всего предыдущего столетия слушали Вольтера, Дидро, д’Аламбера и Руссо и рукоплескали им, – эти салоны более не существовали. Оставалось общество госпожи Ролан, у которой собирались все жирондисты – красавец Барбару, остроумный Луве, степенный Бюзо, блистательный Гюаде, увлекающий Верньо. Там еще господствовали занимательные беседы, чистый язык, изящные манеры. Министры собирались там два раза в неделю за скромным обедом. Это новое республиканское общество, которое к прелестям старинной Франции присоединяло серьезность новой, должно было в скором времени отступить перед демагогической грубостью. Дюмурье участвовал в одной из этих простых трапез; сначала ему было несколько неловко с прежними друзьями, которых он отстранил от правительства, и с хозяйкой, которая казалась ему слишком строгою и сама находила его слишком вольным. Но он вел себя с обычным тактом и был особенно тронут искренним радушием Ролана. После общества жирондистов одно еще только общество пережило уход старой аристократии. Почти все артисты сделались горячими поборниками революции, которая мстила за них пренебрегавшему ими дворянству и сулила милости лишь одной гениальности. Они, в свою очередь, приняли Дюмурье и дали в его честь вечер, на который собрались все таланты, бывшие тогда в столице. Но этот праздник был прерван странным эпизодом, возбудившим столько же отвращения, сколько и удивления. Марат, всегда готовый заподозрить всякого, был недоволен генералом. Ожесточенно поносивший всех, кто пользовался расположением публики, он всегда вызывал своими отвратительными ругательствами опалу, уже постигшую столько народных вождей. Мирабо, Лафайета, Байи, Петиона, жирондистов – он всех их исступленно ругал, когда они находились еще на верхушке популярности. Он особенно разошелся после 10 августа и как ни был возмутителен для порядочных и благоразумных людей, как ни казался странен даже рьяным революционерам, однако начинал иметь некоторый успех и зазнавался, считая себя в некотором роде человеком государственным, существенно необходимым новому порядку вещей. Часть жизни Марат проводил за собиранием всяких слухов и распространением их через свой листок, в остальное время носился по присутственным местам, замаливая грехи администрации против народа. В одном из листков он описывал публике свою ежедневную жизнь и говорил, что задавлен занятиями; что в сутки он посвящает сну только два часа и еще один час – еде да домашним заботам; что сверх часов, принадлежащих его обязанностям как депутата, он постоянно тратит по шесть часов в день на то, чтобы принимать жалобы множества несчастных и притесненных людей и давать им ход, а в остальные часы читает прорву писем и отвечает на них, записывает свои наблюдения о текущих событиях, принимает доносы, наконец, составляет номер газеты и занимается сочинением большого труда. Марат уверял, что в течение последних трех лет не позволил себе ни одной четверти часа развлечения: невольно содрогаешься, как подумаешь, что может наделать в революционное время такой безудержный ум рука об руку с такою пожирающей энергией! Марат видел в Дюмурье только распущенного аристократа, которому отнюдь не следует доверять. В довершение всего он узнал, что генерал очень жестко расправился с двумя батальонами добровольцев, которые убивали дезертиров-эмигрантов. Недолго думая, он отправляется в Клуб якобинцев, доносит на генерала и требует двух комиссаров, чтобы идти к нему с допросом. Ему дают Монто и Бентаболя, и они отправляются. Дюмурье нет дома. Марат бежит по всем театрам, наконец узнает, что генерал на вечере, который дается в его честь у мадемуазель Кандейль, знаменитой певицы. Марат, нимало не колеблясь, идет туда, несмотря на свой отвратительный костюм. Экипажи, отряд Национальной гвардии перед домом, присутствие главнокомандующего Сантерра, множества депутатов, приготовления к пиру – всё это его только еще больше раззадоривает. Он смело входит и требует Дюмурье. Вид его возбуждает общий ропот. При его имени исчезает множество лиц, которые, как он уверяет, избегают его обличающих взоров. Марат подходит прямо к Дюмурье и с живостью обращается к нему, требуя отчета в его поступках относительно двух батальонов. Генерал глядит на него, потом с пренебрежительным любопытством произносит: «А! Так это вас зовут Марат!..» Он еще раз оглядывает его с головы до ног и поворачивается спиной, не удостаивая более ни словом. Сопровождающим же Марата якобинцам, которые кажутся повежливее, Дюмурье дает требуемое объяснение и вполне удовлетворяет их. Марат, напротив, вовсе не удовлетворенный, кричит и беснуется в прихожей, бранит Сантерра, говоря, что он при генерале исполняет лакейскую должность; обрушивается на гвардейцев, способствующих блеску празднества, и уходит, угрожая своим гневом всем аристократам. В тот же день он описывает в своей газете эту нелепую сцену, которая так хорошо рисует положение Дюмурье, неистовство Марата и нравы того времени. Дюмурье пробыл в Париже четыре дня и так и не смог ни о чем договориться с жирондистами, хотя имел между ними задушевного друга в лице Жансонне. Он только посоветовал последнему помириться с Дантоном как с человеком сильным и способным, несмотря на свои пороки, быть со временем наиболее полезным порядочным людям. Дюмурье не лучше поладил и с якобинцами, которые ему опротивели и сами относились к нему подозрительно из-за его предполагаемой дружбы с жирондистами. Итак, приезд в Париж мало поправил его дела с обеими партиями, зато в военном отношении был ему полезен. По своему обыкновению Дюмурье задумал общий план, который был принят исполнительным советом. Согласно этому плану, Монтескью следовало держаться возле Альп и утвердить цепь их окончательной границей, довершая завоевание Ниццы и стараясь сохранить нейтралитет со Швейцарией. Бирону надо было послать подкрепление, чтобы он мог охранять Рейн от Базеля до Ландау. Отряд из 12 тысяч человек под начальством генерала Менье, должен был подойти к Ктостину с тыла, чтобы сохранить ему свободу сообщения. Келлерману предписывалось оставить квартиры, быстро пройти между Люксембургом и Триром, чтобы поспешить в Кобленц, то есть сделать то, что ему уже советовали и что они с Кюстином должны были бы уже давно исполнить. Наконец, сам Дюмурье собирался начать наступательные действия и с 80 тысячами завоевать Бельгию, чтобы дополнить ею французскую территорию. Стало быть, на всех границах, защищенных благодаря ландшафту, военные действия предполагалось вести оборонительно, а наступать на одной только открытой границе, нидерландской, там, где, по словам Дюмурье, можно было защищаться, лишь выигрывая сражения. Он добился того, что отбросили нелепую мысль о лагере под Парижем и всё собранное – людей, орудия, припасы – решили перевезти во Фландрию с прибавлением башмаков, шинелей и шести миллионов деньгами для выдачи жалованья солдатам до вступления в Нидерланды. Генерал уехал обратно 16 октября, несколько разочарованный так называемой «благодарностью общества», еще меньше ладя с различными партиями, чем прежде, и едва вознагражденный за свою поездку несколькими военными распоряжениями, сделанными по его указаниям. Конвент продолжал действовать против коммуны, торопил обновление ее состава, присматривал за всеми ее действиями. Петиона выбрали мэром большинством в 13 889 голосов, тогда как за Робеспьера оказалось всего 23 голоса, за Бийо-Варенна – 14, за Паниса – 80, а за Дантона – 11. Однако не следует измерять популярность Робеспьера и Петиона по этой разнице, потому что народ уже привык видеть в одном из них мэра, а в другом – депутата. Тем не менее это громадное преобладание все-таки доказывает, какой популярностью еще пользовался предводитель жирондистской партии. Не забудем сказать, что два голоса было подано за Байи, – странный знак памяти о добродетельном деятеле 1789 года! Петион отказался принять должность: он был слишком утомлен судорогами коммуны и предпочитал работу в Национальном конвенте. Три главных вопроса, обсуждались во время пресловутого заседания 24 сентября – закон против призывов к убийству, декрет о составлении департаментской гвардии и, наконец, точный отчет о состоянии Парижа. Первые две меры, вверенные Комиссии девяти, возбуждали у якобинцев, в коммуне и в секциях беспрерывный крик. Комиссия этим не смущалась и продолжала свои труды, а из разных департаментов прибывали добровольно, как перед 10 августа, батальоны, опережавшие декрет о департаментской гвардии. Ролан, который занимался подготовкой отчета, составил его без слабости, со строгой правдивостью. Он изложил и извинил неизбежное смятение первой революции, но проследил и заклеймил позором злодеяния, 2 сентября прибавленные к восстанию 10 августа; он указал на все безобразия коммуны, ее злоупотребления властью, произвольные аресты, совершенные ею громадные растраты и, наконец, заключил свой отчет следующими словами: «Директория департамента разумна, но малосильна; коммуна деятельна и деспотична; народ превосходен, но одна здравая часть его испугана или приневолена, а другая обрабатывается льстецами и воспламеняется клеветою. Происходит смешение властей, злоупотребление или пренебрежение властью; сила общества ничтожна вследствие плохого руководства. Вот Париж!» Этот отчет, прочтенный на заседании 20 октября, был встречен рукоплесканиями большинства, хотя во время чтения Гора издавала смутный ропот. Вслед за тем сильное волнение произвело письмо, написанное частным лицом к лицу официальному, а этим последним сообщенное исполнительному совету: оно разоблачало план повторения 2 сентября, замышляемый против части Конвента. В одном месте этого письма, относившемся к заговорщикам, было сказано: «Они только и хотят слышать, что о Робеспьере». Тут все взоры обращаются на него, одни с негодованием, другие поощряя говорить. И Робеспьер начинает, требуя, чтобы отчет Ролана, который он назвал поносительным романом, не печатали. Его не следует предавать гласности по крайней мере до тех пор, пока обвиненные в нем лица, а в особенности он сам, не будут выслушаны. И Робеспьер начинает оправдываться, распространяясь обо всем, что касалось его лично, но за шумом его не слышат. «Говори же, – толкает его Дантон. – Добрые граждане тебя слушают». Наконец Робеспьер справляется с шумом и снова начинает свою защиту, говоря, что желал бы посмотреть, как его противники обвинят его и приведут против него хоть одно положительное доказательство. Луве при этих словах бросается вперед. «Я, – говорит он, – я тебя обвиняю!» И вот он уже стоит у нижней ступени кафедры, за ним – Ребекки и Барбару. Робеспьер приходит в волнение, на лице его отображается смущение, он требует, чтобы был выслушан его обвинитель, а затем и он сам. Дантон всходит на кафедру и жалуется на постоянную клевету, звучащую против коммуны, парижской депутации и Марата, главной причины всех этих обвинений. Затем он повторяет то, что уже говорил: он сам его не любит, так как испытал на себе его вулканический и необщительный темперамент, и мысль о триумвирате – совершенная нелепость. В заключение Дантон просит назначить день для обсуждения отчета. Собрание постановляет напечатать его, но отложить рассылку по департаментам, пока не будут выслушаны Луве и Робеспьер. Луве был исполнен мужества и отваги, патриотизм его был искренним, но в его ненависти к Робеспьеру было и личное неприязненное чувство из-за борьбы, начатой у якобинцев, продолжавшейся в газете «Часовой», возобновленной в собрании и еще более ожесточившейся с тех пор, как он стоял лицом к лицу со своим завистливым соперником в Национальном конвенте. К крайне бурному темпераменту у Луве добавлялось романическое и легковерное воображение, часто вводившее его в заблуждение и представлявшее ему заговоры и соглашения там, где было одно непредумышленное действие страстей. Он верил в собственные предположения и хотел принудить и друзей своих также в них верить, но встречал в холодном здравом смысле Петиона и Ролана, в ленивом беспристрастии Верньо отпор, приводивший его в отчаяние. Бюзо, Барбару, Гюаде, хоть и не были настолько легковерны и не предполагали таких сложных замыслов, однако верили в беззакония своих противников и поддерживали нападения Луве из негодования и мужества. Салль, депутат департамента Мёрт, упорный враг анархистов в Учредительном собрании и в Конвенте, Салль, одаренный мрачным и сильным воображением, один был вполне доступен всем догадкам Луве и так же, как он, верил в обширные заговоры, начинавшиеся в коммуне и кончавшиеся за границей. Страстно любя свободу, Луве и Салль не могли решиться приписать ей столько зол и предпочитали верить, что представители Горы, в особенности Марат, получают от эмиграции и Англии стипендии, чтобы толкать революцию к преступлениям, бесчестью и общему хаосу. В продажности Робеспьера они были уверены не настолько, но видели в нем по меньшей мере тирана, пожираемого гордостью и честолюбием и всеми способами идущего к верховной власти. Луве, решившись смело напасть на Робеспьера и не давать ему покоя, заранее заготовил свою речь и взял ее с собой в тот день, когда Ролан должен был сдать отчет; поэтому он был вполне готов выдвинуть обвинение, когда ему дали слово. Он говорил тотчас после Ролана. Жирондисты уже были склонны видеть события в черном свете и предполагать преступные замыслы там, где имелось только увлечение страстей; но для легковерного Луве заговор был еще очевиднее. В преувеличенно возраставших стремлениях якобинцев, в успехе Робеспьера в течение 1792 года он видел заговор честолюбивого трибуна. Он изобразил его в своей речи окружившим себя клевретами, которым он выдавал на растерзание противоречивших ему людей, превратившим самого себя в предмет обожания, до 10 августа распускавшим всюду слухи, что он один может спасти свободу и Францию, а когда оно наступило – прятавшимся от света. Луве описал, как Робеспьер два дня спустя явился снова, отправился прямо в коммуну, несмотря на данное им слово не принимать места, и там, собственной властью, сел за стол Генерального совета. Как он завладел представителями слепой буржуазии, толкал их по своему усмотрению на всякие излишества, вступаясь за коммуну, оскорблял Законодательное собрание, требуя от него декретов под страхом набата. Как он, никогда не показываясь, устроил сентябрьские побоища и грабежи, чтобы террором поддержать муниципальную власть; а потом рассылал по всей Франции эмиссаров, которые советовали те же злодеяния и приглашали провинции признать господство и авторитет Парижа. Робеспьер, добавил Луве, хотел уничтожить национальное представительство, чтобы заменить его коммуной, которой может располагать по своему усмотрению, и насадить образ правления Древнего Рима, где провинции были подчинены верховной власти метрополии. Сделавшись таким образом владыкой Парижа, который является владыкой Франции, Робеспьер прямо унаследовал бы уничтоженную королевскую власть. Однако когда подступила минута созыва нового учреждения, он перешел из совета в избирательное собрание и террором направлял выборы, чтобы сделаться хозяином в Конвенте через парижскую депутацию. Это он, Робеспьер, указал избирателям того человека, подстрекающие афиши которого наполняли Францию удивлением и ужасом. Этот пасквилянт, именем которого он, Луве, не хочет марать свои губы, есть не что иное, как родное порождение убийства, обладающее, для проповеди злодейства и клеветы на самых непорочных граждан, мужеством, которого всегда недоставало осторожному и хитрому Робеспьеру. Что касается Дантона, Луве отделял его от своего обвинения и даже удивлялся, что тот бросился к кафедре опровергать обвинение, не против него направленное. Однако он не отделял Дантона от сентябрьских ужасов, потому что в эти злополучные дни, когда все власти, министры, мэр тщетно пытались остановить побоище, один лишь министр юстиции молчал, потому что в тех же афишах он один защищен от клеветы, распространяемой против непорочнейших граждан. «И душевно желаю, – воскликнул Луве, – чтобы ты мог, о Дантон, смыть с себя в глазах потомства это бесчестящее исключение!» Эти благородные, но неосторожные слова были приняты рукоплесканиями. Обвинительная речь, беспрестанно прерываемая аплодисментами, вызвала также и немало ропота, но ропот этот каждый раз подавляли словом, часто повторяемым в это заседание. – Позаботьтесь о соблюдении молчания, – сказал Луве президенту перед началом своей речи, – потому что я дотронусь до болячки и будут кричать. – Дави, трогай болячку, – ответил на это Дантон. И каждый раз, как поднимался ропот, его останавливали криками «Молчать, уязвленные!». Затем Луве предлагает закон, осуждающий к изгнанию всякого, кто сделает из своего имени повод для раздора между гражданами. Он хочет, чтобы к мерам, вырабатываемым Комиссией девяти, была прибавлена еще одна, отдающая вооруженную силу в распоряжение министра внутренних дел. – Наконец, – говорит Луве, – я требую сейчас же обвинительного декрета против Марата!.. О боги! – восклицает он, как бы спохватившись. – Боги! Я его назвал! Робеспьер, ошеломленный аплодисментами, расточаемыми его противнику, хочет говорить. Среди шума и ропота, возбуждаемого его присутствием, он колеблется, его лицо и голос выдают волнение, однако наконец он добивается внимания и тишины и просит отсрочки, чтобы приготовить свою защиту. Его просьбу исполняют, и защита откладывается до 5 ноября. Это оказалось большим счастьем для Робеспьера, потому что собрание, вдохновленное речью Луве, чувствовало в этот день необыкновенный прилив негодования. Вечером начался шум и гвалт у якобинцев, где каждое заседание Конвента подвергалось контролю. Множество депутатов прибежали с рассказами об ужасном поступке Луве и потребовали его исключения из общества. Он якобы очернил всех, обвинил Дантона, Сантерра, Робеспьера и Марата, требовал обвинительного декрета против двух последних, предлагал кровавые законы, посягающие на свободу печати, наконец, предложил учредить афинский остракизм. Лежандр заявил, что это дело условленное, так как у Луве была готовая речь, а отчет Ролана явно не имел иной цели, кроме как послужить поводом к этой выходке. Фабр д’Эглантин жалуется, что скандал с каждым днем нарастает, что все из кожи вон лезут в своем желании оклеветать Париж и патриотов. «Маленькие неприятности, – говорит он, – связываются с маленькими предположениями и выводят на обширный заговор; при этом нам не хотят говорить ни причин его, ни какие у него действующие лица и средства. Если бы был человек, который всё видел и всё способен оценить в той и другой партии, вы не могли бы не признать такого человека, притом любящего истину, весьма способным разоблачить ее. Такой человек – Петион. Заставьте его, во имя правды, сказать всё, что он видел, и произнести приговор над обвинениями, взводимыми на патриотов. Как ни снисходительно он относится к своим друзьям, смею сказать, интриги его не развратили. Петион всегда чист и искренен; он хотел сегодня говорить – заставьте его объясниться». Мерлен не допускает, чтобы Петиона сделали судьей между Робеспьером и Луве, потому что ставить одного гражданина верховным судьей над другими значило бы нарушить равенство. Да, Петион, без сомнения, достоин всякого почтения; ну а если он вдруг сойдет с ума? Разве он не человек? Разве он не дружен с Бриссо, с Роланом? Разве не принимает у себя Ласурса, Верньо, Барбару – всех интриганов, которые компрометируют свободу? Предложение Фабра остается без последствий, и Робеспьер-младший, приняв жалобный тон, как это делали в Риме родственники обвиняемых лиц, излагает свои скорбные чувства и сетует, почему и он не оклеветан так же, как и брат. «Теперь, – говорит он, – минута величайших опасностей – народ уже не весь за нас. Одни только граждане Парижа достаточно просвещены, остальные же – весьма слабо… Итак, возможно, в понедельник невинность падет удрученная!.. Ибо Конвент от начала до конца выслушал длинную ложь Луве. Граждане! Мною овладел великий ужас: я думал, убийцы бросятся на брата с кинжалами. Я слышал, как некоторые говорили, что он погибнет от их рук; один человек прямо мне сказал, что хочет быть его палачом». При этих словах несколько депутатов встают и объявляют, что им тоже угрожали Барбару, Ребекки и несколько граждан с трибун и что эти люди говорили: надо отделаться от Марата и Робеспьера. Робеспьера-младшего обступают, дают ему слово охранять жизнь его брата и решают, что все, у кого есть в провинции друзья или родственники, напишут им, чтобы просветить общественное мнение. Робеспьер-младший, уже сходя с кафедры, присовокупляет еще одну клевету: Анахарсис Клоотс будто бы уверял его, что каждый день у Ролана ратуют против федерализма. Является пылкий Шабо. Его особенно возмущает в речи Луве то обстоятельство, что 10 августа оратор приписывает себе и своим приятелям, а 2 сентября – двумстам убийцам. «Я же, – говорит он, – помню, что 9 августа вечером обратился к господам правой стороны, предлагая им восстание, и они ответили мне легкой усмешкой. Я, стало быть, не вижу, по какому праву они себе приписывают 10 августа. Что касается 2 сентября, это дело всё того же народа, который и 10 августа устроил против их воли и который после победы захотел отмстить врагу. Луве говорит, что не было и двухсот убийц, я же утверждаю, что сам с комиссарами Законодательного собрания прошел под сводом их десяти тысяч сабель. Я узнал более полутораста федератов. В революционное время не существует преступлений. Марат, столько раз обвиняемый, преследуется лишь за революционные деяния. Сегодня обвиняют Марата, Дантона, Робеспьера; завтра обвинят Сантерра, Шабо, Мерлена…» Под влиянием этих смелых слов один из федератов, присутствовавших на заседании, делает то, на что публично не отваживался еще ни один человек: он объявляет, что действовал в тюрьмах с большим числом товарищей в полном убеждении, что они режут лишь заговорщиков и изготовителей фальшивых ассигнаций и спасают Париж от разграбления и пожара. Еще он присовокупляет, что благодарит общество за благосклонность, которую оно оказало всем им, что они завтра выступают в армию и уносят лишь одно сожаление – необходимость оставить патриотов среди таких опасностей.
Этим ужасным заявлением кончилось заседание. Робеспьер не заходил в собрание всю неделю, подготавливая свой ответ и предоставляя приверженцам расположить в его пользу общественное мнение. Тем временем Парижская коммуна упорствовала в своих действиях. Говорили, что она изъяла до десяти миллионов из кассы, заведовавшей суммами, предназначенными для содержания короля, и в эту самую минуту пускала по рукам, через все сорок восемь муниципалитетов, петицию против департаментской гвардии. Барбару тотчас же предложил четыре грозных и превосходно составленных декрета. Первым декретом у столицы отнималось право иметь у себя национальное представительство с той минуты, как она не сумела охранить его от поругания и насилия. Вторым федераты и национальные жандармы обязывались, объединившись с парижскими вооруженными секциями, оберегать Конвент и публичные здания. Третьим Конвент обращался в судебное место – для проведения суда над заговорщиками. Четвертым, наконец, Конвент сменял весь парижский муниципалитет. Эти четыре декрета вполне соответствовали опасностям минуты; но для того чтобы действительно издать их, требовалось обладать той властью, которую могли дать только эти декреты. Энергичные действия требуют энергии, поэтому всякая умеренная партия, которая хочет остановить партию крайнюю, находится в безвыходном положении. Конечно, большинство, клонившееся на сторону жирондистов, могло издать эти декреты, но ведь его склоняла к ним умеренность, та самая умеренность, которая советовала большинству подождать, повременить, приготовиться к будущему и избежать всякой чересчур энергичной меры. Собрание отвергло декрет даже гораздо менее строгий – первый из декретов, переданных на разработку Комиссии девяти. Его предложил Бюзо, и он относился к лицам, призывавшим к убийствам и поджогам. Всякий прямой вызов наказывался смертью, а косвенный – десятилетним тюремным заключением. Собрание нашло, что наказание за прямой вызов слишком строгое, а косвенный вызов есть проступок слишком неясно определенный и трудно определимый. Бюзо тщетно говорил, что против таких подстрекателей необходимы революционные меры, то есть некоторый произвол; его не слушали, да он и не мог на это рассчитывать, обращаясь к большинству, которое порицало в крайней партии именно революционные меры и, следовательно, едва ли могло само применить против нее такие меры. Итак, закон был отложен, и Комиссия девяти, учрежденная для приискания средств к сохранению порядка, сделалась фактически бесполезной. Впрочем, собрание выказывало несколько большую энергию, как только речь заходила о подавлении самовластных действий коммуны. Тогда депутаты как будто заступались за свою власть с некоторой ревностностью и силой. Генеральный совет коммуны, потребованный к ответу по поводу петиции против департаментской гвардии, явился в собрание оправдываться. Мы уже не те, что 10 августа, говорили его члены. Между нами оказалось несколько лиходеев, и люди, обличившие их, поступили прекрасно, и их уже нет в совете. «Не смешивайте же, – говорили они, – невинных с виновными. Возвратите нам доверие, в котором мы нуждаемся. Мы хотим вернуть спокойствие, необходимое Конвенту для водворения мудрых законов. Что касается этой петиции, тонастаивали на ее подаче секции, мы же только их уполномоченные; но мы будем их уговаривать, чтобы они от нее отступились». Эта покорность обезоружила даже самих жирондистов, и по просьбе Жансонне члены совета были приглашены присутствовать на заседании в качестве почетных гостей. Однако эта покладистость ничего не доказывала относительно настоящего расположения Парижа. Буйство возрастало тем больше, чем ближе подходило 5 ноября – день, назначенный для защиты Робеспьера. Накануне этого дня в городе было неспокойно. По улицам расхаживали шайки, одни с криками «На гильотину Робеспьера, Дантона, Марата!», другие с воплями «На смерть Ролана, Ласурса, Гюаде!». В первых криках обвинялись драгуны и федераты, тогда еще преданные Конвенту. Робеспьер-младший снова появился на кафедре, плакался из-за опасности, угрожавшей невинности, отверг проект соглашения на том основании, что противная партия есть враг революции, потому не следует с нею заключать ни мира, ни перемирия. Он говорил, что, без сомнения, невинность погибнет в борьбе, но жертва эта нужна и следует дать погибнуть Максимилиану Робеспьеру, потому что гибель одного человека не повлечет за собой гибели свободы. Якобинцы единодушно рукоплескали этим прекрасным чувствам, но уверяли Робеспьера-младшего, что ничего этого не будет и брат его не погибнет. В собрании высказывались жалобы совсем другого рода: жаловались на крики против жирондистов. Ролан жаловался на бесполезность его обращений к директории департамента и коммуне по поводу войска. Происходило много споров, звучало много взаимных упреков, и день прошел без всяких потрясений. На следующий день, 5 ноября, Робеспьер, наконец, появился на кафедре. Стечение народа оказалось огромным, и все с нетерпением ждали результата этих торжественных прений. Речь Робеспьера была пространна и тщательно приготовлена. Его ответы на обвинения Луве были ровно такими, какие всегда даются в подобных случаях. «Вы меня обвиняете, – сказал он, – в стремлении к тирании; но чтобы достигнуть тирании, нужны средства – где же у меня казна и войска? Вы говорите, будто я воздвиг у якобинцев храм своей силы. Но что это доказывает? То, что меня там больше слушали, что я, быть может, лучше вас обращался к рассудку этого общества и что вы желаете отмстить мне за оскорбленное самолюбие. Вы уверяете, будто это знаменитое общество ныне не то, каким было прежде; но потребуйте против него обвинительного декрета – тогда я возьмусь защищать его и мы увидим, будете ли вы удачливее и убедительнее Лафайета. Вы уверяете, что я через два дня после 10 августа явился в коммуну и самовластно уселся за стол совета. Но, во-первых, меня не призвали раньше, а когда я явился туда, то не за тем, чтобы усесться, а за тем, чтобы дать проверить мои полномочия. Вы присовокупляете, что я оскорблял собрание, грозил ему набатом, – это ложь. Кто-то, сидевший возле меня, обвинил меня в том, что я будто бы звоню в набат; я же ответил ему, что звонят в набат те, кто растравляет умы несправедливостью; тогда один из моих товарищей, сдержанный менее меня, заявил, что сам и будет звонить. Вот единственный факт, на котором мой обвинитель построил эту басню. В собрании я действительно говорил, но так было условлено; я сделал несколько замечаний, но и другие пользовались этим правом. Я никого не обвинял и не рекомендовал. Этот человек, которого вы мне приписываете как мое орудие, Марат, никогда не был ни дружен со мною, ни мною рекомендован. Если бы я судил о нем по тем, кто его обвиняет, он был бы оправдан, но я ничего не решаю. Я только скажу, что он для меня всегда был чужим; что он однажды пришел ко мне и я сделал ему несколько замечаний насчет его статей и крайностей оценок в них, сожалея, что он компрометирует наше дело своими рьяными мнениями. Но он нашел, что я политик с узкими взглядами, и на другой же день это напечатал. Следовательно, полагать, что я вдохновитель и союзник этого человека, – клевета». Переходя от личных обвинений к обвинениям общим, Робеспьер, как и все его защитники, повторил, что 2 сентября было следствием 10 августа; что нельзя теперь, когда дело уже сделано, в точности отметить пункт, о который должна была бы разбиться революционная волна; что, конечно, казни были незаконны, но без незаконных мер нельзя стряхнуть с себя деспотизм; что тому же упреку подлежит и вся революция, ибо в ней всё незаконно – и падение престола, и взятие Бастилии. Затем он изобразил опасности, грозившие Парижу, негодование граждан, толпы у тюрем, неодолимую ярость этих людей при мысли, что они оставляют за спиною заговорщиков, которые перережут их семейства. «Уверяют, что один невинный погиб! – воскликнул Робеспьер напыщенно. – Один-единственный! Этого, конечно, слишком много. Граждане! Оплакивайте эту жестокую ошибку! Мы ее давно оплакиваем – это был добрый гражданин, один из наших друзей! Плачьте даже над жертвами, которые должны были быть предоставлены каре закона, а вместо того пали под мечом народного правосудия! Но пусть же вашему горю будет конец, как всему земному. Сохраним несколько слезинок для более трогательных бедствий: плачьте о ста тысячах патриотах, пожертвованных тирании! Плачьте о наших гражданах, гибнущих под своими пылающими кровлями, о детях граждан, избиваемых в колыбели или на руках у матерей! Плачьте, наконец, о человечестве, согбенном под игом тиранов… Но утешьтесь, если, заставляя молчать все эти низкие страсти, вы хотите обеспечить благополучие вашего отечества и подготовить благо всего мира. Чувствительность, которая стонет исключительно о врагах свободы, мне подозрительна. Перестаньте размахивать передо мною окровавленной тогой тирана, или я стану думать, что вы хотите снова заковать Рим в кандалы!» Этой смесью хитроумной логики и революционной декламации Робеспьеру удалось обойти своих слушателей и добиться единодушных рукоплесканий. Всё, что в его речи касалось его личности, было верно, и со стороны жирондистов указать на намерение узурпации там, где было еще только домогательство влияния, было гнусным следствием завистливого характера. Неосторожно было непременно искать в действиях коммуны доказательства обширного заговора, когда это были только естественные последствия сорвавшихся с цепи народных страстей. Жирондисты таким образом сами давали собранию случай признать их неправыми, а своих противников – правыми. Польщенный тем, что мнимому главе заговорщиков пришлось оправдываться, в восторге от того, что все злодеяния объяснились восстанием, впредь уже исключавшимся, и от возможности мечтать о лучшей будущности, Конвент счел более достойным и благоразумным отстранить все эти выпады. Итак, был предложен переход к очередным делам. Луве вскакивает и требует слова, чтобы возразить на предложение. Является толпа желающих выступать за или против перехода к очередным делам. Барбару, отчаиваясь в возможности заставить себя слушать, бросается к решетке в надежде, что его выслушают по крайней мере как просителя. Ланжтоине предлагает открыть прения о важных вопросах, об отчете Ролана. Наконец Барер добивается слова. «Граждане, – говорит он, – если бы в Республике жил человек, рожденный с гением Цезаря или отвагою Кромвеля, человек, который, наряду с талантами Суллы, располагал бы и теми же опасными средствами; если бы среди нас существовал гениальный законодатель с обширным честолюбием и глубоким характером, или, например, если бы полководец, увенчанный лаврами, возвратился в вашу среду и стал бы заказывать вам законы и ругаться из-за прав народа, я выдвинул бы против него обвинительный приговор. Но чтобы вы оказывали эту честь людям, выскочившим на один день, ничтожным устроителям мелких бунтов, людям, гражданские венки которых перемешаны с кипарисом[59], – этого я не могу постичь!» Этот странный посредник предложил мотивировать переход к очередным делам следующим образом: – Принимая во внимание, что Национальный конвент должен заниматься лишь интересами Республики… – Не хочу вашего перехода к очередным делам, – вскричал Робеспьер, – если ему предпослано вступление, оскорбительное для меня! Собрание приняло простой переход к очередным делам. Приверженцы Робеспьера поспешили в клуб торжествовать победу, и сам он был принят как триумфатор. Как только он явился, его осыпали аплодисментами. Один из его сторонников потребовал, чтобы Робеспьеру тотчас дали слово и он повествовал бы о событиях этого дня. Другой уверял, что его удержит скромность и он не захочет говорить. Робеспьер, втихомолку наслаждаясь этой восторженностью, предоставил другим изложить льстивый рассказ. Он был назван Аристидом, рассказчик восхвалял его наивное и мужественное красноречие с аффектацией, доказывавшей, как хорошо была известна страсть Робеспьера к литературным похвалам. Конвенту возвратили уважение общества: торжество свободы, говорили ораторы, началось, и не следует более отчаиваться в спасении Республики. Бареру сделали запрос о том, что он хотел сказать выражением «ничтожные устроители мелких бунтов», и он объявил, что этими словами хотел обозначить не горячих патриотов, обвиненных вместе с Робеспьером, а их противников! Вот чем окончилось это знаменитое обвинение. Оно было истинной неосторожностью. Этот шаг характеризует всё поведение жирондистов. Они чувствовали благородное негодование, выражали его талантливо, но к нему примешивалось столько личной злобы, столько ложных догадок и химерических предположений, что люди, охотно себя обманывавшие, имели достаточный повод не верить им, люди, страшившиеся энергичного поступка, – отсрочить его, наконец, люди, рисовавшиеся беспристрастными, имели предлог не принимать их заключений. А из этих-то трех сортов людей и состояла вся Равнина. Однако же один из жирондистов, умный Петион, не разделял всеобщих увлечений; он напечатал речь, в которой все обстоятельства взвешивались и оценивались верно и беспристрастно. Верньо, которого его высокий ум и пренебрежительное добродушие ставили выше страстей, тоже был свободен от общей неразумности и хранил глубокое молчание. Единственным последствием выступления стала окончательная невозможность всякого примирения. Горе побежденным, когда между победителями поселяется раздор! Отступаясь от своих собственных ссор, они наперегонки усердствуют, обрушиваясь на своих поверженных врагов. На тамильских узниках должно было сорваться всё бешенство революционных страстей. Монархия, аристократия, словом, всё то прошлое, против которого революция яростно ратовала, как бы воплощалось в особе злополучного Людовика XVI. Как будет поступлено с низвергнутым государем – это должно было служить мерилом всему и пробным камнем ненависти к контрреволюции. Законодательное собрание, еще слишком близкое к Учредительному, объявившему короля неприкосновенным, не посмело решить его участь; оно его временно низложило и заключило в Тампль; оно даже не уничтожило монархии, а завещало Конвенту рассудить этот существенный вопрос. Теперь, когда была уничтожена королевская власть и провозглашена Республика, когда разработку конституции вверили самым высоким умам собрания, оставалось заняться судьбой Людовика XVI. Прошло полтора месяца, в течение которых заботы без конца – о продовольствии, о надзоре над армиями, о полиции и обо всех подробностях управления, наконец, ожесточенные ссоры – мешали заниматься тамильскими узниками. Лишь однажды о них зашла речь, и предложение, как мы видели, было отослано законодательному комитету. Между тем везде только и было разговоров, что на эту тему. У якобинцев каждый день требовали суда над Людовиком XVI и обвиняли жирондистов в затягивании процесса личными ссорами. Первого ноября, в промежутке между обвинением и защитой Робеспьера, одна секция пожаловалась на новые афиши, призывавшие к убийству и поджогам, вследствие чего, как это делалось каждый раз, потребовали суда над Маратом. Жирондисты уверяли, что он и некоторые его товарищи были причиной всех беспорядков, и при каждом новом факте предлагали преследование. Враги жирондистов, напротив, говорили, что причина беспорядков в Тампле, что новая республика будет основана прочно и спокойствие и безопасность будут в ней водворены лишь тогда, когда король будет принесен в жертву и этим страшным ударом отнимут всякую надежду у заговорщиков. Жан де Бри, тот самый депутат, который в Законодательном собрании требовал, чтобы руководствовались законом об общественной безопасности, говорил по этому случаю, что нужно судить вместе Марата и Людовика XVI. «Марат, – заявил он, – заслужил звание людоеда, он достоин быть королем. Он – причина смут, которым Людовик XVI служит предлогом; будем же судить их вместе и этим двойным примером утвердим общественное спокойствие». Конвент в этом же заседании приказал дать ему отчет в доносах против Марата и велел, чтобы в восьмидневный срок, никак не позже, Законодательный комитет сообщил свое мнение о формах суда над Людовиком XVI. Если по прошествии восьми дней комитет еще не представит своего труда, то каждому члену давалось право подняться на кафедру и поставить этот важный вопрос. Новые заботы и новые ссоры задержали отчет о Марате, который был представлен лишь спустя много времени, а отчет о несчастной семье, заключенной в Тампле, приготовили в срок. Взоры Европы в эту минуту были обращены на Францию; Европа с изумлением следила за этими людьми, сначала казавшимися столь слабыми, а теперь превратившимися в победителей и завоевателей, имевшими смелость ни во что не ставить престолы. Державы тревожно ожидали их дальнейших действий, всё еще надеясь, что дерзости их скоро придет конец. Но вместо того готовились военные события, которые должны были заставить французов вдвое зазнаться и усугубить всеобщий ужас и удивление.
Глава XVII
Продолжение военных операций и политика Дюмурье – Положение Бельгии – Взятие Гента, Монса, Брюсселя, Намюра, Антверпена – Завоевание Бельгии до реки МаасДюмурье въехал в Бельгию в конце октября и 25-го был уже в Валансьене. Составляя общий план, он руководствовался одной мыслью: следует напасть на неприятеля спереди, пользуясь большим численным превосходством. Генерал мог бы, следуя течению Мааса, помешать соединению Клерфэ, который шел из Шампани, с главной союзной армией, по пути напасть и на герцога Альберта и вообще сделать то, что упустил сначала, когда ему следовало спешить на Рейн и идти до Клеве. Но план его был другим, и он предпочитал глубоко обдуманному походу блистательное дело, которое удвоило бы мужество его солдат, уже вдохновленных канонадой при Вальми, и уничтожило бы установившееся в Европе за последние пятьдесят лет мнение, будто французы годятся для быстрых, неожиданных движений, но не для серьезной битвы. Численное превосходство позволяло ему совершить такую попытку, и эта мысль была в своем роде не менее дельной, нежели операции, в упущении которых его столько упрекали. Дюмурье не преминул обойти неприятеля и отделить его от Клерфэ. Валенс, поставленный с этой целью вдоль берега Мааса, должен был идти из Живе на Намюр и Люттих с Арденской армией, состоявшей из 18 тысяч человек. Д’Арвшпо с 12 тысячами было приказано двигаться между главной армией и Валансьеном. Так распорядился Дюмурье на правом фланге. На левом Ла Бурдоне должен был, выйдя из Лилля, обойти границу Фландрии и завладеть всеми приморскими крепостями. После Антверпена ему предписывалось идти вдоль голландской границы и упереться в Маас при Рурмонде. Таким образом, Бельгия оказалась бы в замкнутом кольце, Дюмурье занимал бы ее центр с 40 тысячами и мог разбить неприятельские войска на первом же пункте, на котором им вздумалось бы сопротивляться французам. Сгорая от нетерпения начать кампанию и обеспечить себе широкое поле деятельности, Дюмурье торопил подвоз припасов, обещанных ему из Парижа. Серван в эти дни оставил военное министерство, предпочитая административному хаосу менее бурную должность начальника армии, и теперь отдыхал и поправлял здоровье в своем пиренейском лагере. Ролан предложил в преемники Паша. Это был человек простой, просвещенный, трудолюбивый, который давно переехал в Швейцарию, но возвратился во Францию в начале революции и отказался от военной пенсии. Он отличался редким умом и усидчивостью; ходил в министерство внутренних дел с куском хлеба в кармане, не отлучаясь даже, чтобы поесть, работал по целым дням и привел Ролана в восторг своими способностями и терпением. Серван просил, чтобы Паша перевели к нему в августе и сентябре, и Ролан уступил его весьма неохотно, только принимая во внимание важность военных работ. На этом новом месте Паш оказался столь же полезным, как и на первом, и когда освободился портфель военного министра, должность тотчас же предложили ему – как одному из тех неярких, но драгоценных людей, которым по справедливости и в интересах государства подобает быстрое возвышение. Кроткий и скромный Паш нравился всем. Жирондисты, разумеется, рассчитывали на умеренность человека столь смирного, рассудительного, притом обязанного им всем. Якобинцы, прельщенные его почтительностью, превозносили его скромность, в противоположность надменности и жестокости Ролана. Дюмурье, со своей стороны, был в восторге от министра, показавшегося ему более покладистым, чем жирондисты, и более расположенным во всем соглашаться с ним. Действительно, у генерала были новые поводы к неудовольствию Роланом. Ролан написал ему от имени совета письмо, в котором упрекал Дюмурье в том, что он слишком навязывает свои планы правительству. И он тем больше выказал генералу недоверия, чем больше за ним полагали таланта. Ролан был прежде всего честен и то, что говорил в секретной переписке, отстаивал и публично. Дюмурье, напротив, тайно жаловался Пашу, который принял его жалобы и льстиво утешал в недоверии товарищей. Таков был новый военный министр: поставленный между якобинцами, жирондистами и Дюмурье, он выслушивал жалобы одних на других, всех располагал к себе мягкостью и почтительностью и всем подавал надежду на свое потворство и дружбу. Дюмурье приписал замедление в подвозе припасов и снаряжения переменам в составе министерства. Он получил только половину обещанного и выступил, не дожидаясь оставшегося и написав Пашу, что ему необходимо 30 тысяч пар башмаков, 25 тысяч одеял, предметов обихода на 40 тысяч человек, а главное – два миллиона наличными, так как в стране, где не ходят ассигнации, солдатам придется платить за всё наличными. Ему всё было обещано, и, вдохновляя свои войска, поощряя их надеждой на скорое и верное завоевание, генерал двинул их вперед. Поход Валенса, замедленный маневром у Лонгви и недостатком припасов, которые пришли только в ноябре, позволил Клерфэ беспрепятственно перейти из Люксембурга в Бельгию и с 12 тысячами солдат примкнуть к герцогу Альберту. Дюмурье на время отказался от содействия Валенса, притянул к себе дивизию д’Арвиля и, пройдя между местечками Карубль и Киеврен, поспешил нагнать неприятельскую армию. Герцог Альберт, верный австрийской системе, образовал кордон от Турне до Монса и, хотя у него была 31 тысяча человек, стянул перед Монсом немногим более 20 тысяч. Дюмурье, следуя за ним по пятам, 3 ноября появился перед мельницей Буссю и приказал своему авангарду, которым командовал храбрый Бернонвиль, прогнать неприятеля с высот. Атака сначала удалась, но потом был дан отпор и пришлось отступить. Дюмурье, чувствуя, как важно не подаваться назад с самого начала, велел сбросить все неприятельские посты и вечером 3 ноября очутился лицом к лицу с австрийцами, укрепившимися на возвышенностях, окаймлявших город Моне. На этих возвышенностях, расположенных полукругом перед крепостью, стоят три деревни: Жемап, Ктоэм и Бертемон. Австрийцы, ожидавшие нападения именно там, неосторожно решили удержаться в этих деревнях и давно уже самым тщательным способом старались сделать их неприступными. Клерфэ занимал Жемап и Ктоэм; несколько далее стоял лагерем генерал Больё. Крутые склоны, леса, срубленные деревья, четырнадцать редутов, многочисленная артиллерия, расставленная ярусами, и 20 тысяч человек охраняли эти позиции, так что подступиться к ним было почти невозможно. Тирольские стрелки наполняли леса, простиравшиеся за высотами. Кавалерия, помещенная в промежутке между склонами и в особенности в лощине, разделявшей Ктоэм и Жемап, была готова ринуться на французские колонны, как только грянут батареи. Перед этим-то столь надежно укрепленным лагерем расположился Дюмурье. Он выстроил свою армию полукругом, параллельно неприятельским позициям. Д’Арвиль, только что присоединившийся к главной армии, получил приказание маневрировать на крайнем левом фланге. Уже утром 6-го числа он должен был, отправившись вдоль позиций Больё, постараться обогнуть их и занять возвышенности за Монсом – единственным местом, куда могли отступить австрийцы. Бернонвилю с правым флангом было приказано идти на деревню Кюэм. Герцог Шартрский, служивший во французской армии в генеральском чине и в этот день командовавший центром, должен был подойти к Жемапу спереди и стараться проникнуть в лощину, отделявшую Жемап от Ктоэма. Наконец, генерал Ферран, командующий левым флангом, получил приказание пройти через маленькую деревушку Кареньон и напасть на Жемап с фланга. Все эти атаки должны были вестись батальонными колоннами; кавалерия была готова поддержать их с тыла и по бокам. Артиллерию разместили так, чтобы бить каждый редут во фланг и, если получится, заставить прекратить огонь. Резервы пехоты и кавалерии дожидались исхода дела за небольшим ручьем, протекавшим неподалеку. В ночь на 6 ноября генерал Больё предложил выйти из укреплений и броситься на французов, чтобы озадачить их внезапным нападением. Этот своевременный совет был оставлен без внимания, и в восемь часов утра французы уже стояли в боевом порядке, полные мужества и надежды, хоть и под убийственным огнем и перед почти неприступными укреплениями. Шестьдесят тысяч человек покрывали поле битвы, и сто орудий гремели перед фронтом обеих армий. Канонада открылась с утра. Дюмурье приказал Феррану и Бернонвилю начать атаку слева и справа, между тем как сам он будет ждать надлежащей минуты в центре, а д’Арвиль обойдет позиции Больё и отрежет ему путь к отступлению. Ферран повел атаку вяло, и Бернонвилю не удалось остановить огонь австрийцев. Было одиннадцать часов, а неприятеля еще недостаточно потрепали с боков, чтобы можно было напасть на него спереди. Тогда Дюмурье послал своего верного Тувено на правое крыло, чтобы ускорить события. Тувено прекращает бесполезную канонаду, проходит через Кареньон, огибает Жемап и, поднявшись на возвышенность сбоку, подбирается к флангу австрийцев. Дюмурье, узнав об этом движении, решается начать атаку и ведет свой центр прямо на Жемап. Пехоту он ведет колоннами, а гусаров и драгун располагает так, чтобы они прикрыли лощину между Жемапом и Ктоэмом. Войска трогаются и, не колеблясь, проходят это пространство. Однако одна бригада при виде выезжающей из лощины австрийской кавалерии колеблется, пятится назад и открывает фланг пехоты. В это мгновение молодой Батист Ренар, простой солдат, следуя внезапному вдохновению, бросается к генералу этой бригады, укоряет его в малодушии, указывает на опасность и заставляет возвратиться. Весь центр шатается и плохо выдерживает огонь батарей. Тогда герцог Шартрский бросается в ряды, вновь строит их, образует вокруг себя батальон и энергично ведет его против неприятеля. Сражение завязывается снова, но Клерфэ, теснимый с флангов и угрожаемый спереди, сопротивляется с геройской твердостью. Дюмурье, свидетель всех этих движений, спешит к правому крылу, где сражение всё еще не закончено, несмотря на все старания Бернонвиля. Намерением генерала было или завершить атаку, или отозвать свое правое крыло, чтобы прикрыть им отступление центра, если бы понадобилось сделать попятное движение. Бернонвиль тщетно потратил на Кюэм столько усилий и собирался уже отойти, когда Дампьер, командовавший одним из пунктов атаки, собрал несколько рот и смело бросился в самую середину редута. Дюмурье подошел в то самое мгновение, когда Дампьер исполнял это смелое движение, и нашел остальные батальоны без вождя, под страшным огнем, колеблющимися в виду императорских гусар, которые готовились в атаке. Это были те самые батальоны, которые в лагере при Моде так привязались к Дюмурье. Он их успокоил и уговорил твердо встретить атаку неприятельской кавалерии. Ружейный залп в упор остановил ее, и гусары, вовремя на нее напущенные, окончательно обратили кавалерию в бегство. Тогда Дюмурье, став во главе своих батальонов и затянув с ними «Марсельезу», увлек их за собой прямо к укреплениям, опрокинул всё на своем пути и наконец захватил Кюэм. Едва совершив этот подвиг, Дюмурье, всё еще беспокоясь о центре, поскакал туда, за ним – несколько эскадронов. Но навстречу уже летел молодой герцог Монпансье с известием о победе центра, одержанной главным образом благодаря его брату, герцогу Шартрскому. После взятия Кюэма и ввиду двойного нападения на Жемап Клерфэ более не мог бороться и отступил, дорого уступив Дюмурье победу. Было два часа пополудни. Измученные войска просили краткого отдыха; Дюмурье согласился и останавился на самых высотах Кюэма и Жемапа. Он рассчитывал, что погоней за неприятелем займется д’Арвиль, которому поручили отрезать австрийцам отступление. Но приказание было дано не совсем четко, так что д’Арвиль стоял перед Бертемоном и без всякой пользы обстреливал окружавшие эту деревню возвышенности. Клерфэ смог отступить под прикрытием Больё, вовсе не тронутого, и оба направились к Брюсселю. Битва эта стоила австрийцам полутора тысяч пленных, четырех тысяч пятисот убитых и раненых, французам – почти столько же. Дюмурье скрыл свои потери и признался только в нескольких сотнях убитых. Его упрекали в том, что он слишком упорствовал в атаке с левого фланга и центра, вместо того чтобы справа обойти неприятеля и напасть на него с тыла. Эта мысль пришла Дюмурье в голову, когда он приказал д’Арвилю пробираться вдоль Бертемона, но он на ней не остановился. По живости характера, часто мешавшей ему зрело обдумать планы, как и из желания совершить что-нибудь блистательное, он предпочел при Жемапе, как и во всей кампании, атаку спереди. Впрочем, во время сражения Дюмурье выказал необычайное мужество и присутствие духа, воодушевил войска и внушил им геройскую храбрость. Это крупное дело произвело на Францию большое впечатление. Победа при Жемапе мигом наполнила всю страну ликованием, а Европу заставила вновь изумиться. Везде говорили о хладнокровии, с которым французские войска выдерживали огонь артиллерии, об отваге, с которой они ворвались в редуты; опасность и победа в рассказах даже преувеличивались, и вся Европа снова признала за французами способность выигрывать большие сражения. В Париже все искренние республиканцы чрезвычайно обрадовались этому известию и начали готовить празднества. Молодой Ренар был представлен Конвенту и пожалован гражданской короной[60] и офицерскими эполетами. Жирондисты из патриотизма и чувства справедливости рукоплескали успеху Дюмурье. Якобинцы, хоть и относились к нему с подозрением, однако тоже рукоплескали из потребности восхищаться успехами революции. Один только Марат винил французов в способности слишком увлекаться, твердил, что Дюмурье непременно солгал относительно числа убитых, что гора так легко не берется, что он не захватил ни орудий, ни обозов, а австрийцы ушли спокойно, и это скорее отступление, чем поражение. Примешивая к этим обвинениям свою яростную страсть к клевете, он присовокуплял, что фронтовая атака имела единственной целью избиение храбрых парижских батальонов; а его товарищи в Конвенте, у якобинцев, да и все французы, всегда готовые восхищаться, – не кто иные, как ветреники. Сам же он тогда только признает Дюмурье хорошим полководцем, когда вся Бельгия будет покорена и ни один австриец из нее не уйдет, а добрым патриотом Дюмурье окажется, только когда Бельгия будет глубоко проникнута революцией и совершенно свободна.
Битва при Жемапе открыла французам Бельгию. Но потом Дюмурье представились большие трудности, и перед нашими глазами развернулись две поразительные картины: на завоеванной земле Французская революция влияет на революции соседей, торопя их; во французской армии в то же время демагогия проникает в управление с благой целью его очистить и совершенно расстраивает. В Бельгии имелось несколько партий. Первая, партия австрийского господства, существовала лишь в австрийских армиях, прогнанных Дюмурье. Вторая, состоявшая из дворянства, духовенства, чиновников, всего народа, единодушно хотела независимости бельгийской нации; но эта партия подразделялась еще на две: духовенство и привилегированное сословие хотели сохранить прежнее устройство, прежние учреждения, разграничения сословные и областные, словом, всё, кроме австрийского господства, и имели на своей стороне часть населения, еще очень суеверного и привязанного к духовенству; демагоги же, или бельгийские якобинцы, хотели полной революции и верховенства народа, требовали безусловного равенства. Каждый присваивал себе из революции то, что было ему удобно. Понятно, что Дюмурье по своим вкусам должен был придерживаться середины между различными партиями. Изгоняя Австрию, против которой сражался, осуждая исключительные притязания привилегированных классов, он всё же не хотел переносить в Брюссель парижских якобинцев и водворять там хозяевами разных Шабо и Маратов. Его задачей было щадить старинное устройство страны и только переделать в ней то, что осталось слишком феодального. Просвещенная часть населения была довольна этими преобразованиями, но трудно было создать из государства единое целое по причине малого согласия между городами и провинциями. В случае удачи Дюмурье думал, путем союза или просто присоединения, включить Бельгию в состав французской державы. Он в особенности желал не допустить расхищений, обеспечить средства этой страны для ведения войны и не рассердить людей, чтобы его армия не погибла в результате восстания. Главным образом Дюмурье собирался щадить духовенство, еще имевшее на народ большое влияние. Словом, ему хотелось вещей невозможных, таких вещей, от которых величайший политический и административный гений должен отказаться заранее с величайшей покорностью. Вступая в Бельгию, Дюмурье прокламацией пообещал уважение к собственности, личности и национальной независимости. Он приказал, чтобы всё осталось в прежнем виде, чтобы власти продолжали отправлять свои должности, налоги и подати продолжали собираться и тотчас же были созваны первичные собрания для составления конвента, который и решит участь страны. Но его ожидали большие трудности. По политическим соображениям, из желания добра, из гуманности, он мог мечтать, чтобы в Бельгии совершилась революция осторожная и умеренная, но надо было кормить и содержать армию, а это касалось уже лично его действий. Он был полководцем и прежде всего был обязан побеждать. Для этого нужны были дисциплина и средства. Вступив в Моне утром 7 ноября, среди радости брабантцев, которые поднесли ему венок так же, как и храброму Дампьеру, Дюмурье находился в самом затруднительном положении. Ему нужна была одежда для полунагих солдат, съестные припасы, лошади для артиллерии, хорошие обозы – вещь особенно необходимая в стране, где перевозка крайне затруднительна, наконец, деньги, чтобы платить войскам, потому что в Бельгии неохотно брали ассигнации. Эмигранты распространили большое количество фальшивых банкнот и этим подорвали кредит; к тому же ни один народ не любит участвовать в денежных затруднениях другого, принимая бумагу, представляющую его долги. При пылкости своего характера, нередко доходившей до опрометчивости, Дюмурье вряд ли пробыл бы с 7-го по 11-е число в Монсе и дал герцогу Саксен-Тешенскому спокойно удалиться, если бы административные мелочи не поглотили его внимания, тогда как оно должно было быть сосредоточено исключительно на военных делах. Он составил весьма дельный план: самому заключать с бельгийцами договора о продовольствии, фураже и всяких припасах. Это представляло множество выгод. Такие закупки весьма заинтересовывали бельгийцев в присутствии французов, требуемые предметы имелись в наличии, и промедлений быть не могло. Получая плату ассигнациями, продавцы сами вынуждены были давать им ход. Это избавляло от необходимости принудительного хождения – обстоятельство очень важное, так как каждое лицо, получающее принудительные деньги, считает себя обкраденным властью, и это самое верное средство возмутить целый народ. Кроме того, Дюмурье думал сделать заем у духовенства, представляя гарантом Францию. Эти займы дали бы ему и фонды, и наличные, а духовенство, хоть и почувствовало бы минутную тяжесть, но было бы спокойно за свое существование и имущество, видя, что с ним ведут переговоры. Наконец, так как Франция впоследствии имела бы право требовать у бельгийцев вознаграждения за войну, предпринятую для их освобождения, то это вознаграждение можно было употребить на уплату займов, и вся война была бы оплачена, а Дюмурье прожил бы за счет Бельгии, нисколько ее не притеснив и не расстроив. Это были гениальные планы, но только планы, а в революционное время гению следует принимать более резкие решения: следует или предвидеть предстоящие беспорядки и насилие и тотчас же ретироваться, или же покориться и решиться на насилие для того, чтобы продолжать приносить пользу. Ни один человек не был настолько отрешен от мира сего, чтобы прийти к первому решению, но нашелся один, который был велик и сумел остаться чистым, приняв последнее. Тот, кто, будучи членом наблюдательного комитета, но не участвуя в его политических деяниях, весь ушел в военные заботы и организовал победу – дело чистое, дозволенное и патриотичное при любых порядках. Дюмурье заключал договора и совершал финансовые операции через Малю, военного комиссара, которого очень уважал, потому что находил его человеком деятельным и ловким, и не слишком заботился при этом, умеренную тот получает выгоду или нет. Так же пользовались услугами некоего д’Эспаньяка, бывшего аббата, ведущего довольно распутный образ жизни, одного из тех остроумных развратников старого режима, которые всякое ремесло справляли с большим изяществом и ловкостью, но везде оставляли за собой двусмысленную репутацию. Дюмурье отправил д’Эспаньяка в Париж – излагать его планы и хлопотать об утверждении всех принятых им обязательств. Он и без того уже ставил себя в довольно рискованное положение, присваивая себе такую почти диктаторскую власть и выказывая такую умеренность относительно бельгийцев. Но сейчас он компрометировал себя еще и сотрудничеством с людьми уже подозрительными или могущими скоро сделаться таковыми. И так уже поднимался общий ропот против прежних администраций, наполненных плутами и аристократами.
Позаботившись о содержании своей армии, Дюмурье занялся ускорением похода Ла Бурдоне, который, нарочно отстав, очень поздно вступил в Турне, устраивал там сцены, достойные якобинцев, и брал большие контрибуции. Дюмурье приказал генералу быстро идти на Шельду, направляясь на Антверпен, и обойти кругом всю страну до Мааса. Валенс, наконец прибывший к главной линии после не зависевших от него промедлений, получил приказ быть 14-го в Нивеле. Дюмурье, полагая, что герцог Саксен-Тешенский отступит за канал у Вилворде, хотел, чтобы Валенс, обогнув лес Суаньи, зашел за канал и принял герцога у переправы через реку Диль. Одиннадцатого ноября он выступил из Монса и медленно последовал за неприятельской армией, которая сама отступала в порядке, но крайне медленно. Из-за плохой обозной части Дюмурье не поспел вовремя, чтобы отплатить за все промедления, которые ему пришлось сносить. Тринадцатого числа он шел немного впереди с небольшим авангардом, но вдруг наткнулся при Андерлехте на центр неприятеля и едва не был окружен. Однако со своей обычной ловкостью он развернул маленький отряд, с большой пышностью пустил в ход сопровождавшие его немногочисленные орудия и сумел убедить австрийцев, что располагается тут со всей своей армией, дав таким образом французам время подоспеть на выручку. Он вступил в Брюссель 14 ноября и опять был задержан в этом городе административными затруднениями, не имея ни денег, ни других ресурсов, необходимых для содержания войск. Там он узнал, что правительство отказалось утвердить заключенные им договора, кроме одного, и что все прежние военные администрации сменены, а вместо них работает теперь новый комитет, называемый комитетом закупок. Этому комитету одному принадлежало право закупать всё нужное для содержания армий, и генералам ни под каким видом не дозволялось вмешиваться в эти дела. Это было начало готовившегося на всех уровнях управления переворота, который должен был произвести на время полнейшую неразбериху. В те администрации, которые требуют долгой практики или специальных знаний, революция проникает обыкновенно позже всего, потому что они менее соблазняют дешевое честолюбие, а необходимость держать в них способных и сведущих людей предохраняет их от повального, неразборчивого обновления. Так, не было внесено почти никаких перемен в главные штабы, в научные отделы армий, в управления различных министерств, в провиантские бюро и во флот, так как из всех частей военной науки эта требует наиболее специальных знаний. Однако в обществе не переставали бунтовать против аристократов, которыми все эти учреждения были наводнены, и бранили исполнительный совет за то, что он их не сменял. Самое большое раздражение возбуждала провиантская часть. Справедливые упреки сыпались на поставщиков, которые, по свойственной этому званию склонности, а еще больше благодаря общему беспорядку, назначали неслыханнейшие цены, а товар поставляли самый плохой. Против их поборов кричали со всех сторон. У поставщиков имелся один особенно неумолимый противник – Камбон, депутат города Монпелье. Страстный любитель финансовых и экономических вопросов, этот депутат приобрел большой авторитет в прениях о таких предметах и пользовался полным доверием собрания. Хотя сам он был отъявленным демократом, но не переставал греметь против поборов коммуны и удивлял этим людей, не понимавших, как он в качестве финансиста преследует беспорядки, которые должен извинять в качестве якобинца. Он с еще большей энергией травил подрядчиков и поставщиков и преследовал их со всей пылкостью своего характера. Каждый день Камбон обличал какие-нибудь новые мошенничества, требовал подавления их, и в этом все с ним соглашались. Честные люди хотели преследовать мошенников, якобинцы – аристократов, интриганы хотели просто освободить места. Таким образом, возникла мысль составить комитет, которому было бы поручено делать все закупки. Этот комитет, единственный и отвечавший за всё, устранил бы лихоимства отдельных подрядчиков и, один закупая всё нужное для всех ведомств, не повышал бы цен конкуренцией, как это бывало, когда каждое министерство, каждая армия отдельно заботились о своих нуждах. Этот комитет был учрежден с согласия всех министров, и Камбон оказался особенно горячим его сторонником, потому что эта новая и простая форма очень подходила его характеру и взглядам. Итак, Дюмурье дали знать, что он уже не будет заключать никаких договоров, и даже предписали уничтожить договора, уже подписанные. Строгость дошла до того, что один бельгийский негоциант, снабдивший армию в кредит по расписке Дюмурье, с большим трудом сумел получить свои деньги из казначейства. Этот переворот, весьма похвальный по побуждениям, к несчастью, совпал с разными обстоятельствами и по их милости привел к бедственным последствиям. Серван в бытность свою министром полагал, что удовлетворил основные потребности войск, а это уже было весьма немало. Но по окончании Аргонской кампании запасы, сделанные с таким трудом, оказались истощенными; добровольцы, выступившие в одной форме, ходили почти раздетыми; а потому каждой армии необходимо было доставить полную экипировку, и это среди зимы и при быстром вторжении в Бельгию. На преемника Сервана Паша легла громадная задача, а он, при большом уме и прилежании, имел, к несчастью, характер слабый, так что, желая всем угодить, не умел никому приказывать или сообщать обширному ведомству нужную силу и стойкость. Если к громадности нужд, трудностям, вытекавшим из времени года, необходимости чрезвычайно быстрых действий присоединить слабость нового министерства, общий беспорядок в государстве, а главное – переворот в административной системе, станут понятны и переполох первой минуты, и нищета армий, и их горькие жалобы, и сердитые пререкания между генералами и министрами. Дюмурье, получив известие об этих административных переменах, вышел из себя. В ожидании, пока начнет правильно действовать новая система, армия рисковала погибнуть от нужды, если не будут утверждены и выполнены заключенные им договора. Поэтому Дюмурье решился отстоять их под свою ответственность и приказал своим соратникам – Малю, д’Эспиньяку и некоему Птижану – продолжать операции. В то же время он написал министру с надменностью, сделавшей его еще более подозрительным в глазах недоверчивых демагогов. Он объявил, что требует, если правительство желает продолжения его службы, чтобы ему было предоставлено самому заботиться о нуждах своей армии; он доказывал, что комитет закупок есть нелепость, потому что он будет с большой затратой труда подвозить издалека то, что легко найти на месте; что все эти перевозки станут причиной огромных лишних расходов и задержек, во время которых солдаты будут умирать с голоду и холоду; что бельгийцы, лишившись всяких выгод от присутствия французов, не станут более потворствовать обращению ассигнаций; что подрядчики будут грабить не меньше прежнего, потому что подряды представляют слишком большие удобства и всегда найдутся желающие воспользоваться этими удобствами; что, наконец, ничто не помешает самим членам комитета сделаться скупщиками и продавцами, хотя это и воспрещается законом; а стало быть, всё это пустая мечта, которая, будь она даже и не пустой, в настоящую минуту вызовает только пагубный перерыв в действиях провиантского ведомства. Немало способствовало раздражению Дюмурье то обстоятельство, что в числе членов нового комитета он видел людей, вполне преданныхКлавьеру, и усматривал в этом результат недоверия к нему жирондистов. А между тем назначения были сделаны честно, искренне, с одобрения всех сторон и без влияния какой-нибудь одной партии. Паш должен был бы стараться удовлетворить генерала, чтобы не лишать Республику его услуг. Для этого следовало рассмотреть его требования, разобрать, что в них справедливо, и уважить, а остальное отвергнуть и вообще повести дело авторитетно и энергично, чтобы не оставить места упрекам, спорам, неурядицам. Вместо того Паш, уже обвиняемый жирондистами в малодушии и дурно к ним расположенный, допустил столкновение между ними, генералом и Конвентом. В совете он читал опрометчивые письма, в которых Дюмурье открыто жаловался на недоверие к нему министров-жирондистов; в Конвенте разглашал требования Дюмурье с угрозой отставки в случае отказа. Ничего не порицая, но и не объясняя, Паш разрешил каждому явлению произвести самое вредное действие. Жирондисты, Конвент, якобинцы – все по-своему были оскорблены высокомерием генерала. Камбон громил Малю, д’Эспиньяка и Птижана и под предлогом того, что Дюмурье окружен интригами, от которых его нужно избавить, побудил собрание издать против всех троих обвинительный декрет. Камбон доказывал, что комитет закупок – прекрасное учреждение, а брать на самом театре войны всё нужное для потребления – значит лишать работы французских рабочих; что же касается ассигнаций, Камбон утверждал, что не требуется никаких уловок, чтобы пустить их в оборот, и генерал неправ, если не заставляет бельгийцев своею властью принимать их. Ему следует перенести в Бельгию Революцию целиком, со всеми ее порядками, системами, монетами, а бельгийцы, принимая в дар свободу, должны принять вместе с выгодами и неудобства. С кафедры Конвента о Дюмурье говорили больше как о человеке, обманываемом своими соратникам, но в Клубе якобинцев и в листке Марата прямо утверждалось, что он с ними заодно и получает свою долю барышей, чему, однако, не имелось доказательств, кроме довольно нередкого примера других генералов. Итак, Дюмурье вынужден был выдать трех комиссаров, которые были арестованы вопреки ручательству, данному им самим. Паш писал ему с обычной своей медоточивостью, что его требования будут рассмотрены, а все нужды – удовлетворены, что комитет совершит значительные закупки. В то же время он говорил генералу о больших подвозах, которых, однако, пока не было видно. Дюмурье не переставал жаловаться, прибегал к разным уловкам, к займам у церковных капитулов, перебивался при помощи контракта, заключенного Малю, который ему позволили не отменять ввиду крайней необходимости, и собирался прожить в Брюсселе с 14-го до 19-го числа.
Тем временем генерал Штенгель, отряженный с авангардом, взял Мехельн; это было очень важным событием, потому что в этой крепости хранилось столько пороха и всякого оружия, что она могла считаться оружейным складом всей Бельгии. Восемнадцатого ноября Ла Бурдоне вступил в Антверпен, где организовал клубы, раздражал бельгийцев, поощряя народных агитаторов, но не приступал к осаде крепости. Дюмурье, которому не с руки был офицер, так рьяно занятый клубами и так мало – войною, сменил его и послал на его место Миранду, храброго перуанца, приехавшего во Францию во время революции и получившего высокий чин благодаря дружбе Петиона. Ла Бурдоне, оставшись без войска и отозванный назад, в департамент Нор, возбуждал там рвение якобинцев против кесаря Дюмурье, как тогда уже начинали называть полководца. Неприятель сначала думал стать за каналом у Вилворде и сохранять связь с Антверпеном, подражая этим ошибке Дюмурье, то есть стараясь подойти ближе к Шельде вместо того, чтобы спешить на Маас. Наконец Клерфэ, принявший на себя начальство, решил быстро перейти через Маас и оставить Антверпен на произвол судьбы. Тогда Дюмурье двинул Валенса от Нивеля на Намюр, чтобы предпринять осаду этого города, и опять совершил большую ошибку, не преградив австрийцам отступления через реку. Поражение оборонительной армии само по себе привело бы к сдаче крепости. Но в то время еще не знали примеров грандиозных стратегических операций, и у Дюмурье, как и во многих других случаях, не хватило прозорливости. Он выступил из Брюсселя 19 ноября, 20-го прошел через Лёвен, 22-го нагнал неприятеля при Тирлемоне. Произошла стычка, в которой было убито триста или четыреста австрийцев. Тут его опять задержала крайняя нужда, и только 27 ноября Дюмурье пришел к Люттиху и выдержал довольно горячее сражение с неприятельским арьергардом. Командовавший австрийцами генерал Штарай защищался мужественно и получил смертельную рану. Наконец 28-го утром Дюмурье вступил в Люттих при радостных криках народа, который в этом городе пребывал в самом революционном настроении. Миранда 29 ноября взял цитадель Антверпена и смог довершить обход Бельгии, дойдя до Рурмонда. Валенс 3 декабря занял Намюр. Клерфэ двинулся на реку Рур, а Больё – на Люксембург.
В этот момент Бельгия была занята вплоть до Мааса; но оставалось завоевать остальную часть страны, до Рейна, и Дюмурье ожидали изрядные препятствия. Вследствие затруднительности подвоза или просто по причине нерадения армия ничего не получала, и, хотя в Валансьене имелись довольно большие запасы, на берегах Мааса испытывали недостаток во всем. Паш, чтобы угодить якобинцам, разрешил им провести ревизию своего министерства, в котором вследствие этого водворился страшный беспорядок. Никто не работал, отдавались, из невнимания, самые противоречивые приказания. Становилось почти невозможно исполнять что бы то ни было, и когда министр воображал, что транспорты уже давно пришли на место, они еще и не думали приходить. Учреждение нового комитета только увеличило неурядицы. Новый комиссар Ронсен, который донес на Малю и д’Эспиньяка и занял их место, очутился в затруднительнейшем положении. Весьма дурно принятый в армии, он испугался своей задачи и по приказу Дюмурье продолжал делать закупки на месте, вопреки недавним постановлениям. Армия получила хотя бы хлеб и мясо, но одежды, обозов, денег, фуража решительно не хватало, и лошади падали с голоду. Армия страдала от еще одного бедствия – дезертирства. Добровольцы, бросившиеся в Шампань в первом порыве восторженности, охладели, как только миновала главная опасность. К тому же им наскучили лишения всякого рода, и солдаты стали дезертировать толпами. Из одного отряда Дюмурье их выбыло не менее десяти тысяч. В Бельгии набор еще не проводился, потому что почти не было возможности организовать набор в стране, где различные классы населения и различные области никак не могли между собой поладить. Люттих вполне отдался революции, но Брабант и Фландрия с недоверием следили за появлением якобинцев в клубах, искусственно устроенных в Генте, Антверпене, Брюсселе и других городах. Народ не слишком ладил с солдатами, платившими ассигнациями; добровольно бумажных денег не принимали нигде, а принудительные меры Дюмурье вводить не соглашался. Таким образом, армия, хоть и победоносная, находилась в печальнейшем положении. Конвент, осаждаемый противоречивыми рапортами генерала, который надменно жаловался, и министра, который скромно заверял, что отправлены обильные транспорты, послал четырех комиссаров с поручением собственными глазами удостовериться, как на самом деле обстоят дела. Комиссары эти были Дантон, Камю, Лакруа и Госсюэн. Пока Дюмурье в течение ноября занимал Бельгию, Кюстину, всё еще совершавшему набеги в окрестностях Франкфурта-на-Майне, угрожали пруссаки, поднимавшиеся по реке Лан. Ему хотелось бы, чтобы вся война подалась в эту сторону и он имел бы возможность, будучи прикрытым сзади, продолжать свои бессмысленные операции. Он не переставал ворчать на Дюмурье за то, что тот не является в Кельн, и на Келлермана за то, что тот не идет на Кобленц. Мы сейчас видели, какие препятствия мешали двигаться быстрее Дюмурье, а чтобы сделать возможным движение Келлермана, Кюстину следовало бы отказаться от маневров, вызывавших восторги якобинцев и газет, запереться за Рейном и, укрепив Майнц, спуститься до Кобленца. Но он желал, чтобы всё это совершалось другими, у него в тылу, а ему принадлежала честь наступательной инициативы в Германии. По его настоятельным советам и жалобам исполнительный совет отозвал Келлермана и послал на его место Бернонвиля с несвоевременным поручением взять Трир в холодное время года, среди страны бедной и настроенной враждебно. Исполнить это с успехом можно было лишь одним способом: следовало в самом начале идти между Люксембургом и Триром, пока Кюстин двинулся бы туда же вдоль Рейна. Тогда можно было разбить пруссаков, еще не оправившихся от урока, полученного в Шампани, и соединиться с Дюмурье, который был бы уже в Кельне. Таким образом, Люксембург и Трир, которых не было возможности взять силой, пали бы от голода и недостатка помощи. Но Кюстин упорно продолжал свои набеги, Мозельская армия осталась на своих зимних квартирах, и уже не время было идти против этих крепостей в конце ноября. Бернонвиль представлял все эти доводы, но на Кюстина нашел стих завоеваний, притом хотелось наказать трирского курфюрста за его отношение к Франции – и Бернонвиль получил предписание попытать счастье в атаке. Что он и исполнил с таким рвением, как будто одобрял эту экспедицию. После нескольких блестящих и упорных сражений он вынужден был всё же отступить в Лотарингию. Вследствие этого Кюстин почувствовал себя на берегах Майна в опасности, но не хотел, отступая, признаться в своей опрометчивости и держался на занятом им пятачке без всякой основательной надежды на успех. Он поставил во Франкфурте гарнизон из 2400 человек и, хотя этого было совершенно недостаточно в открытом городе, среди раздраженного несправедливыми поборами населения, приказал коменданту держаться. Сам же, засев в Хаймбурге, немного ниже Франкфурта, гордился своим упорством. Итак, вдоль Рейна ничего положительного не совершалось. А со стороны Альп Монтескью, который, как мы видели выше, вел переговоры со Швейцарией и старался в одно и то же время вразумить и Женеву, и французское правительство, вынужден был эмигрировать. Против него издали обвинительный декрет: он будто бы скомпрометировал достоинство Франции, допустив в конвенции статью, по которой французские войска должны были удалиться, и в особенности выполнив эту статью. Монтескью искал убежища в Женеве, но за успех начатого им дела ручалась его умеренность, и, пока его отдавали под суд, с Женевой заключили сделку на основаниях, им же указанных. Бернским войскам пришлось отступить, а французские разместились по квартирам в условленных границах. Франции обеспечивался драгоценный нейтралитет Швейцарии, и одна из окраин французской державы была отныне защищена от опасностей на несколько лет. Однако эту значительную услугу не признали – отчасти благодаря наговорам Клавьера, отчасти вследствие глупой обидчивости самого генерала. В графстве Ницца французы вновь победоносно заняли крепость Соспелло, которую пьемонтцы ненадолго у них отняли. Этим Франция была обязана искусству генерала Брюнэ. Французский флот, властвовавший в Средиземном море, ходил в Геную и Неаполь, наконец, во все государства Италии, заставляя их признать новую Французскую республику. От Неаполя флот добился этого признания лишь бомбардировкой и возвратился, гордясь вынужденным согласием королевства. На Пиренеях господствовала полная неподвижность, и Сервану стоило больших трудов возобновить состав обсервационной армии. Несмотря на всю громадность военных расходов, достигавших ста восьмидесяти, даже двухсот миллионов в месяц, все армии – в Пиренеях, в Альпах, на Мозеле – находились в одинаково бедственном положении. И при всем том французы все-таки с упоением гордились своими победами. В эту минуту умам, экзальтированным победой при Жемапе, взятием Франкфурта, занятием Ниццы и Савойи, внезапным переворотом, последовавшим в общественном мнении Европы в пользу республики, уже чудился треск поколебленных держав и на мгновение представилось, будто народы сейчас же ниспровергнут все престолы и образуют республики. «Ах, если бы в самом деле настало пробуждение народов! – говорил один из членов Клуба якобинцев. – Если бы в самом деле низвержение всех престолов стало близким последствием успехов нашего оружия и вулкана революции! Если бы в самом деле республиканские доблести отмстили за весь удрученный мир; если бы каждая земля, освободившись, устроила у себя образ правления, соответственный большим или меньшим размерам, положенным ей природой, и если бы из среды всех этих национальных конвентов сошлось известное число чрезвычайных депутатов, образовав в центре земного шара всемирный конвент, постоянно наблюдающий за охранением прав человека, общей свободой торговли и миром рода человеческого!..» В этот момент Конвент, узнав о притеснениях, совершенных герцогом Цвайбрюккеном против нескольких подвластных ему жителей, в порыве восторженности издал следующий декрет: «Национальный конвент объявляет, что окажет братскую помощь всем народам, которые захотят вернуть свою свободу, и поручает исполнительному совету отдать приказания французским военачальникам, дабы они помогали гражданам, потерпевшим или терпящим за дело свободы. Национальный конвент приказывает военачальникам французских армий распорядиться, чтобы настоящий декрет был напечатан и вывешен во всех местах, куда они занесут оружие Республики. Париж, 19 ноября 1792 года».
Глава XVIII
Состояние партий при начале процесса над Людовиком XVI – Подробности жизни королевской семьи в Тампле – Прения о предании Людовика XVI суду – Речь Робеспьера – Конвент постановляет, что король будет судимПроцесс над Людовиком XVI наконец должен был начаться, и партии только этого и ждали, чтобы помериться силами, раскрыть свои намерения и окончательно составить друг о друге суждение. За жирондистами присматривали особенно, стараясь уловить у них малейшее движение сострадания, чтобы обвинить в роялизме, если бы падшее величие тронуло их сердца. Партия якобинцев, преследовавшая в лице Людовика XVI всю монархию, без сомнения, делала успехи, но еще встречала довольно сильную оппозицию и в Париже, и в остальной Франции. Она господствовала над столицей через свой клуб, коммуну, секции, но средний класс бодрился и еще оказывал ей некоторое сопротивление. Когда Петион отказался от должности мэра, врач Шамбон был избран значительным большинством и принял, хоть и неохотно, обязанности, нисколько не подходившие его умеренному, отнюдь не честолюбивому характеру. Этот выбор доказывает, как сильна еще была буржуазия в Париже. А в остальной Франции она была еще сильнее. Землевладельцы, торговцы, словом, весь средний класс не удалялся ни из муниципальных, ни из департаментских советов, ни из народных обществ и посылал большинству Конвента адресы в знак уважения к законам и умеренности. Многие общества, основанные якобинцами в провинциях, не одобряли своего столичного общества и громко требовали исключения из него Марата, а некоторые – даже Робеспьера. Наконец, из департаментов Устье Роны, Кальвадос, Финистер, Жиронда выступали новые федераты, которые, опережая декрет, как перед 10 августа, спешили охранять Конвент и обеспечивать его независимость. Якобинцы еще не прибрали к рукам армии: главные штабы и управление армий не допускали этого. Но в военное министерство они вторглись. Паш пустил их в него по слабости и заместил всех прежних чиновников членами клуба. В его ведомстве служащие стали говорить друг другу ты, являлись в грязных костюмах; между ними имелось множество женатых священников, которых привел Одуэн, зять Паша, сам тоже женатый священник. Одним из начальников в этом министерстве был Гассенфратц, некогда житель Меца, переселившийся оттуда вследствие банкротства и, подобно многим другим, достигший высокого положения в основном благодаря своему демократическому рвению. Таким образом обновлялся состав военного ведомства, и в то же время в саму армию запускался новый сорт людей. Однако насколько якобинцы ненавидели Ролана, настолько они восхваляли и лелеяли Паша. Они превозносили его кротость, скромность, великие способности и противопоставляли эти качества строгости Ролана, называя ее надменностью. Действительно, Ролан не допустил якобинцев в министерство внутренних дел. Наблюдать за отношениями между различными ведомствами, возвращать в должные пределы тех, кто за них перешел, сохранять общественное спокойствие, надзирать за народными обществами, заботиться о продовольствии, покровительствовать торговле и собственности, то есть блюсти всё внутреннее управление государства – таков был обширный круг деятельности, на которую едва хватало его горячей энергии. Каждый день Ролан обличал коммуну, преследовал ее за превышение власти, расхищения, рассылку эмиссаров; перехватывал ее переписку, равно как и переписку якобинцев; вместо их неистовых писаний рассылал послания, исполненные умеренности, которые везде производили наилучшее действие. Он присматривал за всеми эмигрантскими имуществами, поступавшими в казну, тщательно заботился о продовольствии, подавлял беспорядки, к которым этот вопрос подавал повод, словом, тратил все свои силы на то, чтобы поставить против революционных страстей оплот законов и силы. Понятно, как по-разному якобинцы должны были относиться к Ролану и Пашу. Семейства обоих министров способствовали усилению этой разницы: жена и дочери Паша ходили в клубы и секции, появлялись даже в казармах федератов, которых якобинцам хотелось переманить на свою сторону, и чрезвычайно отличались от жены Ролана, вежливой и гордой, а главное – окруженной столь блестящими и ненавистными якобинцам ораторами! Итак, Ролан и Паш составляли два отдельных центра в совете. Министр финансов Клавьер, хотя постоянно пребывал со всеми в ссоре по крайней раздражительности характера, неизменно возвращался к Ролану, как только успокаивался. Лебрен, слабый, но привязанный к жирондистам вследствие своей просвещенности, много работал с Бриссо, а якобинцы, называвшие последнего интриганом, говорили, что он заправляет всем, потому что помогает Лебрену в его дипломатической работе. Тара, созерцая партии с метафизической высоты, довольствовался тем, что судил их и не считал должным участвовать в их борьбе. Он, по-видимому, считал себя избавленным от обязанности поддерживать жирондистов, потому что обнаружил за ними ошибки, и свою инерцию ставил себе в высшую добродетель. Однако якобинцы принимали нейтралитет такого замечательного ума как драгоценную для себя выгоду и платили ему за нее умеренными похвалами. Наконец, Монж, математик, отъявленный патриот, мало уважавший несколько туманные теории жирондистов, следовал примеру Паша, позволял якобинцам наводнять его министерство и, не отрекаясь от жирондистов, которым был обязан своим возвышением, принимал похвалы их противников и разделял популярность военного министра. Таким образом, якобинская партия, найдя себе сторонников в лице Паша и Монжа, равнодушного идеолога в Тара, но непреклонного противника в Ролане, который привязал к себе Лебрена и Клавьера и часто склонял на свою сторону и остальных, еще не заправляла всем государством и часто повторяла, что при новых порядках из старого убыл только один король, а помимо этой разницы кругом всё тот же деспотизм, те же интриги, те же измены. Якобинцы говорили, что революция завершится вполне и бесповоротно лишь тогда, когда будет уничтожен тайный двигатель всех махинаций и затруднений, заключенный в Тампле.
Из вышеозначенного видно, какими силами обладали различные партии и в каком состоянии была Французская революция в момент начала процесса Людовика XVI. Сам он со своей семьей всё еще жил в главной башне Тампля. Коммуна, заведовавшая распределением вооруженных сил и столичной полицией, должна была стеречь и Тампль, и ее-то тревожной, подозрительной, невеликодушной власти была подчинена королевская семья. Будучи в руках людей, стоявших по развитию несравненно ниже тех, из кого состоял Конвент, эта несчастная семья не могла ожидать ни умеренности, ни внимания, которыми отличаются воспитанные и цивилизованные люди в отношении к тем кто попал в беду. Семью сначала поместили в малой башне, но потом перевели в большую, рассудив, что надзор там будет легче и вернее. Король занимал один этаж, королева и принцесса с детьми – другой. Днем им позволяли сходиться и проводить вместе печальные часы заточения. Один только слуга выпросил позволения последовать за ними в их темницу: это был верный Клери, который, спасшись от резни 10 августа, возвратился в Париж, чтобы служить в несчастье тому, кому он некогда служил в блеске неограниченного могущества. Он вставал до рассвета и не давал себе отдыха, чтобы заменить бесчисленных слуг, столь недавно окружавших его повелителей. Завтрак подавался в девять часов в комнате короля. В десять вся семья собиралась у королевы. Там Людовик XVI занимался уроками сына. Он заставлял дофина учить наизусть по нескольку стихов из Расина и Корнеля и преподавал ему первые понятия о географии – науке, которой сам занимался когда-то с большой любовью и успехом. Королева, со своей стороны, занималась образованием дочери, потом вышивала с сестрой. В хорошую погоду в час пополудни всю семью выводили в сад подышать воздухом и погулять, но недолго. Пленников всегда сопровождали несколько членов муниципалитета и дежурные офицеры, и между ними попадались то человечные и растроганные лица, то жесткие и презрительные. Неразвитые люди редко бывают великодушны, они не прощают величию, как только оно пало. Достаточно представить себе грубых ремесленников, невежд, сделавшихся повелителями этой семьи, в душе ругая себя за то, что долго терпели ее власть и питали ее роскошь, чтобы понять, какой низкой мести она нередко подвергалась. Часто король и королева вынуждены были выслушивать жестокие слова и встречали на стенах дворов и коридоров надписи, выражавшие ненависть, которую прежнее правительство, может быть, заслуживало, но которую ни Людовик XVI, ни его жена не могли внушить своими действиями. С другой стороны, они подчас находили отраду в оказываемом им украдкой участии и продолжали эти скорбные прогулки ради здоровья детей, для которых движение на воздухе было необходимо. Печально прогуливаясь по этому двору, они видели у окон соседних домов множество подданных, приходивших благоговейно взглянуть на тесное пространство, в котором был заперт падший монарх. В два часа оканчивалась прогулка и подавался обед. После обеда король отдыхал. Клери в это время в другой зале играл с маленьким принцем в детские игры. Вечером устраивалось общее чтение, подавался ужин, а потом семья расходилась, грустно простившись, так как члены ее никогда не расставались без печали. Король один читал еще довольно долго. Монтескье, Бюффон, историк Юм, «Подражание Иисусу Христу» [Фомы Кемпийского] – таким было его любимое чтение, помимо латинских и итальянских классиков. В Тампле он прочитал до двухсот пятидесяти томов. Так протекала жизнь несчастного государя во время его печального заточения. Возвратившись к частной жизни, он сделался образцом добродетелей, достойным уважения всех честных людей. Сами враги его, видя его таким простым, спокойным, светлым, не могли не быть невольно тронуты и, из уважения к достоинствам человека, забыли на время ошибки государя. Коммуна из крайнего недоверия прибегала к чрезвычайным мерам предосторожности. Дежурные муниципальные чиновники ни на минуту не теряли из виду ни одной из особ королевской семьи, и только когда пленники ложились спать, они соглашались отделить себя от них затворенной дверью. Тогда они ставили кровати поперек каждой входной двери и тут ночевали. Сантерр со своим штабом каждый день обходил всю башню и отдавал о своем посещении отчет. Дежурные муниципальные чиновники составляли постоянно заседавший совет, который, помещаясь в одной из зал башни, должен был всем распоряжаться и отвечать на все требования арестантов. Сначала им оставлялись чернила, перья, бумага, но вскоре все эти предметы были у них отобраны, равно как всякие режущие инструменты, и были произведены самые оскорбительные обыски, чтобы убедиться, не спрятаны ли где таковые. Это было тяжелым лишением для дам, так как отняло у них возможность заниматься шитьем и даже чинить свое белье и платье, уже пришедшие в довольно плохое состояние, так как ни то ни другое не обновлялось с самого переселения в Тампль. При взятии дворца почти все личные вещи королевской семьи были уничтожены. Жена английского посланника прислала королеве белья, а коммуна по просьбе короля велела сшить белье для всего семейства. О том, чтобы просить платья, ни король, ни королева не думали, иначе непременно бы получили запрошенное. В сентябре им вручили две тысячи франков на мелкие расходы, но после уже денег не давали, опасаясь, чтобы они не потратили их на что-то опасное. Смотрителю Тампля была сдана на руки известная сумма, из которой по требованию пленников покупалось всё, что им было нужно. Не следует преувеличивать пороков человеческой природы и воображать, что сторожа пленной семьи из низкой злобы нарочно подвергали ее унизительным лишениям и старались сделать еще более тягостным воспоминание о прошлом величии. Причиной некоторых отказов была единственно подозрительность. Так, например, в то же время, когда опасность заговоров и сообщения с внешним миром не дозволяли допускать к королевской семье более одного слуги, приготовлением их пищи занималась многочисленная прислуга. Тринадцать поваров и их помощников наполняли кухню, помещавшуюся в некотором отдалении от башни. По отчетам о расходах Тампля, в которых соблюдается полное приличие в выражениях, о пленниках упоминается почтительно, восхваляется их умеренность, а Людовик XVI очищается от гнусного обвинения, будто он имел слабость к вину. По этим, несомненно, правдивым отчетам столовые расходы достигают 28 745 франков за два месяца. А между тем, в то время как тринадцать слуг работали на кухне, в тюрьму дозволялся вход лишь одному, который помогал Клери служить за столом. И что же?.. Неволя хитра на выдумки: через этого слугу, сочувствие которого Клери сумел затронуть, в Тампль иногда проникали новости, тогда как это было строго запрещено. Представители коммуны ограничивались лишь сообщением газетных известий о победах французских армий, отнимавших у пленников всякую надежду. Чтобы не отставать от событий, Клери придумал ловкое средство, которое ему довольно хорошо удавалось: он нанял глашатая, который приходил под окна Тампля и под предлогом продажи газет во весь голос перечислял главные события. Это делалось в условный час. Клери становился у окна, внимательно прислушивался, а вечером, укладывая короля спать, наклонялся над его постелью, как бы для того, чтобы задернуть занавес, и вполголоса передавал услышанное. Комитеты наконец представили свои труды по процессу. Дюфриш-Валазе первым составил отчет о преступлениях, в которых обвинялся король, и о документах, подтверждавших их. Этот отчет, слишком длинный, чтобы его можно было выслушать весь, по распоряжению Конвента напечатали и раздали членам. Седьмого ноября депутат Майль, говоря от имени законодательного комитета, представил важные вопросы, возникавшие по поводу процесса. Может ли Людовик XVI быть судим? Какое судилище произнесет приговор? Эти два существенных вопроса вскоре должны были занять все умы и глубоко взволновать их. Немедленно было сделано распоряжение о напечатании отчета. Переведенный на несколько языков, розданный в значительном количестве, он наводнил Францию и всю Европу. Прения были отложены до 13-го числа вопреки мнению Бийо-Варенна, который хотел, чтобы предание короля суду решили без прений, единогласно. На этой-то почве предстояла последняя борьба между идеями Учредительного собрания и Конвента, борьба тем более ожесточенная, что от ее исхода должна была зависеть жизнь или смерть короля. Учредительное собрание было демократическим по своим понятиям и монархическим по чувствам. Так, преобразовывая государство и обращая его в настоящую республику, оно из какого-то позднего чувства любви и сочувствия к Людовику сохранило монархизм со всеми условными атрибутами, присвоенными ему в системе феодальной монархии. Наследственность, исполнительная власть, участие в законодательной власти, а главное, неприкосновенность – все эти прерогативы признаются за престолом в новейших монархиях, и первое собрание оставило их царствующему дому. Участие в законодательной власти и власть исполнительная – атрибуты растяжимые; они не составляют такой существенной черты современного монархизма, как наследственность и неприкосновенность. Из этих последних атрибутов один обеспечивает непрерывную и естественную передачу королевской власти, другой делает эту власть вполне неприкосновенной в лице каждого наследника, наконец, оба вместе делают из нее нечто прочное, непрерывное, недоступное насилию. Осужденная действовать не иначе как через министров, отвечающих за ее действия, королевская власть досягаема только в лице ее представителей, и это дает возможность наносить ей удары, не колебля ее. Такова феодальная монархия, последовательно видоизмененная временем и согласованная с той степенью свободы, которой достигли новейшие народы. Между тем Учредительное собрание, вследствие особых обстоятельств, нашло необходимым ограничить принцип неприкосновенности. Бегство в Варенн и предприятия эмигрантов привели депутатов к мысли, что ответственность правительства не сможет охранить всю нацию от ошибок королевской власти в лице ее представителя. Они предвидели случай, когда монарх может стать во главе неприятельской армии или не воспротивиться формальным актом нападению, поведенному от его имени. В таком случае монарх не подлежал бы действию обычных законов о государственной измене, а лишался всех прав: он считался отрекшимся от престола, как было сказано в законе, уже изданном об этом предмете. Предложение о принятии конституции, сделанное королю собранием, и принятие конституции королем сделали этот договор крепким и нерушимым, и собрание торжественно обязалось считать особу короля священной. В виду этого-то договора Конвенту предстояло решить участь Людовика XVI. Но эти новые учредители считали себя не более связанными порядками, учрежденными их предшественниками, нежели эти последние считали себя связанными древними феодальными учреждениями. Умы получили такой быстрый толчок, что законы 1791 года казались в 1792 году настолько же нелепыми, как законы XIII века – в 1789-м. Следовательно, конвентисты не считали себя связанными законом, по их мнению нелепым, и восставали против него, как Генеральные штаты восставали против закона о трех сословиях. Итак, с самого открытия прений, 13 ноября, обозначились две противоположные точки зрения: одни поддерживали принцип неприкосновенности, другие безусловно его отвергали. Понятия до того изменились, что ни один член Конвента не смел защищать неприкосновенность как принцип и даже сторонники защищали ее только как заведенный уже порядок, выгоды которого не следует лишать монарха и нельзя оспорить, не нарушив национального договора. Да и то весьма мало депутатов смотрели на этот принцип как на принятое нацией обязательство, и жирондисты даже осуждали его в этом отношении. Однако они оставались вне прений и холодно следили за спором, возникшим между немногочисленными сторонниками неприкосновенности и ее многочисленными противниками. Во-первых, говорили противники принципа неприкосновенности, для того, чтобы обязательство было действительным, нужно, чтобы тот, кто обязывается, имел право принимать на себя обязательства. Национальная же власть неотчуждаема и не может быть связываемой на будущее время. Нация могла, постанавливая неприкосновенность, сделать исполнительную власть недоступной ударам власти законодательной, это была политическая предосторожность, побудительная причина которой понятна при системе Учредительного собрания. Но если нация может объявить особу короля неприкосновенной для конституционных властей, то она тем не менее не может оградить его от самой себя, так как не может отречься от права всего хотеть и всё совершать во всякое время; это-то право и составляет ее всемогущество, а оно неотчуждаемо. Следовательно, нация не могла взять на себя такое обязательство относительно Людовика XVI, и нельзя стеснять ее этим ныне. Во-вторых, при условии, что такое обязательство возможно, нужно, чтобы оно было взаимно. Со стороны же Людовика XVI никогда не было подобного обязательства. Он никогда не хотел этой конституции, на которую опирается, всегда протестовал против нее и всеми силами старался уничтожить – не только внутренними заговорами, но и неприятельским оружием. Какое же имеет он право ссылаться на нее? Допустим даже, что обязательство возможно и взаимно; надо еще, чтобы оно было не нелепо. Так, еще понятна неприкосновенность, относящаяся ко всем явным действиям, за которые отвечает министр на месте короля. Для всех такого рода действий существует гарантия в виде министерской ответственности, и неприкосновенность, не будучи безнаказанностью, перестает быть абсурдом. Но всякие тайные действия, скрытые козни, сношения с врагами, словом, измены – какой министр под ними подпишется и ответит за них? И этим-то действиям, самым важным и преступным, оставаться безнаказанными? Этого допустить нельзя, и следует признать, что король, неприкосновенный по части действий своей администрации, лишается своей неприкосновенности, когда дело касается тайных и преступных действий, посягающих на общественную безопасность. Так, депутат, неприкосновенный при исполнении своих законодательных обязанностей, или посланник, неприкосновенный при исполнении своих обязанностей дипломатических, отнюдь не неприкосновенны относительно фактов их частной жизни. Стало быть, неприкосновенность имеет границы, и есть пункты, по которым особа короля не может пользоваться таковой неприкосновенностью. Говорят, что против вероломства, за которое не отвечает ни один министр, уже есть наказание в виде низложения. То есть, другими словами, лишение власти стало бы единственным наказанием за такое страшное злоупотребление властью? Народ, преданный изменническим образом неприятельскому мечу и всем прочим бедствиям, только скажет виновному «Удались!»? Это было бы слишком обманчивым правосудием, и нация не может оказать такое неуважение самой себе, оставляя безнаказанным преступление, направленное против ее существования и свободы. Нужно, присовокупляли те же ораторы, наказание известное, заключающееся в каком-нибудь уже существующем законе, чтобы его можно было приложить к данному проступку. Но разве нет обычных наказаний за измену? Разве эти наказания не одни и те же во всех кодексах? Разве монарх не знал, из нравственных правил всех времен и всех стран, что измена есть преступление и в законодательствах всех народов преступление это карается самым ужасным из наказаний? Кроме карательного закона, нужно судилище. Но здесь восседает сама нация, соединяющая в себе все власти – право судить, издавать законы, вести войну или заключать мир; она здесь во всем своем всеобъемлющем всемогуществе; нет такой обязанности, которой она не могла бы исправлять: представитель ее Конвент уполномочен исполнять всё за нее, устраивать ее, спасать. Следовательно, Конвент имеет право судить Людовика XVI; он имеет на это достаточные полномочия; и монарх, если только ему не нужны союзники, подосланные неприятелем, не может желать иных судей. Правда, те же люди будут и обвинителями его, и судьями, но если в обыкновенных судах эти две должности разделяются и не допускается, чтобы приговор произносился людьми, представившими обвинение, то на общем совете нации, поставленном превыше всяких частных интересов и побуждений, эти предосторожности уже не нужны. Нация не может ошибаться, и депутаты, ее представляющие, разделяют ее непогрешимость и полновластность. Из всего вышесказанного следует, что так как обязательство, принятое в 1791 году, не может связывать национальное представительство, не имеет и тени взаимности и заключает в себе нелепость – оставлять измену безнаказанной, – то это обязательство недействительно и Людовик XVI может быть предан суду. Что же касается наказания, оно было известно во все времена и внесено во все законы. Судилищем должен быть сам Конвент, облеченный всеми властями – законодательной, исполнительной и судебной. Ораторы, следовательно, требовали, чтобы Людовик XVI был предан суду; чтобы судил его Национальный конвент; чтобы комиссарами был составлен протокол обвинений; а Людовик XVI лично явился для ответа на них, ему были бы даны защитники и немедленно по выслушании его Конвент произнес бы свой приговор путем поименной переклички. Защитники принципа неприкосновенности не оставили без ответа ни одного из этих доводов и опровергали всю систему своих противников. «Уверяют, – заявили они, – будто нация не могла отнять у себя право наказывать за удар, направленный против нее самой, а неприкосновенность, постановленная в 1791 году, связывала Законодательное собрание, но не самую нацию. Прежде всего, если справедливо, что власть нации неотчуждаема и нация не может сама себе запретить возобновлять свои законы, то точно так же справедливо и то, что она не властна над прошедшим, поэтому она не может помешать тому, чтобы законы, ею прежде изданные, продолжали действовать; она вправе заявить, что на будущее время государи более не будут неприкосновенны, но не может помешать им быть неприкосновенными в прошедшем, так как сама объявила их таковыми; в особенности же нация не может нарушить обязательства, принятого с третьими лицами, так как относительно их она была просто договаривавшейся стороной. Итак, национальная власть могла на время связать себя, и она этого, безусловно, хотела, не только относительно Законодательного собрания, которому она воспретила всякие судебные меры против короля, но и относительно самой себя, так как политическая цель неприкосновенности не была бы достигнута, если бы королевский сан не был поставлен вне всяких посягательств. Что касается недостатка взаимности в выполнении обязательства, то всё это было предусмотрено. Неверность обязательству предусмотрена в самом обязательстве. Все способы нарушения его совмещаются в одном, самом тяжком из всех, – войне против нации, и наказываются низложением, то есть упразднением договора, существующего между королем и нацией. Следовательно, недостаток взаимности не есть достаточная причина для того, чтобы нация считала себя свободной от своего обещания. Стало быть, обязательство безусловно и действительно, оно обязательно и для нации, и для Законодательного собрания. Наконец, сейчас станет ясно, что в монархической системе это обязательство не было бессмысленным и не может быть упразднено по нелепости. В самом деле, что бы там ни толковали, принцип неприкосновенности не оставлял ни одного проступка безнаказанным. Ответственность министров касалась всех действий высшей власти, так как без представителей ни один государь не может ни управлять, ни строить нации козни. Следовательно, общественное правосудие всегда имело возможность действовать. Наконец, всякие тайные проступки, отличавшиеся от явных административных, были предусмотрены и наказывались низложением, так как всякая вина короля, согласно этому законодательству, приводила лишь к лишению власти. Против этого возражают, что низложение не есть наказание, а только лишение того орудия, которое монарх употребил во зло. Но в такой системе, по которой особа короля была неприкосновенна, строгость наказания не была важнейшим соображением; важнее был его политический результат, а этот результат достигался лишением власти. И разве не наказание – утратить первый престол в мире? Разве возможно без ужасной боли потерять корону, с которой человек родился, жил, под которой двадцать лет принимал поклонение? Разве для лица, вскормленного наверху общественной лестницы, такая казнь не равняется смерти? Да и если даже наказание слишком мягко, оно таково по формальному договору, и недостаточность наказания не может быть причиной недействительности договора. В уголовном законодательстве раз и навсегда положено, что все ошибки законодательства должны служить к пользе обвиняемого, потому что недопустимо взваливать на слабого ошибки сильного. Итак, обязательство действительное и безусловное, как выше доказано, не заключало в себе ничего нелепого, в условия его вовсе не входила безнаказанность, и измене была положена кара. Следовательно, нет никакой надобности прибегать ни к естественному праву, ни к нации, так как низложение установлено законом. Это наказание король уже претерпел без приговора суда, в единственно возможной форме народного восстания. Он низложен с престола, поставлен вне всякой возможности действовать, и Франции остается только принимать против него полицейские меры безопасности. Пусть она его изгонит из своих пределов, пусть даже держит в заточении до заключения мира или дозволит остаться в ее недрах в качестве частного человека. Вот всё, что она должна и может сделать. Нет надобности снаряжать суд, разбирать компетентность: 10 августа для Людовика XVI кончилось всё; 10 августа он перестал быть королем; 10 августа он был предан суду, осужден, низложен и всё закончилось между ним и нациею». Таково было возражение сторонников неприкосновенности. В то время как понималась державная власть нации, это возражение было победоносным, и все рассуждения законодательного комитета оставались лишь замысловатыми софизмами, лишенными истины и честности.
Мы сейчас видели, что говорилось обеими сторонами в прениях. Но из экзальтации умов и страстей возникла другая система и другое мнение. В Клубе якобинцев и в рядах Горы уже поговаривали о том, нужны ли прения, суд, словом, формы, чтобы избавиться от так называемого тирана, схваченного с оружием в руках, проливавшим кровь нации. Это мнение имело ужасный рупор в лице юного Сен-Жюста, сурового, холодного фанатика двадцати лет от роду, который мечтал об идеальном обществе, где царствовали бы безусловное равенство, простота, строгость и несокрушимая сила. Еще задолго до 10 августа зародилась в глубине его мрачного ума мечта об этом неестественном обществе, и он дошелв своем фанатизме до той крайности, до которой Робеспьер дошел лишь по избытку ненависти. Новичок среди революции, в которую едва вступил, еще не прошедший через все ошибки и преступления, примкнувший к партии Горы своими свирепыми мнениями, Сен-Жюст восхищал якобинцев отвагой ума, очаровал Конвент талантом, но еще не приобрел известности в народе. Его мысли, всегда хорошо принятые, но не всегда понятные, получали полную силу лишь тогда, когда чрез повторения Робеспьера делались более ясными и отточенными. Он говорил после Моррисона, усерднейшего из поборников неприкосновенности, и, не нападая на своих противников прямо, потому что еще не успел никого лично возненавидеть, сначала выказал только негодование против мелочности собрания и тонкого умничанья в прениях. Рассматривая вопрос с другой стороны, нисколько не касавшейся Людовика XVI, Сен-Жюст восстал против умствования и излишних тонкостей, вредивших, по его словам, великим делам. Жизнь Людовика XVI для него ничто, его тревожит дух, который обнаружат судьи, его беспокоит вопрос, какую меру самих себя дадут они в этом деле. «Люди, которые будут судить Людовика XVI, – говорил он, – должны основать республику, а люди, придающие сколько-нибудь важности справедливому наказанию короля, никогда республики основать не смогут. Со времени представления отчета обнаружилась некоторая неуверенность. Каждый сближает процесс короля со своими частными взглядами: одни как будто боятся впоследствии понести кару за свое мужество; другие не совсем отреклись от монархии; третьи страшатся доблестного примера, который был бы залогом единства. Мы друг друга и самих себя все судим строго, скажу даже – яростно, мы только и думаем, как умерить энергию народа и свободы. И почти никто не обвиняет общего врага, всех обуяло малодушие или сознание причастности к преступлению, и все переглядываются, прежде чем нанести первый удар! Граждане, если в Риме монархия возродилась после шестисот лет доблести и ненависти к царям, а в Великобритании – после смерти Кромвеля, несмотря на всю его энергию, то почему же не должны у нас опасаться добрые граждане, друзья свободы, видя, что топор дрожит в наших руках и народ в первый же день избавления чтит память о своей неволе! Какую республику хотите вы учредить среди наших частных состязаний и общего насилия?! Мера вашей убежденности в этом суде будет также мерою вашей конституционной свободы». Были, однако же, умы, не столь фанатичные; они старались демонстрировать более спокойное отношение к процессу и привести собрание к расследованию его с более верной точки зрения. «Взгляните на истинное положение короля в Конституции 1791 года, – сказал Рузе на том же заседании 15 ноября. – Он был выставлен против национального представительства в качестве соперника. Не естественно ли было с его стороны стараться вернуть себе возможно большую часть утраченной власти? Не вы ли сами открыли ему эту арену и призвали его на нее – бороться против законодательной силы? В этой борьбе он остался побежденным: он один, обезоружен, ниспровергнут к ногам двадцати пяти миллионов человек, и эти двадцать пять миллионов устроят бесполезную подлость и добьют лежачего? К тому же разве Людовик XVI не подавил в душе своей присущую всем людям склонность к власти более, чем всякий другой государь в мире? Разве он в 1789 году не пожертвовал добровольно частью своей власти? Разве не отказался от части прав, которыми его предшественники позволяли себе злоупотреблять? Разве он не уничтожил личной неволи в своих владениях? Разве не призвал в свой совет министров-философов и даже эмпириков, указываемых ему общественным голосом? Разве не созвал он Генеральные штаты и не возвратил среднему сословию часть его прав?» Форе, депутат департамента Нижней Сены, выказал еще большую смелость. Он дерзнул напомнить о действиях Людовика XVI. «Воля народная, – сказал он, – могла бы рассвирепеть против Тита, равно как и против Нерона, и могла найти за ним преступления – хотя бы только злодеяния, совершенные, при взятии Иерусалима. Но где злодеяния, которые вы взводите на Людовика XVI? Я со всем вниманием прослушал прочитанные против него документы и нашел в них только слабость человека, который поддается всем надеждам, подаваемым к возвращению его прежней власти. И я утверждаю, что все монархи, умершие в постели, виновны более него. Даже добрый Людовик XII, посылая пятьдесят тысяч французов в Италию на убой, из-за своей личной ссоры, был в тысячу раз преступнее! Цивильный лист, вето, выбор министров, жена, родные, придворные – вот обольстители Капета, и какие обольстители! Взываю к Аристиду, к Эпиктету: пусть они скажут, устояла бы их твердость против подобных испытаний? На воле и чувствах немощных смертных основываю я мои принципы или заблуждения. Возвысьтесь до полного величия национального самодержавия, поймите, сколько великодушия должна внушать подобная власть. Призовите Людовика XVI не как виновного, а как француза, и скажите ему: “Те, кто некогда назвали тебя королем, ныне низлагают тебя; ты обещал быть их отцом и не был им. Вознагради своими добродетелями как гражданина свое поведение как короля”». При чрезвычайной экзальтации умов каждый невольно смотрел на вопрос со своей точки зрения. Фоше, конституционный священник, прославившийся тем, что в 1789 году стал говорить с церковной кафедры языком революции, прямо поставил вопрос о том, имеет ли общество вообще право произносить смертный приговор. «Общество, – вопрошал он, – имеет ли право отнимать у человека жизнь, которой ему не давало? Конечно, оно должно ограждать себя, но справедливо ли, что оно может оградить себя лишь смертью виновного? А если оно может оградить себя и другими средствами, то не обязано ли оно употребить их? Как! Ради общественных интересов, ради упрочения рождающейся Республики вы хотите отдать на заклание Людовика XVI?! Но разве вся его семья умрет от удара, который его убьет? Исходя из системы наследственности, разве один король не следует немедленно за другим? Избавляетесь ли вы смертью Людовика XVI от прав целого семейства, которые это семейство считает приобретенными многовековым обладанием? Стало быть, истребление одного человека бесполезно. Напротив, оставьте жизнь настоящему главе, закрывающему ход другим; пусть он живет, подавленный ненавистью, которую внушает аристократам своими колебаниями и уступками; пусть живет со своей репутацией слабака, униженный поражением, и он будет для вас менее страшен, чем всякий другой. Пусть этот развенчанный король блуждает по обширным пространствам вашей Республики без пышной обстановки, некогда окружавшей его; покажите, как ничтожен король, оставленный всеми; заявите глубокое пренебрежение к памяти о том, чем он был, и эта память более не будет страшна. Этим вы дадите людям великий урок; вы принесете больше пользы Республике и ее прочности, чем принесли бы, проливая кровь, вам не принадлежащую. Что касается сына Людовика XVI, то если из него может выйти человек, мы сделаем из него гражданина, подобно молодому Эгалите. Он будет сражаться за Республику, и мы не будем бояться, чтобы его когда-либо поддержал хоть один солдат свободы, если бы ему пришла безумная мысль изменить отечеству. Покажем таким образом народам, что ничего не страшимся; пригласим их последовать нашему примеру; пусть все вместе составят европейский конгресс, пусть низложат своих государей, предоставляя им влачить безвестную жизнь среди республик, пусть даже дают им небольшие пенсии, потому что едва ли даже нужда научит их зарабатывать себе на хлеб. Подайте же этот великий пример отмены варварского наказания. Выкиньте вовсе это беззаконное средство проливать кровь, а главное – исцелите народ от потребности кровопролития. Старайтесь унять в нем эту жажду, которую дурные люди возбуждают еще больше, чтобы через это возмущать Республику. Подумайте, что есть бесчеловечные люди, которые требуют еще полтораста тысяч голов, и что, отдав им голову бывшего короля, вы уже не сможете отказать им в других. Отстраните же злодеяния, которые надолго бы взволновали Республику, обесчестили свободу, замедлили ее ход и повредили бы благополучию всего мира». Прения продолжались с 13 до 30 ноября и вызвали всеобщее волнение. Люди, которые не совсем еще увлеклись новыми порядками, которые еще немного помнили 1789 год, доброту монарха и тогдашнюю любовь к нему, не могли постичь, чтобы этот самый король, вдруг переименованный в тирана, был обречен на плаху. Даже допуская, что он имел сношения с иноземцами, они относили эту вину к его слабохарактерности, обстановке, непобедимой любви к наследственной власти и возмущались мыслью о позорной казни. Однако они не смели открыто защищать Людовика XVI. Недавняя опасность, возникшая из-за нашествия пруссаков, и общепринятое мнение о том, что двор был тайным двигателем этого нашествия, возбудили сильное раздражение, которое обрушилось на злополучного монарха и против которого никто не смел восставать. Умеренные ограничивались общим протестом против всех, кто требовал новых мщений: их изображали возмутителями, сентябристами, старавшимися усеять Францию трупами и развалинами. Не защищая Людовика XVI по имени, требовали умеренности к побежденным врагам вообще, советуя остерегаться лицемерной энергии, которая, делая вид, будто защищает Республику казнями, только искала порабощения ее террором и компрометировала в глазах Европы. Жирондисты еще не говорили. Их мнение скорее предполагалось, чем было известно, и Гора, чтобы иметь предлог к обвинению, уверяла, что они хотят спасти Людовика. Между тем жирондисты находились в нерешительности. С одной стороны, они отвергали принцип неприкосновенности и смотрели на Людовика XVI как на соучастника иноземного нашествия, с другой – они были тронуты столь большими несчастьями и всегда были склонны противиться свирепости своих противников, так что не знали теперь, на что решиться, и хранили двусмысленное и угрожающее молчание. Другой вопрос в эту минуту волновал и смущал умы не менее предыдущего: вопрос о продовольствии, бывший одной из главных причин раздоров во все периоды революции. Мы уже видели, скольких трудов и беспокойства вопрос этот стоил Байи и Неккеру в начале 1789 года. Те же затруднения, только в еще больших размерах, предстали и в конце 1792 года. От задержки в торговле предметами не самой первой необходимости может пострадать промышленность, и со временем это отзывается на простых людях; но когда возникает недостаток в хлебе, это немедленно сеет смуты и беспорядки. Поэтому полиция причислила заботу о продовольствии к своим обязанностям, как одну из статей, наиболее влияющих на общественное спокойствие. В 1792 году в хлебе не было недостатка, но вследствие дурного лета жатва опоздала, а сверх того, за недостатком рабочих рук задерживалась молотьба. Но главная причина скудости припасов была не в том. В 1792-м, как и в 1789-м, отсутствие безопасности, страх грабежей по большим дорогам и притеснений на рынках мешали сельским жителям привозить свои продукты на рынки. Очень скоро поднялся крик, что хлеб скупают. Особенное негодование возникло против богатых хозяев, которых назвали аристократами: их слишком обширные поля подлежали разделу. Чем больше росло против них раздражение, тем менее, конечно, они чувствовали расположения являться на рынки и тем более увеличивался голод. Этому способствовали также и ассигнации. Многие хозяева, продававшие лишь с целью копить деньги, не хотели копить бумагу, изменявшуюся в цене, и предпочитали, чтобы хлеб оставался при них. Кроме того, так как хлеба становилось с каждым днем всё меньше, а ассигнаций – всё больше, несоразмерность между продуктом и его ценностью постоянно возрастала, и дороговизна росла всё более и более решительно. Как водится при всякой дороговизне, страх возбуждал предусмотрительность, каждому хотелось делать запасы: частные семейства, муниципалитеты, само правительство делали значительные закупки, и хлеб от этого начинал исчезать и дорожал. Особенно в Париже муниципалитет впал в весьма опасную и давнюю ошибку: он скупал хлеб в соседних департаментах, а потом продавал его по цене меньше покупной с двоякой целью – пособить нужде народа и сделаться популярнее. В итоге торговцы, задавленные конкуренцией, уходили в тень, а сельское население, приманиваемое сравнительно низкими ценами, толпами сходилось в город и поглощало большую часть продовольствия, с трудом собранного полицией. Эти дурные меры, внушаемые ложными экономическими понятиями и чрезмерным желанием популярности, убивали торговлю, необходимую главным образом в Париже, где приходилось копить на маленьком пространстве большее количество хлеба, чем где бы то ни было. При подобных затруднениях легко отгадать, как должны были действовать те две группы людей, которые делили между собой влияние на Францию. Те свирепые умы, которые до сих пор всегда стремились устранить сопротивление путем истребления сопротивлявшихся и, чтобы помешать заговорам, избивали всех, кого подозревали в противных им убеждениям, – эти умы признавали только одно средство – силу. Они требовали, чтобы хозяева были обязаны отправляться на рынки и там продавать продукты по ценам, положенным общинами; и тогда хлеб не будет скапливаться в амбарах. То есть они требовали принудительного присутствия торговцев на рынках, определения таксы или максимума цен, воспрещения всякого оборота, словом – подчинения торговли их желаниям не по обычному побуждению в надежде на барыш, а из страха наказания и смерти. Умеренные умы, напротив, желали, чтобы торговля регулировала себя сама, устраняя опасения хозяев, предоставляя им свободу назначать свои цены и давая им приманку свободного, верного и выгодного обмена. Они отвергали таксу и всякие запреты и заодно с экономистами требовали полной свободы хлебной торговли на всей территории Франции. Согласно мнению Барбару, знатока в этих делах, надобно было обложить пошлиной, увеличивавшейся соразмерно ценам, вывоз за границу, чтобы он затруднился именно тогда, когда присутствие хлеба дома было бы всего нужнее; допустить административное вмешательство только для учреждения некоторых рынков, назначавшихся для экстренных случаев, соглашаться на строгие меры лишь против буянов, которые нападали на хозяев по дорогам или на рынках; наконец, отвергнуть всякие наказания против торговли на том основании, что страх может быть средством к подавлению, но никогда не побудительным средством к активному действию, так как он парализует людей. Как только в государстве получает господство какая-нибудь одна партия, она становится правительством и мигом усваивает желания и предрассудки, свойственные всем правительствам, то есть хочет во что бы то ни стало всё переделать по-своему и применять силу как универсальное средство. Оттого горячие друзья свободы создавали запретительные системы и получали противниками людей, которые, будучи умереннее, не только желали свободы как цели, но и пути к ней предлагали свободные и требовали безопасности для своих врагов, умеренности в правосудии и безусловной свободы торговли. Жирондисты, следовательно, развивали систему, сочиненную теоретическими умами против административного произвола; но эти новые экономисты вместо правительства, стыдившегося самого себя и постоянно порицаемого общественным мнением, встречали умы, упоенные идеей об общественном спасении, и считали, что сила, применяемая для этой цели, есть только энергия, подобающая добру. Этот спор выводил еще один предмет для серьезных порицаний. Ролан каждый день обвинял коммуну в плохом управлении продовольственной частью и во вздорожании хлеба в Париже, приписывая это вздорожание продаже коммуной хлеба по низким ценам из пустого желания популярности. Гора, обвиняя Ролана в злоупотреблении значительными суммами, полагавшимися министерству для покупки хлеба, отвечала ему, что он сам сделался главным скупщиком и настоящим диктатором, прибрав к рукам продовольствие. Пока в собрании шли бесконечные споры, в некоторых департаментах, особенно в департаменте Эры и Луары, начались бунты. Сельское население, возбужденное недостатком хлеба и подстрекательствами приходских священников, упрекало Конвент, называя его причиной всех своих бедствий, и, жалуясь, что депутаты не ограничивают цен на хлеб, обвиняло их также в стремлении уничтожить религию. Повод к последнему упреку был подан Камбоном. Страстный охотник до сбережений, не идущих в ущерб войне, он объявил, что церковные расходы будут выпущены из бюджета и тот, кому нужна обедня, пусть и платит за нее. Инсургенты поэтому кричали, что религия погибла, и, по странному противоречию, бранили Конвент за умеренность по вопросу о продовольствии, и за насилие – в деле религии. Два депутата, посланных от собрания, нашли в окрестностях Курвиля лагерь из нескольких тысяч поселян, вооруженных вилами и охотничьими ружьями, и были вынуждены, чтобы не оказаться жертвами, подписать приказ об ограничении цены на хлеб. Конвент не одобрил их поступка, объявил, что им лучше было бы там же погибнуть, и уничтожил подписанный ими приказ, отправив войска разгонять лагерь. Таким образом, смуты в западных департаментах начались с нужды и привязанности к религии. По предложению Дантона собрание объявило, что не намерено уничтожать религию, но настойчиво отвергать продолжало. Большинство Конвента, еще сохраняя среди бури твердость и достаточную свободу духа, высказывалось за свободу торговли против запретительных систем. Если со вниманием вглядеться в то, что происходило в армиях, в различных ведомствах, в процессе Людовика XVI, глазам явится любопытное и грозное зрелище. Пылкие головы в состоянии экзальтации хотели целиком перестроить армии и все ведомства, чтобы устранить из них лиц подозрительных или малоусердных. Они хотели применить против торговли силу, чтобы не дать ей застояться, пускали в ход устрашения, чтобы запугать всякого врага. Умеренные, напротив, боялись расстроить армии, возобновляя их состав, убить торговлю принуждением, восстановить умы, прибегая к террору; но их противников раздражали даже эти опасения, и они еще более утверждались в намерении всё перестроить, сломить, покарать. Вот что в эту минуту представляло состязание левой и правой стороны Конвента. Заседание 30 ноября получилось чрезвычайно бурным вследствие жалоб Ролана на ошибки муниципалитета по продовольственной части и доклада комиссаров, посланных в департамент Эры и Луары. Если начать сводить счеты, то припоминается всё разом. С одной стороны припомнили побоища и поджигающие афиши, с другой – колебания, остатки роялизма, проволочки, которыми оттягивалось национальное мщение. Марат заговорил и поднял общее смятение. Тогда начал говорить Робеспьер и предложил средство могущественнее всех прочих, способное восстановить общественное спокойствие, средство, которое вернет в недра собрания беспристрастие и согласие, заставит молчать всех памфлетистов и авторов афиш и изобличит их клевету. – Какое же это средство? – спрашивают со всех сторон. Он отвечает: – Завтра приговорите тирана к должной каре за его преступления и этим уничтожьте точку соединения всех заговорщиков. Послезавтра вы постановите решение насчет продовольствия, а на следующий день положите основы свободной конституции. Этот энергичное и в то же время лукавое заявление о средствах спасения задевает жирондистов и вынуждает их объясниться по вопросу о процессе. – Вы говорите о короле, – выступает Бюзо. – Виновны в смутах те, кто хотел бы занять его место. Когда придет время высказаться насчет его участи, я сумею это сделать с той строгостью, какой он достоин, но теперь не в нем дело; речь идет о смутах, они же происходят от анархии, а анархия – от неисполнения законов. Это неисполнение будет продолжаться до тех пор, пока Конвент не сделает чего-то для обеспечения порядка. Лежандр выступает следом за Бюзо, умоляет товарищей забыть всё личное и заняться исключительно общественным делом и мятежами, которые прекратятся, как только короля не станет, так как единственная их цель – спасти его. Поэтому он предлагает собранию приказать, чтобы заготовленные мнения о процессе были представлены, напечатаны, розданы всем членам и затем было решено, должно ли судить Людовика XVI, не тратя времени на выслушивание слишком длинных речей. Жанбон Сент-Андре восклицает, что нет надобности даже в таких предварительных вопросах и следует немедленно произнести приговор и решить форму казни. Конвент наконец утверждает предложение Лежандра и соглашается напечатать все речи. Прения откладываются до 3 декабря.
Третьего декабря со всех сторон требуют предания суду, составления обвинительного акта, постановления форм, по которым должен вестись процесс. Робеспьер просит слова, и, хотя было решено, что все мнения будут печататься, а не читаться, ему разрешают говорить, потому что он намерен говорить не по поводу процесса, а против него, в пользу осуждения без суда. Он доказывает, что начинать процесс – значит открыть совещание; дозволить совещание – значит допустить сомнение, даже возможность благоприятного исхода. Между тем подвергнуть виновность Людовика XVI сомнению – значит обвинить парижан, федератов, словом, всех патриотов, совершивших революцию 10 августа, оправдать короля, аристократов, иностранные державы и их манифест; это значит, одним словом, объявить королевскую власть невинной, а Республику обвинить во всем. «Посмотрите только, – говорит Робеспьер, – какой дерзости набрались враги свободы с тех пор, как вы им предложили это сомнение! В истекшем августе сторонники короля скрывались. Всякий, кто осмелился бы защищать его, был бы наказан как изменник… Ныне они безнаказанно поднимают наглое чело; ныне дерзновенные писания наводняют самый Париж и департаменты; вооруженные и призванные в эти стены без вашего ведома люди оглашают столицу мятежными криками и требуют освобождения от наказания Людовика XVI! Вам остается только открыть еще и эту ограду тем, кто уже добивается чести защищать его. Что говорю я?! Людовик сделался поводом к раздору даже между представителями народа. Говорят за и против него! Тому назад два месяца кто бы мог подозревать, что здесь будет поднят вопрос, неприкосновенен он или нет? С тех пор как гражданин Петион совершенно серьезно представил вопрос о том, может ли король быть судим, здесь снова появился дух Учредительного собрания. О преступление! О позор! Мы слушали восхваление добродетелей и благодеяний тирана! В то время как мы с величайшим трудом спасли лучших граждан от несправедливости опрометчивого решения, дело тирана настолько священно, что нельзя толковать о нем ни пространно, ни свободно! Если верить его апологетам, процесс должен продолжаться несколько месяцев; он протянется до весны, когда на нас нападут со всех сторон. И какое поприще откроется тогда заговорщикам, какая пища интриге и аристократии! Праведное небо! Лютые орды деспотизма готовятся снова терзать наше отечество во имя Людовика XVI. Людовик из глубины своей темницы всё еще сражается против нас, а тут сомневаются, виновен ли он и позволительно ли поступить с ним как с врагом! Спрашивают, какие законы его осуждают! Взывают в его пользу к Конституции!.. Конституция запретила бы вам то, что вы сделали: если он не может быть наказан ничем, кроме низложения, вы не имели права низложить его без суда, вы не имеете права держать его в тюрьме; он имеет право требовать компенсации убытков и освобождения. Конституция против вас, ступайте же к ногам Людовика молить его о помиловании!» Эта желчная декламация, не заключавшая в себе ничего, чего бы не сказал уже Сен-Жюст, произвела, однако, глубокое впечатление, и собрание пожелало постановить решение на этом же заседании. Робеспьер требовал, чтобы Людовика XVI судили немедленно, но несколько депутатов, в том числе Петион, упорствовали в своем предложении: прежде чем постановить форму суда, по крайней мере постановить предание короля суду. Это, говорили они, необходимая предварительная формальность, с какой бы быстротой ни вели процедуру. Робеспьер хотел говорить еще и требовал слова, но собрание, рассерженное его нахальством, не дало ему выступить. Наконец депутаты приняли следующий декрет: «Национальный конвент объявляет, что Людовик XVI будет им судим». Четвертого декабря наконец начинают обсуждать формы процесса. Бюзо просит слова и ради устранения, по его словам, всякого подозрения, требует смертной казни для всякого, кто предложит восстановление монархии во Франции. Это одно из тех средств, к которым часто прибегают партии, чтобы доказать, что они не способны на то, в чем их обвиняют. Громкие рукоплескания встречают это бесполезное предложение, но представители Горы, которые не должны бы препятствовать такому предложению, восстают против него просто в пику, и Базир требует слова. Раздаются крики «Голосовать!». Кончается тем, что собрание утверждает смертную казнь против всякого, кто предложит восстановление королевской власти под каким бы то ни было наименованием. После этого эпизода депутаты возвращаются к формам процесса и предложению о постоянном заседании. Робеспьер опять требует, чтобы приговор был произнесен немедленно. Петион, всё еще победитель благодаря поддержке большинства, добивается решения, по которому ни заседание не будет постоянным, ни суд мгновенным, а собрание будет им заниматься, прекратив всякие другие дела, ежедневно, с одиннадцати часов утра до шести часов вечера.
Следующие дни были потрачены на прочтение бумаг, найденных у Лапорта, и других, найденных во дворце, в знаменитом секретном шкафу, вделанном в стену и замаскированном. Дверь была железной, шкаф стал известен под названием железного шкафа. Слесарь, работавший с ним, сказал о нем Ролану, который, спеша проверить показания, имел неосторожность пойти туда, не заручившись свидетелями из числа депутатов, что подало врагам повод говорить, что он скрыл часть бумаг. Ролан нашел там все документы, касавшиеся сношений с эмигрантами и членами собрания. Тут вышли наружу сделки с Мирабо, и Конвент уже готов был вычеркнуть самую память о великом ораторе, но по просьбе Манюэля, его страстного поклонника, комитету народного просвещения поручили обстоятельнее рассмотреть эти бумаги. Это открытие было сделано на заседании 5 декабря. Первым движением стало немедленно разбить бюст Мирабо и приказать вынести его прах из Пантеона, но потом решили только на этот день накинуть на бюст покрывало. Для составления по этим документам акта, излагавшего обвинения, возводимые на Людовика XVI, назначили специальную комиссию. По составлении и утверждении этого акта собранием Людовик ХЛЛдолжен был лично явиться в Конвент, чтобы подвергнуться допросу по каждому пункту обвинения. Затем на подготовку защиты ему давалось два дня, а потом должен был последовать окончательный приговор. Исполнительной власти предписывалось принять все нужные меры для сохранения общественного спокойствия во время доставления Людовика XVI в Конвент. Всё это постановили 9 декабря. На следующий день обвинительный акт был готов и представлен собранию, а приезд Людовика ХЛЛбыл назначен на 11 декабря. Итак, несчастному государю предстояло явиться перед Национальным конвентом и подвергнуться допросу касательно всех деяний его царствования. Известие о начале процесса и требовании короля к ответу дошло до Клери, и он с трепетом передал новости огорченной семье. Он не решился сказать об этом самому королю, а сообщил печальную весть принцессе Елизавете, равно как и то, что коммуна решила разлучить его с семейством на время процесса. Клери сговорился с принцессой о средстве сообщения во время разлуки; это средство состояло просто в том, что он должен был какими-нибудь способами доставить им платок, если бы король вдруг захворал. Вот и всё, что несчастные узники могли мечтать сообщить друг другу! Король узнал о близкой беде от сестры. Он принял роковое известие с полной покорностью и приготовился с твердостью перенести предстоящую тяжкую минуту. Коммуна распорядилась, чтобы 11-го числа, с утра, во всех административных ведомствах было открыто присутствие, чтобы все секции были вооружены, караулы при всех публичных зданиях, кассах и складах увеличены, на разных точках поставлены многочисленные резервы с сильной артиллерией и чтобы карету сопровождал отборный конвой. Рано утром 11 декабря барабаны забили тревогу, возвещая о предстоящем невиданном и печальном зрелище. Толпы народа окружали Тампль; шум оружия и топот лошадей доходили до узников, которые делали вид, будто не знают причин этого волнения. В девять часов утра семья, по обыкновению, собралась у короля завтракать. Муниципальные чиновники зорче, чем когда-либо, следили за ними и самим своим присутствием мешали любым излияниям. Наконец несчастных разлучили. Король тщетно просил, чтобы при нем оставили сына, хоть ненадолго, – ребенка у него отняли, и он часа два провел один. Тогда явились парижский мэр и прокурор коммуны и объявили ему о решении Конвента, требовавшего короля к ответу под именем Луи Капета. «Капет, – заметил король, – имя одного из моих предков, а не мое». В то же время он встал и прошел к ожидавшей его карете мэра. Конвой из шестисот отборных солдат окружал карету. Впереди ехали три орудия, сзади еще три. Авангард и арьергард состояли из многочисленной кавалерии. Громадная толпа безмолвно глазела на печальное шествие, так же безучастно относясь к этой строгости, как, бывало, относилась к строгостям прежнего правительства. Раздалось несколько криков, но очень редких; король не обратил на них внимания, а спокойно разговаривал о предметах, попадавшихся по дороге. Когда его привезли в здание фельянов, то сначала провели в пустую залу, в ожидании приказаний Конвента. Между тем шел спор о том, как встретить Людовика XVI. Предлагалось не выслушивать петиций, не произносить ни слова, чтобы не дать королю никаких знаков ни одобрения, ни осуждения. «Надо, – сказал Лежандр, – испугать его гробовым молчанием». Неодобрительный ропот встретил эти жестокие слова. Дефермон потребовал, чтобы для подсудимого поставили кресло. Это предложение показалось слишком справедливым, чтобы нуждаться в голосовании. Из чистого тщеславия Манюэль предложил обсуждать очередной вопрос, чтобы не делать вид, будто Конвент занят исключительно королем, хотя бы ему пришлось ждать. Принялись обсуждать закон об эмигрантах. Наконец Сантерр докладывает о прибытии Людовика XVI. Председательствует Барер. «Граждане! – обращается он к собранию. – Не забывайте, что взоры Европы обращены на вас. Потомство будет судить вас с непреклонной твердостью; сохраните же достоинство и невозмутимость, приличествующие судьям. Помните грозное молчание, встретившее Луи, когда его привезли из Варенна». Людовик XVI появляется у решетки около половины третьего пополудни. Его вводят генералы Сантерр и Виттенгоф. Глубокое молчание царит в собрании. Достоинство короля, его спокойная наружность среди столь великих несчастий трогают всех. Депутаты центра взволнованы. Жирондисты глубоко растроганы. Даже Сен-Жюст, Робеспьер и Марат чувствуют, что слабеет их фанатизм, и удивляются, что видят в короле, казни которого требуют, человека. «Садитесь, – обращается Барер к Людовику, – и отвечайте на вопросы, которые будут вам предложены». Людовик XVI садится и выслушивает чтение обвинительного акта, статью за статьей. В этом акте припоминались все промахи и вины двора, и все они приписывались лично королю. Если не допускать естественного сожаления о прежнем могуществе, всё в действиях короля можно было вменить ему в преступление, потому что вся его жизнь за последние годы была лишь одним непрерывным сожалением, смешанным с несколькими робкими попытками вернуть утраченное. После каждого пункта президент останавливался и спрашивал: «Что вы имеете ответить?» Король отвечал всегда уверенным голосом, часть пунктов отрицал, ответственность за другие возлагал на министров и постоянно ссылался на конституцию, от которой, по своему уверению, ни разу не уклонился. Ответы его оставались умеренными, но когда президент сказал: «Вы проливали кровь народа 30 августа», – Людовик ответил, впервые повысив голос: «Нет, милостивый государь, нет, не я». Затем ему были предъявлены документы. Пользуясь почтенным правом подсудимого, король не признал части их и оспаривал существование железного шкафа. Это отрицание произвело на всех неблагоприятное впечатление и стало большим промахом, потому что факт был уже доказан. Потом Людовик потребовал копии с обвинительного акта и документов и просил дать ему защитника. Президент объявил, что он может удалиться. В соседней зале королю подали перекусить, а потом повезли назад в Тампль. Первой заботой Людовика было просить, чтобы ему дали свидеться с семейством. Ему отказали на том основании, что коммуна требовала разлучить их на всё время процесса. В половине девятого, когда подали ужин, он опять просил, чтобы ему дозволили обнять детей. Но подозрительность коммуны делала из тюремщиков варваров, и ему снова отказали.
Между тем в собрании шли шумные споры по поводу требования Людовика XVI дать ему защитника. Петион настаивал на том, что это требование следует удовлетворить; Тальен, Бийо-Варенн, Шабо и Мерлен говорили, что это только растянет процесс. Наконец собрание решило предоставить защитника. К Людовику послали депутацию известить об этой новости и спросить, кого он выберет. Король назначил Тарже или Тронше, а если возможно, то обоих. Кроме того, он просил, чтобы ему дали бумаги, перьев и чернил для подготовки к защите и разрешили видеться с семейством. Конвент тотчас же постановил: предоставить всё нужное для письма, уведомить выбранных защитников, дозволить свободно с ними общаться, свидания с семейством разрешить. Тарже отказался защищать Людовика XVI на том основании, что с 1785 года не занимался адвокатурой. Тронше немедленно написал, что готов принять на себя защиту, а кроме того, собрание получило письмо от почтенного Мальзерба, друга и товарища Тюрго; благородный старец, один из самых уважаемых членов судебного сословия, писал президенту: «Я два раза был призван участвовать в советах того, кто был моим государем, когда все добивались этой должности; я обязан служить ему так же, когда многие считают эту службу опасною». Он просил президента известить Людовика XVI о своей готовности посвятить себя его защите. Многие другие сделали то же предложение, о чем королю немедленно дали знать. Он всех благодарил, но принял только Тронше и Мальзерба. Коммуна решила, что оба защитника будут подвержены тщательнейшему обыску, прежде чем их допустят к клиенту. Тогда Конвент повторил приказание дозволить свободное сообщение, и их пропустили в Тампль беспрепятственно. Когда вошел Мальзерб, король вскочил ему навстречу; почтенный старец, рыдая, пал к его ногам. Людовик поднял его, и они долго стояли обнявшись, а затем принялись за работу. Представители от собрания каждый день приносили документы; им было приказано показывать бумаги, но из рук не выпускать. Король изучал их с большим вниманием и спокойствием, всё более изумлявшим представителей. В единственном утешении, которого он просил, свиданиях с семейством, ему отказывали вопреки декрету Конвента. Коммуна, которая решительно этого не хотела, требовала, чтобы Конвент отменил этот декрет. «Сколько ни приказывайте, – заявил Тальен Конвенту, – если коммуна не хочет, то этого не будет». Эти дерзкие слова возбудили сильный шум. Однако Конвент изменил свой декрет и постановил, что король может иметь при себе обоих детей с тем, чтобы во всё время процесса они не возвращались к матери. Король, сознавая, что ей они нужнее, чем ему, не решился отнимать их и покорился этому новому горю с неизменной своей кротостью. По мере того как процесс подвигался, всё более чувствовалась важность вопроса. Одни понимали, что если разделаться с монархизмом посредством цареубийства, то это обяжет к системе неумолимой мести и жестокости и будет равняться объявлению смертельной войны прежнему порядку; они согласны были уничтожить этот порядок, но не таким насильственным способом. Другие, напротив, желали именно этой смертельной войны, не допускавшей ни слабости, ни возвращения к прошлому и рывшей бездну между республикой и монархией. Личность короля исчезала в этом громадном вопросе, и рассматривался лишь один пункт: следует или не следует окончательно порвать с прошлым посредством страшного и решительного акта. Важным признавался только результат, а жертва, обрекаемая на заклание, терялась из виду. Жирондисты, упорно преследуя якобинцев, беспрестанно напоминали им о сентябрьских злодеяниях и представляли их анархистами, стремившимися властвовать над Конвентом посредством террора и уничтожить короля, чтобы заменить его триумвирами. Гюаде почти удалось изгнать их из Конвента: по его предложению постановили, что будут созваны все избирательные собрания Франции, чтобы утвердить или сменить своих депутатов. Этот декрет, состоявшийся в несколько минут, очень испугал якобинцев. Разные обстоятельства тревожили их еще более. Федераты продолжали сходиться со всех сторон. Муниципалитеты присылали множество адресов, в которых, одобряя Республику и поздравляя собрание с ее учреждением, порицали преступления и излишества анархии. Якобинские общества не переставали упрекать своего парижского собрата в том, что он терпит в своей среде людей крови и мщения, извращающих общественную нравственность и всегда готовых покуситься на безопасность Конвента. Некоторые отрекались от своих основателей и объявляли, что при первом знаке полетят в Париж, на помощь Конвенту. Прежде всего требовали исключения Марата, а некоторые – самого Робеспьера. Якобинцы с горечью признавали, что общественное мнение развращается, уговаривали друг друга быть твердыми, действовать согласованно и, не теряя времени, писать в провинции, чтобы просветить заблудших братьев. Они обвиняли изменника Ролана в перехватывании писем и замене их лицемерными писаниями, развращавшими умы. Они предлагали устроить добровольное пожертвование с целью распространять полезные статьи, в особенности превосходные речи Робеспьера, и приискивали средства доставлять их вопреки Ролану, который, по их словам, нарушал свободу почт. В одном, однако, якобинцы соглашались: в том, что Марат скомпрометирован непомерной свирепостью своих статей, и общество обязано разъяснить Франции, какое различие оно делает между Маратом и мудрым, добродетельным Робеспьером, который, никогда не выходя из должных пределов, хотел без слабости, но и без преувеличения, лишь того, что было справедливо и возможно. Спор завязался между этими двумя людьми. Марата признавали за несомненно сильного и смелого человека, но слишком пылкого. Он был полезен делу народа, говорили якобинцы, но не умел остановиться. Приверженцы Марата отвечали, что он не требовал исполнять всё, что он говорит, и чувствовал лучше кого бы то ни было, на чем следует остановиться. В доказательство они приводили разные его изречения, например: «Одного Марата довольно в Республике», «Я требую больше, чтобы добиться хоть немногого», «Рука моя отсохла бы, если б я ожидал, что народ буквально исполнит все мои советы», «Я запрашиваю у народа, потому что знаю, что он со мной торгуется». Трибуны рукоплесканиями поддержали оправдание Марата. Несмотря на это, якобинцы решили сочинить адрес, в котором, описывая характеры Марата и Робеспьера, хотели показать, какое различие делают между мудростью одного и неистовством другого. После этой меры предложили еще несколько, в особенности было решено неустанно требовать отправления федератов на границы. Как только пошли слухи, что армия Дюмурье слабеет в результате дезертирства, якобинцы закричали, что ему необходимо подкрепление. Марат писал, что добровольцы, ушедшие из Парижа первыми, удерживаются уже больше года и пора заменить их свежими. Получили известия о том, что Кюстин вынужден оставить Франкфурт, а Бернонвилю не удалось нападение на Трирское курфюршество, и якобинцы стали уверять, что если бы у этих двух генералов были федераты, без пользы наполнявшие столицу, то они не понесли бы этого урона. Известия о тщетной попытке Бернонвиля и неудачах Кюстина сильно взволновали общественное мнение. Эти неприятности легко было предвидеть, потому что Бернонвиль, совершая нападение в ненастное время года, без достаточных средств и на неприступные позиции, не мог достичь успеха, а Кюстин, упрямившийся и не отступавший на Рейн, чтобы не признаваться в своей опрометчивости, неминуемо должен был отступить к Майнцу. Общественные беды всегда подают партиям повод к упрекам. Якобинцы, не любившие генералов, подозреваемых в аристократизме, начали выступать против них и обвинять в том, будто они жирондисты и фельяны. Марат не преминул снова восстать против страсти к завоеваниям, которую всегда порицал, потому что это только замаскированное честолюбие генералов, стремящихся к опасной власти. Робеспьер, направляя этот упрек согласно внушениям своей ненависти, утверждал, что не генералов следует обвинять, а гнусную партию, властвовавшую над собранием, и саму исполнительную власть. Вероломный Ролан, интриган Бриссо, злодеи Луве, Гюаде, Верньо были, по его словам, виновниками всех бедствий Франции. Он просил у судьбы отличия быть первому убитым ими, но прежде хотел иметь удовольствие донести на них. Дюмурье и Кюстин, присовокуплял Марат, знали их и были слишком осторожны, чтобы стать наряду с ними, но все их боялись, потому что они располагали золотом, местами и всеми средствами Республики. Их намерением было поработить Францию, и для этой цели они вязали руки всем истинным патриотам, мешали развитию их энергии и таким способом подвергали Францию риску быть побежденной врагами. Главным их намерением было уничтожить общество якобинцев и всякого, кто имел бы мужество сопротивляться им. «Что касается меня, – восклицал Робеспьер, – я желаю одного – чтобы меня убил Ролан!» Эта яростная ненависть сообщалась всему собранию и волновала его, как бурное море. Ожидался бой насмерть, заранее отвергалась всякая мысль о примирении, и так как речь заходила о новом проекте соглашения, то было решено навсегда отказаться от Ламуретовских поцелуев[61]. Те же сцены повторялись и в Конвенте в течение срока, назначенного Людовику для подготовки к защите. И там усердно повторяли, что роялисты везде угрожают патриотам ираспространяли брошюры в пользу короля. Тюрио предложил против этого средство: казнить всякого, кто задумает нарушить единство Республики или отделить от нее какую-нибудь часть. Этот декрет был направлен против басни о федерализме, то есть против жирондистов. Бюзо поспешил возразить другим проектом декрета и потребовал изгнания Орлеанского дома. Так всегда партии мстят за клевету другой клеветой. В то время как якобинцы обвиняли жирондистов в федерализме, последние обвиняли первых в намерении посадить на престол герцога Орлеанского и желании пожертвовать Людовиком XVI только для того, чтобы очистить место его преемнику.
Герцог Орлеанский проживал в Париже, тщетно стараясь затеряться среди Конвента. Это место, прибежище яростных демагогов, без сомнения, не пришлось ему по душе; но куда бежать? В Европе его ждала эмиграция и всяческие поругания, быть может, даже казнь грозила там родственнику королевского дома, отрекшемуся от своего рождения и звания. Во Франции он пробовал скрывать свое звание и называл себя Эгалите. Но оставались улики в виде его несметных богатств и неизгладимая память о том, кем он был прежде. Если не облечься в лохмотья, не напустить на себя самый презренный цинизм, то как избежать подозрений? В рядах жирондистов он погиб бы с первого дня, и его присутствие оправдывало бы все возводимые на них подозрения в роялизме. В лагере якобинцев свирепость Парижа служила ему опорой, но он не мог избежать обвинений жирондистов, каковые обвинения и посыпались на него немедленно. Жирондисты не простили ему присоединения к их врагам и полагали, что он расточает свои сокровища анархистам или по крайней мере помогает им своим громадным состоянием, чтобы стать их союзником. Подозрительный Луве заходил еще дальше и искренне воображал, что Эгалите всё еще питает надежды на престол. Не разделяя этого мнения, но пользуясь им, чтобы ответить на выходку Тюрио другой выходкой, Бюзо взошел на кафедру. «Если декрет, предлагаемый депутатом Тюрио, должен водворить доверие, я предложу вам другой, который не менее будет способствовать этому. Монархия ниспровергнута, но еще живет в привычках и памяти прежних ее созданий. Последуем примеру римлян: они изгнали Тарквиния и его род – изгоним род Бурбонов. Часть этого рода находится в заточении, но есть другая часть его, гораздо более опасная, потому что была популярнее: это Орлеанский дом. Бюст герцога Орлеанского носили по улицам Парижа; его мужественные сыновья отличаются в наших армиях; самые заслуги этой семьи делают ее опасной для свободы. Пусть она принесет последнюю жертву отечеству добровольным изгнанием; пусть несет в другие страны несчастье бывшей близости к престолу и еще большее несчастье – ненавистное нам имя, которым не может не оскорбляться ухо свободного человека». Луве последовал за Бюзо и, обращаясь к самому герцогу Орлеанскому, напомнил ему о добровольном изгнании Коллатина[62] и пригласил его последовать этому примеру. Тут же Ланжюине напоминает о парижских выборах, происходивших с участием Филиппа Эгалите, под кинжалом анархистов, об усилиях по назначению в министры канцлера из Орлеанского дома, о влиянии сыновей этого дома в армиях и по всем этим причинам требует изгнания Бурбонов. Базир, Шабо, Сен-Жюст не соглашаются, скорее из оппозиции жирондистам, нежели из участия в отношении герцога. Они утверждают, что теперь не время поступать строго с единственным из Бурбонов, который вел себя честно в отношении нации; что нужно сначала наказать Бурбона пленного, потом создать конституцию, а тогда уже можно будет заняться гражданами, сделавшимися опасными. Притом высылать Орлеана из Франции – значит посылать его на смерть, и следует по меньшей мере отложить эту жестокую меру. Несмотря на эти соображения, изгнание постановляется почти единогласно, без прений. Остается только назначить время изгнания. – Если уж вы прибегаете к остракизму против Эгалите, – говорит Мерлен, – то примените его ко всем опасным людям, и прежде всего – к исполнительному совету. – К Ролану! – восклицает Альбитт. – К Ролану и Пашу! – дополняет его Барер. – Они сделались между нами яблоком раздора. Пусть оба будут изгнаны из правительства, чтобы к нам возвратились мир и согласие. Но Керсен опасается, что Англия воспользуется расстройством правительства, чтобы начать против Франции пагубную войну, и предложение отклоняется. Ревбель спрашивает, можно ли изгнать представителя народа и не принадлежит ли Филипп Эгалите, в качестве такового, избравшей его нации? Эти замечания останавливают порыв. Прения прерываются, возобновляются, и наконец декрет об изгнании Бурбонов хоть и не отменяется, но откладывается на три дня, чтобы дать успокоиться и зрело обдумать вопрос, можно ли изгнать Эгалите и безопасно сменить военного министра и министра внутренних дел. Понятно, какой беспорядок должен был водвориться в секциях, коммуне и Клубе якобинцев вслед за этим спором. Со всех сторон подняли крик против остракизма и стали готовить петиции к возобновлению прений. По истечении положенных трех дней снова начались прения, мэр явился во главе секций требовать отмены декрета. Собрание по прочтении адреса перешло к очередным делам, но Петион, видя, какую бурю поднимает этот вопрос, потребовал, чтобы обсуждение его было отложено до окончания суда над Людовиком XVI. С этим предложением согласились и снова накинулись на жертву, на которую были направлены все страсти. Собрание опять приступило к знаменитому процессу.

Глава XIX
Продолжение процесса – Защита короля – Людовик XVI объявлен виновным и приговорен к смерти – Подробности о прениях и голосовании – Прощание Людовика XVI с семьей, его последние минуты в тюрьме и на эшафотеВремени, данного Людовику XVI на подготовку защиты, едва хватило на просмотр громадного количества материалов, на которых она должна была быть построена. Два его защитника просили о присоединении к ним еще третьего, более молодого и деятельного, который написал бы и произнес защитную речь, а они подыскали и подготовили бы материалы. Этим младшим помощником был назначен адвокат Десез, защищавший Безенваля после 14 июля. Конвент, дозволив защиту, не мог отказать в лишнем защитнике, и Десезу, как и Мальзербу, разрешили доступ в Тампль. Комиссия каждый день приносила документы, и Людовик XVI разбирал их с большим хладнокровием, точно речь шла не о нем. Он выказывал в отношении комиссаров величайшую вежливость и оставлял их закусывать, когда заседания оказывались слишком продолжительны. Занимаясь процессом, Людовик нашел способ сноситься со своим семейством. Он писал на бумаге перьями, а дамы отвечали ему на той же бумаге, накалывая буквы булавкой. Иногда записки прятали в клубок ниток, и слуга, подавая еду, подкидывал клубок под стол, а порой спускали их на веревке с одного этажа на другой. Таким образом несчастные узники передавали друг другу сведения о своем здоровье и находили в этом большое утешение. Наконец Десез закончил защиту, поработав над ней день и ночь. Король заставил его выкинуть из речи всё, что походило на ораторство, и требовал, чтобы адвокат придерживался исключительно разбора доводов и фактов. Двадцать шестого декабря в половине десятого утра войска снова сопроводили Людовика из Тампля в здание фельянов – с теми же предосторожностями и в том же порядке, как в первый раз. Король ехал в карете мэра и во время переезда разговаривал с ним со своим обычным спокойствием; речь шла о Тите Ливии, Сенеке, госпиталях; он даже довольно тонко пошутил с муниципальным чиновником, тоже ехавшим в карете.
 Мальзерб
Мальзерб
Приехав в Конвент, Людовик очень хлопотал о своих защитниках, сел подле них, обвел совершенно спокойным взором скамьи, на которых заседали его обвинители и судьи, ища, по-видимому, на лицах впечатление, производимое защитой Десеза, и неоднократно с улыбкой заговаривал с Тронше и Мальзербом. Собрание выслушало защиту в мрачном молчании и не выразило неодобрения. Защитник сначала занялся юридической стороной дела, а потом уже конкретными обвинениями, возводимыми на Людовика XVI. Хотя депутаты, решая, что король будет судим, формально постановили, что принцип неприкосновенности не может быть принят в соображение, Десез весьма ловко вывел, что защита не может быть ограничена ничем даже после этого декрета и что, следовательно, если Людовик считает принцип неприкосновенности состоятельным, то имеет полное право на него ссылаться. Адвокат признавал верховную власть народа и согласно со всеми защитниками Конституции 1791 года доказывал, что народ, хоть и державный безусловный владыка, может принять на себя обязательства; что он именно это и хотел сделать относительно Людовика XVI, постановляя неприкосновенность; а следовательно, обязательство должно быть выполнено, и все возможные преступления, если бы даже король таковые совершил, могут быть наказаны лишь низложением. Десез заявил, что без этого Конституция 1791 года оказалась бы лишь варварской западней, поставленной Людовику XVI, так как обещание было бы дано с тайным намерением не сдержать его, и если Людовику отказывают в правах короля, то следует оставить за ним по крайней мере права гражданина. Затем он спросил, где те охранительные формы, которых вправе требовать каждый гражданин. Например, отделение обвинительной стороны от суда, право отводить судей или присяжных, большинство двух третей, тайное голосование, молчание судей до оглашения их мнения. Со смелостью, встретившей лишь полное молчание, адвокат добавил, что ищет везде судей, но видит только обвинителей. Затем Десез перешел к разбору фактов, которые разделил на два разряда: факты, предшествовавшие принятию конституционного акта, и факты, последовавшие за ним. Первые нейтрализованы принятием акта, вторые – неприкосновенностью. Однако он не отказывался их разбирать и сделал это с легкостью, потому что в обвинительном акте были собраны самые незначительные факты, за неимением точных улик о сношениях с иноземцами, так как при всей убежденности в этом преступлении прямых улик так и не было. Защитник победоносно отверг обвинение в пролитии французской крови 10 августа. В этот день наступательной стороной был не Людовик XVI, а народ. На Людовика было совершено нападение, и он имел все законные права стараться защитить себя, приняв все необходимые предосторожности. Сами городские власти одобрили его в этом и дали войскам формальный приказ отражать силу силой. Несмотря на это, король не хотел воспользоваться разрешением и удалился в Законодательное собрание, чтобы избежать кровопролития. Последовавший за этим бой его уже не касался и даже скорее должен бы доставить ему благодарность, так как по его приказу швейцарцы перестали защищать дворец и свою жизнь. Следовательно, было бы вопиющей несправедливостью обвинять Людовика XVI в пролитии французской крови.
 Людовик XVI диктует Мальзербу линию защиты
Людовик XVI диктует Мальзербу линию защиты
Защитник заключил свою речь следующими краткими и справедливыми словами, единственными, в которых он затронул личные достоинства Людовика XVI: «Людовик вступил на престол двадцати лет и подал пример чистоты нравов; он не внес на престол ни одной преступной слабости, ни одной развращающей страсти, он был бережлив, правосуден, строг и выказал себя неизменным другом народа. Народ желал снятия разорительного, тягостного налога – король его снял; народ требовал уничтожения крепостного состояния – он начал с того, что уничтожил его сам в своих уделах; народ просил преобразований в уголовном законодательстве для облегчения участи обвиняемых – он эти преобразования совершил; народ хотел, чтобы сотни тысяч французов, дотоле строгостью наших обычаев лишенные прав, подобающих гражданам, получили или вернули себе эти права, – он своими законами даровал их; наконец, народ захотел свободы – он дал ее! Он сам шел навстречу народу, а между тем ныне выдвигают требования от имени этого самого народа!.. Граждане, я не заканчиваю… я останавливаюсь перед историей: подумайте, она будет судить ваш приговор, ее же приговор будет приговором веков!» Людовик XVI тотчас после своего защитника произнес несколько слов, заранее им написанных. «Вам изложили мою защиту, – сказал он, – я не стану повторять того же; обращаясь к вам, может статься, в последний раз, я заявляю, что моя совесть ни в чем меня не укоряет и мои защитники сказали вам правду. Я никогда не страшился публичного разбора моих действий, но сердце мое истерзано обвинением, будто я хотел, чтобы была пролита кровь народа, а в особенности тем, что мне приписываются бедствия 10 августа! Признаюсь, многократные доказательства, которые я во все времена давал в любви моей к народу, и все мои действия должны были, казалось мне, доказать, что я не боялся сам подвергаться опасности, чтобы щадить его кровь и навсегда отстранить от себя подобное обвинение». Президент спрашивает Людовика XVI, имеет ли он еще что-нибудь сказать в свою защиту. Король отвечает, что он всё сказал. Тогда президент объявляет, что он может удалиться. Людовика с его защитниками выводят в соседнюю залу, и там он заботливо занимается молодым Десезом, который, по-видимому, утомлен длинной речью. Возвращаясь в Тампль в карете, король с тем же спокойствием разговаривает с сопровождающими его лицами и входит к себе в пять часов. Как только он выходит из Конвента, там разражается страшная буря. Одни хотят, чтобы были открыты прения, другие, жалуясь на вечные проволочки, замедляющие исход процесса, требуют немедленной поименной переклички, говоря, что во всяком суде после речи подсудимого собираются голоса. Ланжюине с самого начала процесса испытывал негодование, которого его пылкая душа была не в силах долее сдерживать. Он взбегает на кафедру и среди шума и криков требует не времени на прения, а уничтожения самой процедуры, восклицает, что время свирепых людей прошло, что собрание позорит себя, взявшись судить Людовика XVI, что никто во Франции не имеет на это права, и в особенности – собрание; что если оно хочет действовать как политическое учреждение, то может принять лишь меры безопасности против бывшего короля, а если действует как судебное место, то поступает вне всяких принципов, ибо это значит отдать побежденного на суд самого победителя, так как большинство присутствующих членов признали себя заговорщиками 10 августа. При слове заговорщики страшный гвалт поднимается со всех сторон. Раздаются крики: «К порядку! В Аббатство! Вон с кафедры!» Ланжюине тщетно хочет оправдать произнесенное слово, заверяя, что его в этом случае следует принимать в благоприятном смысле, а 10 августа было славным заговором. Шум не унимается, и оратор заключает, что предпочел бы погибнуть тысячу раз, чем осудить противно всем законам даже самого гнусного из тиранов! За ним следует толпа ораторов, и шум только растет. Никто никого не хочет слушать, депутаты оставляют свои места, сходятся кучами, группами, ругаются, грозят – президент вынужден надеть шляпу. По истечении часа волнение наконец утихает, и собрание, приняв мнение тех, кто требует прений, объявляет, что прения открываются и будут продолжаться, с прекращением всех других дел, до произнесения приговора.
Прения начинаются 27 декабря, толпа уже выступавших ораторов снова появляется на кафедре. Сен-Жюст говорит опять. Вид Людовика XVI, побежденного, униженного, но полного светлого спокойствия, породил в уме пылкого революционера некоторые сомнения. Но он отвечает на них, называя Людовика скромным и ловким тираном, который угнетал скромно, а теперь защищается скромно, и от вкрадчивой кротости которого нужно оберегать себя самым тщательным образом. Людовик созвал Генеральные штаты, но лишь для того, чтобы унизить дворянство и опереть свою власть на раздоры, поэтому когда он увидел, как быстро возрастает могущество штатов, то постарался уничтожить его. К 14 июля, к 5 и 6 октября он тайно копил средства, чтобы задавить народ; но каждый раз, когда его заговоры по милости национальной энергии не удавались, он притворно разворачивался и лицемерно выказывал неестественную радость по поводу своего поражения и победы народа. После того, не имея более возможности применять силу, он подкупал защитников свободы, входил в сношения с иноземцами, приводил в отчаяние министров, из которых один вынужден был написать ему: «Ваши тайные сношения мешают мне исполнять закон – я удаляюсь». Наконец, он прибегал ко всем средствам, подсказываемым самым глубоким коварством, и до 10 августа напускал на себя, да и теперь еще напускает, притворную кротость, чтобы потрясти своих судей и ускользнуть от них. Вот как естественные колебания Людовика XVI отражались в свирепом уме, который видел сильное коварство и расчет там, где были только слабость и сожаления о прошлом. За Сен-Жюстом следуют другие ораторы, и все с нетерпением ждут очереди жирондистов. Они до сих пор еще не высказывались, и пора было им объясниться. Мы уже видели, как велики были их колебания, их склонность расчувствоваться и простить Людовику XVI сопротивление, которое они способны были понять больше своих врагов. Верньо сознался нескольким друзьям, что глубоко растроган. Не ощущая, может быть, такого сильного волнения, другие тоже готовы были проявить сочувствие к жертве и придумали средство, ясно изобличавшее и их чувства, и затруднительность их положения: предложили воззвание к народу. Сбросить с себя опасную ответственность, свалить на нацию упрек в варварстве, если бы король был осужден, или в роялизме, если б он был оправдан, – вот в чем состояла цель жирондистов, а это было малодушием. Если уж их глубоко трогало несчастное положение Людовика XVI, они должны были иметь мужество защитить его сами, а не вызывать между собой войну, отсылая всем сорока четырем тысячам секций, на которые делилась Франция, вопрос, который неминуемо стравил бы все партии и поднял самые бешеные страсти. Надо было сильной рукой захватить власть, иметь мужество самим употребить ее в дело, а не сваливать на народ непосильную задачу, подвергая всю страну неописуемой сумятице. Тут жирондисты дали своим противникам огромное преимущество, сами подсунули им повод распространить слухи о том, что они стараются вызвать междоусобную войну, и подозревать их мужество и искренность. У якобинцев не преминули заметить, что те, кто прямо требуют оправдания Людовика ХЛТ, честнее и более заслуживают уважения, чем те, кто предлагают воззвание к народу. Но так обыкновенно поступают умеренные партии: как и 2 и 3 сентября, жирондисты не решались компрометировать себя ради короля, на которого смотрели как на врага и который, по их убеждению, хотел истребить их иностранным оружием; однако, тронутые положением побежденного врага, они старались защитить его, негодовали на оказываемое насилие и делали всё, что было нужно, чтобы погубить себя, но не то, что нужно было, чтобы спасти его. Салль, тот из жирондистов, кто усерднее перенимал фантазии Луве и даже превосходил его в сочинении небывалых заговоров, – Салль первым предложил и развил систему воззвания к народу на заседании 27-го числа. Предоставляя республиканцам сколько угодно порицать действия Людовика XVI, признавая, что он заслуживает всей возможной строгости, он, однако, заметил, что Конвент должен совершить не мщение, а великий политический акт, и стал доказывать, что только с точки зрения общественной пользы должно судить о вопросе. В обоих же случаях – осуждения и оправдания – Салль усматривал огромные неудобства. Оправдание будет вечным источником раздоров, король сделается лозунгом всех партий. Память о его проступках будет постоянно ставиться в укор снисходительности Конвента; эта безнаказанность будет публичным скандалом и, может статься, сделается причиной народных восстаний и предлогом для агитаторов. Звери, уже перевернувшие государство вверх дном своими злодеяниями, не преминут, опираясь на этот акт милосердия, совершить новые, так точно, как, ссылаясь на медленность судов, учинили сентябрьскую бойню. Наконец, Конвент со всех сторон будет обвинен в недостатке храбрости, необходимой для прекращения всех этих волнений и основания республики энергичным и грозным примером. Осужденный же король завещает своей семье все притязания своего рода и завещает их братьям, опасным более него, потому что они не потеряли общего уважения из-за слабости и малодушия. Народ, не видя более преступлений, а только казнь, пожалуй, разнежится и пожалеет короля, а крамольники и в этом настроении найдут средство раздражать граждан против Национального конвента. Европейские государи хранят мрачное молчание в ожидании события, которое, как они надеются, поднимет общее негодование, и, как только падет голова Людовика, они все, пользуясь этим предлогом, разом нагрянут во Францию, чтобы растерзать ее. Может быть, тогда Франция, ослепленная страданиями, будет упрекать Конвент в поступке, за который поплатится жестокой, разорительной войной. Такова, продолжал Салль, роковая альтернатива, представляющаяся Национальному конвенту. В таком положении самой нации надлежит высказать свою волю и решить свою участь, решая участь Людовика XVI. Опасность междоусобной войны – пустой призрак: не вспыхнула же она при созыве первичных собраний для избрания Конвента, и ее, как видно, не опасаются в совершенно таком же важном деле, если возлагают на эти первичные собрания утверждение конституции. Напрасно толкуют о медленности и затрудненности нового обсуждения дела в сорока четырех тысячах собраний, потому что тут и совещаний не будет, а будет только выбор между двумя предложениями, представленными Конвентом. Вопрос будет поставлен первичным собраниям в следующей форме: «Умертвить Людовика XVI или содержать в заключении до мира?» С экстренными курьерами ответ из отдаленнейших концов Франции может прийти в две недели. Это мнение было выслушано с весьма различными чувствами. Серр, депутат департамента Верхние Альпы, отступается от своего первоначального мнения и одобряет предложение Салля. Барбару выступает против оправдания Людовика XVI, но не приходит к положительному заключению, потому что, с одной стороны, не смеет оправдать короля против желания своих доверителей, с другой – осудить его против желания своих друзей. Бюзо подает мнение за воззвание к народу, с той только разницей, что предлагает, чтобы сам Конвент принял инициативу, произнеся от себя смертный приговор, и обратился к первичным собраниям только за утверждением этого приговора. Рабо Сент-Этьен, пастор, уже отличившийся своим талантом в Учредительном собрании, приходит в негодование от совмещения стольких прав, самовластно присваиваемых Конвентом. «Что касается меня, – говорит он, – мне надоела моя доля деспотизма, я утомлен, измучен тиранией, которая приходится здесь на мою долю, и вздыхаю о минуте, когда вы создадите такой суд, который бы избавил меня от самого вида тирана… Вы ищете политических соображений – вы их найдете в истории… Те самые лондонцы, которые так торопили казнь короля, первыми прокляли его судей и преклонились перед его преемником. Когда Карл II вступил на престол, город дал ему великолепный обед, народ предался необузданнейшей радости и сбежался смотреть на казнь тех самых судей, которых Карл принес в жертву памяти своего отца. Народ парижский, парламент французский, слышите ли вы меня?..» Форе требует отмены всех декретов, касающихся процесса. Наконец является мрачный Робеспьер, исполненный гнева и горечи. Он тоже был тронут, говорит он, и республиканская доблесть в его сердце пошатнулась при виде виновного, униженного перед верховной властью. Но последнее доказательство преданности, которым человек обязан отечеству, – это обязанность задушить в груди всякое движение чувствительности. Затем Робеспьер повторяет всё, что было уже сказано о компетентности Конвента, о вечных промедлениях, задерживающих национальное мщение, о церемонности, оказываемой тирану, тогда как без всякой пощады нападают на самых горячих друзей свободы. Робеспьер уверяет, что воззвание к народу есть только уловка, подобная той, которую придумал Гюаде, требуя очистительного голосования, что эта коварная уловка имеет целью опять подвергнуть всё вопросу – и нынешний состав представительства, и 10 августа, и самую Республику. Снова сводя вопрос к себе и своим врагам, Робеспьер сравнивает настоящее положение с положением в июле 1791 года, когда надо было судить Людовика XVI за бегство в Варенн. Он играл в этом деле видную роль и теперь упоминает и об опасностях, которым подвергался, и о попытках своих противников снова посадить Людовика XVI на престол, и о случившейся вследствие этого перестрелке на Марсовом поле, и об опасности, которой Людовик, вступив опять на престол, подверг бы общее дело. Робеспьер коварно дает понять, что его нынешние противники – те же, что и тогда; он представляет себя и Францию вместе с собою рискующими теми же опасностями, как и тогда, – и всё по милости интриг этих плутов, которые называют себя честными людьми. «Ныне они молчат о важнейших интересах родины, – продолжает Робеспьер, – они не хотят высказывать своего мнения насчет последнего короля, но их тайная и пагубная деятельность производит все смуты, волнующие общество, а для того, чтобы ввести в заблуждение здравое, но часто обманываемое большинство, они преследуют наиболее горячих патриотов, обзывая их крамольным меньшинством. Меньшинство, – восклицает он затем, – нередко обращалось в большинство, просвещая обманутые собрания! Доблесть всегда составляла меньшинство на земле! Иначе была ли бы она населена тиранами и рабами? Такие люди, как Критий, Анит, Цезарь или Клавдий принадлежали к большинству, а Сократ – к меньшинству, ибо принял цикуты; Катон – тоже, ибо вонзил в себя меч». Затем Робеспьер советует народу вести себя спокойно, чтобы отнять всякий предлог у своих противников, которые в простых рукоплесканиях верным депутатам видят бунт. Народ! – восклицает он. – Сдерживай свои рукоплескания, избегай присутствовать на наших прениях! Хоть и не перед тобой, мы продолжим борьбу». В заключение Робеспьер требует, чтобы Людовика XVI немедленно объявили виновным и приговорили к смерти. Ораторы следовали один за другим с 28-го и до 31-го числа. Наконец, Верньо в первый раз попросил слова, и собрание с необыкновенным нетерпением приготовилось слушать жирондистов, говоривших устами их великого оратора после столь продолжительного молчания, в котором обвинял их не один Робеспьер. Верньо начинает с того, что развивает принцип верховной власти народа и различает случаи, когда представители народа должны обращаться к этой власти. Было бы слишком длинно и трудно прибегать ко всему народу по поводу всех законодательных актов, но когда речь идет о некоторых особенно важных – тогда другое дело. Конституция, например, заранее назначена к утверждению национальной властью. Но не одно это дело заслуживает чрезвычайного утверждения. Суд над Людовиком также представляет важные черты – отчасти по совмещению в Конвенте нескольких властей, отчасти по неприкосновенности, еще недавно конституционным порядком дарованной монарху, отчасти, наконец, по политическим результатам. Развив эту теорию, Верньо доходит до политических неудобств воззвания к народу и касается всех больших вопросов, разделяющих обе партии. Он занимается сначала раздорами, которых следует опасаться, если предоставить дело короля окончательному суду народа. Он перебирает доводы, уже приведенные другими жирондистами, и утверждает, что если никто не боялся междоусобной войны, когда сзывались первичные собрания для утверждения конституции, то он не видит, почему может быть опасно созвать их для суда над королем. Этот часто повторяемый довод имеет мало смысла, потому что в конституции нет настоящего вопроса о революции; конституция может быть только подробным уставом учреждения уже постановленного и одобренного, а именно – республики. Но так как смерть короля составляет самый страшный вопрос, то нужно решить, должна ли Французская революция, казня монархизм в лице короля, бесповоротно порвать с прошлым и пойти к поставленной цели путем мщений и жестокости. Если этот страшный вопрос вызывает такие несогласия уже в Конвенте и среди населения Парижа, то было бы, как уверяют, крайне опасно предложить его всем сорока четырем тысячам секций, на которые делится территория Франции. Во всех театрах, во всех народных обществах происходят по этому поводу буйные споры, и Конвент должен иметь волю сам решить вопрос, а не отдавать его на суд Франции, которая, может статься, решила бы его путем оружия. Верньо, разделяя в этом отношении мнение своих друзей, утверждает, однако, что нет оснований опасаться междоусобной войны. Он говорит, что в департаментах агитаторы не приобрели того перевеса, который презренное общественное малодушие дозволило им присвоить себе в Париже; что они хоть и объехали всю Республику, но встретили везде одно пренебрежение; что провинция везде явила доблестный пример покорности закону, пощадив нечистую кровь, текущую в их жилах. Затем он опровергает опасения, выраженные относительно большинства, состоящего будто бы из интриганов, роялистов и аристократов; он восстает против надменного положения о том, будто доблесть всегда составляет на земле меньшинство. «Граждане! – восклицает он. – Каталина в римском сенате принадлежал к меньшинству, и если бы это меньшинство одолело – погибли бы Рим, сенат, свобода. В Учредительном собрании Мори и Казалес принадлежали к меньшинству, и если бы одолели они, вы бы погибли! Короли тоже составляют меньшинство, и, чтобы сковать народ, они говорят, что доблесть составляет меньшинство! Они говорят, что большинство народа состоит из интриганов, которых надо заставить молчать с помощью террора, если хочешь предохранить государство от общего переворота!» Верньо спрашивает, нужно ли, чтобы изменить большинство по вкусу некоторых людей, пускать в дело изгнание и смерть, превратить Францию в пустыню, предать ее фантазиям нескольких злодеев? Заступившись за большинство во Франции, он заступается за себя и своих друзей, которых представляет постоянно сопротивляющимися всякому деспотизму – двора или сентябрьских убийц. Он описывает их заседающими 10 августа под гром дворцовых пушек, произносящими низложение еще до победы народа, в то время как Бруты, ныне спешащие прирезать ниспровергнутых тиранов, скрывали свой испуг и ждали исхода неверного сражения свободы с деспотизмом. Затем он сбрасывает с себя на своих противников обвинение в подстрекательстве к междоусобной войне. «Да, – говорит Верньо, – междоусобной войны хотят те, кто, проповедуя убийство приверженцев тирании, называют этим именем все жертвы, гибели которых жаждет их ненависть; кто отдает кинжалам грудь представителей народа и требует роспуска правительства и Конвента; кто хочет, чтобы меньшинство стало над большинством и имело возможность узаконивать свои приговоры восстаниями. Они хотят междоусобной войны и развращают народ, обвиняя рассудительность в близости к фельянам, справедливость в малодушии, а святое человеколюбие – в заговорах. Грозить междоусобной войной за обращение к верховной власти народа!.. – восклицает оратор. – Однако в 1791 году вы были скромнее, вы не хотели парализовать эту власть и царствовать вместо нее. Вы пустили по рукам петицию, чтобы спросить народ, как быть с Людовиком по возвращении его из Варенна! Тогда вы хотели верховной власти народа и не предполагали, чтобы воззвание к ней могло вызвать междоусобную войну! Не оттого ли, что тогда она потворствовала вашим скрытым видам, а ныне мешает им?..» Оратор переходит к другим соображениям. Говорят, что собрание должно выказать столько величия и мужества, чтобы самому привести в исполнение свой приговор, не подпирая себя мнением народа. «Мужество?! – восклицает он. – Мужество требовалось для того, чтобы напасть на Людовика в его всемогуществе; но много ли его нужно, чтобы послать на казнь Людовика побежденного и обезоруженного? Кимрский воин входит в темницу Мария, чтобы убить его; испугавшись при виде своей жертвы, он убегает, не дерзнув тронуть его. Если бы этот солдат был членом сената, сомневаетесь ли вы в том, что он поколебался бы подать голос в пользу смерти тирана? Какое, по-вашему, мужество, в поступке, на который способен и трус?» Потом Верньо говорит о другом роде мужества – о мужестве, которое следует выказать относительно иностранных держав: «Поскольку так много говорят о великом политическом акте, то небесполезно рассмотреть вопрос и с этой стороны. Не подлежит сомнению, что державы ждут только этого последнего предлога, чтобы всем вместе нагрянуть во Францию. Мы их, конечно, победим: геройство французских солдат есть верное в том ручательство; но это потребует усугубления расходов и больших усилий. Если война принудит нас к новому выпуску ассигнаций, который сразу поднимет цену на продукты первой необходимости; если она нанесет новые и смертельные удары торговле; если прольет потоки крови на суше и на море – какую большую услугу окажете вы человечеству? Какой признательностью будет обязана вам родина за то, что вы от ее имени, но мимо ее верховной власти, совершите акт мщения, который сделается причиной или даже только предлогом таких бедствий? Я не допускаю мысли о неудачах, но посмеете ли вы похвастаться перед нею вашими заслугами? Не будет ни одного семейства, которому не пришлось бы оплакивать сына или отца; на земледелие скоро не хватит рук; мастерские опустеют; ваша истощенная казна потребует новых налогов; общественный организм, измученный нападениями врагов и внутренними раздорами, впадет в агонию. Берегитесь, как бы Франция среди торжеств не стала походить на знаменитые египетские памятники, пережившие свое время: проезжий иноземец дивится их величественности, но если проникнет внутрь – что находит он? Безжизненный прах и могильную тишину». Кроме этих опасений, уму оратора представляются еще другие, подсказанные английской историей и действиями Кромвеля – главного, но скрытного виновника казни Карла I. Кромвель, постоянно натравливавший народ, сначала на короля, потом на самый парламент, кончил тем, что сломил свое слабое орудие и сам завладел верховной властью. «Не случалось ли вам слышать, – продолжает Верньо, – в этой ограде и в других местах такого рода крики: “Если хлеб дорог, причина тому в Тампле; если звонкая монета редкость, причина тому в Тампле; если наши армии нуждаются, причина тому в Тампле; если мы каждый день видим перед собой нищету, причина тому в Тампле!”? Тем, кто говорит это, однако, не безызвестно, что дороговизна хлеба, малый оборот продовольствия, плохое управление армиями и нищета, вид которой огорчает нас, зависят от совсем других причин. Какие же у них намерения? Кто поручится мне, что эти самые люди, которые неустанно стараются унизить Конвент и, может быть, достигли бы этого, если бы пребывающее в нем величие могло зависеть от их коварства; что эти самые люди, везде провозглашающие необходимость новой революции и твердящие лишь о заговорах, казнях, изменниках, преследованиях, всенародно настаивающие в секционных собраниях и печатных статьях, что нужно избрать защитника Республики и ее может спасти только единый глава; кто поручится мне, говорю я, что эти самые люди не станут кричать после смерти Людовика с величайшим неистовством: “Если хлеб дорог, причина тому в Конвенте; если звонкая монета – редкость, если наши армии нуждаются, причина тому в Конвенте; если правительственная машина с трудом волочится, причина тому в Конвенте, на котором лежит обязанность управлять ею; если военные бедствия усилились объявлением войны со стороны Англии и Испании, причина тому в Конвенте, вызвавшем эти объявления опрометчивым осуждением Людовика!”? Кто поручится мне, что в разгар этой бури, когда из своих притонов опять повылезут душегубцы 2 сентября, вам не будет представлен весь в крови в качестве избавителя этот защитник, этот глава, будто бы столь необходимый? О, если бы до этого дошла их дерзость, при первом его появлении его мгновенно пронзили бы тысячи ударов; но какие ужасы претерпел бы Париж? Кто мог бы жить в городе, где обитают только террор и смерть! А вы, трудолюбивые граждане, всё богатство которых в труде и которые лишились бы всех средств к труду, вы, которые принесли революции такие большие жертвы и у которых отняли бы последние средства к существованию, куда бы вы делись? Какими были бы ваши средства к жизни? Чьи руки утирали бы ваши слезы и подавали помощь семьям вашим, ввергнутым в отчаяние? Обратились бы вы к этим лжедрузьям, к этим коварным льстецам, толкнувшим вас в бездну? О, лучше бегите от них! Страшитесь их ответа! Я вам скажу, что они вам ответят. Вы будете просить у них хлеба, а они скажут вам: “Не хотите ли крови? Вот, берите – и кровь, и трупы; у нас нет для вас другой пищи”. Вы содрогаетесь, граждане! О, моя родина, прошу тебя, пусть не будут забыты усилия, которые я совершаю, чтобы спасти тебя в этом плачевном перевороте!» Впечатление, произведенное импровизацией Верньо, было глубоким, потрясающим, всеобщим. Робеспьер оказался уничтожен этим честным, увлекающим красноречием. Однако Верньо заставил усомниться, но не убедил собрание, колебавшееся между обеими партиями. Бриссо, Жансонне, Петион в свою очередь поддержали его, но решительное влияние на вопрос оказал Барер. Его изворотливость, холодное, уклончивое красноречие обеспечили ему славу образца и оракула центра. Барер долго говорил о процессе, разбирал его со всех сторон и снабдил поводами к осуждению всех робких депутатов, которым только и нужен был благовидный довод, чтобы уступить. Его посредственная аргументация послужила всем трусам предлогом, и с этой минуты участь несчастного короля была решена. Прения продолжались до 7 января 1793 года, и никто не хотел больше слушать это бесконечное повторение одних и тех же фактов и рассуждений. Закрытие прений было объявлено без сопротивления, но предложение снова отсрочить решение возбудило сильнейшее волнение и было наконец утверждено декретом, назначавшим постановку вопросов и поименную перекличку на 14 января.
Когда настал роковой день, громадная толпа окружила собрание и наполнила трибуны. Наконец, после продолжительного спора, Конвент совместил все вопросы в трех следующих: 1) Виновен ли Луи Капет в заговоре против свободы нации и покушениях против общей безопасности государства? 2) Будет ли приговор, каким бы он ни был, представлен на утверждение народу? 3) Какому наказанию подвергнут Луи Капета? Весь день 14 января прошел в обсуждении этих вопросов, 15-е было назначено для голосования. Собрание сначала постановило, что каждый депутат подает свой голос с кафедры, а каждый голос будет написан и подписан и может быть мотивирован; что членам, отсутствующим без основательной причины, будет сделан выговор, но входящим можно будет подать свой голос даже после поименной переклички. Наконец начинается роковая перекличка по первому вопросу. Восемь членов отсутствуют по болезни, двадцать – по поручениям Конвента. Тридцать семь депутатов, различно мотивируя свое мнение, признают Людовика XVI виновным, но объявляют себя некомпетентными судить его и требуют лишь принятия против него мер общей безопасности. Наконец 683 человека без всяких объяснений объявляют Людовика XVI виновным. Собрание состояло всего из 749 человек. Президент от имени Национального конвента объявляет Луи Капета виновным в заговоре против свободы нации и в происках против общей безопасности государства. Поименная перекличка начинается снова, теперь по второму вопросу. Двадцать девять депутатов отсутствуют. Пятеро – Лафон, Водельянкур, Мориссон, Лакруа и Ноайль – отказываются голосовать; 11 человек излагают свое мнение с разными условиями; 281 депутат подает голос за воззвание к народу, 423 – против. Президент объявляет от имени Национального конвента, что приговор над Луи Капетом не будет представлен на утверждение народу. Эти два голосования поглотили всё 15 января; третье было отложено до следующего дня. Волнение в Париже усиливалось по мере того, как подходила решительная минута. В театрах раздалось несколько благоприятных для Людовика XVI голосов по поводу пьесы «Друг законов», и коммуна распорядилась временно запретить все спектакли, но исполнительный совет отменил эту меру как посягающую на свободу печати. В тюрьмах господствовало глубокое уныние. Разнесся слух, что ужасные сентябрьские дни должны повториться, и арестанты и их родные осаждали депутатов мольбами, чтобы их спасли от смерти. Якобинцы, со своей стороны, говорили, что всюду плетутся заговоры с целью спасти Людовика XVI от казни и восстановить монархию. Гнев их, возбужденный проволочками и препятствиями, становился всё более грозным, и обе партии пугались одна другой, подозревая друг друга в зловещих намерениях. Заседание 16 января привлекло еще более значительное стечение народа, нежели предыдущие. Это было решающее заседание, потому что признание виновности короля не имело никакого значения, если бы его приговорили к простому изгнанию. Этим достигалась цель тех, кто желал его спасения, потому что все, на что они могли надеяться в настоящую минуту, – это спасти его от убиения. Трибуны с раннего утра наполнились якобинцами, не сводившими глаз с кафедры, на которую каждый депутат должен был явиться подать свой голос. Большая часть дня посвящается мерам по сохранению общественного порядка, призыву министров, их выступлениям, вызову мэра для объяснения закрытия застав, последовавшего в течение дня. Конвент постановляет, что заставы останутся открытыми и федераты, находящиеся в городе, разделят с парижанами заботу об охранении столицы и всех публичных учреждений. Так как час уже довольно поздний, то принимается решение не закрывать заседание до окончания поименной переклички. В ту минуту, когда она уже почти началась, возникает вопрос, из какого числа голосов должно состоять большинство. Легарди предлагает определить большинство в две трети голосов, как в уголовных судах. Дантон, только что вернувшийся из Бельгии, восстает против этого и требует безусловного большинства, то есть половины голосов и одного лишнего. Ланжтоине навлекает на себя новую бурю, требуя, чтобы после стольких нарушений форм правосудия была соблюдена хотя бы эта. «Мы голосуем под кинжалами и пушками крамольников!» – восклицаетон. Эти слова возбуждают шум и крики, и Конвент разрешает спор объявлением, что форма его декретов остается неизменной и по этой форме они поддерживаются безусловным большинством голосов. Голосование начинается в половине восьмого, с тем чтобы продолжаться всю ночь. Одни произносят просто «смерть», другие решают в пользу содержания в тюрьме до заключения мира и изгнания после; известное число произносит смертный приговор с одним ограничением – рассмотреть, не следует ли отложить казнь на время. Эту поправку придумал Майль и мог этим спасти короля, потому что главное было – выиграть время, и отсрочка равнялась помилованию. Довольно значительное число депутатов приняло эту поправку. Голосование продолжается среди шума и волнения. В этот момент сочувствие, внушаемое Людовиком XVI, дошло до высшей степени и многие депутаты пришли с намерением подать за него голос; но усилилось и остервенение его врагов, и в представлении народа дело Республики наконец слилось со смертью последнего короля, а спасение его стало восприниматься как что-то равносильное погибели Республики и восстановлению монархии. Устрашенные бешенством, которое возбуждалось этим убеждением, многие депутаты начали вновь опасаться междоусобной войны и, хоть и тронутые судьбой Людовика XVI, предвидели печальные последствия его оправдания. Этот страх увеличивался при виде собрания и того, что там происходило. Каждый раз, как депутат всходил по ступенькам кафедры, все затихали и внимательно слушали, но тотчас после подачи голоса поднималась буря одобрения или неодобрения и провожала депутата до места. Трибуны ропотом встречали каждый голос, поданный не за смерть, и часто позволяли себе даже угрожающие жесты. Депутаты отвечали на них из зала, и получался беспорядочный обмен угрозами и ругательствами. Эта мрачная, страшная сцена потрясла все души и изменила не одно решение. Лекуэнтр из Версаля, мужество которого никогда не подлежало сомнению, взойдя на кафедру, колеблется – и, неожиданно для себя, роняет страшное слово смерть. Верньо, который был так глубоко тронут участью Людовика XVI и объявил своим друзьям, что у него никогда не поднимется рука против несчастного государя, Верньо, наблюдая эту безобразную сцену, уже видит междоусобную войну во Франции и произносит смертный приговор с присовокуплением, однако, поправки Майля. Его спрашивают, каким образом он изменил свое мнение; он отвечает, что ему почудилось, будто междоусобная война готова вспыхнуть тут же на месте, и он не посмел положить жизнь одного человека на весы с благом Франции. Почти все жирондисты приняли поправку Майля. Депутатом, приговор которого произвел наиболее яркое впечатление, был, конечно, герцог Орлеанский. Поставленный перед необходимостью угождать якобинцам или погибнуть, он произнес смертный приговор против своего родственника и возвратился к своему месту среди общего волнения. Это печальное заседание длилось всю ночь на 17 января и весь день до семи часов вечера. Перечисления голосов ждали с необыкновенным нетерпением. Вокруг здания собралась громадная толпа, и каждый спрашивал соседа, чем кончилось голосование. В собрании еще царствовала неуверенность, и казалось, будто слова задержание и изгнание слышались так же часто, как слово смерть. Одни говорили, что для осуждения не хватало одного голоса, другие – что большинство есть, но из одного только голоса. Со всех сторон толковали, что один голос может решить дело, и тревожно поджидали, не появится ли еще какой-нибудь депутат. Вдруг на кафедру всходит человек, с трудом стоящий на ногах, с закутанной головой – очевидно больной. Это Дюшатель, депутат департамента Дё-Севр, который велел принести себя в собрание, чтобы иметь возможность подать голос. Его появление вызывает вопли, трибуны кричат, что интриганы притащили его нарочно, чтобы спасти Людовика XVI. Ему хотят учинить допрос, но собрание этого не допускает и позволяет Дюшателю подать свой голос согласно постановленным в начале заседания правилам. Дюшатель с твердостью всходит и среди всеобщего ожидания подает голос за изгнание. После него слова просит министр иностранных дел, чтобы сообщить ноту кавалера де Окариса, испанского посланника. Посланник предлагает нейтралитет Испании и ее посредничество в переговорах с державами, лишь бы только Людовика XVI не лишали жизни. Нетерпеливые депутаты Горы говорят, что эта нарочно придуманная задержка имеет целью возбудить новые препятствия, и требуют продолжения. Дантон требует, чтобы Испании сейчас же была объявлена война. Собрание возвращается к очередным делам, и тут докладывают, что защитники Людовика XVI желают быть допущены перед Конвентом, чтобы сделать некое сообщение. Робеспьер говорит, что всякая защита кончена и защитники не имеют более права ничего говорить, что приговор состоялся и надлежит лишь его произнести. Решено принять защитников лишь по произнесении приговора. Верньо, который председательствовал на этом заседании, заявляет: «Граждане! Я сейчас объявлю результат голосования. Вы, надеюсь, будете хранить глубокое молчание. Когда правосудие сказало свое слово, очередь за гуманностью». Собрание состояло из 749 членов; из них 15 отсутствовали из-за командировок, 8 по болезни, 5 отказались участвовать в голосовании, так что число депутатов сводилось к 721, а безусловное большинство состояло бы из 361 голоса. За удержание в тюрьме или изгнание с разными условиями было подано 286 голосов, 2 голоса – за строгое тюремное заключение, 46 голосов – за смерть с отсрочкой, до заключения мира или до утверждения конституции, 26 – за смерть, но, подобно Майлю, с предложением рассмотреть, не будет ли полезно отсрочить казнь, и, наконец, 361 человек проголосовал за безусловный смертный приговор. Президент с выражением глубокой скорби объявляет от имени Конвента, что наказание, назначенное для Луи Капета, – смертная казнь. В эту минуту вводят защитников. Десез объявляет, что прислан своим клиентом подать апелляцию к народу против приговора, произнесенного Конвентом. Он опирается на малое число голосов, решившее осуждение, и утверждает, что если уж в умах представителей возникли такие сомнения, то подобает предоставить разрешение их самой нации. Тронше присовокупляет, что, так как по строгости наказания соблюдены положения уголовного кодекса, то следовало бы по крайней мере соблюсти их и относительно гуманности форм, и что формой, требующей двух третей голосов, никак нельзя пренебречь. Почтенный старец Мальзерб в свою очередь говорит голосом, прерываемым рыданиями: – Граждане, я не имею привычки говорить… И с прискорбием вижу, что мне отказывают во времени собраться с мыслями насчет способа подсчета голосов… Я имею сообщить вам много замечаний… но… Граждане, извините мое смущение и дайте мне времени до завтра, чтобы приготовиться изложить вам мои мысли. Собрание тронуто слезами и сединами почтенного старца. – Граждане, – отвечает Верньо трем защитникам, – Конвент выслушал ваш протест. Подать его было вашей священной обязанностью. Желаете ли вы, – обращается он затем к собранию, – объявить защитников Людовика почетными гостями? – Да! Да! – звучит единодушный ответ. Робеспьер просит слова и, напоминая о декрете, изданном против воззвания к народу, предлагает отвергнуть просьбу защитников. Гюаде требует отказа в апелляции, но соглашается дать Мальзербу сутки для объяснения. Мерлен из Дуэ утверждает, что нечего говорить о способе подсчета голосов, потому что уголовный кодекс, на который защитники ссылаются, если и требует двух третей для постановления о виновности, то для приложения наказания достаточно лишь безусловного большинства. В настоящем же случае виновность признана почти единогласно, поэтому не важно, что наказание постановлено простым большинством. Вследствие всех этих замечаний Конвент переходит к очередным делам по протесту защитников, объявляет апелляцию несостоятельной, а вопрос об отсрочке казни откладывает до следующего дня. Но 18-го числа кто-то уверяет, будто перечисление голосов сделано неточно, и требует начать его сначала. Весь день проходит в спорах, наконец расчет признается верным, но вопрос об отсрочке приходится снова отложить. На следующий день в конце концов обсуждают и этот последний вопрос, что подвергает риску весь процесс, потому что отсрочка стала бы для Людовика XVI спасением. Истощив все доводы при обсуждении вопросов о наказании и воззвании к народу, жирондисты и все, кто хотел спасти короля, не знали, за какие еще хвататься средства; они привели еще несколько политических соображений, но им ответили, что если Людовик ХУ1 умрет, то державы вооружатся, чтобы отмстить за него; если он будет жив и будет содержаться в тюрьме, то державы всё равно вооружатся, чтобы освободить его; и что, следовательно, результат будет одинаковым. Барер говорил, что было бы противно достоинству Конвента носить, так сказать, голову человека по иностранным дворам и торговаться о жизни или смерти приговоренного лица как о статье трактата. Он присовокупил, что это была бы жестокость даже относительно самого Людовика XVI, который томился бы в смертельном страхе при каждом движении армий. После этого собрание закрыло прения и решило, что каждый депутат подаст свой голос, говоря только да или нет. Двадцатого января в три часа утра поименная перекличка заканчивается и президент объявляет большинством в 380 голосов против 310, что казнь Луи Капета отсрочена не будет. В эту минуту приходит письмо от Керсена. Этот депутат подает в отставку. Он не в состоянии, пишет он собранию, долее нести позор заседания в одних стенах с кровожадными людьми, когда их мнение, поддерживаемое террором, перевешивает мнение людей порядочных, когда Марат перевешивает Петиона. Это письмо производит необычайное волнение. Жансонне просит слова и отмщает по этому случаю сентябристам за только что произнесенный смертный приговор. – Наказать преступления тирании, – говорит он, – еще ничего не значит, если не наказывались другие, более страшные преступления. Исполнена лишь половина задачи, если в то же время не наказать и сентябрьские злодеяния, если не снарядить следствия против их виновников. При этом предложении большинство собрания с восторгом поднимается. Марат и Тальен протестуют. – Если вы наказываете, – восклицают они, – виновников сентябрьских событий, то накажите также и заговорщиков, которые скрывались во дворце 10 августа! Собрание принимает все эти предложения и тут же приказывает министру юстиции начать преследование одновременно виновников безобразий, совершенных в первые дни сентября, лиц, найденных с оружием в руках во дворце в ночь на 10 августа, и должностных лиц, оставивших свои посты и возвратившихся в Париж, чтобы участвовать в заговорах двора.
Людовик XVI был приговорен окончательно. Не могло быть даже отсрочки, и все средства, придуманные с целью отодвинуть роковую минуту, были истощены. Все члены правой стороны – как тайные роялисты, так и республиканцы – равно пришли в ужас от этого жестокого приговора и влияния, вдруг полученного Горою. В Париже господствовало глубокое, ошеломляющее изумление; смелость нового правительства произвела на народ обычное действие силы – парализовала, заставила большинство замолчать и возбудила негодование только в некоторых, сильнейших душах. В городе еще находились несколько давнишних слуг Людовика XVI, несколько молодых вельмож, которые, как уверяют, собирались спешить на помощь своему государю и похитить его. Но свидеться, сговориться, при глубоком страхе одних и неусыпном надзоре других, было совершенно невозможно, и единственное, что можно было сделать, – это какие-нибудь индивидуальные отчаянные попытки. Якобинцы, будучи в полном восхищении от своей победы, сами, однако, ей удивлялись и советовали друг другу не зевать в эти последние сутки и посылать ко всем властям своих комиссаров – к коммуне, в Главный штаб Национальной гвардии, в департамент, в исполнительный совет, – чтобы поддержать их усердие и обеспечить исполнение приговора. Они твердили себе, что казнь состоится, не может не состояться; но именно из того, как старательно они это повторяли, видно было, что им всё еще не совсем в это верилось. Казнь короля в стране, бывшей еще за три года до того по нравам, обычаям и законам абсолютной монархией, поневоле казалась чем-то сомнительным и могла сделаться правдоподобной разве только после совершения ужасного факта. На исполнительном совете лежала тяжкая обязанность распорядиться исполнением приговора. Все министры собрались в зале заседаний, пораженные ужасом. На долю Тара в качестве министра юстиции выпала самая тяжелая из всех ролей – объявить Людовику XVI декреты Конвента. Он отправляется в Тампль в сопровождении Сантерра, депутации коммуны и уголовного суда и секретаря исполнительного совета. Людовик XVI уже четыре дня тщетно ждал своих защитников и просил, чтобы их к нему допустили. Двадцатого января в два часа пополудни он всё еще ждет их, как вдруг слышит шум в коридоре. Он идет к двери и видит перед собой представителей исполнительного совета. Людовик останавливается на пороге своей комнаты с достоинством и без видимого волнения. Тогда Тара печально объявляет, что ему поручено сообщить королю декреты Конвента. Грувель, секретарь исполнительного совета, зачитывает их. Первым декретом Людовик XVI объявляется виновным в покушении на общую безопасность государства, вторым приговаривается к смерти, третьим отвергается всякая апелляция к народу, наконец, четвертым приказывается исполнить приговор в течение суток. Король, обводя окружающих спокойным взором, берет бумагу из рук Грувеля, кладет ее в карман и читает министру письмо, в котором просит дать ему три дня, чтобы приготовиться к смерти, духовника, который поддержал бы его в последние минуты, разрешения повидаться с семьей и дозволения семье выехать из Франции. Тара берет письмо и обещает немедленно ехать с ним в Конвент. Король также дает ему адрес священника, которого желал бы получить в качестве духовника. Людовик XVI весьма спокойно возвращается к себе, требует обед и ест как всегда. Ножей не подали, хотя он их и потребовал. «Неужели меня считают таким трусом, – замечает он с достоинством, – что полагают, будто я могу покуситься на свою жизнь? Я невинен и умру без страха». Однако ему приходится обходиться без ножа. Отобедав, он переходит в комнату и хладнокровно ждет ответа на свое письмо. Конвент отказал в отсрочке, но на прочие просьбы согласился. Тара послал за священником по имени Эджуорт де Фирмой, посадил его в свою карету и сам отвез его в Тампль. Он приехал туда в шесть часов и явился в большую башню в сопровождении Сантерра. Известив короля, что Конвент разрешает ему пригласить священника своего вероисповедания и увидеться с семейством без свидетелей, но отвергает просьбу об отсрочке, он присовокупил, что господин Эджуорт уже тут, в зале совета, и сейчас будет введен. Затем Тара удалился, еще более изумленный и растроганный твердым спокойствием Людовика XVI. Когда ввели Эджуорта, он хотел броситься к ногам короля, но король поднял его, и они со слезами обнялись. Людовик с живым любопытством стал расспрашивать его о духовенстве, о некоторых епископах, а в особенности о парижском архиепископе, и просил заверить последнего, что умирает верный своему исповеданию. Когда пробило восемь часов, Людовик встал, попросил Эджуорта подождать его и вышел в волнении, сказав, что идет повидаться с семейством. Муниципальные чиновники, чтобы не терять короля из вида даже во время свидания с семейством, решили, что оно будет происходить в столовой, потому что комнату закрывала стеклянная дверь, через которую можно было видеть все движения, но нельзя было расслышать слов. Король вошел туда, велел на всякий случай поставить на стол воды для дам и стал тревожно ходить взад и вперед в ожидании тяжелой минуты последнего свидания со своими близкими. В половине девятого дверь отворилась: королева, держа дофина за руку, принцесса Елизавета и молодая принцесса, рыдая, бросились в его объятия. Дверь затворилась, муниципальные чиновники, Клери и Эджуорт стали перед ней и оказались свидетелями крайне трогательной сцены. В первую минуту кроме криков и стонов ничего нельзя было различить. Наконец слезы иссякли, разговор сделался спокойнее, королева и принцессы, не выпуская короля из своих объятий, заговорили с ним вполголоса. После довольно продолжительной беседы с промежутками унылого молчания Людовик встал, чтобы избавить всех от слишком тяжелой сцены, и пообещал послать за ними еще раз завтра утром в восемь часов. – Да точно ли вы обещаете? – настойчиво переспрашивали его. – Да, да, – отвечал он горестно. В эту минуту королева держала его за одну руку, сестра за другую, дочь обнимала, а маленький дофин стоял перед отцом, держа мать и тетку за руки. Не дойдя до двери, молодая принцесса упала без чувств. Ее унесли, и король возвратился к Эджуорту, измученный этой ужасной сценой. Впрочем, спустя некоторое время он совладал с собой, и к нему вернулось всё прежнее спокойствие. Эджуорт предложил королю отслужить обедню. Коммуна сначала думала возражать, но потом согласилась и послала в соседнюю церковь требовать нужную утварь. Король лег около полуночи, наказав Клери разбудить его ранее пяти часов. Эджуорт бросился на другую постель; Клери остался у кровати своего господина, дивясь мирному сну его перед казнью.
В Париже в это время происходили ужасные сцены. Местами бушевали несколько возмущенных приговором человек, но парижане в целом, равнодушные или устрашенные, хранили неподвижность и молчание. Один молодой лейб-гвардеец по имени Пари решил отмстить за смерть Людовика XVI одному из его судей. Маркиз Лепелетье де Сен-Фаржо, подобно многим представителям своего звания, подал голос за смерть короля с целью заставить забыть свое рождение и состояние. Он более других возбудил негодование роялистов именно тем, что принадлежал к высшему сословию. Двадцатого января вечером в одном из ресторанов Пале-Рояля кто-то указал на него Пари, когда маркиз садился за стол. Молодой человек, закутанный в большой плащ, подходит к нему и говорит: – Это ты, злодей Лепелетье, подал голос за смерть короля? – Да, – отвечает тот, – но я не злодей; я подал голос по совести. – На тебе, вот твоя награда, – тихо говорит Пари и вонзает ему в бок саблю. Лепелетье падает, а убийца исчезает так проворно, что его не успевают схватить. Весть об этом происшествии быстро облетела город; о нем толковали в Конвенте, у якобинцев, в коммуне; она как будто подтверждала слухи о заговоре роялистов, имевшем целью вырезать левую сторону и освободить короля у самого эшафота. Якобинцы объявили, что не закроют заседания, и послали новых комиссаров ко всем властям и секциям, чтобы поддержать их усердие и поставить под ружье все секции. Двадцать первого января, когда в Тампле бьет пять часов, король просыпается, зовет Клери и совершенно спокойно одевается, радуясь, что сон подкрепил его силы. Клери разводит огонь, переставляет комод и превращает его в алтарь. Эджуорт в облачении начинает при помощи Клери служить обедню, и король слушает ее на коленях, с глубокой набожностью. Причастившись Святых Тайн, он встает с обновленными силами и спокойно ждет минуты отъезда. Он требует ножницы, желая обстричь свои волосы и избавиться от позора выносить эту операцию от рук палача, но коммуна из недоверия отказывает. Между тем во всей столице били барабаны. Все лица, принадлежавшие к вооруженным секциям, собирались дружинами с полнейшей покорностью; те, кого ничто не обязывало играть роль в этот ужасный день, прятались по домам. Двери и окна были заперты, и каждый у себя ждал развязки печальной драмы. Ходили толки, что четыреста или пятьсот преданных людей должны броситься на карету и похитить короля. Конвент, коммуна, исполнительный совет, якобинцы – все заседали в полном составе. В восемь часов утра Сантерр с депутацией от коммуны, департаментского совета и уголовного суда явился в Тампль. Людовик XVI, услышав шум, встал и начал собираться. Он не хотел еще раз видеть семью, чтобы не возобновлять вчерашней сцены, потому лишь поручил Клери сказать за него последнее прости жене, сестре и детям и отдал ему печать, прядь волос и несколько вещиц с просьбою передать им, а верному слуге подал руку и поблагодарил за преданную службу. Затем Людовик обратился к одному из муниципалов с просьбой передать коммуне его духовное завещание. Этот чиновник, бывший священник Жак Ру, грубо ответил, что пришел сюда, чтобы вести его на казнь, а не исполнять поручения. Другой чиновник согласился это сделать, и тогда король с твердостью подал знак к отъезду. В карете жандармские офицеры поместились на переднем сиденье, а король и Эджуорт – на заднем. Во время довольно продолжительной дороги король читал по требнику молитвы за умирающих, и оба жандарма терялись при виде его покорности и спокойствия. Говорят, им было приказано убить его, если бы на карету последовало нападение. Никакой враждебной демонстрации, однако, не произошло от самого Тампля до площади Революции. За шпалерами из солдат стояла вооруженная толпа. Карета ехала среди общего молчания. На площади Революции вокруг эшафота оставили обширное открытое пространство; его окружали пушки. Кругом эшафота собрались самые экзальтированные из федератов и чернь, всегда готовая по чьему-либо знаку надругаться над гением, добродетелью или несчастьем: она одна выражала свое удовольствие, тогда как везде чувства хоронились глубоко в груди. В десять минут одиннадцатого карета останавливается, Людовик XVI с твердостью выходит из нее. Являются три палача; он их отталкивает и раздевается сам. Когда они хотят вязать ему руки, он не может удержать движения негодования и, кажется, готов защищаться. Эджуорт, каждое слово которого в этот день дышало возвышенным чувством, обращает на короля последний взор и говорит: – Претерпите и это поругание, как последнюю черту сходства с тем Богом, который вскоре станет вашей наградой. Тогда послушная жертва дает себя связать и отвести на эшафот. Вдруг Людовик делает шаг вперед, отделяется от палачей и начинает говорить с народом. – Французы! – произносит он сильным голосом. – Я умираю невиновный в преступлениях, взводимых на меня; я прощаю виновникам моей смерти и желаю, чтобы кровь моя не пала на Францию. Он хочет продолжать, но начинают бить барабаны и заглушают голос короля, палачи увлекают его вперед, и Эджуорт говорит напутственные слова: – Сын святого Людовика, всходи на Небеса! Едва брызнула кровь, как сбежавшаяся толпа бросилась обмакивать в нее свои пики и платки, а потом рассыпалась по Парижу, чтобы продемонстрировать зверскую, бессмысленную радость, которую народ неизменно обнаруживает при рождении, вступлении на престол или падении всякого государя.
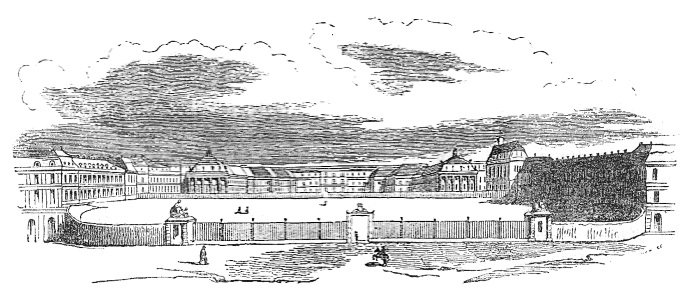
Глава XX
Положение партий после смерти Людовика XVI – Вторая коалиция против Франции – Смуты в Париже – Неудачи французских армий – Учреждение Революционного трибуналаУбиение злополучного Людовика XVI ввергло Францию в глубокий ужас, а в Европе вызвало смешанное чувство изумления и негодования. Как это предвидели наиболее проницательные революционеры, борьба завязалась бесповоротная и возможность всякого отступления была окончательно утрачена. Теперь приходилось сражаться против коалиции престолов и победить ее или погибнуть под ее ударами. Поэтому в Конвенте, у якобинцев, словом, везде говорилось, что надлежит заняться исключительно внешней обороной, и с этой минуты военные и финансовые вопросы стали первыми в очереди. Мы уже видели, как главные партии страшились друг друга. Якобинцам всё мерещился опасный остаток роялизма в сопротивлении, оказанном их противниками казни короля, и в ужасе, который внушали преступления, совершенные после 10 августа. Вследствие этого они до последней минуты сомневались в своей победе; но легкость, с которой 21 января совершилась казнь, наконец успокоила их. С этих пор якобинцы начали думать, что дело Революции может быть спасено, и готовить адресы для просвещения департаментов и окончательного обращения их на путь истины. Жирондисты, напротив, уже тронутые участью жертвы, притом испуганные победой своих противников, начинали видеть в событии 21 января начало кровавых зверств, воцарение неумолимой системы, против которой они ратовали столько времени. Положим, по их требованию повелели приступить к судебному преследованию сентябристов, но это была пустая уловка. Отступаясь от Людовика XVI, жирондисты хотели доказать, что они не роялисты; уступая им сентябристов, якобинцы, в свою очередь, стремились доказать, что они не потворствуют злодеяниям. Но это обоюдное доказательство никого не удовлетворило и не успокоило. Якобинцы продолжали видеть в жирондистах слабых республиканцев, почти роялистов, а жирондисты в своих противниках по-прежнему видели свирепых врагов, жаждавших крови и резни. Ролан, лишенный всякой бодрости – не опасностью, а явной невозможностью приносить пользу, – 23 января подал в отставку. Якобинцы возликовали, но тотчас же стали кричать, что в правительстве еще остаются изменники Клавьер и Лебрен, которых обошел интриган Бриссо; что зло искоренено не вполне; и не должно слабеть в рвении, а, напротив, удвоить его, пока не будут устранены из правительства интриганы, жирондисты, роландисты, бриссотисты и прочие. Жирондисты тотчас же стали требовать преобразования военного министерства, приведенного Пашем вследствие угодливости перед якобинцами в плачевнейшее состояние. После долгих споров Паш был отставлен. Таким образом, вожди, которые делили между собой правительство, одновременно выбыли из администрации. Большинство Конвента полагало, что этим сделано что-то для мира, как будто, устраняя имена, служившие враждебным страстям, можно было устранить эти самые страсти. Бернонвиля, прозванного французским Аяксом, пригласили занять место военного министра. Он пока был известен партиям только своей храбростью; но любовь к дисциплине должна была в самом непродолжительном времени поставить его перед необходимостью борьбы с беспутными якобинцами. По принятии этих мер Конвент поставил на очередь финансовые вопросы, самые важные в эти тяжелые минуты борьбы со всей Европой. В то же время постановили, чтобы никак не позже двух недель представил свой доклад конституционный комитет, а немедленно после следовало заняться просвещением народа. Множество людей, не понимавших причины революционных смут, воображали, что корень всех бед – недостаток законов и что конституция защитит от всех беспорядков. Поэтому большая часть жирондистов и все члены Равнины не переставали требовать конституции и жаловаться, говоря, что они присланы за тем, чтобы основать новую страну. Они в самом деле так думали; воображали, что созваны исключительно для этой цели и что задача эта может быть выполнена в несколько месяцев. Они еще не взяли в толк того, что созваны не утверждать новые порядки, а сражаться; что их грозная задача заключалась в том, чтобы защитить Францию от Европы и Вандеи; что вскоре из совещательного собрания они превратятся в кровавую диктатуру, которая в одно и то же время будет преследовать внутренних врагов, давать сражения Европе и возмущенным провинциям и защищаться с иступленными усилиями; что их законы, преходящие как всякий кризис, будут считаться лишь вспышками гнева, а их истинное дело, единственное, чему не суждено было погибнуть, – это защита, настоящая грозная задача, заданная им судьбою. Однако от изнеможения ли после долгой борьбы, или вследствие единогласия по военным вопросам, некоторое затишье последовало за волнением, произведенным процессом Людовика XVI, и Бриссо не раз еще был награжден аплодисментами за дипломатические доклады против враждебных держав.
Таким было внутреннее положение Франции и разделявших ее партий. Положение ее относительно Европы было ужасающим. Последовал полный разрыв со всеми державами. Доселе Франция имела еще только трех объявленных врагов: Пьемонт, Австрию и Пруссию. Революция, различно ценимая, более или менее ненавистная всем правительствам, произвела, однако, на общественное мнение совсем иное впечатление страшными событиями 10 августа, первых дней сентября и 21 января. С одной стороны, уменьшилось пренебрежение к ней, с другой – уменьшилось и уважение, после того как она запятнала себя злодеяниями. Итак, предстояла общая война. Австрия дала семейным соображениям вовлечь себя в маловыгодную войну; Пруссия, которой выгодно было бы соединиться с Францией против главы империи, по самым пустым причинам перешла Рейн; Екатерина II по политическим соображениям подстрекала против Франции не только эти две державы, но и Густава Шведского; Пьемонт напал на Францию вопреки своим интересам, из родственных чувств и ненависти к революции; мелкие итальянские дворы, ненавидя новую республику, не смели напасть на нее и даже признавали ее, когда появлялись ее корабли; Швейцария соблюдала полный нейтралитет; Голландия и германский сейм еще не выказывались, но не скрывали глубокого недоброжелательства; Испания хранила благоразумный нейтралитет; наконец, Англия предоставляла Франции самой терзать себя, континентальным державам – истощать свои силы, колониям – опустошаться, словом – выжидала часа мщения по итогам неизбежных беспорядков, сопряженных со всякой революцией. Новая революционная пылкость должна была расстроить все эти рассчитанные нейтралитеты. До сих пор Питт довольно верно просчитывал свои действия. В его отечестве полуреволюция, только частично обновившая общественный строй, оставила нетронутыми множество феодальных учреждений, которые должны были сделаться естественным предметом привязанности для аристократии и двора и протестов для оппозиции. Питт имел в виду двоякую цель: во-первых, умерить ненависть аристократии, сдержать дух реформы и таким образом удержать свое правительство; во-вторых, раздавить Францию под ее собственными бедствиями и ненавистью всех европейских правительств; словом, он хотел сделать свою родину властительницей мира, а сам – оставаться владыкой своей родины; к этой-то двоякой цели он стремился с эгоизмом и силой духа, свойственными великому государственному мужу. Нейтралитет приходился ему как нельзя более кстати. Препятствуя войне, Питт сдерживал слепую ненависть своего двора к свободе; позволяя развиваться всем излишествам Французской революции, он каждый раз давал кровавые ответы заступникам этой революции – ответы, ничего не доказывавшие, но производившие известный эффект. Знаменитому Фоксу, самому красноречивому оратору оппозиции и всей Англии, он отвечал, приводя в пример злодеяния преобразованной Франции. Борку, ярому декламатору, было поручено исчислять эти злодеяния, что он исполнял с большим усердием; однажды он даже дошел до того, что бросил с кафедры кинжал, изготовленный, по его словам, якобинскими пропагандистами. В то самое время, когда в Париже Питта обвиняли в подкупе возмутителей, он в Лондоне обвинял французских революционеров в трате денег на возбуждение беспорядков, а эмигранты повторяли эти слухи и тем еще больше распространяли их. Этой макиавеллиевой логикой Питт не только разочаровывал англичан во французской свободе, но и поднимал против Франции Европу, так как его агенты склоняли все державы к войне. В Швейцарии Питт не имел успеха, но в Гааге послушный штатгальтер, испытанный уже началом революции дома, не доверявший своему народу и не имея иной поддержки, кроме английского флота, всячески ему угождал и демонстрировал свое недоброжелательство к Франции. Особенно усердно Питт пускал в ход интриги в Испании, чтобы склонить эту державу к величайшей из когда-либо совершенных ею ошибок: объединиться с Англией против Франции, своей единственной морской союзницы. Испанцы мало смутились революцией во Франции, и если мадридский двор не был расположен к Французской республике, то это происходило не столько по политическим, сколько по родственным причинам. Мудрый граф Аранда, не поддаваясь ни интригам эмигрантов, ни досаде испанской аристократии, ни внушениям Питта, старался не задевать обидчивости нового французского правительства. Но когда он пал и в его должность вступил дон Мануэль Год ой, впоследствии князь Мира, его несчастное отечество осталось в самых дурных руках. До сих пор мадридский двор не высказывался относительно Франции; в минуту окончательного суда над Людовиком XVI он предложил политическое признание Республики и свое посредничество в переговорах со всеми державами, если развенчанный монарх не будет лишен жизни. Вместо ответа, как мы помним, Дантон предложил объявить Испании войну, и собрание перешло к очередным делам. С этой минуты в войне не оставалось сомнений. Каталония наполнялась войсками, во всех портах деятельно производились вооружения и готовилось скорое наступление. Стало быть, Питт торжествовал и, не высказываясь еще определенно, не компрометируя себя слишком поспешно, давал себе время довести флот до совершенства, радовал английскую аристократию своими приготовлениями, подрывал популярность революции декламациями ораторов, которым платил немалые деньги, и, наконец, готовил против Франции коалицию, которая потребовала бы всех ее сил и не дозволила бы ни помогать своим колониям, ни останавливать успех английского могущества в Индии. Никогда, ни в какое время Европа не впадала в такое ослепление и не совершала стольких ошибок во вред себе самой. На западе Испания, Голландия, все морские державы, увлеченные аристократическими страстями, объединились со своим врагом, Германией, против Франции, своей единственной союзницы. Пруссия, из непостижимого тщеславия, также выступила против Франции, союзом с которой Фридрих Великий так дорожил. Король небольшого Сардинского королевства впал в ту же ошибку, впрочем, по более понятной причине – родственному чувству. Итак, державы забыли давнишнюю и полезную дружбу и следовали корыстнейшим внушениям, чтобы вооружиться против несчастной страны. Всё этому как будто потворствовало. Безрассудные французские эмигранты разъезжали по Европе и торопили этот пагубный переворот здравой политики, накликая на свое отечество ужаснейшую бурю. Конечно, Франция ударилась в крайности, но борьба должна была вовлечь ее в еще большие бедствия, и Европа готовила ей тридцать лет убийственных войн, обширных нашествий, неизмеримых беспорядков и должна была кончить утверждением могущества двух колоссов, ныне тяготеющих над Европой в обеих стихиях, – Англии и России. Среди этого общего заговора одна Дания, управляемая умным министром, да Швеция, избавленная от тщеславных замыслов Густава, соблюдали благоразумную сдержанность, и их примеру должны были бы последовать Голландия и Испания, примкнув к системе вооруженного нейтралитета. Французское правительство составило весьма верное суждение об этом общем настроении, и отличавшее его в эту минуту нетерпение не дозволяло ему выжидать объявлений войны, а, напротив, побуждало вызывать эти объявления самому. С 10 августа кабинет не переставал требовать, чтобы его признали, но еще несколько сдерживался в отношении Англии, потому что ее нейтралитет был драгоценен при таком большом числе врагов. Но после 21 января, отстранив всякие иные соображения, Франция решилась на европейскую войну, рассудив, что скрытые неприятельские действия нисколько не менее опасны, чем открытые, и поспешила заставить своих врагов высказаться. Не далее как 22 января Национальный конвент сделал обзор всех кабинетов держав, приказал составить отчеты об отношении каждого из них к Франции и приготовился объявить им войну, если бы они помедлили с категорическими объяснениями. После 10 августа Англия отозвала своего посланника из Парижа и терпела в Лондоне французского посланника де Шовелена лишь в качестве уполномоченного низвергнутой королевской власти. Все эти дипломатические тонкости не имели иной цели, как только соблюсти приличия относительно томящегося в заключении короля и промедлить с началом неприятельских действий. Однако Питт притворно потребовал, чтобы ему прислали секретного уполномоченного для изложения ему поводов к недовольству французским правительством. В декабре в Англию был послан гражданин Мааре, который имел с Питтом частное свидание. После обоюдных заверений в том, что это свидание не имеет признаков официального, Питт стал жаловаться, что Франция угрожает союзникам Англии, и привел в пример Голландию. Особенное неудовольствие выразил он в связи с открытием Шельды – меры, может статься, неосторожной, но великодушной, которую французы приняли при вступлении в Нидерланды. Действительно, нелепо было, что Нидерланды не могли пользоваться протекавшей через собственную страну рекой. Австрия не смела отменить это распоряжение французов, а Дюмурье поступил так согласно приказу своего правительства, и жители Антверпена с радостью увидели суда, восходившие по Шельде до их города. Ответить на такое обвинение было легко: Франция, при всем уважении к правам нейтральных соседей, никогда не обязывалась соглашаться на политические беззакония только потому, что они приносили этим соседям выгоду. К тому же голландское правительство выказывало столько недоброжелательства, что не было надобности слишком с ним церемониться. Вторая жалоба касалась декрета 15 ноября, которым Национальный конвент обещал помощь всем народам, пожелавшим стряхнуть с себя иго тирании. Этот декрет, пожалуй, неосторожный, изданный в минуту энтузиазма, однако еще не значил, как толковал его Питт, что все народы приглашаются к восстанию; речь шла только о том, что во всех странах, воюющих с революцией, народам против их правительств будет подана помощь. Наконец, Питт жаловался на беспрестанные угрозы и разглагольствования якобинцев касательно всех правительств, но в этом отношении правительства нисколько не отставали от якобинцев и никто ни у кого не оставался в долгу. Это свидание ни к чему не привело и только показало, что Англия старается оттянуть войну, которую ей еще неудобно объявить. Между тем знаменитый январский процесс ускорил ход событий: английский парламент созвали внезапно, ранее обычного срока. Вышел притеснительный закон против французов, путешествовавших по Англии. Лондонский Тауэр был вооружен, приказали набрать милицию; все эти приготовления и прокламации возвещали о близости войны. Были приняты меры для возбуждения черни и той слепой страсти, вследствие которой война против Франции всегда становится в Англии великой национальной заслугой. Наконец, корабли с хлебом, отправлявшиеся во французские порты, были задержаны, а когда пришло известие о катастрофе 21 января, французский посланник, которого до тех пор явно не признавали, получил рекомендацию выехать из страны в восьмидневный срок. Национальный конвент тотчас же велел составить отчет о действиях английского парламента относительно Франции и его сношениях с голландским штатгальтером, а 1 февраля, выслушав Бриссо, которому на этот раз рукоплескали обе партии, торжественно объявил войну Голландии и Англии. Таким образом, Франция очутилась в состоянии вражды со всей Европой. Следовало выдержать страшный напор стольких объединившихся держав, и при всем богатстве Франции населением и ресурсами трудно было предположить, чтобы она могла устоять против направленного на нее со всех сторон натиска. Однако вожди ее были исполнены отваги и веры. Неожиданная удача в Аргонском лесу и в Бельгии убедила их, что каждый человек может сделаться солдатом в полгода. Сверх того, брожение, происходившее во всей Франции, заставляло полагать, что всё население можно перенести на поля битвы, то есть можно собрать до трех или четырех миллионов людей, быстро сделать из них солдат и далеко оставить за собой всё, что могли бы совершить все европейские государи, вместе взятые. «Взгляните на все прочие государства, – говорили министры, – там небольшое число людей, с трудом набирают в армии, население не вовлечено, и маленькая горсть солдат, распределенных по полкам, решает участь обширнейших держав. Предположите теперь, что целая нация оторвется от частной жизни и вооружится для своей защиты, – не должна ли такая рать уничтожить все обычные расчеты? Есть ли что-нибудь невозможное для исполинской силы в двадцать пять миллионов человек?» Что касается расходов, этот вопрос тоже не смущал Францию. Капитал государственных имуществ каждый день увеличивался благодаря эмиграции и значительно превышал долг. В эту минуту капитал этот не имел цены по отсутствию покупателей, но его заменяли ассигнации, и их условная ценность равнялась будущей ценности представляемых ими имуществ. По курсу они падали до одной трети своей цены, но капитал был так громаден, что эта выпущенная добавочная треть не спасала положения. К тому же общественный строй в его нынешнем виде заключал в себе богатства более чем достаточные для удовлетворения всех потребностей; надо было только лучше распределить эти богатства, а для этого следовало наложить особые подати на богачей, чтобы главную тяжесть войны они несли на себе. Наконец, те государства, на которые предстояло напасть, обладавшие старинным общественным строем и злоупотреблениями, подлежавшими уничтожению, должны были платить Франции за получаемую от нее помощь. Так рассуждал одаренный пылким воображением Камбон, и эти идеи увлекали многих. Прежняя кабинетная политика рассчитывала на сто, двести тысяч солдат, на жалованье которым шли какие-нибудь налоги или доходы с каких-нибудь уделов, а тут целый народ сам вставал и говорил: «Я составлю армии»; народ обозревал общие богатства и говорил затем: «Этой суммы довольно; разделенной между нами, ее хватит на всех». Конечно, не вся нация соглашалась в этом, а наиболее экзальтированная часть ее, которая, впрочем, собиралась всеми средствами заставить народ принять эти общие решения.
Прежде чем изложить план о распределении средств, придуманное французскими революционерами, мы должны перенестись на границы и посмотреть, чем кончилась последняя кампания. Начало ее было блистательно, но первый успех, плохо поддержанный, послужил только к тому, чтобы не в меру растянуть операционную линию и вызвать со стороны неприятеля более могучее и решительное усилие. Так как вследствие растяжения на большом пространстве защищаться становилось труднее, тосо стороны побитого неприятеля начала развиваться реакция, и его удвоенные усилия совпали с почти всеобщим расстройством французских армий. К этому нужно еще присовокупить, что число неприятелей почти удвоилось, так как нападениями грозили англичане с моря, испанцы с Пиренеев, а голландцы с севера. Дюмурье остановился на берегах Мааса и не мог пробиться к Рейну по причинам, недостаточно оцененным впоследствии, потому что медлительность, последовавшая за быстротою его первых операций, казалась загадочной. По прибытии в Люттих его армия пришла в окончательное расстройство. Солдаты ходили почти без одежды; за неимением обуви они обматывали ноги сеном; некоторый достаток имелся только в хлебе и мясе благодаря контракту, который Дюмурье самовластно удержал в силе. Но денег не оставалось, так что французы грабили поселян или дрались с ними, чтобы принудить их принимать ассигнации. Лошади околевали с голода, потому что не хватало фуража; артиллерийские погибли почти все. Война опротивела солдатам, и добровольцы уходили целыми группами, ссылаясь на декрет, объявлявший, что отечество более не в опасности. Потребовался другой декрет Конвента, чтобы остановить дезертирство, и как ни был он строг, жандармы, расставленные по дорогам, едва успевали хватать беглецов. Армия уменьшилась на треть. Все эти причины мешали преследовать австрийцев с нужной живостью. Клерфэ успел укрепиться на берегах Эрфта, Больё около Люксембурга, а Дюмурье со своей уменьшившейся армией не мог гнать перед собою неприятеля, укрепившегося в горах и лесах и опиравшегося на Люксембург, одну из сильнейших крепостей в мире. Если бы Кюстин, вместо того чтобы тешиться набегами на Германию, отошел назад на Кобленц, соединился с Бернонвилем, чтобы взять Трир, а потом оба спустились бы по Рейну, то Дюмурье пришел бы туда же через Кельн. Тогда все трое обступили бы Люксембург, и крепость пала бы от недостатка связей с внешним миром. Но из всего этого не было сделано ничего. Кюстин, желая перетянуть центр войны на свою сторону, только бесполезно вызвал объявление войны со стороны германского сейма, раздражил тщеславие прусского короля и еще более утвердил его в союзе против Франции. Бернонвиль одними своими силами не мог сладить с Триром, и неприятель удержался и в Трирском курфюршестве, и в Люксембургском герцогстве. Если бы Дюмурье при таком положении дел пошел к Рейну, то открыл бы свой левый фланг и тыл, к тому же он не мог в этот момент начать наступление на громадное пространство от Мааса до Рейна и голландской границы – пространство неудобопроходимое, лишенное средств транспорта, пересекаемое лесами и горами и занимаемое весьма сильным неприятелем. Конечно, генерал, если бы имел к тому возможность, предпочел бы совершать завоевания на Рейне, чем скакать в Париж и ходатайствовать за Людовика XVI. Его склонность к монархизму, которой он рисовался в Лондоне, чтобы возбудить к себе участие, и которую в Париже якобинцы приписывали ему, чтобы погубить, не была настолько сильной, чтобы заставить отказаться от побед и ехать в Париж компрометировать себя. Он оставил театр войны, потому что ему там нечего было делать и потому что хотел своим присутствием близ правительства покончить с интригами, возбужденными против него в Бельгии. Мы уже видели, в какое затруднительное положение его ставило сделанное завоевание. Завоеванная страна желала революции, но не такой полной и радикальной, как французская. Дюмурье по собственной склонности, из политических и военных соображений должен был стать в занимаемых им странах на сторону умеренных взглядов. Мы уже видели выше, в какую он вступил борьбу, чтобы избавить бельгийцев от неприятностей войны, дать воспользоваться выгодами комиссариатских подрядов, наконец, чтобы скорее незаметно, чем насильно ввести у них ассигнации. За все эти заботы его единственной наградой стала брань якобинцев. Камбон приготовил ему еще одну неприятность, проведя декрет 15 декабря. «Мы должны объявлять себя революционной державой в странах, в которые вступаем, – заявил Камбон среди живейшего восторга слушателей. – Скрываться нам бесполезно; деспоты знают, чего мы хотим, и нужно громогласно провозглашать то, о чем и без того догадываются, тем более что справедливость на нашей стороне. Надо, чтобы наши полководцы везде, где они появляются, провозглашали верховную власть народа, уничтожение феодальных порядков и всех злоупотреблений; чтобы распускались все прежние власти и временно создавались новые местные администрации под надзором наших генералов; чтобы эти администрации управляли страной и приискивали средства для составления национальных конвентов; чтобы имущества наших врагов, то есть дворян, священников, гражданских общин и церквей, были секвестрованы и отданы на хранение французской нации, чтобы служить залогом уплаты военных расходов, часть которых должны будут нести освобожденные страны, так как война эта имеет целью их освобождение. По окончании кампании следует подвести итог. Нужно, чтобы наши ассигнации, основанные на новом распределении имуществ, принимались в завоеванных странах и круг их расширялся вместе с принципами, которые породили их; нужно, наконец, чтобы исполнительная власть послала комиссаров договориться с этими временными администрациями, побрататься с ними, вести счета Республики и начать надлежащий по декретам секвестр. Не надо полуреволюций! Всякий народ, который не будет согласен с тем, что мы здесь предлагаем, станет нашим врагом и будет заслуживать соответствующего обращения. Мира и братства желаем всем друзьям свободы, войны – подлым приверженцам деспотизма. Мир хижинам, война дворцам!» Эти предложения были немедленно утверждены декретом и приведены в исполнение на всех завоеванных землях. В Бельгию тотчас же отправили якобинцев, выбранных исполнительной властью. Временные администрации составлялись под их влиянием, и они же толкали к самой крайней демагогии. Простой народ, подстрекаемый ими против среднего сословия, производил ужаснейшие беспорядки. Это была та же анархия 1793 года, только во Франции она вводилась постепенно, четырьмя годами смут, а там разразилась вдруг, без малейшего перехода от старых порядков к новым. Проконсулы, облеченные властью почти неограниченной, сажали в тюрьмы, конфисковали имущества, крайне огорчали несчастных бельгийцев, весьма привязанных к своему вероисповеданию, отнятием у церквей драгоценной утвари, а главное – подали повод к значительным хищениям. Созвали нечто похожее на конвенты, долженствовавшие решить судьбу каждой области, и под их деспотическим влиянием присоединение к Франции стало результатом подачи голосов в Люттихе, Брюсселе, Монсе и других городах. Это было зло неизбежное и тем большее, что революционное насилие соединялось тут с военной грубостью. Еще и другого рода раздоры вспыхнули в этой несчастной стране. Представители исполнительной власти имели претензию подчинить себе генералов, находившихся в назначенной им области, и если только эти генералы были не якобинцы, как случалось часто, то это становилось новым поводом к ссорам, которые приводили к еще большему беспорядку. Дюмурье, пришедший в негодование при виде опасности, которой подвергались завоеванные им земли, расстройства армии, ненависти, которая поневоле внушалась бельгийцам, жестко обошелся с некоторыми из этих проконсулов и приехал в Париж, где выказал свое неудовольствие с живостью, свойственной его характеру, и высокомерием победоносного полководца.
Таково было положение дел на главном театре войны. Кюстин, отброшенный к Майнцу, возмущался тем, что Бернонвиль совершил свою экспедицию на Трир, а Келлерман держится в Альпах, Шамбери и Ницце. Серван тщетно старался набрать армию под Пиренеями, а Монж, столь же малодушный относительно якобинцев, как и Паш, позволил им вконец расстроить морское ведомство. Следовательно, требовалось привлечь всё внимание общества к защите границ. Дюмурье провел конец декабря и весь январь в Париже и компрометировал себя несколькими словами, сказанными в пользу Людовика XVI, отсутствием в Клубе якобинцев, наконец, тесной дружбой с Жансонне. Он подал четыре записки: о декрете 16 декабря, об организации армии, о поставках и о плане кампании в наступавшем году. В конце каждой записки он просил позволить ему отставку, если не будет исполнено то, что он предложил. Кроме дипломатического и военного комитетов Конвент учредил еще третий, чрезвычайный комитет общественного спасения; на него возлагались занятия всем, что касалось обороны Франции. Этот комитет был очень многочислен, и всем членам Конвента дозволялось по желанию присутствовать на его заседаниях. При составлении комитета имелось в виду примирить членов противных партий и успокоить их насчет взаимных намерений, заставляя вместе трудиться для общего блага. Робеспьер, которого раздражало присутствие жирондистов, редко там появлялся; жирондисты, напротив, посещали комитет очень усердно. Дюмурье приходил туда со своими планами, но не всегда бывал понят, не нравился своей надменностью, в конце концов предоставил записки на волю судеб и уехал в пригород Парижа, не особенно расположенный выходить в отставку, хоть и грозил этим Конвенту. Он потерял всякую популярность у якобинцев; листки Марата каждый день клеветали на него из-за того, что он поддерживал события в Бельгии и очень строго поступал с демагогами. Его обвиняли в том, что он якобы добровольно дал австрийцам уйти из Бельгии; заходили даже далее и публично утверждали, что он нарочно пустил Фридриха-Вильгельма в Аргонский лес, тогда как мог его уничтожить. Однако члены совета и комитетов, менее слепо поддававшиеся демагогическим страстям, сознавали, как Дюмурье полезен, и еще щадили его. Даже Робеспьер защищал его, сваливая вины на его мнимых друзей-жирондистов. Итак, с общего согласия генералу было предоставлено всё, что можно было предоставить, не уклоняясь от изданных уже декретов и строгих принципов революции. Ему возвратили двух его комиссариатских чиновников Малю и Птижана, обещали большие подкрепления, достаточные запасы провианта, одобрили его мысли об общем плане кампании, но не сделали ни малейшей уступки относительно декрета 13 декабря и новой администрации. Назначение его друга Бернонвиля военным министром стало большим выигрышем для Дюмурье и дало возможность надеяться на усердие со стороны правительства по части снабжения его всем нужным. Одно время Дюмурье думал, что Англия выберет его посредником между собой и Францией, и уехал в Антверпен в этой лестной надежде. Но Конвент, наскучив коварством Питта, объявил Голландии и Англии войну, и это событие застало Дюмурье уже в Антверпене. Вот что было решено, отчасти согласно с его планом защиты: довести армии до 502 тысяч человек, и всякий скажет, что это было немного; вдоль Пиренеев и берегов выдерживать наблюдательное положение и всю отвагу наступления выказать на севере, где, по словам Дюмурье, «можно было защищаться лишь одними битвами». Чтобы выполнить этот план, 150 тысяч солдат должны были занять Бельгию и прикрыть границу от Дюнкерка до Мааса; 50 тысячам следовало стеречь пространство между Маасом и Сааром; 150 тысяч должны были растянуться вдоль Рейна и Вогезов, от Майнца до Безансона. Наконец, в Шалоне был приготовлен резерв с необходимым материалом для того, чтобы отправиться всюду, куда потребовалось бы. Для охранения Савойи и Ниццы назначались две армии в 70 тысяч человек каждая, для Пиренеев – армия в 40 тысяч; на берегах океана и Бретани ставилась армия в 46 тысяч, часть из которой должна была в случае надобности сесть на суда. В эти 502 тысячи включались также 50 тысяч кавалерии и 20 тысяч артиллерии. Но всё это еще только предполагалось; в действительности же имелось гораздо меньше войск: не более 270 тысяч, из них 100 тысяч – по разным частям Бельгии, 25 – на Мозеле, 45 – в Майнце под начальством Кюстина, 30 тысяч – на Верхнем Рейне, 40 – в Савойе и Ницце и еще не более 30 тысяч – в самой Франции. Но чтобы укомплектовать все эти войска, Конвент постановил декретом, что будет произведен набор в Национальной гвардии; каждый холостой гвардеец от восемнадцати до сорока пяти, или женатый, но бездетный, или вдовый и бездетный, окажется в распоряжении исполнительной власти. В декрете от 24 февраля присовокуплялось, что нужны еще 300 тысяч человек, чтобы можно было устоять против коалиции, и что набор остановится, лишь достигнув этой цифры. В то же время Конвент повелел выпустить еще на восемь миллионов ассигнаций и приступить к рубке леса на Корсике для морского строительства. Впредь до выполнения всех этих решений кампания была открыта с 270 тысячами войска. Дюмурье имел около 30 тысяч на Шельде и около 70 тысяч на Маасе. Смелый план быстрого нашествия на Голландию тогда бродил во всех головах, и Дюмурье невольно увлекся общим мнением. Было предложено много планов. Один, придуманный выходцами из Голландии, покинувшими свое отечество после революции, заключался в том, чтобы напасть на Зеландию с несколькими тысячами человек и завладеть правительством, которое хотело туда удалиться. Дюмурье притворился, будто намерен следовать этому плану, но находил его бесплодным, потому что он ограничивал кампанию занятием незначительной и притом маловажной части Голландии. Второй план был придуман им самим и состоял в том, чтобы спуститься вдоль Мааса через Венло до Граве, оттуда свернуть на Нимвеген и затем нагрянуть в Амстердам. Этот план был бы самым верным, если бы можно было предвидеть будущее. Но в Антверпене Дюмурье сочинил еще третий план, более смелый, более быстрый, более подходивший к его революционному складу ума, более результативный, если бы только удался. Пока его подчиненные – Миранда, Валенс, Дампьер и другие – будут спускаться по Маасу и занимать Маастрихт, что было упущено в предыдущем году, и Венло, едва ли могущий долго сопротивляться, Дюмурье думал взять с собой 25 тысяч человек и тихонько пробраться между Берген-оп-Зомом и Бредой, дойти таким образом до Моердика и пройти между устьями рек до Лейдена и Амстердама. Этот смелый план был не менее основателен, чем другие, увенчавшиеся успехом, и если и был рискован, то все-таки представлял гораздо большие выгоды, чем план прямого нападения на Венло и Нимвеген. Принимая это последнее решение, Дюмурье нападал на голландцев с фронта – а они уже сделали все свои приготовления между Граве и Горкумом – и даже давал им время подкрепить свои силы англичанами и пруссаками. Отправляясь же устьем рек, он проникал внутрь Голландии, где не было обороны, и если превозмочь препятствие, создаваемые водой, – то Голландия оказалась бы в его руках. Возвращаясь из Амстердама, Дюмурье напал бы на оборонительную линию сзади и опрокинул между собой и своими соратниками, которые должны были присоединиться к нему, пройдя через Нимвеген и Утрехт. Дюмурье, естественно, должен был принять начальство над экспедиционной армией, потому что там требовалось больше всего проворства, отваги и ловкости. Этот план, как и все наступательные планы, был опасен тем, что отчасти открывал французские позиции, которые сами могли подвергнуться нападению. Так, позиция на Маасе оставалась открытой австрийцам; но в случае взаимного наступления преимущество остается за той стороной, которая лучше выстаивает опасность и дольше не поддается испугу. Дюмурье послал на Маас Тувено, которому вполне доверял; Валенсу и Миранде он сообщил свои намерения, которые до тех пор скрывал от них; наказал им поспешить с осадами Маастрихта и Венло и, в случае замедления, сменить друг друга перед этими крепостями, так чтобы постоянно подвигаться к Нимвегену. Дюмурье еще велел им назначить места встречи в окрестностях Люттиха и Аахена, чтобы собирать рассеянные отряды и иметь возможность сопротивляться неприятелю, если бы он явился со значительными силами мешать этим осадам.
Дюмурье тотчас выступил из Антверпена, наскоро собрав 18 тысяч человек. Он разделил свое маленькое войско на несколько отрядов, которым было приказано вынуждать различные крепости сдаваться, не останавливаясь для осады. Авангард его должен был спешить отобрать лодки и средства транспорта, пока он с более значительным отрядом держался бы наготове, чтобы подать помощь, кому понадобится. Семнадцатого февраля 1793 года Дюмурье вступил на территорию Голландии и издал прокламацию, в которой обещал батавам дружбу, а штатгальтеру и английскому влиянию – войну. Он быстро двинулся вперед, оставив генерала Леклерка перед Берген-оп-Зомом, отрядив Бернерона к Клундерту и Виллемстаду и поручив превосходному инженеру д’Арсону совершить притворное нападение на крепость Бреду. Сам генерал с арьергардом оставался в Севенбергене. Двадцать пятого генерал Бернерон завладел фортом Клундерт и двинулся к Виллемстаду. Д’Арсон выстрелил по крепости Бреда несколькими бомбами. Эта крепость считалась очень сильной; гарнизон в ней был немаленький, но под дурным начальством, и через несколько часов сдался осаждавшей армии, которая была немногим сильнее него. Французы вступили в Бреду 27 февраля и нашли там значительные военные запасы: 250 орудий, 300 000 фунтов пороха и 5000 ружей. Оставив в Бреде гарнизон, д’Арсон 1 марта появился перед Гертруденбергом, тоже весьма сильной крепостью, и в тот же день овладел всеми передовыми сооружениями. Дюмурье, тем временем, дойдя до Моердика, исправлял последствия медлительности своего авангарда. Этот ряд счастливых случаев, взятие стольких крепостей, способных к сопротивлению, придавали большой блеск началу кампании; но непредвиденные препятствия замедляли переправу через морской рукав, самую трудную операцию из всего плана. Дюмурье сначала надеялся, что его авангард будет действовать быстрее, захватит несколько лодок, быстро переправится через Бисбос, займет остров Дордрехт, на котором было не более нескольких сотен человек, и, завладев многочисленной флотилией, приведет ее назад для транспорта армии. Неизбежные промедления помешали исполнению этой части плана. Дюмурье старался справиться с препятствиями, захватив возможно большее число лодок и собрав множество плотников, чтобы построить флотилию. Между тем надо было спешить, потому что голландская армия собиралась в Горкуме и на Дордрехте; несколько неприятельских шлюпок и один английский фрегат угрожали новыми препятствиями и обстреливали лагерь, который французские солдаты называли лагерем бобров. Они настроили себе соломенных шалашей и, ободренные присутствием главнокомандующего, терпели стужу, лишения, опасности, не пугаясь сомнительного исхода столь смелого предприятия и с нетерпением ожидая минуты переправы. Третьего марта подошел с новой дивизией генерал де Флер, 4-го Гертруденберг открыл свои ворота, и всё было готово к переправе через Бисбос.
Между тем продолжалась борьба между партиями в Париже. Убийство Лепелетье уже подало повод представителям Горы кричать, что их безопасность под угрозой, и нельзя было отказать в требовании возобновить в собрании работу наблюдательного комитета. Этот комитет составился из одних депутатов Горы, первым действием которых было арестовать Горса, депутата и журналиста, приверженца Жиронды. Якобинцы одержали еще одну победу: они добились приостановки преследования сентябристов. Едва только началось судебное преследование, как открылись улики против главнейших революционеров и самого Дантона. Тогда якобинцы восстали, начали утверждать, что в этих днях виновны все, потому что все считали их нужными и терпели их; они даже осмелились говорить, что единственное, в чем можно упрекнуть эти дни, это их недовершенность, и потребовали приостановки судебной процедуры, используемой, по их словам, для преследования самых незапятнанных революционеров. Согласно требованию якобинцев преследование было приостановлено, то есть вовсе отменено, и к министру юстиции тотчас же явилась депутация требовать, чтобы он отправил экстренных курьеров с приказанием остановить преследование, уже начатое против их «братьев». Как известно, Пашу пришлось оставить правительство, а Ролан подал в отставку добровольно, но эта обоюдная уступка не уняла ненависти партий. Якобинцы не были удовлетворены и требовали, чтобы Ролана предали суду. Они говорили, что он похитил у государства громадные суммы и поместил в Лондоне более трех миллионов; что эти богатства использовались им для развращения общественного мнения своими сочинениями и возбуждения бунтов посредством закупки хлеба. Они требовали следствия и против Клавьера, Лебрена и Бернонвиля, изменников и соучастников жирондистских интриг. В то же время якобинцы готовили вознаграждение своему смененному услужливому любимцу. Шамбон, преемник Петиона в должности мэра, сложил с себя непосильные обязанности. Якобинцы тотчас же подумали о Паше, находя, что он обладает рассудительным и невозмутимым характером, подобающим сановнику. Мысль эта им понравилась, они сообщили о ней коммуне, секциям и всем клубам, и увлеченные парижане вознаградили Паша за немилость Конвента, избрав его своим мэром. В случае, если Паш окажется таким же послушным в мэрии, каким он был в военном министерстве, владычество якобинцев в Париже будет обеспечено. Трудности в снабжении столицы продовольствием и запутанное состояние торговли продолжали возбуждать жалобы и беспорядки, и к февралю дела пошли еще хуже. Административные старания общин до известной степени, конечно, заменяли торговлю, и в товарах на рынках не было недостатка, только цены достигали неслыханных высот. Так как ассигнации падали в цене по мере того, как увеличивалось их количество, то всё больше их требовалось для приобретения чего-либо – и цены становились непомерными. Народ, получая за труд свой всё ту же номинальную цену, не мог более покупать необходимых предметов и рассыпался жалобами и угрозами. Не один только хлеб последовательно поднялся в цене: цены на сахар, кофе, свечи, мыло удвоились. Прачки подали в Конвент жалобу, что платят теперь тридцать су за фунт мыла, тогда как прежде платили только четырнадцать. Тщетно народу говорили, чтобы он повысил и свою заработную плату и восстановил таким образом соразмерность между своим заработком и потреблением: люди не умели сговориться об этом и только громче выступали против богачей, скупщиков, торговой аристократии. Народ требовал самого простейшего средства: принудительной таксы и максимума. Якобинцы, члены коммуны, которые в отношении к Конвенту были народом, а в отношении к самому народу – почти просвещенным собранием, осознавали неудобства таксы. Хоть они и склонялись к ней больше Конвента, но все-таки не соглашались до конца, и в Клубе якобинцев оба Робеспьера, Дюбуа-Крансе, Тюрио и другие представители Горы каждый день восставали против максимума. Шометт и Эбер делали то же в коммуне, но трибуны роптали и нередко отвечали им злобными криками. Часто депутации от секций являлись в коммуну упрекать ее за умеренность и потворство скупщикам. В секционных собраниях как раз и сходились агитаторы самого низкого разряда, в их среде господствовал революционный фанатизм, еще более невежественный и яростный, нежели в коммуне и у якобинцев. Секции в соединении с кордельерами, клуб которых посещали люди решительные и требовавшие дела, производили все столичные смуты. Их низменность и безвестность, делая их более доступными агитации всякого рода, делали их также целью противоположных происков, и тут-то остатки аристократии еще осмеливались показываться и пробовать сопротивляться. Прежние приближенные дворян, бывшие слуги эмигрантов, праздные буяны, которые, будучи поставленными между двумя лагерями, предпочли сторону аристократов, захаживали в некоторые секции, где буржуазия упорно держалась на стороне жирондистов, и прятались за эту благоразумную оппозицию, чтобы действовать против Горы и в пользу иноземного нашествия и прежних порядков. В этой борьбе буржуазия чаще всего удалялась; тогда оставались оба разряда крайних агитаторов, которые сражались с необыкновенным неистовством. Из-за петиций, которые предлагалось подавать то коммуне, то якобинцам, то Конвенту, каждый день происходили ужаснейшие сцены. Смотря по исходу борьбы, из этих бурь возникали адресы против сентябристов и максимума или против аристократов и скупщиков. Коммуна отвергала разжигающие петиции секций и советовала последним остерегаться тайных агитаторов, старавшихся провоцировать беспорядки. Она исполняла относительно секций именно ту роль, которую Конвент исполнял относительно ее самой. Якобинцы, не имея, подобно ей, определенных должностей, но занимаясь рассуждениями обо всех предметах, имели большие претензии философского характера и льстили себя уверенностью, что понимают социально-экономические вопросы лучше секций и кордельеров. Поэтому они с аффектацией показывали, что не разделяют пошлых страстей собраний низшего разряда, и порицали таксу как опасную для свободы торговли меру. Но, чтобы заменить отвергаемое средство, якобинцы предлагали принудительный курс ассигнаций и смертную казнь для каждого, кто не стал бы принимать их по номинальной стоимости, как будто это не то же насилие над свободой торговли. Еще они хотели, чтобы потребители обязались более не употреблять ни сахара, ни кофе, – и тогда понизится цена этих товаров. Наконец, они придумали остановить выпуск ассигнаций, а вместо того установить принудительные займы с богатых, соразмеряя цифру по числу слуг, лошадей и так далее. Все эти предложения не мешали злу увеличиваться, и кризис становился неизбежен. А пока он еще не наступил окончательно, продолжались взаимные попреки и обвинения. Приближался конец февраля, и трудности, с которыми доставались жизненные припасы, довели раздражение народа до последней степени. Женщины, по-видимому, наиболее чувствительные к такого рода страданиям, были в страшном волнении. Двадцать второго февраля они явились к якобинцам просить, чтобы им позволили воспользоваться залою, так как они желают совещаться о дороговизне и подготовить петицию к Национальному конвенту. Зная, что целью этой петиции будет предложение максимума, якобинцы отказали. Тогда трибуны закричали на них, как иногда кричали на Конвент: «Долой скупщиков! Долой богачей!» Президент вынужден был надеть шляпу, чтобы усмирить этот гвалт, в объяснение которого якобинцы впоследствии распустили слух, что в зале заседаний присутствовали переодетые аристократы. Робеспьер и Дюбуа-Крансе снова восстали против таксы и советовали народу вести себя смирно, чтобы не давать своим противникам повода к клевете и изданию убийственных законов. Марат, который хвастался тем, что всегда придумывает наиболее простые и быстрые средства, писал в своей газете утром 25-го числа, что скоплению хлеба никогда не настанет конец, если не будут использованы средства, вернее всех предложенных доселе. Восставая против монополистов, торговцев роскошью, орудий интриг, бывших дворян, поддерживаемых недобросовестными представителями народа в преступлениях и безнаказанности, он присовокуплял: «Во всякой стране, где права народа были бы не пустыми словами, напыщенно внесенными в декларацию, разграбление нескольких лавок, перед дверьми которых были бы повешены скупщики хлеба, живо прекратило бы все эти беззакония, которые приводят пять миллионов человек в отчаяние и тысячи губят нуждою. Неужели депутаты народа всегда будут только болтать о его бедствиях, никогда не предлагая против них средств?» Надменный сумасброд написал эти слова 25 марта. В самом ли деле они подействовали на народ, или раздражение уже дошло до той степени, когда ничто не в силах его сдерживать, только множество женщин столпилось одновременно перед несколькими лавками. Сначала они жаловались на дороговизну и шумно требовали понижения цен. Коммуна ничего не знала, главнокомандующий Сантерр уехал в Версаль организовывать отряд кавалерии, и не было отдано никаких приказаний о том, чтобы двинуть вооруженную полицию. Поэтому возмутители не встречали препятствий и легко могли перейти от ругани и угроз к грабежу. Столпотворение началось на улицах Вьей-Монне, Сенк-Диаман и Ломбардцев. Сначала требовали, чтобы цены были понижены наполовину: чтобы мыло продавалось по шестнадцати су за фунт, сахар – по двадцати пяти, сахарный песок – по пятнадцати, а сальные свечи – по тринадцати. Большое количество товаров насильно разобрали по этим ценам, но скоро платить перестали и начали таскать товары, не давая взамен их даже части стоимости. Солдаты, поспешившие на место беспорядков, были разогнаны, и отовсюду раздались крики «Долой штыки!». В Конвенте, в коммуне, у якобинцев в это же время шли заседания. Конвент слушал доклад: министр внутренних дел доказывал, что припасов в Париже более чем достаточно и всё зло происходит от несоразмерности между стоимостью денег и товаров. Собрание велело предоставить коммуне особые суммы, чтобы можно было отдавать припасы по более низким ценам. В это же время коммуна, движимая теми же чувствами, слушала доклад о текущих происшествиях и принимала полицейские меры. При каждом новом факте, о котором приносили известие, трибуны кричали «Тем лучше!», а при каждом предлагаемом средстве – «Долой!». На Шометта и Эбера шикали за то, что они советовали бить в набат и требовать вооруженную охрану. Однако всё же решили послать два сильных патруля под начальством двух муниципальных чиновников для восстановления порядка, а двадцать семь других муниципальных чиновников отправили по секциям оглашать прокламации. Беспорядок между тем распространился, на улицах происходили грабежи, уже предлагалось перейти от мелких лавочников к крупным. Депутаты Горы были в отчаянии и уверяли, что всё это устроили переодетые аристократы и роландисты, которые, мешаясь в группы, подстрекали народ к грабежу. Они уверяли, что сами видели в толпе женщин высшего звания, напудренных мужчин, слуг бывших вельмож, которые раздавали ассигнации, увлекая народ в лавки. Наконец, спустя несколько часов, собралась вооруженная сила; Сантерр вернулся из Версаля, были отданы нужные приказания; батальон из Бреста, находившийся в то время в Париже, выказал большое усердие, и грабителей удалось разогнать. Вечером у якобинцев происходили оживленные споры. Якобинцы сожалели о беспорядках, несмотря на крики трибун. Колло д’Эрбуа, Тюрио, Робеспьер единодушно советовали успокоиться и сваливали все излишества на роялистов и жирондистов. Робеспьер по этому поводу пустился в длинные рассуждения о том, что народ сам по себе непогрешим и не может ошибаться, и что если бы его не вводили в заблуждение, то он никогда не делал бы ничего дурного. Робеспьер уверял, что в группах грабителей жалели покойного короля и хвалили правую сторону Конвента; что он слышал это сам, и, следовательно, не может быть сомнений насчет истинных подстрекателей, завлекших народ. Сам Марат явился и советовал соблюдать порядок, порицая грабежи, которые тем же утром проповедовал в своей газете, и обвиняя в них жирондистов и роялистов.
На следующий день в собрании начались жалобы – вечно одни и те же и вечно бесполезные. Барер с силой восстал против вчерашних беспорядков. Он обратил внимание депутатов на медлительность, с которой власти приступили к усмирению беспорядков, и потребовал, чтобы мэр и главнокомандующий были приглашены для объяснений по этому поводу. Это требование поддержала депутация от секции Бон-Консей. Затем начинает говорить Салль; он требует обвинительного акта против истинного подстрекателя Марата и читает статью, напечатанную накануне в его газете. Много раз уже требовали обвинения возмутителей, в особенности Марата; не могло быть более удобного случая к преследованию, так как никогда еще беспорядок не следовал так скоро за вызовом. Марат, нимало не смущаясь, доказывает с кафедры, что совершенно естественно, когда народ сам расправляется со скупщиками хлеба, так как законы недостаточно эффективны, и что следует отправить в сумасшедший дом тех, кто предлагает обвинить его, Марата. Бюзо предлагает перейти к очередным делам. «Закон точен, – говорит он, – но господин Марат будет придираться к выражениям, присяжные придут в замешательство, а не следует готовить господину Марату торжество перед лицом самого правосудия». Один депутат требует, чтобы Конвент заявил республике, как вчера утром Марат советовал грабить, а вечером народ уже грабил. Множество предложений следуют одно за другим; наконец Конвент останавливается на предложении сдать всех зачинщиков беспорядков обыкновенным судам. «Что ж! – восклицает Марат. – Издайте обвинительный акт против меня самого: пусть Конвент докажет, что он потерял всякий стыд!» При этих словах поднимается шум, и Конвент в ту же минуту отсылает к обыкновенным судам Марата и всех зачинщиков противозаконных действий, совершенных 25 февраля. Предложение Барера услышано. Сантерра и Паша требуют к ответу. Принимаются меры против предполагаемых шпионов, иностранцев и эмиграции. В ту минуту уверенность в иностранном влиянии была всеобщей. Накануне велели провести новые домовые обыски во всей Франции с целью арестовать эмигрантов и подозрительных путешественников. В этот же день было возобновлено постановление, обязывавшее иметь при себе паспорт и всем хозяевам квартир и содержателям гостиниц велено было заявлять о своих жильцах; наконец, отдали приказ устроить новую перепись всех граждан, принадлежавших к различным секциям. Наконец-то против Марата должно было состояться обвинение, и на следующий день он написал в своей газете следующие строки: «С негодованием наблюдая за вечными махинациями врагов общего дела; возмущенный коалицией скупщиков всех родов, объединившихся с целью довести народ до отчаяния нуждою и голодом; скорбя о том, что меры, принимаемые Конвентом для прекращения этих заговоров, не достигают цели; измученный стонами несчастных, которые каждое утро приходят ко мне просить хлеба; я берусь за перо, чтобы обсудить наилучшие средства положить конец заговорам врагов общества и страданиям народа. Простейшие мысли первыми являются нормальному уму, который желает общего блага, нисколько не помышляя о себе; и я спрашиваю, почему бы нам не обратить против злодеев те средства, которые они употребляют, чтобы губить народ и свободу. Я всего лишь упоминаю, что в стране, где права народа были бы не пустыми словами, напыщенно внесенными в декларацию, разграбление нескольких лавок, перед дверьми которых повесили бы скупщиков, живо прекратило бы все эти беззакония. Что же делают коноводы фракций?! Они жадно хватаются за эту фразу, потом спешат послать эмиссаров в толпу женщин, собравшихся перед булочными, с целью подговорить их брать силой, по своей цене, мыло, свечи, сахар, между тем как сами они грабят лавки бедных торговцев-патриотов. Потом эти злодеи весь день молчат, а ночью сговариваются во время сходки, созванной в квартире любовницы контрреволюционера Валазе, и на другой день обличают меня с кафедры как зачинщика излишеств, первые виновники которых – они сами!» Споры становились с каждым днем всё ожесточеннее. Уже появились открытые угрозы; многие депутаты ходили не иначе как с оружием, и начинали поговаривать, так же свободно, как в июне и июле предыдущего года, что надо спасать себя путем восстания и устранить зараженную часть национального представительства. Жирондисты по вечерам собирались у одного из своих, у Валазе, и спорили о том, что делать. Одни верили в близкую опасность, другие не верили. Некоторые, как, например, Луве и Салль, выдумывали несуществующие заговоры и, призывая внимание на химеры, отвлекали его от настоящей опасности. Блуждая от плана к плану, не располагая никакими силами в Париже, рассчитывая только на мнение департаментов – силу, правда, громадную, но бездеятельную, – они каждый день могли пасть под внезапным нападением. Жирондистам так и не удалось составить вооруженную силу; отряды федератов, добровольно пришедшие в Париж после созыва Конвента, частично перешли на сторону их противников, а частично отправились в армии, так что жирондисты могли рассчитывать только на Брестский батальон, твердость которого остановила грабежи. За неимением департаментской гвардии они пробовали, но тщетно, отнять у коммуны право распоряжаться вооруженными силами и передать его министерству внутренних дел. Взбешенная Гора запугала большинство и не дала ему утвердить этой меры. Насчитывалось уже только восемьдесят депутатов, недоступных страху и твердых в прениях. В этом положении жирондистам оставалось одно только средство, столь же неудобоисполнимое, как и все прочие: распустить Конвент. И тут опять неистовство Горы помешало им овладеть большинством. В этом состоянии недоумения, проистекавшем не из слабохарактерности, а из бессилия, они полагались на конституцию. Из потребности на что-нибудь надеяться они тешили себя мыслью, что сила закона должна обуздать все страсти и положить конец всем бурям. Теоретические умы особенно охотно отдыхали на этой мысли. Кондорсе прочел доклад от имени конституционного комитета и произвел общее смятение. Якобинцы в своем клубе осыпали проклятиями его, Петиона и Сийеса, называя их республику аристократической, нарочно сочиненной для нескольких гордых и деспотических талантов. Представители Горы не хотели, чтобы этим предметом занимались дальше, и многие члены Конвента, уже предчувствуя, что задачей их будет не приводить в порядок, а защищать Революцию, смело говорили, что составление конституции нужно отложить до будущего года, а теперь думать только о том, как управлять и сражаться. Итак, долгое царствование этого бурного собрания начинало обрисовываться; депутаты уже переставали верить в краткость своей законодательной миссии, и у жирондистов отнималась последняя надежда сковать партии законами в скором времени. Противники их, впрочем, находились в неменьшем затруднении. На их стороне, конечно, были разнузданные страсти, якобинцы, большинство секций, коммуна, но не было министерств и департаментов, где обе партии боролись с необыкновенным ожесточением и их сторона явно оставалась в накладе. Наконец, они боялись иностранцев, и хотя по непреложному закону всех революций победа должна была остаться на стороне сильных страстей, но эти законы не были им известны, следовательно, не могли их успокоить. Планы их были так же неопределенны, как планы жирондистов. Прямо напасть на национальное представительство было бы актом чрезмерно смелым, и якобинцы еще не свыклись с этой мыслью. Имелось, правда, человек тридцать агитаторов, которые были готовы на всё и предлагали в секциях самые отчаянные вещи, но якобинцы, коммуна, Гора не одобряли их, потому что, ежедневно обвиняемые в заговорах и ежедневно оправдываясь от этих обвинений, они чувствовали, что подобные предложения слишком компрометировали их в глазах противников и департаментов. Дантон, мало участвовавший в ссорах партий, думал только об одном: как бы предохранить себя от преследований за революционные деяния и не дать революции отступить назад и пасть под неприятельскими ударами. Сам Марат, столь легкомысленный и беспощадный, когда речь шла о средствах, сейчас колебался. Робеспьер, при всей своей ненависти к Ролану, Бриссо, Гюаде и Верньо, не смел думать о нападении на национальное представительство; он не знал, на чем остановиться, сокрушался, сомневался в спасении революции и говорил Тара, что замышляется чуть ли не погибель всех защитников Республики. Марсельские якобинцы, в борьбе с местными приверженцами жирондистов, предложили исключить из Конвента всех членов, советовавших обратиться к народу для окончательного решения участи короля. Это предложение, сообщенное парижским якобинцам, сделалось предметом прений. Дефье доказывал, что его поддерживает достаточное число провинциальных обществ, чтобы можно было облечь его в форму петиции и представить Конвенту. Робеспьер, опасаясь, чтобы это не повлекло за собой обновления всего состава собрания и Гора не была побита в избирательной борьбе, восстал и наконец одолел это предложение доводами, обыкновенно приводимыми против планов роспуска каких-либо собраний и палат.
Военные неудачи еще ускоряли ход событий. Мы оставили Дюмурье в лагере на берегу Бисбоса, готовящим рискованную, но реальную высадку в Голландии. Пока он занимался приготовлениями к своей экспедиции, 260 тысяч человек шли против Франции, с Верхнего Рейна до Голландии. От Базеля до Майнца и Кобленца Рейну угрожали 56 тысяч пруссаков, 24 тысячи австрийцев и 25 тысяч гессенцев, саксонцев и баварцев. От Кобленца до Мааса 30 тысяч человек занимали Люксембург. На французские позиции при Маасе шли 60 тысяч австрийцев и 10 тысяч пруссаков с целью прервать осады Маастрихта и Венло. Наконец, 40 тысяч англичан, ганноверцев и голландцев, отставших от других, выдвигались против французской операционной линии из самой Голландии. План неприятеля состоял в том, чтобы вернуть французскую армию из Голландии на Шельду, заставить ее перейти Маас и остановиться на этой реке в ожидании занятия вновь майнцской крепости. Союзники намеревались идти потихоньку, двигаться ровно на всех пунктах в одно время, ни на один не напирая слишком живо, чтобы не открывать своих флангов. Этот план, робкий и методичный, не помешал бы французской армии дальше и деятельнее вести наступление на Голландию, если бы ошибки или несчастные случайности, а может и преждевременный страх, не заставили ее отказаться от своего предприятия. Принц Кобургский, отличившийся в последней кампании против турок, командовал теми австрийцами, которые шли на Маас. Беспорядок господствовал на французских квартирах, разбросанных между Маастрихтом, Аахеном, Люттихом и Тонгереном. В первые дни марша принц Кобургский перешел реку Рур и двинулся к Аахену. Французские войска, пойманные врасплох, в беспорядке отступили и даже дали неприятелю занять ворота Аахена. Мячинский держался некоторое время, но после довольно кровопролитного боя на улицах был вынужден отступить к Люттиху. В эту минуту Штенгель и Нейи, разделенные этим движением, были отброшены в сторону Лимбурга. Миранда, который осаждал Маастрихт и легко мог быть отрезан от главного корпуса армии, ушедшего в Люттих, оставил весь левый берег и отступил на Тонгерен. Австрийцы тотчас же вступили в Маастрихт, и эрцгерцог Карл, смело преследуя французов за Маас, двинулся до Тонгерена и одержал там легкую победу. Тогда Валенс, Дампьер и Мячинский, соединившись в Люттихе, рассудили, что надо спешить на помощь к Миранде и пошли на Синт-Трёйден,где Миранда, со своей стороны, уже сдавался. Отступление было таким торопливым, что большая часть запасов пропала. Однако французам всё же удалось сойтись в Синт-Трёйдене. Ламарльер и Шаморен, стоявшие в Рурмонде, успели прийти через Дитц на тот же пункт. Штенгель и Нейи, отрезанные от армии и отброшенные к Лимбургу, примкнули в Намюре к дивизии генерала д’Арвиля. Наконец, собравшись в Тирлемоне, французские войска, несколько оправившись, опомнились и стали ждать Дюмурье. Сам же генерал, едва узнав об этом первом поражении, приказал Миранде собрать свои войска под Маастрихтом и спокойно продолжать осаду с 70 тысячами солдат. Он был убежден, что австрийцы не решатся дать генеральное сражение и вторжение в Голландию быстро заставит союзников вернуться назад. Это мнение было правильным и основывалось на той вполне верной мысли, что, в случае обоюдных наступательных действий, победа остается за стороной, которая умеет дольше выжидать. Робкий план союзников, которые не хотели пробиваться ни на одном пункте, вполне оправдывал это воззрение, но беспечность генералов, сосредоточившихся не так быстро, как следовало, их смущение после атаки, неспособность собрать свои силы в присутствии неприятеля и в особенности отсутствие человека, превосходившего других властью и влиянием, делали невозможным исполнение приказа Дюмурье. Посыпались письма, отзывавшие его из Голландии. Паника сделалась общей. Более 10 тысяч дезертиров уже ушли из армии и разбрелись по провинциям. Комиссары Конвента бросились в Париж и уговорили власти приказать Дюмурье предоставить экспедицию против Голландии другому генералу, а самому вернуться и как можно скорее снова стать во главе большой армии на Маасе. Он получил это приказание 8 марта и уехал 9-го, глубоко огорченный неудачей своих планов. Возвратился Дюмурье еще более прежнего расположенным критиковать революционную систему, введенную в Бельгии, и обвинять якобинцев в неуспехе кампании. Он и в самом деле застал довольно поводов к жалобам и порицаниям. Представители исполнительной власти в Бельгии распоряжались деспотически и устраивали всевозможные притеснения. Они всюду восстановили против себя чернь и в особенности позволяли себе насильственные действия в собраниях, где решался вопрос о присоединении к Франции. Они завладели церковной утварью, секвестровали доходы духовенства, конфисковали имения дворянства, словом, возбудили живейшее негодование во всех сословиях бельгийской нации. В окрестностях Граммона против французов уже началось восстание. Чтобы склонить Дюмурье к строгости относительно комиссаров правительства, таких крупных фактов и не требовалось. Он начал с того, что арестовал двух из них и препроводил под конвоем в Париж. С остальными он объяснился крайне высокомерно, приказал не выходить из границ должности, запретил вмешиваться в военные распоряжения генералов и отдавать приказания войскам, находившимся во власти этих генералов. Затем Дюмурье уволил генерала Мортона, который принял сторону комиссаров, закрыл клубы, возвратил бельгийцам часть церковной утвари и издал прокламацию, в которой от имени Франции отрекался от уже совершенных притеснений. Он именовал разбойниками виновников этих притеснений и вообще установил диктатуру, которая, хоть и привязала к нему Бельгию и сделала пребывание французской армии в этой стране более безопасным, но в высшей степени возбудила гнев якобинцев. Дюмурье имел с Камю очень оживленный спор, презрительно отозвался о правительстве и вообще, забывая об участи Лафайета и слишком рассчитывая на свою военную славу, вел себя как полководец, уверенный, что может, если только захочет, повернуть революцию вспять. Тот же дух сообщился и его главному штабу: офицеры с пренебрежением говорили о черни, управлявшей Парижем, и о глупых конвентистах, позволявших ей управлять собой; они удаляли и притесняли всякого, заподозренного в склонности к якобинцам, а солдаты, осчастливленные присутствием своего любимого начальника, нарочно останавливали при комиссарах Конвента его лошадь и целовали сапоги, называя Дюмурье своим отцом. Эта известия вызвали в Париже сильный переполох и новые крики против изменников и контрреволюционеров. Депутат Шудье немедленно воспользовался случаем, чтобы опять потребовать высылки федератов из Парижа. При каждом неприятном известии из армий это требование повторялось. Барбару хотел выступить по этому поводу, но самое его присутствие возбудило небывалый шум и бурю. Бюзо тщетно напоминал о твердости Брестского батальона во время недавнего грабежа; один только Буайе-Фонфред добился некоторого согласия, и наконец было решено, что федераты приморских департаментов отправятся для подкрепления еще слишком слабой прибережной армии, а остальным позволят остаться в Париже. На следующий день, 8 марта, Конвент приказал всем офицерам немедленно отправляться в свои полки. Дантон предложил еще раз дать парижанам случай спасти Францию. «Потребуйте у них тридцать тысяч человек, – сказал он, – пошлите их Дюмурье, и Бельгия нам обеспечена, а Голландия взята». Действительно, нетрудно было найти в Париже тридцать тысяч человек, и для Северной армии они стали бы большим подспорьем и придали бы столице новую значимость. Кроме того, Дантон предложил послать от лица Конвента комиссаров в департаменты и секции, чтобы всеми возможными способами ускорить набор. Все эти предложения были приняты. Секции получили предписание собраться в течение вечера; были назначены требуемые комиссары; все театры и общественные заведения закрыли, а на ратуше подняли в знак печали черный флаг. Вечером состоялось собрание; комиссаров отлично приняли в секциях. Воображение тогда было возбуждено у всех, так что предложение немедленно отправиться в армию везде встречали с восторгом. Но тут повторилось то, что случилось 2 и 3 сентября: требование наказать изменников. На это счет уже давно сложилась готовая фраза: «Мы не желаем оставлять за своей спиной заговорщиков, готовых перерезать наши семейства». Следовательно, во избежание новых народных казней нужно было организовать казни легальные, которые быстро и безапелляционно поразили бы контрреволюционеров и тайных заговорщиков, угрожавших революции, уже угрожаемой извне. Нужно было подвесить меч над головами генералов, министров, депутатов, изменявших общему делу и компрометировавших его. Сверх того, было бы несправедливо, чтобы богатые эгоисты, которые не любили новых порядков, основанных на равенстве, и, будучи равнодушны к тому, повиноваться Конвенту или Брауншвейгу, никогда не являлись для пополнения войска, оставались в стороне от общего дела и ничем ему не служили. Поэтому решили, что каждый, кто имеет более полутора тысяч франков ежегодного дохода, будет платить подать, соразмерную его средствам и достаточную, чтобы вознаградить людей, отдававших самих себя. Почти во всех секциях выразили это двоякое желание: об учреждении нового суда против враждебной партии и наложения податей на богатых в пользу бедных, собиравшихся сражаться. Многие секции лично явились в коммуну выразить эти желания; якобинцы высказали его со своей стороны, и на другой день Конвент уже имел дело с мнением всеобщим и неодолимым. В этот день, 9 марта, все депутаты Горы были на своих местах. Якобинцы наполнили трибуну, прогнав оттуда женщин, потому что, говорили они, женщины опять устроят представление. Многие пришли с пистолетами. Депутат Гамой хотел было пожаловаться на это, но его не стали слушать. Гора и трибуны, твердо решившись, стращали большинство, очевидно, не желая терпеть ни малейшего сопротивления. Мэр появляется с советом коммуны, подтверждает доклад комиссаров Конвента о готовности секций, но объявляет об их желании касательно учреждения революционного суда и новой подати. Множество секций следуют за коммуной с теми же требованиями. Некоторые присовокупляют еще требование закона против скупщиков хлеба, максимума и отмены декрета, в котором металлические деньги именовались товаром и дозволялось принимать их в оборот по цене, отличной от цены бумажных денег. Выслушав все эти петиции, настоятельно требуют голосования по предложенным мерам и прежде всего по учреждению революционного суда. Несколько депутатов восстают против этого. Ланжюине требует, чтобы, если уж непременно следует утвердить такое беззаконие, хотя бы ограничили это бедствие одним парижским департаментом. Гюаде и Валазе тщетно стараются поддержать товарища: их грубо перебивает Тара. Несколько депутатов даже требуют, чтобы суд назвали революционным. Но Конвент, не допуская продолжительных прений, декретом постановляет учреждение чрезвычайного уголовного суда над заговорщиками и контрреволюционерами, без перерешения кассационным судом, и поручает своему законодательному комитету завтра же представить ему об этом проект. Тотчас вслед за этим декретом издали другой, облагающий богатых огромной податью на военные расходы; и третий, снаряжающий сорок одну комиссию, каждую из двух депутатов, для отправления их в департаменты с целью поторопить там набор, отобрать оружие у оставшихся, арестовать подозрительных личностей, словом – воспользоваться диктатурой. К этим мерам прибавляют и другие. Стипендии в учебных заведениях будут впредь выдаваться только сыновьям людей, которые уйдут служить; все холостые чиновники должны быть заменены отцами семейств; личное задержание за долги отменят; право делать духовные завещания было уже отменено за несколько дней до того. Все эти меры приняли по предложению Дантона, который вполне владел искусством соединять с делом революции разные интересы. Якобинцы, довольные этим днем, поспешили к себе в клуб порисоваться усердием и ловкостью, с которой составили публику трибун, и с удовольствием описать, какой величественный вид являли плотные ряды Горы. Они подбадривали друг друга, желая продолжать начатое, и обязались присутствовать на завтрашнем заседании, на котором должны были организовать чрезвычайный суд. Однако они еще не были вполне довольны тем, чего достигли: один из них предложил сочинить петицию, в которой следовало потребовать немедленного обновления состава комитетов и правительства, ареста чиновников и должностных лиц в самую минуту их отставки, а также всех почтмейстеров и контрреволюционных журналистов. Якобинцы хотели сейчас же составить эту петицию, но президент заметил, что невозможно требовать всего сразу; тогда, под тем предлогом, что надо искать иное помещение и там собраться как простым просителям, клуб рассыпался по Парижу. Волнение царило необычайное. Около сотни человек, обычные зачинщики беспорядков под командованием некоего Лазовского явились к журналисту Горса с пистолетами и саблями и разбили его печатные станки. Горса бежал и спасся лишь благодаря большому мужеству и присутствию духа. Они устроили то же самое и у издателя «Хроники»[63]. Следующий день грозил оказаться еще более бурным. Было воскресенье. На центральном хлебном рынке готовился обед для новобранцев, отправлявшихся в армию: праздность народа в соединении с возбужденным настроением из-за торжества могли привести к неприятностям. Зала Конвента был набита битком, как и накануне; ряды трибун и Горы были также плотны и грозны. Прения открылись разными мелкими вопросами. Речь заходит о письме к Дюмурье. Робеспьер поддерживает его предложения и требует, чтобы суду были преданы Штенгель и Лану, командовавшие арьергардом во время недавнего поражения. Обвинение издается тотчас же. Затем требуют отправить депутатов-комиссаров для набора. Но так как их голоса необходимы для учреждения чрезвычайного суда, решено организовать этот суд сегодня же, а комиссаров отправить завтра. Камбасерес требует заодно и преобразования правительства. Бюзо бросается на кафедру, но громкий ропот не дает ему говорить. – Этот ропот, – восклицает он, – говорит мне то, что я уже знал: что требуется мужество, чтобы противиться деспотизму, который тут готовится! Шум усиливается. Бюзо продолжает: – Я отдаю вам мою жизнь, но хочу спасти память мою от бесчестья, протестуя против деспотизма Национального конвента. В ваших руках хотят совместить все власти. – Надо действовать, а не болтать! – раздается голос. – Вы правы, – отвечает Бюзо. – Публицисты монархии тоже говорили, что надо действовать и что, следовательно, деспотический образ правления – самый лучший… Опять шум, смятение, наконец решено отложить преобразование министерств и заняться лишь новым судом. Требуют доклада комитета. Доклад не готов, тогда требуют хотя бы проекта. Робер Ленде зачитывает его, заявив, что скорбит о его строгости. Тоном, выражающим самую глубокую печаль, он предлагает следующее: суд будет состоять из девяти независимых судей, назначенных Конвентом, разделенных на два постоянно заседающих отделения, преследующих по требованию Конвента или прямо от себя тех, кто на местах, занимаемых ими при старых порядках, напоминают о прерогативах монархии. По прочтении этого ужасного проекта левая сторона разражается аплодисментами, правая приходит в сильное волнение. – Лучше умереть, – восклицает Верньо, – чем согласиться на учреждение этой венецианской инквизиции! – Народу, – возражает Амар, – требуется либо эта спасительная мера, либо восстание. – Моя склонность к революционной власти известна, – заявляет Камбон, – но если народ ошибся в выборах, то ведь и мы можем ошибиться в избрании этих девяти судей, и тогда это были бы невыносимые тираны, которых мы сами поставили бы над собою! – Этот суд, – восклицает Дюгем, – еще слишком хорош для злодеев и контрреволюционеров! Шум разрастается всё больше, время проходит в угрозах, ругани, криках. Барер требует присяжных и энергично доказывает необходимость в таковых. Тюрро предлагает взять присяжных из одного Парижа; Буайе-Фонфред – по всей республике, потому что новый суд будет разбирать преступления, совершаемые в департаментах, в армиях, везде. День проходит, ночь уже близка. Президент Жансонне вкратце повторяет все сделанные предложения и готовится открыть голосование. Измученные депутаты едва держатся на ногах от усталости. Члены Равнины начинают уходить, и Гора, чтобы еще больше запугать их, требует, чтобы голосование происходило открыто. – Да! – говорят с негодованием. – Открыто! Пусть весь мир узнает людей, которые хотят резать невинных под сенью закона! Эти слова несколько оживляет правую сторону и центр, и, паче всякого чаяния, большинство решает: присяжные будут, они будут браться поровну изо всех департаментов и будут назначаться Конвентом.
По принятии этих трех положений Жансонне считает нужным дать собранию час отдыха. Депутаты встают, собираясь уходить. Вдруг раздается голос Дантона: «Я требую, чтобы все истинные граждане остались на своих местах!» При звуках этого грозного голоса все садятся. «Как! – продолжает Дантон. – В ту минуту, когда Миранда, может быть, побит, а Дюмурье, захваченный с тыла, вынужден сложить оружие, вы можете помыслить о том, чтобы оставить свой пост?! Нужно окончательно принять чрезвычайные законы, которые устрашат наших внутренних врагов. Как бы ни были законы ужасны, они всё еще будут лучше народных казней, которые ныне, как и в сентябре, стали бы последствием промедлений правосудия. Вслед за судом надо обеспечить энергичную исполнительную власть, которая состояла бы в непосредственных сношениях с вами и могла пустить в дело все ваши средства – деньгами и людьми. Итак, сегодня – чрезвычайный суд, завтра – исполнительная власть, а послезавтра – отъезд ваших комиссаров в департаменты. Пусть на меня клевещут, если хотят, пусть память моя погибнет, но Республика будет спасена!» Несмотря на эти увещания, необходимый отдых все-таки предоставили и депутаты разошлись. Было около семи часов вечера. Праздность воскресного дня, недавний обед, вопрос, обсуждаемый в собрании, – всё способствовало усилению народного волнения. Заранее заговора никто не организовывал, как полагали жирондисты, но общее настроение умов должно было привести к скандалу. У якобинцев шло заседание; Бентаболь прибежал туда отдать отчет о заседании Конвента и пожаловаться на патриотов, которые в этот день не выказали такой энергии, как накануне. Генеральный совет коммуны тоже заседал. В секциях, после того как ушли мирные граждане, бесновалось несколько сумасбродов и принимались подстрекательные резолюции. В секции Четырех Наций восемнадцать бешеных решили, что департамент Сены должен немедленно воспользоваться своей верховной властью и парижской избирательной коллегии следует сейчас же сойтись и вырвать из Конвента вероломных депутатов, участвовавших в заговорах с врагами революции. То же самое постановил и Клуб кордельеров, и в эту самую минуту депутация от секции и клуба отправлялась в коммуну сообщить ей об этом. Толпа буянов бежала к заставам, чтобы распорядиться закрытием их. Улицы оглашались воплями бесновавшейся толпы; новобранцы, обедавшие в Хлебном рынке, под влиянием ярости и вина, с пистолетами и саблями шли к зданию якобинцев, распевая ужаснейшие песни. Они пришли туда в то самое время, когда Бентаболь оканчивал свой отчет о заседании Конвента, попросили разрешения пройтись по зале и исполнили марш под гром рукоплесканий. Один из них начинает говорить: – Граждане! В ту минуту, когда отечество в опасности, победители 10 августа встают, чтобы истребить внутренних и внешних врагов! – Да, – отвечает на это Колло д’Эрбуа, президент собрания, – назло интриганам мы с вами спасем свободу! Тогда Дефье говорит, что Миранда – изменник, создание Петиона; что Бриссо побудил Конвент к объявлению войны Англии, чтобы погубить Францию. Есть одно только средство к спасению, присовокупляет он: избавиться от всех этих изменников, посадить их под домашний арест и созвать народ для избрания других депутатов. Какой-то человек, одетый в военную форму, выходит из толпы и доказывает, что ареста мало, что нужно мщение. – Что такое неприкосновенность? – говорит он. – Я ее попираю ногами… Тут является Дюбуа-Крансе и протестует против этих предложений, чем вызывает ужаснейший гвалт. Предлагают разделиться на две колонны, одна из которых пойдет за кордельерами, а другая – в Конвент, с тем чтобы там пройти по зале и объявить собранию, что от него требуется. Происходит минутное колебание, но трибуны наводняют залу, тушат свечи, агитаторы стоят на своем, и толпа разделяется на две колонны. В эту минуту жена Луве, слышавшая из своей квартиры на улице Сент-Оноре, близ Клуба якобинцев, весь этот шум и крик, пришла туда посмотреть, что происходит, и попала как раз на финальную сцену. Она поспешила к Луве, чтобы рассказать ему, а он со многими членами правой стороны только что вышел из Конвента из-за слухов, что их хотят убить. Луве, вооруженный, как и все тогда, воспользовался ночной темнотой, побежал от двери к двери известить друзей об опасности и назначил потаенное место, где можно укрыться от убийц. Большинство друзей он застал у Петиона, где они спокойно обсуждали предстоящие декреты. Луве постарался сообщить им свои опасения, но ему не удалось смутить бесстрастного Петиона, который, посмотрев на небо и увидев, что идет дождь, холодно сказал: «В эту ночь ничего не будет». Однако место встречи всё же назначили, и один из собрания, Кервелеган, спешит в казарму Брестского батальона, чтобы поставить его на ноги. Тем временем министры, собравшиеся у Лебрена, не имея в своем распоряжении военной силы, не знали, какое придумать средство, чтобы защитить Конвент и самих себя, так как и им грозила опасность. Собрание с трепетом ждало страшной развязки и при каждом шуме, каждом крике думало, что врываются убийцы. На правой стороне осталось всего только сорок депутатов, которые в ожидании нападения сидели с готовым оружием. Они сговорились между собой кинуться на Гору при первом движении и перебить как можно больше противников. Гора и трибуны, со своей стороны, находились в точно таком же положении, и обе стороны ждали кровавой и ужасной сцены. Но на повторение 10 августа против Конвента еще не хватало смелости; это была только проба наподобие 20 июня. Коммуна не посмела потворствовать движению, к которому умы еще не были достаточно подготовлены, и даже пришла в искреннее негодование. Мэр не принял депутаций от секции Четырех Наций и кордельеров. Он угождал якобинцам и уж конечно не любил жирондистов, может быть, даже желал их падения, но такое движение показалось ему опасным; к тому же его, как Петиона 20 июня и 20 августа, останавливала нелегальность дела, а ему хотелось уступить как будто бы силе. Итак, мэр не принял депутаций. Эбер и Шометт, прокуроры коммуны, поддержали его; были посланы приказания не запирать застав; потом были составлены адреса – один секциям, другой якобинцам, – призывавшие их к порядку. Сантерр сказал энергичную речь против тех, кто желал нового восстания. Он заявил, что так как тиран свергнут, то это новое восстание может быть направлено только против самого народа, который один царствует в настоящее время; что если есть дурные депутаты, то их следует терпеть, как терпели Мори и Казалеса; что Париж – еще не вся Франция и должен принимать депутатов департаментов; что если военный министр и сменил некоторых лиц, то имел на это право, потому что ответствен за своих подчиненных; что в Париже горсть заблуждающихся и неспособных людей воображает, будто может управлять, и только всё расстраивает; что, наконец, нужно прибегнуть к силе и призвать злоумышленников к порядку. Бернонвиль, дом которого был оцеплен, перелез через стену сада, собрал сколько мог людей, стал во главе Брестского батальона и отчасти смирил агитаторов. Секция Четырех Наций, кордельеры и якобинцы разошлись. Таким образом, сопротивление коммуны, твердость Сантерра, присутствие духа Бернонвиля и брестцев помешали восстанию. К тому же недостаточно еще развилась ненависть к благороднейшему, чистейшему элементу новорожденной республики. Петион, Кондорсе, Верньо еще некоторое время могли выказывать в Конвенте свое мужество, таланты и увлекательное красноречие. Всё утихло. Мэр, приглашенный в Конвент, успокоил его, и этой ночью был мирно принят декрет об учреждении революционного суда. Суд этот должен был состоять из присяжных, пяти судей, прокурора и двух товарищей прокурора – всех по назначению Конвента. Присяжные должны были быть выбраны до мая, а до тех пор временно браться из парижского и четырех прилегавших к нему департаментов. Они должны были вслух объявлять каждый свое мнение.
Происшествие 10 марта еще сильнее возбудило негодование членов правой стороны и поставило в затруднительное положение членов левой стороны, которых эти преждевременные демонстрации сильно компрометировали. Они изо всех сил отрекались от этого движения как от нелегального, составлявшего покушение на национальное представительство. Даже те, кто был не прочь провести новое восстание, порицали это движение за неумелость и советовали беречься возмутителей, нанимаемых Англией и эмигрантами. Обе стороны Конвента точно сговорились утвердить это мнение. Обе полагали, что дело было затеяно вследствие какого-то тайного влияния, в котором каждая сторона, конечно, отчасти винила другую. Странная сцена еще больше укрепила это общее мнение. Секция Пуасоньер, поставив от себя добровольцев, в то же время потребовала обвинительного акта против Дюмурье, единственного полководца, на котором в ту минуту сосредоточились все надежды французской армии. Когда президент секции стал читать петицию, поднялся общий крик негодования: «Это аристократ, наемник англичан!» В то же мгновение взгляды случайно обратились на знамя секции – и оказалось, что на нем белый бант с лилиями. Вся зала разражается яростными криками, лилии и белый бант мигом срываются и заменяются трехцветным бантом, брошенным с трибун какой-то женщиной. Тогда Инар требует обвинительного акта против президента этой секции. Более ста голосов тотчас же поддерживают его, и наибольшее внимание обращает на себя голос Марата. «Эта петиция, – говорит он, – западня. Ее надо прочесть всю. Вы увидите, что в ней требуют головы Верньо, Гюаде, Жансонне и других. Представьте себе, каким торжеством для наших врагов была бы подобная бойня! Это стало бы отчаянием Конвента!..» Всеобщие аплодисменты прерывают Марата, но он продолжает, сам указывает на одного из главных агитаторов по имени Фурнье и предлагает его арестовать. Тотчас же о том составляется приказ, дело отсылается в наблюдательный комитет, и Конвент постановляет послать Дюмурье копию с протокола, чтобы доказать, что депутаты не верят клевете на него. Юный Варле, друг и товарищ Фурнье, прибегает к якобинцам, требует мщения за его арест и предлагает идти освобождать его. «Не одному Фурнье грозит опасность, – говорит он, – она грозит и Лазовскому, и Дефье, наконец, мне самому. Новоучрежденный революционный суд обратится против патриотов, подобно суду 10 августа, и слышащие меня братья более не якобинцы, если не пойдут за мною!» Затем он хочет обвинить Дюмурье, но в обществе водворяется необычайное смятение. Президент надевает шляпу и говорит, что якобинцев хотят погубить. Сам Бийо-Варенн выходит на кафедру, сетует на эти подстрекательные предложения, оправдывает Дюмурье, хоть и сознается, что не любит его, но говорит, что в настоящее время генерал делает свое дело и доказал, что намерен драться как следует. Варенн бранит план, направленный на насилие против Национального конвента, объявляет подозрительными Варле, Фурнье и Дефье и одобряет проведение очистительного голосования для избавления общества от тайных врагов. Голос Бийо-Варенна имеет вес; полученные вслед за тем удовлетворительные известия о том, что Дюмурье собрал вокруг себя армию и о признании Республики Портой, окончательно водворяют спокойствие. Итак, Марат, Бийо-Варенн и Робеспьер, который говорил в том же духе, высказались против агитаторов и, по-видимому, одинаково были убеждены, что они наняты врагами. Это неоспоримое доказательство того, что тайного заговора, предполагаемого жирондистами, не было. К тому же они, хоть и желали падения жирондистов, но искренне боялись иностранных интриг и внутренних беспорядков в виду неприятеля-победителя, побаивались мнения департаментов, были поставлены в затруднительное положение обвинениями и, вероятно, помышляли пока только о том, чтобы прибрать к рукам все министерства и комитеты и выжить жирондистов из правительства, не исключая их, однако, насильственно из законодательного процесса. Один только человек, Дантон, мог бы вызывать подозрения, хотя был наименее ожесточенным врагом жирондистов. Он имел безусловное влияние на кордельеров. Он не желал зла членам правой стороны, но был врагом их системы умеренности, потому что она, по его мнению, тормозила действия правительства; он во что бы то ни стало требовал чрезвычайного суда и верховного комитета, облеченного неограниченной диктаторской властью, потому что хотел, прежде всего, успеха Революции. И весьма возможно, что Дантон тайно руководил агитаторами 10 марта, чтобы запугать жирондистов и сломить их сопротивление. Во всяком случае, достоверно известно, что он не поспешил отречься от виновников беспорядков, а напротив, с усиленной настойчивостью требовал, чтобы правительство преобразовали быстро и жестко. Как бы то ни было, решили только, что тайными двигателями тут были аристократы. Все этому поверили или сделали вид, что верят. Вернье в блистательной речи, в которой обличал весь заговор, предположил это; его, правда, не одобрил Луве, который желал бы более прямых нападок на якобинцев, но Верньо достиг свой речью того, что новому суду первым долгом было поставлено преследование виновников 10 марта. Министр юстиции, которому поручили представить доклад о последних происшествиях, объявил, что нигде не нашел того революционного комитета, которому они приписывались, что усмотрел во всем этом лишь выходку клубов, предложения, сделанные в порыве увлечения. Единственным, на что можно было указать с некоторой точностью, была сходка нескольких кордельеров в кофейне Корацца. Это были: Лазовский, Фурнье, Гусман, Дефье, Варле – заурядные секционные агитаторы. Никто не придал значения этому открытию, и так как предполагались происки несравненно более глубокие, то сходка в кофейне нескольких второстепенных личностей показалась только смешной.
Глава XXI
Продолжение военных неудач – Переговоры Дюмурье с неприятелем – Начало восстания в Вандее – Арест герцога Орлеанского – Отступничество ДюмурьеВ предыдущей главе мы видели, в каком крайне напряженном состоянии находились партии и какие чрезвычайные меры были приняты революционным правительством для сопротивления иностранной коалиции и домашним распрям. Среди этих-то обстоятельств, всё более и более подступавших со всех сторон, Дюмурье возвратился из Голландии в Лёвен, к своей армии. Мы видели, как самовластно он себя держал с комиссарами исполнительной власти и как всеми силами отбивался от якобинизма, старавшегося проникнуть в Бельгию. Ко всему этому Дюмурье присовокупил шаг еще более смелый, долженствовавший привести его к тому же концу, что и Лафайета. Двенадцатого марта он написал в Конвент письмо и, перечисляя расстройство армии стараниями Паша и якобинцев, декрет 15 декабря, притеснения, которым подвергались бельгийцы, приписывал все бедствия разрушительному духу, распространявшемуся из Парижа на всю Францию, а из Франции – на страны, завоеванные французскими армиями. Это письмо, исполненное отважных выражений и в особенности упреков и наставлений, вовсе не подобавших генералу, пришло в наблюдательный комитет в ту самую минуту, когда против Дюмурье получали множество обвинений и когда Конвент беспрерывно старался сохранить его популярность в народе и привязать его к Республике. Комитет не разгласил письма и тотчас же послал к генералу Дантона с поручением уговорить его взять письмо назад.
 Дюмурье
Дюмурье
Дюмурье собрал свою армию невдалеке от Лёвена, стянул разбросанные колонны и выдвинул один корпус направо стеречь Кампин, а также в качестве средства связи с тылом армии, застрявшим в Голландии. Затем он решил снова начать действовать наступательно, чтобы оживить в солдатах энтузиазм и доверие. Принц Кобургский овладел течением Мааса от Люттиха до Маастрихта и, двинувшись уже дальше Синт-Трёйдена, занял Тирлемон передовым отрядом. Дюмурье отбил этот город и, видя, что неприятель и не подумал стеречь важную позицию, обстреливавшую всё пространство между Большой и Малой Нете, направил туда несколько батальонов, которые заняли ее без затруднений. На следующий день, 16 марта, неприятель решил вернуть утраченную позицию и весьма энергично выдвинулся на нее. Дюмурье этого ожидал и приготовился, желая этим сражением подбодрить свои войска. Австрийцы были отброшены, потеряв от семи до восьми сотен человек, перешли Малую Нете и стали между деревнями Неерланденом, Ланденом, Неервинденом, Овервинденом и Ракуром. Французы, ободренные этим успехом, стали со своей стороны перед Тирлемоном и в нескольких деревнях, расположенных на левом берегу Малой Нете, сделавшейся чертой, разделявшей армии. Дюмурье задумал дать тут большую битву; эта мысль была настолько же смела, насколько и умна. Методическое ведение войны не годилось для его войск, еще недостаточно обученных. Нужно было возвратить оружию блеск, успокоить Конвент, произвести благоприятное впечатление на бельгийцев, прогнать неприятеля назад за Маас, потом опять спешить в Голландию, проникнуть в одну из столиц коалиции и принести туда революцию. Кроме этого, Дюмурье впоследствии говорил, что задумал восстановить Конституцию 1791 года и низвергнуть демагогов с помощью голландцев и своей армии. Но эта прибавка была чистой бессмыслицей. Возрастающее усердие армии, его положение – всё подавало генералу основательную надежду на успех; к тому же в его положении необходимо было рисковать, а колебаться не приходилось.
Французская армия растянулась фронтом на два лье вдоль берега Малой Нете от Нерейсе до Заутлеу. Дюмурье решил совершить обходное движение, которое поставило бы неприятеля между Заутлеу и Синт-Трёйденом. Левым крылом он опирался на Заутлеу как на ось, правое хотел завернуть через Нерейсе, Ракур и Ланд ей и принудить австрийцев податься назад до Синт-Трёйдена. Для этого надо было перейти Малую Нете, взобраться на ее крутой берег, взять Заутлеу, Орсмал, Неервинден, Овервинден и Ракур. Последние три деревни, расположенные перед правым французским флангом, составляли главный пункт атаки. Дюмурье, разделив свой правый фланг на три колонны под начальством Валенса, приказал ему перейти Малую Нете по мосту близ Нерейсе; одна колонна должна была обогнуть неприятеля, другая – проворно овладеть холмом при Миддельвиндене и с этой возвышенности громить Овервинден, а затем взять его; третья – атаковать Неервинден с его правой стороны. Центру, вверенному герцогу Шартрскому и состоявшему из двух колонн, было приказано перейти мост при Эземале, пройти через Лир, и с фронта напасть на Неервинден, которому справа угрожала бы третья колонна. Наконец, левый фланг под начальством Миранды должен был разделиться на две или три колонны, занять Заутлеу и Орсмал и держаться там, пока центр и правый фланг, двинувшись вперед после победы, совершили бы то самое обходное движение, которое и было целью всей битвы. Эти распоряжения были сделаны 17 марта вечером. Утром в девять часов вся армия уже тронулась, стремительно и организованно. Она перешла Нете на всех указанных пунктах. Миранда послал Шаморена занять Заутлеу, сам завладел Орсмалом и открыл канонаду. Неприятель ушел на возвышенности при Халле и укрепился там, то есть на этой позиции цель была достигнута. Движение совершили центр и правый фланг одновременно; обе части армии прошли через Элесин, Эземаль и Нерейсе и, несмотря на сильный огонь, мужественно перебрались через крутые возвышенности, окаймлявшие Нете. Крайняя правая колонна прошла через Ракур, вышла на равнину, но тут совершила ошибку: вместо того чтобы развернуться на равнине, как ей было приказано, повернула на Овервинден, ища там неприятеля. Вторая правая колонна, сначала задержанная на дороге, с геройской отвагой ринулась на холм при Миддельвиндене и согнала с него неприятеля, но, вместо того чтобы утвердиться на нем покрепче, сошла с него и завладела Овервинденом. Третья колонна вступила в Неервинден и тоже сделала ошибку вследствие недоразумения: слишком скоро растянулась за деревней, рискуя быть выгнанной возвращавшимся неприятелем. При всем том французская армия была близка к цели; но принц Кобургский, начавший промахом – не атаковавший неприятеля во время переправы его через Нете, – теперь старался исправить свою ошибку, отдав общий приказ: занять оставленные позиции. Против Миранды выслали силы, превосходившие его численностью. Клерфэ, пользуясь тем, что первая колонна не достаточно упорно старалась обойти его, вторая не стала твердо на холме, а третья и обе колонны, составлявшие центр, беспорядочно скучились в Неервиндене, перешел Ланденскую равнину и вновь занял холм, Овервинден и Неервинден. В эту минуту положение французов было самым печальным. Согнанные со всех занятых ими пунктов, принужденные отступить на склоны холмов, обойденные с правой стороны, обстреливаемые превосходившей по численности артиллерией, угрожаемые двумя корпусами кавалерии, имея за спиной реку, они могли бы быть и непременно были бы истреблены, если б неприятель живее теснил центр и правый фланг. Дюмурье поспешил на этот опасный пункт, сомкнул свои колонны, вторично занял миддельвинденский холм и сам пошел на Неервинден, уже дважды взятый французами. Генерал в третий раз вступил в деревню после ужасной резни. Злополучная деревня была запружена людьми и лошадьми; французские войска скопились в ней среди смятения атаки и пришли в окончательное расстройство. Дюмурье, сознавая опасность, бросает это нагромождение тел и вновь строит свои колонны на некотором расстоянии от деревни. Там он окружает себя артиллерией и располагается, чтобы продержаться до конца сражения. Вдруг в него ударяют две колонны кавалерии, одна из Неервиндена, другая из Овервиндена. Валенс во главе французской кавалерии предупреждает первую колонну, летит в атаку, отбрасывает кавалерию и, покрытый славными ранами, уступает руководство герцогу Шартрскому. Генерал Тувено спокойно принимает вторую колонну, дает ей врезаться в пехоту, раздавшуюся по его приказанию, потом вдруг открывает в упор огонь, ружейный и картечный, который почти совсем истребляет австрийскую кавалерию. Дюмурье остается хозяином поля битвы и утверждается на нем, намереваясь на следующий день довершить задуманное движение. День был кровавый, но самая трудная часть задачи, по-видимому, была исполнена. По расчету Дюмурье левому флангу, с утра расположившемуся в Заутлеу и Орсмал, больше нечего было делать, и огонь прекратился в два часа пополудни. Генерал считал себя победителем, потому что занимал всё поле сражения. Однако приближалась ночь, центр и правый фланг зажигали костры, а от Миранды еще не приехал ни один офицер с вестями о левом фланге. Тогда Дюмурье начал приходить в сомнение, а затем в беспокойство. Он отправился верхом с двумя офицерами и двумя слугами и нашел деревню Лир покинутой Дампьером, который под начальством герцога Шартрского командовал одной из двух колонн центра. Там же Дюмурье узнал, что левый фланг, совершенно расшатанный, вновь перешел Нете и бежал до Тирлемона, а Дампьер, лишившись прикрытия, отступил на тот самый пост, который занимал утром до сражения. Тогда Дюмурье поскакал во весь опор, едва не попал в руки австрийским уланам, около полуночи появился в Тирлемоне и застал там Миранду, который расположился в двух лье от места сражения и никак не соглашался двинуться вперед, несмотря на увещания Валенса, перенесенного туда из-за ран. Генерал Миранда, с утра вступивший в Орсмал, был атакован в ту минуту, когда неприятель вновь занимал все отобранные позиции. Большая часть неприятельских сил ударила в его крыло, которое, состоя отчасти из добровольцев, разомкнулось и бежало до Тирлемона. Миранда, увлеченный беглецами, не имел ни времени, ни сил опять собрать и выстроить их, хотя Мячинский пришел к нему на помощь с отрядом свежих войск. Что касается Шаморена с третьей колонной, он простоял в Заутлеу до вечера и только к концу дня решился возвратить в Бинген, откуда вышел утром. Таким образом, французская армия оказалась разобщенной – часть на одном берегу Нете, часть на другом, – и если бы неприятель не был утомлен упорным сражением и захотел воспользоваться своими преимуществами, то мог прорезать французскую линию, уничтожить правый фланг и обратить в бегство подавшийся уже левый. Дюмурье, не пугаясь, хладнокровно решился на отступление и со следующего же утра стал к нему готовиться. Для этого он постарался подбодрить крыло Миранды, намереваясь двинуть его вперед, чтобы задержать неприятеля слева от линии, пока центр и правый фланг попытаются переправиться через Нете. Но эта часть войска, приведенная в уныние вчерашним поражением, двигалась с трудом. К счастью, Дампьер, в тот же день с одной из колонн центра перешедший Нете обратно, поддержал движение Дюмурье и выказал мужество и сметливость. Дюмурье, всё время лично присутствовавший среди своих войск, всячески ободрял их и решил вести на возвышенность Воммерсом, занятую ими еще накануне, до начала сражения. Австрийцы потом поставили там несколько батарей и поддерживали убийственный огонь. Дюмурье сам становится во главе своих солдат, втолковывает им, что лучше попытаться атаковать, нежели выносить постоянный огонь, что они отделаются одной горячей атакой, гораздо менее убийственной, чем такая холодная неподвижность перед неумолкающей артиллерией. Дважды он их двигает, и дважды, точно воспоминание о понесенном накануне поражении отшибло у них всякое мужество, они останавливаются и, вынося с истинно геройской твердостью огонь с высот, не имеют духа решиться на дело гораздо более легкое – атаку в штыки. Вдруг ядро сваливает лошадь Дюмурье, он падает и оказывается весь засыпанным землею. Испуганные солдаты уже готовы бежать, но генерал с чрезвычайной быстротой встает, садится на другую лошадь и не отпускает солдат с поля битвы. В это же время герцог Шартрский руководил отступлением правого фланга и половины центра. Действуя умно и отважно, он со своими четырьмя колоннами хладнокровно отступил в виду неприятеля и невредимо перешел все три моста через Нете. Дюмурье стянул свое левое крыло и колонну Дампьера и возвратился на вчерашние позиции, удивив неприятеля превосходно исполненным отступлением. Девятнадцатого числа армия стояла там же, где и 17-го, между Хюккельхофеном и Гутсенховеном, только с потерей четырех тысяч убитых и десяти тысяч дезертировавших беглецов, которые уже стремились во французские провинции. Дюмурье, снедаемый печалью, волнуемый противоположными чувствами, помышлял то сражаться с австрийцами насмерть, то истребить якобинцев, которым приписывал расстройство и бедствия своей армии. В припадках жестокой досады он, не скрываясь, выступал против парижской тирании, и речи его, повторяемые Главным штабом, ходили по всей армии. Несмотря, однако, на крайнее душевное расстройство, Дюмурье не потерял хладнокровия, необходимого при отступлении, и сделал наилучшие распоряжения, чтобы еще долго занимать Бельгию с помощью крепостей, если бы ему пришлось выйти из нее со своими войсками. Так, он приказал генералу д’Арвилю ввести сильный гарнизон в цитадель города Намюра и держаться там во что бы то ни стало. Он послал генерала Руо в Антверпен собрать те двадцать тысяч человек, которые составляли голландскую экспедицию, и стеречь Шельду, пока сильные гарнизоны займут Бреду и Гертруденберг. Его целью было составить полукруг из крепостей Намюр, Моне, Турне, Куртре, Антверпен, Бреда и Гертруденберг, самому стать в центре этого полукруга и ждать нужных подкреплений, чтобы действовать энергичнее.
Двадцать второго числа он из-за спорной позиции дал перед Лёвеном сражение, которое оказалось таким же горячим и стоило стольких же людей, как при Гутсен-ховене. Вечером этого дня произошла встреча с полковником Макком, неприятельским офицером, имевшим большое влияние на действия союзников благодаря репутации, которой онпользовался в Германии. Генералы договорились больше не давать решительных сражений, а идти следом друг за другом, медленно и в строгом порядке, чтобы беречь солдат и щадить страну, сделавшуюся театром войны. Этот род перемирия, весьма выгодный для французов, которые непременно разбежались бы в случае энергичного нападения, также вполне подходил робкой системе союзников, которые, взяв Маас, не хотели больше покушаться ни на что до взятия Майнца. Это были первые переговоры Дюмурье с неприятелем. Вежливость полковника Макка и его привлекательные манеры легко могли расположить взволнованный ум генерала к тому, чтобы прибегнуть к иностранной помощи. Дюмурье уже начинал убеждаться, что карьера не обещает ему будущности; несколько месяцев назад он предвидел славу, влияние, и эта надежда делала его снисходительнее к революционным беспутствам; теперь же, побежденный, утратив популярность, приписывая расстройство своей армии этим самым беспутствам, он с отвращением взирал на беспорядки, к которым еще недавно относился равнодушно. Выросший при дворах, своими глазами видя, какая прочно устроенная машина требуется, чтобы обеспечить будущность государства, он не мог себе представить, чтобы какие-нибудь взбунтовавшиеся буржуи могли сладить с такой сложной задачей. Если в таком положении у полководца, одновременно и воина и администратора, в руках есть сила, трудно вообразить, чтобы ему не пришла в голову мысль использовать эту силу для прекращения беспорядков, пугавших его ум и даже угрожавших его жизни. Дюмурье был достаточно смел, чтобы возыметь такую мысль, и, не видя для себя более будущности в службе Французской революции, задумал открыть другую будущность возвращением этой революции к Конституции 1791 года и примирением ее этой ценой с Европой. Согласно этому плану нужен был король, а так как люди для Дюмурье были почти все одинаковы, то он едва ли затруднился бы с выбором. Его обвиняли в намерении посадить на престол представителя Орлеанского дома. Этот вывод вывели из его расположения к молодому герцогу Шартрскому, которому он предоставлял в своей армии самую блестящую роль. Но это доказательство весьма ничтожно, так как молодой герцог вполне заслужил оказываемое ему отличие, и притом ничто в его поведении не указывало на тайный сговор с Дюмурье. Впрочем, в пользу этого вывода имелось еще и другое соображение: в ту минуту не могло быть иного выбора. Сын покойного короля был еще слишком мал, к тому же совершенное столь недавно цареубийство не допускало такого скорого примирения с династией. Дяди его были прямыми врагами революции; оставалась одна Орлеанская ветвь, которая, будучи столь же скомпрометирована, как и якобинцы, одна была бы в состоянии устранить все опасения революционеров. Эта-то необходимость и вызвала против генерала обвинение в намерении предоставить престол Орлеанскому дому. Став эмигрантом, Дюмурье отпирался от этой мысли, но такое корыстное отпирательство ничего ни доказывает, и относительно этого пункта можно ему верить так же мало, как относительно заявлений, будто всё, что он хотел совершить, было задумано ранее. Он уверял, что у него давно зародилось намерение сопротивляться якобинцам, но это неправда. Только тогда, когда перед ним закрылась карьера победоносного полководца, он стал думать о том, чтобы начать другую. В это решение включались также чувство личной обиды, досада на свои неудачи, наконец, искреннее, но позднее негодование по поводу беспорядков, которые он теперь предвидел безошибочно. Двадцать второго марта Дюмурье застал в Лёвене Дантона и Лакруа, приехавших просить у него объяснений по поводу письма Конвенту, до сих пор утаенного наблюдательным комитетом. Дантон, к которому Дюмурье испытывал симпатию, надеялся внушить ему более спокойный взгляд на вещи и крепче привязать его к общему делу. Но генерал весьма нелюбезно обошелся с обоими посланниками и не скрыл от них своего дурного расположения. Он разразился новыми жалобами на Конвент и якобинцев и не согласился взять письмо назад, а только обещал написать заявление, что даст впоследствии объяснения по этому поводу. Дантон и Лакруа уехали, ничего не добившись, и оставили Дюмурье в сильнейшем волнении. Двадцать третьего числа, после довольно живого сопротивления, продолжавшегося целый день, несколько отрядов оставили свои посты, и Дюмурье вынужден был в беспорядке уйти из Лёвена. К счастью, неприятель не заметил этого движения и не воспользовался им, чтобы окончательно привести французскую армию в смятение. Дюмурье отделил линейные войска от добровольцев, соединил их с артиллерией и составил таким образом отборный корпус из пятнадцати тысяч человек, с которым сам стал в арьергарде. Постоянно показываясь солдатам, каждый день участвуя в стычках, он сумел придать своему отступлению некоторую твердость, организованно эвакуировал население Брюсселя, прошел через город 25-го, а 27 марта стал лагерем в Ате. Там Дюмурье опять повидался с Макком, который обошелся с ним с той же деликатностью и вниманием, как и в первый раз. Целью этого свидания было добиться утверждения статей перемирия, но оно вскоре перешло в более важные переговоры. Дюмурье высказал свое неудовольствие неприятельскому офицеру и открылся ему в своих планах низвержения Национального конвента. И тут-то, увлеченный досадой, разгорячившись мыслью о всеобщем спасении, человек, защитивший Францию в Аргонском лесу, омрачил свою славу, вступив в переговоры с врагом, честолюбие которого должно было сделать все намерения подозрительными, а могущество которого было тогда более всего опасно для Франции. В таких ситуациях, как мы уже заметили, гениальному человеку представляется только один выбор: удалиться и отказаться от всякого влияния, чтобы не стать причастным к системе, которую он не одобряет, или же делать то, что всегда нравственно, прекрасно и честно, – способствовать защите своего отечества. Дюмурье договорился с полковником Макком, что военные действия будут приостановлены; что имперские войска не пойдут на Париж, пока он сам туда идет, и что он, Дюмурье, в благодарность за эту любезность очистит Бельгию. Кроме того, они условились, что австрийцы получат в виде залога, временно, крепость Конде и что если Дюмурье понадобятся австрийские солдаты, они будут к его услугам. В крепости должны были вступить гарнизоны, составленные наполовину из французов, наполовину из имперских войск, а при заключении мира крепости следовало обоюдно возвратить. Такими были преступные условия, которые Дюмурье заключил с принцем Кобургским через полковника Макка. В Париже еще было известно только о поражении при Неервиндене и о последовательном оставлении Бельгии. Известие о проигранном большом сражении и поспешном отступлении, совпав с дурными вестями с запада, произвело в столице большое волнение. В Ренне был раскрыт заговор, по-видимому, составленный англичанами, бретонскими дворянами и неприсягнувшими священниками. На западе уже случались вспышки по поводу дороговизны и угрозы не платить за совершение религиозных обрядов; теперь восстание получило открыто признаваемую цель: отстоять дело абсолютной монархии. В окрестностях Ренна и Нанта произошли несколько крестьянских сходок, требовавших восстановления Бурбонов и духовенства. В Орлеане восстание было в полном разгаре, и депутат Бурдон едва не был убит. Мятежников набиралось уже несколько тысяч человек, и чтобы усмирить их, требовались серьезные войска и генералы. Большие города посылали свои национальные гвардии, генерал Ла Бурдоне двинулся со своим корпусом – всё предвещало кровавую междоусобную войну. Итак, с одной стороны, французские армии отступали перед коалицией, с другой – поднималась Вандея, и никогда еще естественное брожение, всегда производимое опасностью, не было так сильно.
Около этого же времени, вскоре после 10 марта, Конвент решил по предложению Дантона свести вождей главных партий в наблюдательном комитете, чтобы они могли объясниться о причинах своих распрей. Дантону надоели ежедневные ссоры, так как они, хоть и не могли удовлетворять его ненависти, ибо ненависти он не испытывал, но держали его в постоянном страхе небезопасного изучения его прежних действий и останавливали дорогое сердцу дело революции. Поэтому Дантон желал окончания этих ссор. Во всех совещаниях он выказал большую искренность и прямоту, и если брал инициативу и обвинял жирондистов, то для того только, чтобы отвести от себя возможные обвинения. Жирондисты с обычной своей деликатностью оправдывались, точно обвинение высказывалось серьезно, и уверяли Дантона в том, что он знал не хуже их. Не то было с Робеспьером. Стараясь убедить его, жирондисты его раздражали, притом старались доказать ему, что он не прав, будто такое доказательство могло усмирить его. Что касается Марата, который счел свое присутствие на этих совещаниях необходимым, никто не удостоил его объяснения, и даже его друзья, чтобы не быть поставленными в необходимость оправдывать себя в таком знакомстве, никогда не обращались к нему ни с одним словом. Подобные совещания должны были естественным образом скорее растравить, чем смягчить неприязнь: если бы противникам и удалось взаимно уличить друг друга, то это, конечно, не примирило бы их. В таком-то положении были дела, когда в Париже стало известно о бельгийских событиях. Тотчас опять начались обоюдные обвинения: одних – в том, что они способствуют общественным бедствиям, привнося анархию во все дела, других – в том, что они вечно замедляют действия правительства. Стали требовать объяснений поведению Дюмурье. Письмо от 12 марта, дотоле неразглашенное, было прочтено и вызвало общий крик о том, что Дюмурье изменяет, что он явно пошел по стопам Лафайета и, по его примеру, начинает свою измену дерзкими письмами собранию. Второе письмо, от 17 марта, еще более смелое, усилило подозрения. Со всех сторон стали подходить к Дантону, чтобы он рассказал всё, что ему известно насчет Дюмурье. Все знали, что эти два человека испытывали друг к другу симпатию, что именно Дантон настаивал на том, чтобы утаить письмо, и вызвался ехать к генералу в надежде, что можно будет уговорить его взять письмо назад. У якобинцев, в наблюдательном комитете, в Конвенте – везде стали требовать, чтобы Дантон объяснился. Он же, сконфуженный подозрениями жирондистов и сомнениями представителей Горы, впервые несколько затруднился с ответом, а потом сказал, что великие таланты полководца, по-видимому, заслуживают некоторого снисхождения; что казалось более приличным с ним свидеться, прежде чем обвинять его гласно; что до сих пор комиссары видели в поведении Дюмурье лишь последствия плохих советов и в особенности огорчения из-за недавних неудач, но что они думали, и теперь еще думают, что можно обеспечить его услуги Республике. Робеспьер заявил, что бесполезно щадить генерала и нет надобности соблюдать относительно него такую умеренность. Кроме того, он возобновил предложение Луве против Бурбонов, оставшихся во Франции, то есть против членов Орлеанского дома, и всем показалось странным, что Робеспьер, в январе так энергично защищавший их против жирондистов, теперь с такой яростью на них нападает. Но его подозрительный ум тотчас же подсказал ему наличие заговора. Робеспьер рассудил так: бывший принц крови не может примириться со своим новым положением и хотя называет себя Эгалите, жертва его не может быть искренней; следовательно, он строит козни. И в самом деле все наши генералы преданы ему: Бирон, командующий в Альпах, – его близкий приятель; Валенс, командующий Арденнской армией, – зять его поверенного Силлери; оба его сына занимают первые места в бельгийской армии, и Дюмурье открыто предан им и воспитывает их с особенным тщанием. Жирондисты напали в январе на Орлеанский дом, но это было с их стороны притворством, не имевшим иной цели, кроме снятия с себя подозрений. Брюссо, приятель Силлери, служил посредником. Вот заговор и раскрыт: престол восстановлен, и Франция погибла, если не уничтожит заговорщиков. Таковы были соображения и догадки Робеспьера, и всего ужаснее в них было то, что он, вдохновленный ненавистью, верил в придуманную им самим клевету. Гора в изумлении отвергла его предложение. – Дайте же доказательств! – говорили ему сидевшие рядом с ним. – Доказательств! – возражал он. – Доказательств?! У меня нет доказательств, но у меня есть нравственное убеждение! Первым делом, как всегда в минуты опасности, решено было усилить деятельность исполнительной власти и судов, чтобы защититься от врагов, внешних и внутренних. Поэтому немедленно отправили комиссаров по набору и рассмотрели вопрос о том, не должен ли Конвент принимать большее участие в выполнении законов. Устройство исполнительной власти казалось неудовлетворительным. Министры, поставленные вне собрания, действовавшие от себя и под весьма отдаленным надзором депутатов; комитет, обязанный представлять доклады по всем мерам общей безопасности, – все эти власти, контролировавшие друг друга, вечно совещавшиеся и редко действовавшие, казались весьма недостаточными для выполнения лежавшей на них громадной задачи. К тому же эти министерства и комитеты состояли из людей подозрительных, то есть умеренных, ибо в это время, когда быстрота и сила стали необходимыми условиями успеха, всякая умеренность казалась признаком участия в заговорах. Поэтому явилась мысль учредить такой комитет, который совмещал бы в себе должности дипломатического, наблюдательного и военного комитетов и мог действовать от себя, останавливать, пополнять или заменять деятельность министров. Немедленно вслед за тем стали обсуждать способы справиться с внутренним врагом, то есть с аристократами и изменниками, от которых будто бы не было проходу. Франция, говорили, вся полна непокорными священниками, дворянами и их прежними слугами, богачами всякого рода, и весь этот еще значительный класс окружает, предает нас и так же опасен для нас, как неприятельские штыки. Надо раскрыть их, указать на них, залить их светом, который помешал бы им действовать. Ввиду этого Конвент по предложению якобинцев постановил, чтобы, согласно китайскому обычаю, во всех домах на дверях каждой квартиры были написаны имена всех проживавших в доме. Затем приказали отобрать оружие у всех подозрительных граждан; таковыми признавались неприсягнувшие священники, дворяне, бывшие вельможи, отставленные от должности чиновники и так далее. Изъятие оружия следовало производить путем домовых обысков, и единственным смягчением этой меры было постановление о том, что обыски не могут происходить ночью. Обеспечив себе таким способом возможность преследовать и настигать людей, возбуждавших хоть какое-то недоверие, Конвент, наконец, обеспечил и возможность наибыстрейшей кары, учредив Революционный трибунал. Это ужасное оружие пустили в ход по предложению Дантона. Страшный человек вполне понимал, какие из этого произойдут последствия, но пожертвовал всем ради своей цели. Он знал, что невозможно, применяя быструю кару, внимательно изучить дело, что тут легко ошибиться, особенно когда свирепствуют партии, и что ошибиться – значит сотворить ужаснейшую несправедливость. Но революция в его глазах означала общество, ускорявшее свою деятельность во всем – в делах правосудия, войны, администрации. В спокойное время, говорил он, общество предпочитает скорее выпустить виновного, чем покарать невинного, потому что виновный малоопасен; но по мере того как он становится опаснее, общество всё больше стремится схватить его; когда же он делается настолько опасен, что может погубить общество, тогда оно бьет по всему, что кажется подозрительным, и предпочитает покарать невинного скорее, чем выпустить виновного. Это-то и есть диктатура, то есть карательная деятельность в обществе, которому грозит опасность; она быстра, произвольна, подвержена ошибкам, но непреодолима. Итак, сосредоточение властей в Конвенте, учреждение Революционного трибунала, начало фактической инквизиции против подозрительных лиц, удвоенная ненависть к тем из депутатов, кто не одобрял этих чрезвычайных мер, – таковы были последствия битвы при Неервиндене, отступления из Бельгии, угроз Дюмурье и беспокойств в Вандее.
Дурное настроение Дюмурье возрастало вместе с неудачами. Он узнал, что голландская армия беспорядочно отступает, бросая Антверпен и Шельду, но оставляя в Бреде и Гертруденберге французские гарнизоны; что д’Арвиль не смог удержаться в Намюрской цитадели и отступает на Мобёж; что Нейи, наконец, не только не в состоянии удержаться в Монсе, но вынужден отступить на Конде и Валансьен, потому что его дивизия, вместо того чтобы занять возвышенности Ними, разграбила склады и разбежалась. Таким образом, по милости беспорядков в этой части армии рушился его план составить в Бельгии полукруг крепостей, который прошел бы из Намюра во Фландрию и в Голландию. Еще немного – и ему нечем было бы меняться с имперскими войсками, а слабея, он попадал от них в зависимость. Чем ближе Дюмурье подходил к Франции и чем отчетливее видел беспорядки и слышал возмущенные голоса, тем более увеличивался его гнев. Он уже не скрывался, а свободно говорил в присутствии своего главного штаба, и слова его, повторяемые в армии, изобличали планы, бродившие в его голове. Сестра герцога Орлеанского и госпожа Силлери, бежавшие из Парижа, где им грозила большая опасность, приехали в Бельгию искать убежища у своих братьев. Они остановились в Ате, и это обстоятельство дало новую пищу подозрениям. Три якобинских эмиссара – некто Дюбюиссон, выходец из Брюсселя, Проли, незаконный сын Кауница, и Перейра, португальский еврей, – явились в Ат под предлогом, может быть и ложным, поручения от Лебрена. Они приехали к Дюмурье как шпионы правительства и без всякого труда раскрыли его планы, так как он более не таил их. Они застали его в окружении сыновей герцога Орлеанского и генерала Валенса и, будучи весьма дурно приняты, услышали речи далеко не лестные для якобинцев и Конвента. Однако на другой день комиссары пришли опять и добились секретной аудиенции. На этот раз Дюмурье раскрылся вполне. Он начал с того, что достаточно силен, чтобы драться и с фронта, и с тыла; что Конвент состоит из двухсот разбойников и шестисот дураков; что декретов его он в грош не ставит и эти декреты скоро будут иметь силу только в ближайших окрестностях Парижа. «Что касается Революционного трибунала, – присовокупил Дюмурье с возраставшим негодованием, – я сумею воспрепятствовать его учреждению, и пока у меня будет болтаться сбоку хоть три дюйма железа, никогда этой гадости не бывать!» Потом генерал стал бранить добровольцев и назвал их трусами; сказал, что ему не нужно больше никаких войск, кроме линейных, и что с этими войсками он пойдет на Париж и прекратит там беспорядки. – Так вы не хотите и конституции? – спрашивают его собеседники. – Новая конституция, которую выдумал Кондорсе, слишком глупа. – Чем же вы ее замените? – Прежней, 1791 года, как она ни плоха. – Но вам нужен будет король, а имя Людовика внушает отвращение. – Пускай себе зовется Людовиком или Жаном – неважно. – Или Филиппом, – вставляет один из эмиссаров. – Но чем вы замените нынешнее собрание? Дюмурье на минуту задумывается, потом отвечает: – Есть готовые местные администрации, избранные народом и пользующиеся его доверием, и пятьсот председателей округов будут его представителями. – Но до созыва их кто примет почин этой новой революции? – Мамелюки, то есть моя армия. Она изъявит таковое желание, участковые президенты распорядятся его утверждением, и я заключу мир с коалицией, которая, если я этому не воспрепятствую, будет в Париже через две недели. Тогда эмиссары, оттого ли, что, как это впоследствии полагал Дюмурье, пришли выпытать правду в интересах якобинцев, или просто потому, что хотели вызвать генерала на еще большую откровенность, подсказали ему следующую мысль: почему бы ему не поставить якобинцев, уже готовое совещательное собрание, на место Конвента. Негодование, смешанное с презрением, изобразилось при этих словах на лице генерала, и посланники тотчас же отступились от своего предложения. Тогда они напомнили ему об опасности, которой подобный план подверг бы Бурбонов, заключенных в Тампле, в то время как он в них, по-видимому, принимает участие. Дюмурье ответил на это тотчас же, что если они все до последнего погибнут, в Париже и Кобленце, то Франция найдет себе вождя и спасется, но если, наконец, Париж совершит новые бесчинства над несчастными узниками, он немедленно сам явится и с двенадцатью тысячами войска совладает со столицей, – не то что этот дурак Брольи, который, имея тридцать тысяч человек, допустил взятие Бастилии. Он, с двумя только постами, в Ножане и Пон-Сен-Максансе, уморит парижан голодом. – Впрочем, – присовокупил Дюмурье, – ваши якобинцы еще могут искупить все свои злодеяния: пусть они спасут несчастных узников и прогонят семьсот пятьдесят пять тиранов, составляющих Конвент, – и они прощены. Тогда его собеседники завели речь об опасностях, которым он себя подвергает. – В крайнем случае, – отвечает генерал, – мне остается возможность ускакать к австрийцам. – Так вы хотите разделить участь Лафайета? – Я перейду к неприятелю иначе, нежели он, к тому же державы имеют другое мнение о моих способностях и не обвиняют меня в 5 и 6 октября. Дюмурье был прав, говоря, что не боится участи Лафайета. Его способности слишком уважали, а твердостью его правил слишком пренебрегали, чтобы запереть его в Ольмюце. Эмиссары оставили его, говоря, что постараются выведать планы якобинцев и Парижа об этом. Генерал, хоть и считал своих собеседников чистокровными якобинцами, нисколько не умерил своих выражений. Регулярные войска и добровольцы недоверчиво наблюдали друг за другом, и по всему было видно, что Дюмурье собирается поднять знамя восстания.
Исполнительная власть получала неудовлетворительные отчеты, и наблюдательный комитет предложил и провел декрет, потребовавший Дюмурье к ответу. Четырем комиссарам поручили отправиться в армию в сопровождении военного министра, сообщить декрет и привезти генерала в Париж. Этими комиссарами были Банкаль, Кинет, Камю и Ламарк. Бернонвиль отправился вместе с ними; роль его была очень щекотливой вследствие его дружбы с Дюмурье. Комиссия выехала 30 марта. В тот же день Дюмурье перешел на поле Брюий, откуда мог одновременно угрожать трем важным крепостям: Лиллю, Конде и Валансьену. Он еще не знал хорошенько, на что решиться, потому что армия его была разделена. Артиллерия, линейные войска, кавалерия – словом, все регулярные войска казались преданными ему; но добровольцы начинали роптать и отделяться от остальных. Ввиду этого обстоятельства Дюмурье оставалось одно средство: отобрать у добровольцев оружие. Но он рисковал сражением; да и средство было сомнительным, потому что регулярные войска могли не захотеть обезоруживать или притеснять своих товарищей. К тому же между добровольцами были и такие, которые отлично дрались и, по-видимому, любили своего генерала. Всё еще колеблясь насчет этой жесткой меры, Дюмурье решился было завладеть тремя крепостями, между которыми стоял. Таким образом он снабжал себя съестными припасами и обеспечивал точку опоры против неприятеля, которому все-таки не совсем доверял. Но в этих городах симпатии также были разделены. Народные общества восстали в них с помощью добровольцев и угрожали регулярным войскам. В Валансьене и Лилле комиссары Конвента разжигали рвение республиканцев, и только в Конде влияние дивизии Нейи сохраняло перевес на стороне приверженцев Дюмурье. Из дивизионных командиров Дампьер поступал относительно него так, как он сам поступил относительно Лафайета после 10 августа, и несколько других лиц, хотя еще не высказывались, были готовы оставить его. Тридцать первого числа шесть добровольцев со словами «Республика или смерть!», написанными мелом на шляпах, подошли к Дюмурье в лагере, как будто с намерением схватить его. Он отбился от них с помощью своего верного Батиста и сдал их гусарам. Это происшествие наделало в армии большого шума: в тот же день генерал получил несколько адресов, которые его успокоили. Он поднял знамя и отрядил Мячинского с несколькими тысячами солдат на Лилль. Мячинский объявил о цели экспедиции полковнику Сен-Жоржу, командовавшему одним из полков гарнизона. Тот пригласил его войти в город с небольшим конвоем; несчастный Мячинский согласился и, войдя, был немедленно окружен и выдан властям. Ворота заперли, и дивизия без начальника долго блуждала по городу. Дюмурье тотчас же послал в крепость своего адъютанта, но и адъютант был взят, а дивизия разбежалась. После этой несчастной попытки он сделал другую в отношении Валансьена, где комендантом был генерал Ферран, которого Дюмурье считал весьма к себе расположенным. Но офицер, которому он поручил дело, выдал его намерения, примкнул к Феррану и комиссарам Конвента – и Дюмурье лишился и Валансьена. Ему оставался еще только Конде. Если генерал терял и эту крепость, то ему приходилось покориться имперским войскам, отдать себя в их руки и рисковать бунтом в своей армии, заставляя ее идти с ними.
Первого апреля генерал Дюмурье перенес свою главную квартиру ближе к Конде. Он велел арестовать Лекуэнтра, сына версальского депутата, и послал его в Турне в качестве заложника, причем просил австрийца Клерфэ стеречь его в цитадели. На следующий день вечером в лагерь приехали упомянутые выше депутаты, предшествуемые Бернонвилем. Гусары Бершини были выстроены в боевом порядке перед дверью Дюмурье, и весь главный штаб окружал его. Генерал прежде всего обнял своего приятеля Бернонвиля, потом спросил депутатов о цели их приезда. Они отказались объясняться в присутствии толпы офицеров, расположение которых казалось им не самым дружелюбным, и предложили перейти в другую комнату. Дюмурье не препятствовал им в этом, но офицеры потребовали, чтобы дверь оставалась отпертой. Тогда Камю прочел ему декрет, объявив отдельно, чтобы он покорился. Дюмурье отвечал, что состояние армии требует его присутствия, а когда она будет вновь приведена в порядок, тогда он решит, что делать дальше. Камю настаивал, но Дюмурье возразил, что он не так глуп, чтобы отправиться в Париж и самому выдать себя с головою Революционному трибуналу; что тигры требуют его головы, но он не отдаст ее им. Комиссары тщетно уверяли его, что против его особы нет никаких дурных умыслов; что они ему в этом ручаются; что эта покорность удовлетворит Конвент и генерал скоро будет возвращен армии. Дюмурье ничего и слышать не хотел, просил не доводить его до крайности и сказал, что они лучше сделают, если составят умеренную резолюцию, в которой заявят, что генерал Дюмурье в настоящую минуту слишком необходим в армии и они не желают отрывать его от нее. С этими словами он вышел, прося их решиться на что-нибудь, вернулся с Бернонвилем в залу, где находился главный штаб, и стал ожидать решения комиссаров среди своих офицеров. Комиссары вышли минуту спустя и с благородной твердостью возобновили свои требования. – Хотите вы повиноваться Конвенту? – спросили они. – Нет, – ответил он. – В таком случае, – объявил Камю, – вы с этой минуты временно отставлены от должности, ваши бумаги будут описаны, а вы сами арестованы. – Это уже слишком! – воскликнул Дюмурье. – Ко мне, гусары! – Гусары прибежали. – Арестуйте этих людей, – приказал он им по-немецки, – но не причиняйте им никакого вреда! Бернонвиль просил и его подвергнуть той же участи. – Да, да, – ответил Дюмурье, – и я считаю, что оказываю вам истинную услугу: вырываю вас из когтей трибунала. Генерал велел накормить своих пленников, а потом послал их в Турне, к австрийцам, в качестве заложников. На другое же утро он издал прокламацию к армии и Франции, сделал смотр и обнаружил в своих солдатах прежнее, самое благоприятное расположение.
Все эти известия одно за другим пришли в Париж. Тотчас же Конвент, муниципальные собрания и народные общества объявили свои заседания постоянными, была назначена награда за голову Дюмурье, все родственники офицеров его армии были арестованы в качестве заложников. В Париже и соседних городах набрали для защиты столицы сорок тысяч человек, а Дампьеру поручили начальство над всей бельгийской армией. К необходимым мерам присовокупилась, как водится, клевета. Дюмурье, герцог Орлеанский и жирондисты ставились на одну доску и назывались сообщниками. Дюмурье, говорили, это один из тех военных аристократов, тех членов старинных главных штабов, дурные правила которых обнаруживались постоянно; герцог Орлеанский был первым из вельмож, выказавших притворную привязанность к свободе, и личина недавно спала с его лицемерия, продолжавшегося несколько лет; жирондисты, наконец, – это просто депутаты, изменившие своим доверителям, как и все члены правой стороны во всех собраниях, и злоупотреблявшие своими полномочиями в ущерб свободе. Дюмурье делает, хоть и несколько позднее, то, что сделали Лафайет и Буйе; герцог Орлеанский ведет себя так же, как прочие члены Бурбонского дома, и только упорствует в революции дольше графа Прованского; жирондисты, как Мори и Казалес в Учредительном собрании, а Воблан и Пасторе в Законодательном, также явно изменяют отечеству. Жирондисты возражали на это, что они всегда преследовали герцога, а защищали его депутаты Горы; что они в ссоре с Дюмурье и не имеют с ним никаких сношений, а те, кого посылали к нему в Бельгию, кто бывал с ним во всех экспедициях, все они, напротив, – депутаты Горы. Ласурс пошел еще далее: он имел смелость, или, вернее, неосторожность, обвинить Лакруа и Дантона в том, что они остановили первый порыв Конвента, маскируя поведение Дюмурье. Этот попрек оживил все возникшие уже по этому поводу подозрения. В самом деле, говорили между собой депутаты, снисхождение было обоюдным: Дюмурье сквозь пальцы смотрел на их грабежи, а они извиняли его отступничество. Дантон, которому от жирондистов нужно было только одно – молчание, пришел в ярость, бросился к кафедре и объявил им войну насмерть. «Ни мира, ни перемирия не будет между нами! – заревел он; его страшное лицо исказилось, и он погрозил кулаком правой стороне собрания. – Я укрепился в цитадели разума, я из нее выйду с пушками истины и раздавлю злодеев, вздумавших меня обвинить!» Результатом этих взаимных претензий стали следующие события: снарядили комиссию для рассмотрения действий комиссаров, посланных в Бельгию; приняли декрет, гласивший, что, невзирая на неприкосновенность личности, представители нации будут отдаваться под суд по подозрению в сообщничестве с врагами государства; наконец, арестовали и заключили в марсельскую тюрьму Филиппа Орлеанского и всё его семейство. Таким образом, участь этого принца, игралища всех партий, поочередно подозреваемого якобинцами и жирондистами, обвиняемого в заговорах со всеми, именно потому, что он не вступал в заговоры ни с кем, послужила доказательством тому факту, что прошлое величие ни за что не уживется среди настоящей революции и что самое глубокое самоунижение не спасет ни от подозрений, ни от плахи.
Дюмурье решил не терять ни минуты. Убедившись, что Дампьер и несколько других дивизионных генералов его бросают, а другие ждут лишь удобной минуты, чтобы сделать то же, он рассудил, что надо двинуть войска, чтобы увлечь офицеров и солдат и отделить их от всякого влияния, кроме своего собственного. К тому же, времени уже не хватало, нужно было действовать. Вследствие всего этого Дюмурье назначил принцу Кобургскому свидание на утро 4 апреля, чтобы окончательно условиться с ним и полковником Макком насчет замышляемых операций. Свидание должно было последовать близ Конде. Намерением генерала было тотчас после того вступить в крепость, затем со всей армией двинуться на Орши, погрозить Лиллю и постараться взять этот город, развернув все свои силы. Утром 4 апреля Дюмурье поехал на место встречи. Он решил взять с собой только отряд из пятидесяти всадников и, так как они заставили себя ждать, отправился один, распорядившись, чтобы их послали вслед за ним. С ним были Тувено, сыновья герцога Орлеанского, несколько офицеров и слуг. Едва выехав на дорогу к Конде, Дюмурье встречает два батальона добровольцев, вид которых весьма удивляет его, так как он не приказывал им выступать. Он уже хочет сойти с лошади, чтобы войти в дом и написать приказ об их возвращении, как вдруг слышит за собою крики и выстрелы. Батальоны разделяются: часть бросается за ним с криком «Стойте!», другие хотят перерезать ему путь ко рву. Дюмурье спешит вперед со своими спутниками и оставляет добровольцев далеко за собой. Лошадь его не решается перепрыгнуть через ров; тогда он бросается в него один, вылезает на другой стороне, берет лошадь у одного из слуг и во весь опор скачет к Бюри. Проскакав весь день, он приезжает туда вечером, а вскоре после него появляется Макк, уведомленный о происшедшем. Дюмурье пишет всю ночь и уславливается с полковником и принцем о статьях союза, а затем, к великому их изумлению, заявляет о намерении возвратиться в свою армию. И действительно, рано утром он опять сел на лошадь и в сопровождении нескольких австрийских всадников вернулся в свой лагерь. Солдаты линейных войск обступили его и демонстрировали все знаки привязанности к нему; однако много было мрачных, унылых лиц. Известие о бегстве Дюмурье в Бюри, к неприятельской армии, и вид имперских драгун произвели впечатление, пагубное для Дюмурье, но делавшее честь французским солдатам и счастливое для дальнейшей судьбы Франции. Дюмурье узнал, что артиллерия, как только получила известие о том, что он предался австрийцам, бросила лагерь, и удаление этой столь влиятельной части армии привело остальную в уныние: целые дивизии уходили в Валансьен к Дампьеру. Тогда Дюмурье осознал, что придется окончательно оставить армию и опять перейти к имперским войскам. За ним последовал многочисленный штаб, в том числе Тувено, сыновья герцога Орлеанского и все гусары Бершини. Принц Кобургский и полковник Макк, с которым Дюмурье подружился, обошлись с ним очень любезно и возобновили разговоры о вчерашних предложениях, приглашая его сделаться главой новой эмиграции, которая отличалась бы от кобленцской. Но по прошествии двух дней генерал сказал австрийскому принцу, что думал выполнить свой план относительно Парижа руками французских солдат, имея австрийцев только помощниками, и что ему, французу, не подобает идти во главе иноземных войск. Он просил паспорт в Швейцарию, и ему дали паспорт тотчас же. Вследствие большого уважения к его талантам и малого – к его политическим принципам австрийцы обошлись с ним не так, как с Лафайетом, который томился в ольмюцских казематах за свое героическое упорство. Так закончилась карьера этого замечательного человека, выказавшего подлинную многосторонность талантов – дипломатического, административного, военного – и мужество всех родов – гражданское, мужество человека, выстаивавшего бури ораторской кафедры, солдата, не обращавшего внимания на неприятельские ядра, полководца, выпутывавшегося из отчаянных положений. Но этот человек, не имея ни нравственных правил, ни нравственного авторитета, а только влияние гения, быстро истощился в этом коловращении; он всей своей судьбой старался бороться против Революции и блистательно доказал, что личность тогда только превозмогает страсть нации, когда эта страсть истощена. Переход Дюмурье к неприятелю нельзя извинить ни аристократическим упрямством Буйе, ни щепетильностью Лафайета, ибо он терпел всевозможные беспорядки до тех пор, пока эти беспорядки не мешали ему. Своим отступничеством Дюмурье ускорил падение жирондистов и великий революционный кризис. Впрочем, не следует забывать, что этот человек, хоть и не имел ни к какому делу привязанности, разумом предпочитал свободу; не следует забывать, что он искренне любил Францию и, когда никто не верил в возможность сопротивления иноземцам, попытался и поверил во французов больше самих французов; что при Сент-Мену он научил войска хладнокровно смотреть в лицо неприятелю; что при Жемапе он их воспламенил и снова поставил Францию в один ряд с первыми державами; наконец, не следует забывать, что если он и бросил Францию, то прежде он спас ее. К тому же Дюмурье прожил остаток жизни вдали от отечества, и нельзя не сожалеть о том, что этот человек пятьдесят лет жизни провел в придворных интригах, тридцать – в изгнании и только три – на поприще, достойном его способностей.
Дампьер стал главнокомандующим Северной армии и укрепил свои войска в лагере при Фамаре, чтобы тотчас же подать помощь любой из французских крепостей, которой угрожала бы опасность. Сила этой позиции и самый план кампании союзников, по которому они не должны были идти вперед до взятия Майнца, вынужденно замедляли военные действия с этой стороны. Ктостин, чтобы оправдать собственные ошибки, постоянно обвинял своих товарищей, и наговоры его на Бернонвиля выслушивались милостиво, так как все считали бывшего министра сообщником Дюмурье, хотя последний и выдал его австрийцам; вследствие этого Кюстина сделали главнокомандующим на Рейне, от Вогезов и Мозеля до Юнинга. Поскольку отступничество Дюмурье началось с переговоров, Конвент постановил смертную казнь в отношении каждого генерала, который стал бы внимать предложениям неприятеля, если им не будут предварительно признаны верховная власть народа и Республика. Затем военным министром был назначен Бушотт – на место Монжа, хоть и весьма приятного якобинцам своей уступчивостью, но не сумевшего справиться со всеми частями своего огромного ведомства. Еще было решено, что при армиях будут безотлучно находиться три комиссара Конвента и каждый месяц одного из них будет замещать новое лицо, присылаемое из Парижа.
Глава XXII
Учреждение Комитета общественной безопасности – Возобновление борьбы партий – Речи и обвинения Робеспьера – Ответ Верньо – Общественное мнение и ход революции в провинциях – Особое положение Бретани и ВандеиОтступничество Дюмурье, прискорбное положение армий, близкая опасность, грозившая Революции и самой территории страны, указывали на необходимость серьезных мер и принудили собрание заняться наконец так часто предлагаемым усилением управления, сосредоточив его в руках депутатов. Перебрав несколько планов, Конвент остановился на учреждении Комитета общественной безопасности из девяти членов. Этот комитет должен был совещаться секретно. Ему поручалось надзирать за деятельностью исполнительной власти и торопить ее, даже приостанавливать действие ее постановлений, когда он считал их противными общественным интересам, с тем, однако, чтобы извещать об этом Конвент. Комитету разрешалось в экстренных случаях принимать меры к внешней и внутренней обороне, и постановления, подписанные большинством его членов, должны были приводиться в действие исполнительной властью немедленно. Комитет учреждался всего на месяц и мог отдавать приказы об аресте преступников лишь в этот период. Членами были назначены: Барер, Дельма, Бреар, Камбон, Жан Дебри, Дантон, Гитон де Морво, Трельяр, Лакруа. Запасными членами стали: Робер Ленде, Инар и Камбасерес. Этот комитет, хоть он еще не совмещал в себе всех властей, уже имел громадное влияние: он переписывался с комиссарами Конвента, давал им предписания, мог заменять распоряжения министров своими. Через Камбона комитет держал в руках финансы, а у могучего вождя Дантона позаимствовал отвагу и влияние. Итак, по причине всё возраставшей опасности Франция скорыми шагами шла к диктатуре. Опомнившись от ужаса, вызванного поступком Дюмурье, партии думали теперь только об одном: как бы уличить друг друга в сообщничестве с ним, и сильнейший, само собой, должен был задавить слабейшего. Секции брали на себя инициативу и в своих адресах и петициях прямо обвиняли жирондистов. Около этого времени по наущению Марата образовалась одна сходка, еще более неистовая, нежели все прочие. Марат говорил, что до сего дня о державных правах народа шла лишь одна болтовня; что если понять его учение как следует, то каждая секция полновластна и всегда может отнять данные ею полномочия. Сумасброднейшие из агитаторов, присвоив этот принцип, стали выдавать себя за депутатов секций, уполномоченных проверять, как применяются данные ими полномочия, и сноситься со всеми муниципалитетами Республики. Эти люди называли себя Центральным комитетом общественной безопасности. Отсюда-то исходили наиболее подстрекательские предложения. Именно тут было решено отправиться всем вместе в Конвент и спросить депутатов, есть ли у них средства спасти отечество. Эта сходка, тотчас же приковавшая к себе взоры собрания, привлекла также внимание коммуны и якобинцев. Робеспьер, несомненно жаждавший результатов восстания, но опасавшийся этого средства и трусивший перед каждым таким движением, высказался против ярых предложений, обсуждаемых на демагогических сходках черни, и продолжал придерживаться своей любимой политики: сделать всё, чтобы подорвать репутацию депутатов, будто бы изменивших своим доверителям, и погубить их в общественном мнении прежде, чем прибегнуть к другим мерам. Он любил обвинять, но боялся пускать в ход силу и предпочитал уличным восстаниям словесные битвы, потому что они не представляли опасности, а славы приносили много. Марат, который любил иногда порисоваться, изображая умеренность, обличил новое собрание, хотя оно составилось по положенным им самим началам. Депутаты отправили комиссаров выяснить, что это за люди: чрезмерно усердные патриоты или наемные агитаторы. Убедившись в том, что это действительно патриоты, якобинцы не решились исключить их из своего общества, как это предлагалось, но составили список членов нового комитета, чтобы осуществлять над ними надзор, и предложили публично выразить неодобрение их действиям. Точно таким же образом готовилось 10 августа и заранее подвергалось разным пересудам. Все, не смевшие действовать, все те, кто не прочь, чтобы их опередили другие, не одобряют первых попыток, хоть им и хочется результатов этих попыток. Один Дантон хранил глубокое молчание и не отрекался от подпольных агитаторов. Он не любил побеждать своих противников длинными обвинениями с кафедры, он предпочитал средства прямые, действенные, тем более что в его руках таковые имелись во множестве. Неизвестно, действовал ли он сам, однако хранил грозное молчание. Несколько секций осудили новое демагогическое собрание; секция Майль дажеподала Конвенту энергичную петицию по этому поводу. Секция Бон-Нувель прочла адрес, в котором обличала как сообщников Дюмурье, Бриссо, Верньо, Гюаде, Жансонне и других и требовала, чтобы их поразил меч закона. По окончании длинного спора просители были объявлены почетными гостями, но им заметили, что собрание больше не будет слушать обвинений против своих членов и со всяким подобным обличением следует обращаться к Комитету общественной безопасности. Секция Хлебного рынка, одна из самых яростных, составила под председательством Марата новую петицию и послала ее к якобинцам, ко всем секциям и в коммуну, чтобы все городские власти ее утвердили и одобрили и мэр Паш торжественно подал ее в Конвент. В этой петиции излагалось, что часть Конвента развращена, якшается со скупщиками хлеба и лихоимцами и находится в сообщничестве с Дюмурье и что нужно сменить всю эту часть. Пока петиция ходила из секции в секцию, Робеспьер, страстный охотник до личных дрязг, получив слово в собрании, начал против жирондистов такую едкую, позорную речь, какой еще не позволял себе никогда. Остановимся на этой речи, которая ярко показывает, как действия врагов отражались в его мрачном воображении. По словам Робеспьера, кроме высшей аристократии, в 1789 году лишенной своих преимуществ, существует аристократия буржуазная, столь же тщеславная и деспотичная и заменившая своими изменами измены дворянства. Открытая и прямая революция ей не по душе; ей требуется король с Конституцией 1791 года, чтобы обеспечить свою власть. Жирондисты – основа этой аристократии. При Законодательном собрании они завладели министерствами через Ролана, Клавьера и Сервана; потеряв министерства, они хотели отмстить 20 июня и накануне 10 августа вступили в переговоры с двором и предлагали ему мир с условием, что власть будет им возвращена. Даже 10 августа они еще выбирали наставника для дофина, а не уничтожали монархизм. После 10 августа жирондисты снова завладели министерствами и клеветали на коммуну, чтобы подорвать ее влияние и обеспечить себе исключительное владычество. Когда сошелся Конвент, они наводнили комитеты, продолжали клеветать на Париж и представлять этот город средоточием всяческих злодеяний, извращали общественное мнение через свои газеты посредством громадных сумм, которые Ролан отдавал на распространение самых зловредных статей. В январе, наконец, они противились казни тирана – не из участия к его личности, а из участия к монархизму. «Эта фракция, – продолжает Робеспьер, – одна виновна в бедственной войне, которую мы теперь ведем. Она хотела этой войны, чтобы подвергнуть нас нашествию Австрии, обещавшей конгресс и буржуазную конституцию. Она коварно управляла ею и, сначала использовав изменника Лафайета, использовала затем изменника Дюмурье. Эта фракция притворилась сначала, будто находится с ним в ссоре, но ссора была несерьезной, так как потом фракция сделала его министром и выхлопотала для него шесть миллионов на секретные расходы. Дюмурье, сговорившись с жирондистами, спас пруссаков в Аргонском лесу, тогда как мог бы их уничтожить. В Бельгии он, правда, одержал большую победу, но ему это было необходимо, чтобы приобрести общественное доверие, и как только он заручился этим доверием, то начал всячески им злоупотреблять. Дюмурье не вторгся в Голландию, которую мог бы занять в первую же кампанию; он помешал присоединению завоеванных земель к Франции, и дипломатический комитет, его сообщник, всеми силами старался отстранить бельгийских депутатов, ходатайствовавших об этом. Комиссары исполнительной власти, с которыми Дюмурье обошелся так дурно, потому что они притесняли бельгийцев, все были выбраны жирондистами: они нарочно сговорились послать туда разрушителей, чтобы гласным образом восстать против них и этим обесчестить дело Республики. Дюмурье, слишком поздно напав на Голландию, возвращается в Бельгию, проигрывает сражение при Неервиндене, и участь этого сражения решает своим отступлением именно Миранда, друг Петиона, его создание. Тогда Дюмурье раскрывается полностью и водружает знамя бунта в ту самую минуту, когда заговор вызывает мятежи на западе. Всё было подготовлено к этой минуте. Военный министр, изменник, был припасен на этот важный случай нарочно; Комитет общественной безопасности, составленный из одних жирондистов, кроме семи-восьми честных депутатов, которые его не посещали, ничего не делал для предотвращения опасностей, грозивших стране. Итак, ничто не было забыто для успеха заговора. Нужен был король, и все генералы были преданы Филиппу Эгалите. Дюмурье был окружен семейством Эгалите: его сыновья, дочь, даже интриганка Силлери находились при нем. Дюмурье начинает с манифестов – и что же он в них говорит? Всё то, что ораторы и писатели его фракции говорили с кафедры и писали в газетах: Конвент состоит из злодеев, за исключением небольшой здравой части; Париж – источник всяких злодеяний; якобинцы – разрушители, которые распространяют смуты и междоусобную войну, и так далее, и так далее…» Вот как Робеспьер объяснил и отступничество Дюмурье, и оппозицию жирондистов. Он долго развивал это злокозненное сплетение клеветы и закончил предложением отослать в Революционный трибунал сообщников Дюмурье, всех Орлеанов и их друзей. «Что касается депутатов Гюаде, Жансонне, Верньо и других, – присовокупил он со злой иронией, – было бы святотатством обвинять таких честных людей, и я, сознавая свое бессилие, вполне полагаюсь на мудрость собрания». Трибуны и Гора долго аплодировали своему добродетельному оратору. Жирондисты пришли в крайнее негодование от этой гнусной речи, в которой коварная ненависть участвовала настолько же, насколько и природная недоверчивость. Верньо бросился к кафедре со стесненным сердцем и попросил слова с такой живостью, такой настойчивостью и решительностью, что ему не смогли отказать, и даже трибуны и депутаты Горы не мешали ему говорить. На обстоятельно обдуманную речь Робеспьера Верньо возразил экспромтом, достойным красноречивейшего и невиннейшего из людей. Он объявил, что дерзает ответить господину Робеспьеру и не потратит на подготовку ни времени, ни искусства, потому что ему довольно своей души. Он будет говорить не за себя, а для того, чтобы вразумить Францию. Его голос, который не раз приводил эти собрания в трепет, который содействовал низвержению тирании, наведет ужас и на души злодеев, желавших утвердить свою тиранию вместо монархической. Затем Верньо возразил на каждое обвинение Робеспьера тем, чем может возразить каждый при простом знании фактов. Он вызвал низложение короля своей речью, произнесенной в июле. Незадолго до 10 августа, сомневаясь в успехе восстания, не зная даже, последует ли оно, он указал одному из посланников двора, что королю следует сделать, чтобы помириться с нацией и спасти отечество. Десятого августа он заседал в собрании под шумом пушек, пока господин Робеспьер сидел в подвале. Он не настоял тогда же на низложении короля, потому что бой был сомнителен, и предложил наставника дофину потому, что в случае, если бы монархизм удержался, хорошее воспитание, данное наследному принцу, обеспечивало будущность Франции. Он и его друзья требовали объявления войны, потому что она была уже объявлена фактически, и лучше было объявить ее открыто и защищаться, чем только терпеть, а не действовать. Он и его друзья попали в министерство и комитеты благодаря общественному мнению. Они не допустили выезда из столицы Законодательного собрания и они же подготовили средства, которые Франция развернула в Аргонском лесу. В Комитете общественной безопасности они постоянно занимались на глазах своих товарищей, которые всегда могли присутствовать на заседаниях, в то время как он, Робеспьер, никогда не являлся в комитет. Они не клеветали на Париж, а нападали на убийц, называвших себя парижанами и бесчестивших Париж и Республику. Они не извращали общественного мнения, ибо Верньо, со своей стороны, не написал ни одного письма, а то, что распространял Ролан, известно всем. Он и его друзья требовали обращения к народу по поводу процесса Людовика XVI, потому что считали, что в акте подобной важности нельзя обойтись без национального согласия. Что касается его лично, он едва знаком с Дюмурье и видел его всего два раза; но Дантон и Сантерр знали его, поздравляли, осыпали ласками и каждый день зазывали к себе обедать. Эгалите он тоже знал не больше. Одни депутаты Горы знались с ним и много виделись, а когда жирондисты на него нападали, именно они постоянно защищали его. Следовательно, в чем же можно винить его и его друзей?.. В том, что они зачинщики, интриганы? Но ведь они не бегают по секциям, не затевают агитаций, не наполняют трибун, чтобы вырывать у Конвента декреты путем устрашения; они никогда не назначали министров из тех собраний, членами которых состояли сами. Или в том, что они придерживаются умеренных взглядов?.. Однако они не были умеренны 10 августа, когда Марат и Робеспьер прятались, и были умеренны в сентябре, когда избивали арестантов и грабили склады коронных драгоценностей. «Вы знаете, – сказал в заключение Верньо, – терпел ли я молча все поругания, которыми меня забрасывают уже полгода; вы знаете, мог ли я не обличать во всей их гнусности обман и злобу Робеспьера, если не хотел показать себя подлецом, признать себя виновным, отнять у себя последнюю возможность приносить хоть малую пользу. Да будет этот день последним, который мы теряем в скандальных препирательствах!» Талант Верньо очаровал даже своих врагов. Его искренняя, задушевная речь заинтересовала и увлекла большинство собрания, и со всех сторон его засыпали заявлениями живейшего участия. Попросил слова Гюаде, но при одном его виде молчаливая дотоле Гора начала страшно реветь и кричать. Заседание прервали, и Гюаде лишь 12-го числа получил, в свою очередь, возможность возразить Робеспьеру, и ответ его гораздо сильнее возбудил страсти, нежели речь Верньо. Заговора, по его словам, не было никакого, но если уж видели признаки заговора, то эти признаки несравненно более говорили против Горы и якобинцев, которые имели сношения с Дюмурье и Эгалите, нежели против жирондистов, которые были с ними в ссоре. – Кто бывал с Дюмурье у якобинцев, в театрах? – восклицает Гюаде. – Ваш Дантон! – А! Ты меня обвиняешь? – ревет Дантон. – Ты не знаешь моей силы! Конец речи Гюаде откладывается до следующего дня. В заключение Гюаде читает подписанный Маратом адрес, который был составлен якобинцами, а Марат подписал его в качестве президента общества. В нем были следующие слова, которые Гюаде читает собранию: «Граждане, вооружимся! Контрреволюция в правительстве, в недрах Конвента! Идем на него, идем!» – Да! – кричит Марат со своего места. – Да, идем! Тут всё собрание поднимается на ноги и требует обвинительного декрета против Марата. Дантон не соглашается на это и говорит, что обе стороны, по-видимому, согласны относительно обвинения Орлеанов и, следовательно, надо отдать под суд их; но Марата нельзя обвинить за крик, вырвавшийся у него среди бурного спора. Дантону отвечают, что Орлеанов следует судить не в Париже, а в Марселе. Он хочет говорить еще, но его не слушают и в первую очередь заслушивают вопрос об обвинительном декрете против Марата; Лакруа требует его немедленного ареста. «Если уж враги мои потеряли всякий стыд, – заявляет Марат, – то я прошу одного: декрет этот непременно должен вызвать протест; пошлите меня с двумя жандармами к якобинцам, чтобы я уговорил их не нарушать спокойствия». Однако его арестуют, не внимая этим смешным доводам, и отдают распоряжение о том, чтобы обвинительный акт подготовили к следующему полудню. Робеспьер побежал к якобинцам излить свое негодование, превознести энергию Дантона и умеренность Марата и уговорить их держаться спокойно, чтобы не могли сказать, будто Париж восстал с целью освободить якобинца. На другой день обвинительный акт был прочтен и одобрен собранием, и обвинение против Марата, столько раз уже предлагаемое, отправили Революционному трибуналу. Все эти бурные объяснения между сторонами собрания были вызваны проектом петиции против жирондистов, но именно об этом не приняли никакого постановления, так как Конвент не имел бы сил остановить движение, спровоцированное такой петицией. Деятельно развивался проект общего адреса; из сорока трех секций тридцать пять согласились, Генеральный совет коммуны одобрил проект, и 13 апреля комиссары секций с Пашем во главе явились в Конвент. Это был, в некотором роде, манифест, которым Парижская коммуна заявляла свои намерения и грозила восстанием в случае отказа. Так она поступила перед 10 августа, так же – перед 31 мая. Оратор депутации Русселей зачитал адрес. Описав преступное поведение некоторых депутатов, просители требуют их исключения из Конвента и перечисляют их поименно: Бриссо, Гюаде, Верньо, Жансонне, Гранжнев, Бюзо, Барбару, Салль, Бирото, Понтекулан, Петион, Ланжюине, Валазе, Луве, Легарди, Торса, Гоше, Лантена, Ласурс, Валади, Шамбон. Трибуны рукоплещут при чтении этих имен. Президент заявляет просителям, что закон обязывает их подписать петицию. Они спешат это сделать. Один Паш старается продлить свой нейтралитет и отстает от остальных. Его тоже приглашают подписать; он отвечает, что не принадлежит к числу просителей и ему только поручено сопровождать их. Однако видя, что отступить нельзя, всё же подписывает. Трибуны награждают его за это шумными рукоплесканиями. Буайе-Фонфред тотчас же всходит на кафедру и объявляет, что если бы его не останавливала скромность, он просил бы, чтобы и его имя прибавили к славному списку двадцати двух депутатов. Большинство собрания под влиянием внезапного теплого порыва восклицает: «И нас, всех! Всех!» Все толпятся около двадцати двух, свидетельствуют им свое живейшее участие, обнимают их, и прения, прерванные этой сценой, откладываются.
В назначенное время прения возобновились. Опять начались обоюдные упреки и оправдания. Некоторые депутаты центра, предъявив несколько писем о состоянии армий, предложили заняться общими интересами Республики и бросить частные ссоры. Собрание на это согласилось, но 18-го числа против правой стороны поступила новая петиция, заставив возвратиться к петиции от секций. В то же время обличали действия коммуны: одним своим актом она объявляет себя в состоянии постоянной революции, другим учреждает особый комитет для сношений со всеми муниципалитетами государства. Коммуна действительно давно уже старалась придать своей местной власти более общий характер, который дозволил бы ей говорить от имени Франции и соперничать с Конвентом. Новый комитет, собиравшейся в епископском дворце и распущенный по совету якобинцев, тоже имел целью связать Париж с другими городами, и теперь коммуна хотела восполнить этот пробел. Верньо начал говорить, напал и на петицию тридцати пяти секций, на действия, приписываемые коммуне, и на замыслы, изобличаемые ее поступками. Он требовал объявить петицию клеветой и обязать муниципалитет принести в собрание свои реестры, чтобы оно могло ознакомиться с его постановлениями. Эти предложения были приняты вопреки трибунам и левой стороне. В эту минуту правая сторона, поддержанная Равниной, начала брать верх во всех решениях. Ее стараниями в президенты был выбран Ласурс, один из самых горячих ее депутатов, и она имела за собой большинство, то есть легальность – слабое средство против силы, которая этим только еще более раздражается. Муниципальные власти, потребованные в Конвент, смело представили реестры своих совещаний и как будто ждали, что их постановления будут одобрены. Постановления гласили: 1) Генеральный совет объявляет себя в состоянии революции, пока не будет обеспечено продовольствие; 2) комитет для сношений с сорока тысячами муниципалитетов будет состоять из девяти членов и безотлагательно начнет свою работу; 3) двенадцать тысяч экземпляров петиции против двадцати двух будут отпечатаны и разосланы; 4) наконец, Генеральный совет будет считать себя оскорбленным каждый раз, когда один из его членов окажется преследуем за свои мнения. Последнее постановление имело целью оградить Марата. Едва закончили чтение реестров, Робеспьер-младший потребовал, чтобы муниципальные чиновники были объявлены почетными гостями. Правая сторона восстает против этого; Равнина колеблется и замечает, что опасно оказать неуважение муниципальным чиновникам в глазах народа, отказывая им в такой ничего не значащей почести, в которой не отказывают даже простым просителям. Среди этих бурных прений заседание продолжается до одиннадцати часов вечера; правая сторона и Равнина удаляются, и остаются только сто сорок три члена Горы, которые и объявляют членов парижского муниципалитета почетными гостями. В этот день коммуна, объявленная клеветницей, отвергнутая большинством, принятая с почетом лишь Горой и трибунами, должна была быть глубоко рассержена и стать центром всех желавших разбить власть Конвента.
Марата наконец предали Революционному трибуналу, и обвинение его состоялось по милости правой стороны, увлекшей и Равнину. Всякое энергичное движение делает честь партии, борющейся против более сильного противника, но ускоряет ее падение. Жирондисты, мужественно преследуя Марата, только подготовили свой конец. Сущность обвинительного акта состояла в том, что поскольку Марат в своих листках призывал к убийству, резне, унижению и роспуску Национального конвента, то следует обвинить его декретом его и предать Революционному трибуналу. Якобинцы, кордельеры, все парижские агитаторы всполошились и вступились за «сурового философа, сложившегося в школе несчастия и размышления, соединявшего с огненною душою великую прозорливость, глубокое знание человеческого сердца и умение распознавать изменников на триумфальной их колеснице в ту минуту, когда глупые народы еще курят им фимиам». «Изменники! – восклицали они. – Изменники уйдут, а слава Марата только начинается!» Хотя состав трибунала еще не был таким, каким стал впоследствии, тем не менее Марата он осудить никак не мог. Прения продолжались едва ли несколько минут. Подсудимый был оправдан единодушно, при рукоплесканиях многочисленной толпы, сбежавшейся на суд. Его немедленно окружает несметная толпа женщин, санкюлотов с пиками и вооруженных отрядов секций. Два муниципальных чиновника открывают шествие. Марата хватают и несут в Конвент, чтобы посадить его на депутатское место. Увенчанного дубовым венком, его с триумфом вносят в залу на руках. Один из несших его саперов отделяется от прочих, подходит к решетке и говорит: «Гражданин президент, мы привели вам доброго Марата. Марат всегда был другом народа, и народ всегда будет другом Марата. Если голова его должна пасть, то голова сапера падет прежде!» Произнося эти слова, ужасный сапер размахивает топором, а трибуны оглушительно ему аплодируют. Он просит, чтобы всему шествию было дозволено пройти через залу. «Я спрошу мнения собрания», – отговаривается президент Ласурс, приведенный в ужас этой безобразной сценой. Но толпа не дожидается разрешения и со всех сторон вторгается в залу. Женщины и мужчины рассыпаются по ней, и некоторые даже садятся на пустые места, покинутые депутатами, возмущенными этим зрелищем. Наконец появляется Марат, переданный с рук на руки, осыпанный рукоплесканиями. Он переходит в объятия своих товарищей, которые обнимают его с изъявлениями живейшей радости. Насилу вырвавшись, Марат взбегает на кафедру и объявляет законодателям, что возвращается к ним с чистым сердцем, оправданным именем и готовый умереть для защиты свободы и прав народа. Новые почести ожидали его в Клубе якобинцев. Женщины приготовили множество венков. Президент подносит ему один из них; четырехлетний ребенок, поставленный на стол, кладет ему на голову другой. Но Марат с дерзким пренебрежением отстраняет венки руками. «Граждане! – восклицает он. – Негодуя на злодейскую фракцию, изменявшую Республике, я хотел разоблачить ее и затянуть ей петлю на шее; она прикрылась тем, что издала обвинительный декрет против меня. Я вышел победителем. Фракция унижена, но не задавлена. Не занимайтесь же триумфами, защищайтесь лучше с той же восторженностью. Я слагаю с себя поднесенные вами два венка и приглашаю своих соотечественников дождаться конца моей карьеры, прежде чем награждать меня». Громкие рукоплескания приветствуют эту скромную и в то же время наглую выходку. Нарадовавшись вдоволь, якобинцы спешат продолжать свои всегдашние рассуждения о том, как очистить правительство и изгнать из него изменников. Для этого предлагается составить список чиновников всех ведомств и отметить имена заслуживших отставку. «Пришлите мне список, – говорит Марат, – и я отберу тех, кого надо прогнать, и тех, кого следует удержать, а потом дам знать министрам». Робеспьер немедленно отмечает, что министры почти все являются сообщниками виновных; что они не послушаются общества и лучше обратиться к Комитету общественной безопасности, стоящему по своей должности выше исполнительного совета; что общество не может компрометировать себя сношением с министрами-предателями и лихоимцами. «Это пустые доводы, – возражает Марат презрительно. – Такой непорочный патриот, как я, может сноситься хоть с чертом; я обращусь к министрам и от имени общества потребую, чтобы они отвечали». Почтительная уступчивость неизменно окружала добродетельного и красноречивого Робеспьера; но дерзость и нахальный цинизм Марата изумляли и одолевали все пылкие головы. Его гнусная фамильярность привязывала к нему секционных бунтарей, которым льстила эта дружба и которые всегда были готовы к его услугам. Гору бесили встречаемые ею препятствия; но эти препятствия были еще более значительны в провинциях, чем в самом Париже, и неприятности, которым подвергались ее комиссары, посланные торопить набор, вскоре должны были довести раздражение депутатов до последней крайности. Все провинции были как нельзя лучше расположены в отношении революции, но не все с одинаковым жаром и не все отличились такими излишествами, как город Париж. В революцию кидаются прежде всего праздные честолюбцы, буйные головы, высокие умы – таковых в столице всегда больше, нежели в провинции, потому что в столицу сходятся все, кто из независимости или из честолюбия оставляют землю, традиции и занятия своих отцов. Следовательно, прежде всего Париж должен был произвести величайших революционеров. Сверх того, этот город, находясь на небольшом расстоянии от границ и фактически являясь целью всех неприятельских ударов, подвергался большей опасности, нежели все прочие города Франции; будучи центром всех властей, он присутствовал при обсуждении и решении самых важных вопросов. Итак, опасность, споры – в столице соединялось всё, что только могло произвести необузданность и излишества. Провинции, чуждые этих причин, с ужасом следили за происходящим и разделяли образ мыслей правой стороны и Равнины. В особенности недовольные обращением с их депутатами, они думали, что в столице, кроме революционного преувеличения, имелось стремление властвовать над Францией, как Рим властвовал над завоеванными областями. Таково было настроение народа, спокойного, трудящегося, умеренного, относительно парижских революционеров. Впрочем, это настроение было более или менее определенным, смотря по местным обстоятельствам. В каждой провинции, в каждом городе тоже были свои ярые революционеры, потому что везде есть охотники до приключений и пылкие характеры. Люди этого типа завладели почти всеми муниципалитетами, воспользовавшись общим обновлением властей, последовавшим после 10 августа. Бездеятельная и умеренная масса всегда уступает место наиболее ревностным, и самые отчаянные головы естественным образом должны были захватить муниципальные должности, труднейшие из всех и требовавшие наибольшего усердия и энергии. Мирные граждане, составлявшие большинство, удалились в секции, и иногда заходили туда подать голос, чтобы воспользоваться своими гражданскими правами. Департаментские должности были отданы самым богатым и почитаемым нотаблям, то есть наименее деятельным и наименее энергичным людям. Итак, горячие революционеры укрепились в муниципалитетах, между тем как средние и богатые классы занимали секции и департаментские должности. Парижская коммуна, оценив это положение, хотела вступить со всеми муниципалитетами в сношения. Но, как мы видели выше, в этом ей помешал Конвент. Парижское общество якобинцев восполнило этот недостаток своими собственными связями, так что отношения, которым не удалось установиться между муниципалитетами, существовали между клубами, и те самые люди, которые толковали в клубах, действовали потом в генеральных советах коммун. Таким образом, якобинская партия, сплоченная в муниципалитетах и клубах, поддерживавшая сношения от одного конца государства до другого, имела дело с общей массой людей, громадной, но разделенной на множество секций, не имевшей активных должностей и не устраивавшей сношений между городами. Эта-то разница в положениях и подавала революционерам небезосновательную надежду перетянуть на свою сторону население. Народ допускал республику, но не хотел, чтобы она пятнала себя преступлениями, а в ту минуту сила в провинциях была еще на его стороне. С тех пор как муниципалитеты, вооруженные страшной полицией, получили право устраивать домовые обыски, разыскивать иногородцев и иностранцев, отбирать оружие у подозрительных личностей, безнаказанно причинять неприятности мирным гражданам, секции пытались реагировать на это произвол и соединились с целью не дать муниципалитетам лишней власти. Почти во всех городах Франции они несколько осмелели, вооружились, сопротивлялись муниципалитетам, восставали против их инквизиторской полиции, поддерживали правую сторону и заодно с нею требовали мира, порядка, уважения к личности и собственности. Муниципалитеты и якобинские клубы, напротив, требовали новых полицейских мер и учреждения департаментских революционных трибуналов. В некоторых городах жители были готовы драться из-за этих вопросов. Однако секции были численно так сильны, что превосходили энергию муниципалитетов. Депутаты Горы, посланные поторопить набор и оживить усердие, пугались этого сопротивления и наполняли Париж своими опасениями. Так, почти вся Франция была разделена. Борьба шла более или менее напряженная, партии были более или менее ожесточены, смотря по положению каждого города. Там, где опасности, грозившие Революции, казались более значительными, якобинцы были склонны применять жесткие методы, и, следовательно, умеренные люди были более расположены сопротивляться им. Но что всего более ожесточало революционные страсти – это опасность внутренних измен, еще большая, чем опасность войны с иноземцами. Так, на северной границе, угрожаемой неприятельскими армиями и мало волнуемой интригами, согласие почти не нарушалось; у всех была одна мысль – общая оборона, и комиссары, разъезжавшие между Лиллем и Лионом, присылали вполне удовлетворительные донесения. Но уже в Лионе, где тайные происки в соединении с географическим и стратегическим положением города увеличивали опасность, разыгрывались такие же страшные бури, как в Париже. Своим местоположением в восточной части Франции и соседством с Пьемонтом Лион всегда обращал на себя взоры контрреволюции. Первая туринская эмиграция еще в 1790 году хотела устроить там восстание и даже послать туда одного из французских принцев. Мирабо свой план тоже строил на Лионе. С тех пор как эмиграция переселилась в Кобленц, в Швейцарии был оставлен агент для сношений с Лионом, а через Лион – с южными фанатиками. Эти происки вызвали якобинскую реакцию, и в итоге из-за роялистов в Лионе образовались сторонники Горы. Они составили клуб, который назывался Центральным и состоял из посланцев всех местных клубов. Во главе его оказался пьемонтец, который, увлекаемый природной непоседливостью, переходил из страны в страну, наконец поселился в Лионе и тут, по милости своей революционной горячности, попал сначала в муниципальные чиновники, а затем в президенты гражданского суда. Его звали Шалье. Он произносил в Центральном клубе такие речи, за которые у парижских якобинцев сам Марат обвинил бы в резкости и стремлении к переворотам, если не в получении денег с иностранцев. Кроме этого клуба, в распоряжении лионских революционеров состоял весь муниципалитет, кроме мэра Нивьера, друга и ученика Ролана: он был главой лионских жирондистов. Утомленный столькими бурями, Нивьер, подобно Петиону, подал в отставку и тоже был вновь избран секциями, которые в Лионе были энергичнее и могущественнее, нежели во всей остальной Франции. Из одиннадцати тысяч голосов девять тысяч было подано за Нивьера, что и вынудило его снова стать мэром, но он вторично подал в отставку, и на этот раз муниципалитету удалось обзавестись подходящим мэром. По этому случаю произошла рукопашная: молодежь секций выгнала Шалье из Центрального клуба и очистила залу, в которой он изрыгал свою фанатическую чепуху. Испуганный департаментский совет вызвал комиссаров Конвента, которые, сначала высказавшись против секций, а потом против излишеств коммуны, не угодили ни одной партии; на них написали донос, как на якобинцев, и Конвент вынужден был отозвать их. Комиссары действительно только и сделали, что перестроили Центральный клуб, подчинили его якобинцам и, сохранив его энергию, избавили его от некоторых чересчур неблаговидных членов.
В мае раздражение достигло высшей степени. С одной стороны, коммуна, составленная исключительно из одних якобинцев, и Центральный клуб под председательством Шалье требовали учреждения в Лионе Революционного трибунала и носили по площадям гильотину, присланную из Парижа для острастки изменников, аристократов и пр.; с другой стороны, вооруженные секции готовы были подавить муниципалитет и препятствовать учреждению кровавого судилища, от которого жирондисты не смогли спасти столицу. При этом положении дел тайные роялистские агенты, которых в Лионе было много, выжидали удобной минуты, чтобы воспользоваться гневом жителей, готовым, наконец, разразиться взрывом. На всем остальном юге до Марселя умеренный республиканский дух царствовал ровнее и жирондисты пользовались общим расположением края. Марсель завидовал верховенству Парижа, раздражался оскорблениями, наносимыми его любимому депутату Барбару, и был готов подняться против Конвента при удобном случае. Этот город, хоть и богатый, по местоположению не был удобен для иностранных контрреволюционеров, потому что имел соприкосновение только с Италией, где ничего не замышлялось, и порт его не так интересовал англичан, как тулонский. Следовательно, тайные происки в Марселе не так пугали умы, как в Лионе и Париже, и местный муниципалитет, бессильный и нелюбимый, был весьма близок к отставке, так как его не терпели всемогущие секции. Депутат Моиз Бейль, встреченный весьма недружелюбно, нашел там не только большое усердие в деле набора, но и безусловную преданность Жиронде. Начиная от Роны и до берегов океана от пятидесяти до шестидесяти департаментов обнаруживали то же настроение. Наконец, в Бордо единодушие было полным. Там секции, муниципалитет, главный клуб – словом, все дружно боролись против насилия Горы и поддерживали достославную депутацию Жиронды, которой так гордились ее соотечественники. Противная партия нашла себе пристанище в одной-единственной секции, а впрочем, везде оказывалась бессильна и вынуждена была молчать. Бордо не требовал ни таксы, ни продовольствия, ни Революционного трибунала и одновременно готовил петиции против парижской коммуны и батальоны для службы Республике. Но вдоль берегов океана, от Жиронды до Луары и от Луары до устьев Сены, были представлены совсем другие мнения и гораздо большие опасности. Там неукротимая Гора встречала не милосердый и великодушный республиканский дух жирондистов, а уже конституционный роялизм 1789 года, вовсе не признававший Республики, и фанатизм феодальных времен, вооруженный против революции 93-го, равно как и 89-го годов, признававший лишь светскую власть дворян и духовную власть церквей. В Нормандии, в особенности в Руане, главном городе этой области, господствовала всеобщая привязанность к Людовику XVI, а Конституция 1791 года вполне удовлетворяла желание свободы и верноподданнические чувства. Со времени уничтожения королевской власти и Конституции 1791 года, то есть с 10 августа, в Нормандии воцарилось недовольное, зловещее молчание. Бретань представляла еще более враждебное настроение: там народ находился под всесильным влиянием священников и аристократов. Ближе к берегам Луары эта привязанность доходила до восстания, наконец, на левом берегу Луары, в округах Бокаж, Лору, Вандея, восстание было всеохватным и сражаться вышли целые армии по десять и двадцать тысяч человек.
Здесь, кстати, познакомим читателей с этим своеобразным краем, отличавшимся столь геройским, упрямым и несчастным населением, едва не погубившим Францию опасной диверсией и, во всяком случае, значительно увеличившим ее бедствия, вызвав крайнее усугубление революционной диктатуры. По обоим берегам Луары народ сохранил большую привязанность к своему прежнему быту и в особенности к своим священникам и церковным обрядам. Когда вследствие принятия гражданской конституции члены духовенства разделились на два лагеря, последовал настоящий раскол. Неприсягнувшие приходские священники, не признававшие нового распределения церквей, сделались любимцами народа, и когда, лишившись мест, они были вынуждены удалиться, поселяне последовали за ними в леса и стали считать их и себя жертвами гонений за веру. Они стали собираться небольшими шайками, преследовать конституционных священников как непрошенных пришельцев и позволять себе самые безобразные поступки. В Бретани, в окрестностях Ренна, произошли бунты более общие и в больших размерах; поводом явились дороговизна предметов потребления и будто бы угрожавшие вере слова Камбона: «Кто хочет слушать обедню, пусть платит за нее». Однако правительству удалось подавить эти движения на правом берегу Луары, и единственное, чего можно было опасаться, – это сообщения с левым берегом, где образовалось настоящее восстание. Собственно, на этом берегу, в Анжу, в Верхнем и Нижнем Пуату, вспыхнула знаменитая Вандейская война. Это была именно та часть Франции, на которой всего менее отразилось влияние времени и где это влияние всего менее изменило стародавние нравы. Феодальные порядки там имели совсем особый, патриархальный характер, и революция не только не принесла полезных преобразований, но нарушила самые дорогие, заветные привычки, а потому была принята как гонение. Перелески (Бокаж) и Болото (Маре) – странный край, и нужно хорошо знать его, чтобы понять общество и нравы, которые там сложились. От Нанта и Сомюра, то есть от Луары до песков Ле-Сабль-д’Олона, Люсона, Фонтене и Ниора простирается местность неровная, волнообразная, перерезанная оврагами, ложбинами и множеством живых изгородей, которыми обнесено каждое поле (вследствие чего местность и названа Бокаж, Перелески). Ближе к морю почва опускается, оканчивается соляными болотами и беспрестанно пересекается маленькими каналами, делающими ее почти недоступной и непроходимой. Эта-то местность и названа Маре, Болотом. Единственное, чем изобилует край, это пастбищами, а стало быть и скотом. Жители сеяли только необходимое для себя количество хлеба и продукцию, получаемую от скота, использовали как меновое средство. Известно, до какой степени не тронутыми цивилизацией остаются народы, живущие таким промыслом. В этих краях сложилось всего несколько больших городов; всё больше встречались местечки в две-три тысячи жителей. Между двумя большими дорогами, ведущими одна из Тура в Пуатье, другая из Нанта в Ла-Рошель, лежит пространство шириной в тридцать лье, на котором в то время были одни только поселки и небольшие деревни. Земля была раздроблена на множество маленьких наделов, приносивших от пяти до шести сотен франков годового дохода; каждое имение арендовалось одним семейством, которое делилось с владельцем продуктами скотоводства. Владельцы имели дело с каждым семейством отдельно и поддерживали со всеми постоянные и простые отношения. В этих поместьях вели жизнь самую незатейливую; на первом месте оставалась охота – вследствие изобилия дичи; господа и крестьяне охотились вместе и одинаково гордились своей ловкостью и силой. Священники вели жизнь самую непорочную и исполняли отеческую роль. Богатство не испортило их и не давало повода к пересудам на их счет. Поселяне охотно подчинялись власти сеньоров и верили словам священника, потому что не видели ни притеснений, ни соблазнов. Когда Французская революция, везде столь благодетельная, добралась до этого края своей железной всеуравнивающей рукой, она произвела в нем глубокий переполох. Ей бы следовало в этом случае подвергнуться некоторому видоизменению, но это было невозможно. Те, кто обвиняли революцию за то, что она не применилась к местности, не понимали невозможности исключений и необходимости единой и безусловной нормы в больших социальных реформах. В этой глуши почти ничего не знали о сущности революции или знали то, что можно было понять из неудовольствия дворян и священников. Несмотря на отмену феодальных пошлин, народ не переставал платить их, а тут пришлось собираться, выбирать мэров: народ просил господ взять на себя эту должность. Но когда священники, не присягнувшие конституции, были сменены и народ таким образом лишился пастырей, к которым питал доверие, люди сильно прогневались, сбежали в леса, как в Бретани, и стали ходить на большие расстояния, чтобы присутствовать при единственно правильных священных обрядах. С этой поры в душах загорелась неистовая ненависть, которую священники еще и всячески разжигали. Вследствие 10 августа несколько именитых уроженцев Пуату возвратились в свои поместья. Двадцать первое января окончательно возмутило их, и они сообщили свое негодование всем окружающим. В Бретани сложился настоящий заговор, в Бокаже этого не случилось, там не было определенного плана, а просто люди терпели, сколько могли, и потом бунтовали. Наконец, набор трехсот тысяч человек вызвал в марте общее восстание. В сущности, жителям Нижнего Пуату было мало дела до остальной Франции; но строгости против их собственного духовенства и обязательное поступление на военную службу вывели их из себя. Согласно старым порядкам, местный военный контингент состоял из людей, которых природная непоседливость влекла вдаль от родной земли; теперь же закон забирал их безразлично, не справляясь об их пристрастиях. Уж если браться за оружие, то они предпочли драться против Республики, а не за нее. Почти в то же время, то есть в начале марта, начало рекрутской жеребьевки подало повод к бунту в Бокаже и Маре. Десятого марта жеребьевка должна была последовать в Сен-Флоране, близ Ансениса, в Анжу, но молодежь не приняла в ней участия. Полиция хотела принудить непокорных: комендант велел нацелить на них пушку. Жители с одними палками бросились на пушку, завладели ею, обезоружили солдат и сами несколько удивились своей прыти. Некто Кателино, извозчик, человек весьма уважаемый, очень храбрый, обладавший убедительной речью, бросил свое хозяйство, узнав об этом, и прибежал к бунтовщикам; он привел их в чувство, подбодрил и своей распорядительностью и энергией придал восстанию некоторую состоятельность. В тот же день он решил напасть на республиканский пост, состоявший из восьмидесяти человек. Земляки пошли за ним с палками и ружьями. Дав один залп, в котором не пропал ни единый выстрел, восставшие бросились на солдат, отбили у них оружие и завладели позицией. На следующий день Кателино пошел на Шемилье и завладел им тоже, несмотря на то, что этот пост защищался двумястами солдатами с тремя орудиями. Некий лесничий по имени Стоффле и один молодой крестьянин из деревни Шанзо собрали свой отряд. Они присоединились к Кателино, который возымел смелую мысль напасть на Шоле, значительнейший город всего края и главный город округа, защищаемый пятьюстами республиканцами. Инсургенты и тут сражались тем же способом. Пользуясь изгородями и неровностями почвы, они окружили неприятельский батальон и начали стрелять по нему наверняка, с безопасной позиции. Заметив, что неприятель поколеблен этим страшным огнем, мятежники воспользовались первой минутой неуверенности, кинулись на республиканцев с громкими криками, расстроили их ряды, отобрали оружие и стали бить их палками. В этом впоследствии и заключалась вся их военная тактика; сама природа, особенности местности научили их этому. Войска, выстроенные рядами в открытом поле, не могли отвечать на огонь, так как им нельзя было ни пустить в ход свою артиллерию, ни идти в штыки. Любые войска, не закаленные на войне, должны были скоро пошатнуться от такого постоянного и меткого огня, с которым не мог состязаться систематический огонь регулярных войск. Особенно трудно было не оробеть и не податься, когда эти бешеные крестьяне набегали с ужасным криком. А подавшись, солдаты погибали, потому что бегство, столь легкое для местных жителей, для линейных войск было невозможно. Стало быть, для борьбы со столькими опасностями требовались самые неустрашимые солдаты, а вместо того против бунтовщиков были выставлены национальные гвардейцы-новобранцы, набираемые в местечках, и искренние республиканцы, в первый раз испытывавшие свое усердие в сражениях. Итак, победоносный отряд Кателино вступила в Шоле, захватила всё оружие, какое нашла там, и наделала патронов из пушечных зарядов. Вандейцы всегда добывали себе военные припасы этим способом. Когда их побеждали, неприятелю нечем было поживиться, так как они не имели ничего, кроме палки или ружья, с которыми и бежали, а победа доставляла им значительные военные трофеи. Инсургенты праздновали свою удачу, а затем сжигали все казенные бумаги, усматривая в них орудие тирании. Потом они возвращались в свои деревни и фермы, из которых не любили отлучаться надолго.
Другое восстание, гораздо более обширное, вспыхнуло в Маре и департаменте Вандея. В Машкуле и Шалане поводом к восстанию послужил рекрутский набор. Некто Гастон, парикмахер, убил офицера, надел его мундир, стал во главе недовольных, взял Машкуль, потом Шалан, где его отряд тоже сжег все казенные бумаги и, кроме того, перебил много народу. Триста республиканцев были расстреляны, партиями от двадцати до тридцатичеловек. Инсургенты сначала заставляли их исповедаться, потом подводили к краю ямы и тут и расстреливали, чтобы было меньше хлопот с похоронами. Город Нант тотчас же послал несколько сотен солдат в Сен-Филибер, но, узнав, что в Саване неспокойно, отозвал их, и машкульские инсургенты остались хозяевами в завоеванных местностях. В департаменте Вандея, то есть к югу от театра этой новой войны, восстание было еще более серьезным. Национальные гвардейцы города Фонтене, выступившие, чтобы идти на Шантони, были побиты, а Шантони был разграблен. Генерал Вертейль, командовавший 11-й дивизией, узнав об этом поражении, послал генерала Марсе с тысячью двумястами солдатами – частично регулярных войск, частично национальных гвардейцев, – и инсургенты, встреченные при Сен-Венсане, были отбиты. Генерал Марсе успел прибавить к своей маленькой армии еще тысячу двести человек и девять пушек. Он пошел на Сен-Фюльжан, снова встретил вандейцев в глубокой лощине и остановился, чтобы поправить поврежденный ими мост. Около четырех часов пополудни 18 марта вандейцы сами напали на него. Пользуясь выгодным местоположением, они начали обстреливать Марсе с обычной своей ловкостью и понемногу окружили республиканцев, озадаченных таким мощным огнем и поставленных перед невозможностью что-либо сделать с неприятелем. Наконец инсургенты открыто бросились на войска, привели ряды в беспорядок, завладели артиллерией, военными припасами и оружием, бросаемым солдатами для облегчения своего спасения. Так как мятежники действовали с особенным успехом именно в Вандее, их так и назвали – вандейцами, и это название осталось за ними и впоследствии, хотя война гораздо деятельнее велась вне Вандеи. Разбой, устроенный в Бокаже, принес им также прозвище разбойников, хотя большинство и не заслуживало его. Главная причина успеха вандейцев заключалась в самом свойстве края, в его топографических чертах, в храбрости и ловкости, с которыми инсургенты пользовались этими природными преимуществами, наконец, в неопытности и неосторожном усердии республиканских войск, которые нападали без толку и только доставляли врагам победу, уверенность в себе и бодрость.
 Шаретт
Шаретт
К пасхе все инсургенты возвратились по своим домам. Война для них была чем-то вроде охоты, на которую они ходили на несколько дней, забрав нужное количество хлеба, а возвратившись, развлекали соседей своими рассказами. На апрель были условлены новые сходки. Восстание сделалось всеобщим. Этот театр войны можно было бы обвести чертой, которая проходила бы от Нанта, через остров Нуармутье, Ле-Сабль-д’Олон, Фонтене, Ниор, Партене и обратно через Эрво, Туар, Дуэ и Сен-Флоран до Луары. Восстание, начатое людьми, превосходившими простых крестьян, находившихся под их командованием, лишь природными качествами, скоро перешло в руки высшего класса. Крестьяне отправились по усадьбам и заставили господ принять над ними начальство. Всё Маре требовало себе в вожди Шаретта. Он был из Нанта и принадлежал к семье судовладельцев, служил во флоте, дослужился до лейтенанта, а по заключении мира удалился в усадьбу своего дяди и проводил жизнь в охоте. По слабому, нежному своему телосложению он, казалось, не был годен к трудам и лишениям войны; но, живя в лесах целыми месяцами, ночуя на голой земле с охотниками, он окреп, в совершенстве узнал местность и прославился между крестьянами своей ловкостью и мужеством. Он сначала не решался принять на себя начальство и старался разъяснить инсургентам все опасности, которые влечет за собою такое предприятие. Наконец, однако, он согласился на их настоятельные требования и тогда уже дал им волю творить любые безобразия, чтобы окончательно скомпрометировать их и привязать к себе бесповоротно. Этот человек, хитрый, ловкий, одаренный жестокостью и несокрушимой храбростью, сделался самым страшным из вандейских вождей. Всё Маре ему повиновалось и с пятнадцатью, иногда двадцатью тысячами человек он устрашал Бокаж и даже Нант. Собрав свой отряд, Шаретт завладел островом Нуармутье, весьма для него важным, так как он мог сделать из него свою главную военную квартиру и центр сообщения с англичанами. В Бокаже крестьяне обратились к Боншану, д’Эльбе и Ларошжаклену и заставили бросить свои поместья и стать во главе них. Боншан прежде состоял на военной службе, был хорошим офицером и при большой храбрости обладал благородным, возвышенным характером. Он стал командиром всех мятежников Анжу и берегов Луары. Д’Эльбе тоже когда-то служил; он отличался неистовой верой, упорным характером и глубоким знанием войны такого рода. В ту пору он пользовался наибольшим доверием в этой части Бокажа. Под его началом находились все приходы, окружавшие Шоле и Буа-Прео.
Кателино и Стоффле сохранили власть, вверенную им всеобщим доверием, и присоединились к Боншану и д’Эльбе, чтобы идти на Брессюир, где стоял генерал Кетино. Кетино перед тем похитил из замка Клиссон всю семью де Лесюор, подозреваемую в заговорах, и держал ее в заточении в Брессюире. Анри де Ларошжаклен, молодой дворянин, служивший прежде в королевской гвардии, а теперь проживавший в Бокаже, гостил в Клиссоне у своего двоюродного брата, Лескюра. Он бежал, поднял на ноги свое родное местечко Обье и все приходы вокруг Шатийона, затем примкнул к прочим вождям, вместе с ними вынудил генерала Кетино уйти из Брессюира и освободил своего родственника со всем его семейством. Молодой Лескюр был одних лет с Ларошжакленом, спокойный, осмотрительный, одаренный холодным, но непоколебимым мужеством, и сверх того – редким духом справедливости. Анри, напротив, отличался геройской, часто буйной храбростью, пылкостью и великодушием. Лесюор стал во главе своих крестьян, и они все вместе собрались в Брессюир, чтобы идти на Туар. Жены вождей раздавали кокарды и знамена, люди шли с песнями, восторженно, точно в крестовый поход. Они не тащили с собой багажа; крестьяне по привычке брали только необходимое количество хлеба, а в экстренных случаях давали знать приходам, и для нуждающихся готовились припасы. Эта армия состояла приблизительно из тридцати тысяч человек и именовала себя Великой королевско-католической армией. Инсургенты стояли под городами Анжер, Сомюр, Дуэ, Туар и Партене. Между этой армией и армией, собранной в Маре, под началом Шаретта, было еще несколько отрядов, из которых главный, командуемый де Руараном, состоял из десяти – двенадцати тысяч человек. Большая армия под предводительством Боншана, д’Эльбе, Ларошжаклена, Лесюора, Кателино и Стоффле 3 мая появилась перед Туаром и приготовилась к атаке наутро. Надо было перейти речку Ту, почти со всех сторон окаймлявшую город. Генерал Кетино укрепил переходы. Вандейцы некоторое время стреляли из орудий, взятых у республиканцев, и с обычным успехом поддерживали с берега ружейный огонь. Лесюор, желая покончить с переправой, вышел под град пуль, которыми костюм его мгновенно пробило как решето, но за ним последовал только один крестьянин. Тогда подбежал Ларошжаклен, а за ним его люди, вандейцы перешли мост и отбросили республиканцев назад в город. Следовало сделать в стене пролом, но для этого не хватало нужных средств. Ларошжаклена подняли на руки, и он постарался взлезть на стену. Д’Эльбе помог атаке со своей стороны, и Кетино, не имея возможности удержаться, согласился на сдачу, чтобы избавить город от несчастий. Вандейцы, благодаря влиянию своих вождей, повели себя умеренно; жителей не тревожили, и дело обошлось сожжением дерева свободы и казенных бумаг. Лескюр вежливым вниманием отплатил Катино за деликатность, которую республиканский генерал оказывал ему, когда он содержался в Брессюире, и уговаривал его остаться в Вандейской армии, желая этим спасти его от строгости правительства, которое легко могло наказать генерала за сдачу, не принимая во внимание невозможности поступить иначе. Кетино имел благородство отказаться и объявил, что возвратится к республиканцам и будет требовать суда.
Глава XXIII
Кюстин назначен главнокомандующим Северной армии – Заговоры против жирондистов – Буйства и беспорядки во всех секциях – Арест жирондистских депутатов – Характер и политические результаты этого событияИзвестия о бедственных происшествиях в Вандее, совпадая с известиями с севера о неудачах Дампьера и с юга о том, что испанцы предпринимают угрожающие демарши в Пиренеях, наконец, с известиями из разных провинций, где обнаруживались самые неблагоприятные настроения, вызвали в стране крайнее брожение. Несколько соседних с Вандеей департаментов, узнав об успехах мятежников, сочли себя вправе послать против них свои войска. Департамент Геро собрал шесть миллионов франков и шесть тысяч человек и послал адрес парижанам с приглашением сделать то же. Конвент, с целью поощрить этот энтузиазм, одобрил поступок департамента и тем дал всем общинам Франции право поступать самовластно, собирая деньги и людей. Парижская коммуна не отставала от других. Она утверждала, что спасти Францию подобает именно парижанам, и поспешила доказать свое усердие и похвастаться своей властью, снарядив целую армию. Коммуна постановила, что ввиду торжественного одобрения Конвентом поступка департамента Геро в Париже будет набрано войско в двенадцать тысяч человек, которое отправят в Вандею. По примеру Конвента коммуна выбрала в Генеральном совете комиссаров для отправки с армией. Эти двенадцать тысяч должны были набираться из отрядов вооруженных секций. Согласно революционному обычаю, комитету каждой секции представлялось некоторым образом диктаторское право назначать тех людей, снаряжение которых было сопряжено с наименьшими неудобствами. «Вследствие сего, – гласило постановление коммуны, – все холостые чиновники всех присутственных и правительственных мест в Париже, кроме директоров и их заместителей, писцы нотариусов и адвокатов, банкирские конторщики, торговые приказчики, канцеляристы и прочие могут быть потребованы в нижеследующих количествах: из двух – один; из трех – два; из четырех – два; из пяти – три; из шести – три; из семи – четыре; из восьми – четыре и т. д. Те из чиновников, которым придется идти воевать, сохранят свои места и одну треть жалованья. Никто не может отказаться. Потребованные граждане дадут знать комитету своей секции, чего недостает для их экипировки, и всё нужное будет немедленно предоставлено. Они соберутся тотчас после того для избрания офицеров и сейчас же начнут исполнять их приказания». Но набрать войско таким насильственным способом – это еще не всё; следует позаботиться о его содержании, а для этого решили обратиться к богачам. Ведь богатые, заговорили патриоты, никак не хотят участвовать в защите Отечества и Революции; они живут себе в неге и праздности, предоставляя народу честь проливать свою кровь; надо заставить их хоть деньгами содействовать общему спасению. С этой целью сочинили принудительный заем, взимаемый с парижских граждан соразмерно доходам каждого. С доходов от тысячи до пятидесяти тысяч франков парижане должны были отдать соответствующую сумму от тридцати франков и до двадцати тысяч. Все, чьи доходы превышали пятьдесят тысяч, должны были оставить себе тридцать тысяч и отдать остальное. Движимое и недвижимое имущество лиц, не покорившихся этому патриотическому займу, подвергалось описи и продаже по требованию революционных комитетов, а сами они должны были считаться подозрительными. Подобные меры, касавшиеся всех сословий, не могли не встретить сильного сопротивления в секциях. Мы уже видели выше, что между ними существовали разногласия и что они волновались в разной степени, смотря по тому, сколько было в каждой из них черни. Некоторые, особенно секции Кенз-Вен, Гравилье и Хлебного рынка, объявили, что от них не пойдет никто, пока в Париже еще остаются федераты и войска, получающие жалованье, так как они служат телохранителями Конвенту. Эти секции настаивали на своем из якобинизма, но многие другие – из противоположных побуждений. Огромное большинство писцов, конторщиков, приказчиков, лавочников пришли в секции и выразили свой протест против последних постановлений коммуны. К ним примкнули бывшие слуги беглой аристократии, которые принимали участие во всех агитациях; начались уличные и площадные сходки при криках «Долой якобинцев! Долой Гору!», и на этот раз революция встретила в самом Париже те же препятствия, что и в провинциях.
 Марат
Марат
Тогда поднялся общий вопль против секционной «аристократии». Марат заявил, что «господа лавочники, приказчики, писцы состоят в заговоре с господами членами правой стороны, с господами богачами – против Революции; что нужно всех их арестовать в качестве подозрительных лиц и произвести их в санкюлоты, не оставляя им, чем прикрыть себе ноги». Шометт, прокурор коммуны, сказал длинную речь, в которой оплакивал несчастья отечества, вытекавшие, по его словам, из злокозненности правителей, эгоизма богачей, невежества народа, из утомления и отвращения многих граждан, которым наскучили общественные заботы. Поэтому он предложил постановить следующее: потребовать у Конвента средств к информированию народа, преодолению эгоизма богачей и к вспомоществованию бедным; составить собрание из президентов секционных революционных комитетов и представителей всех административных ведомств; сходиться этому собранию по воскресеньям и четвергам в коммуне, для изыскания средств против опасностей, угрожавших общему делу; наконец, пригласить всех добрых граждан ходить в секционные собрания, чтобы патриотизм одерживал в секциях верх. Дантон, всегда находчивый в трудные минуты, придумал составить две армии из санкюлотов с тем, чтобы одна пошла в Вандею, а другая осталась в Париже для обуздания аристократии. Содержать обе армии следовало за счет богачей. Чтобы обеспечить себе большинство в секциях, он предложил назначить денежное вознаграждение гражданам, терявшим время на посещение секционных собраний. Робеспьер, заимствовав мысли Дантона, развил их у якобинцев и предложил еще составить новые разряды подозрительных лиц и объявить таковыми уже не одних бывших дворян, священников или промышленников, а всех граждан, тем или другим способом выказавших свои антигражданственные склонности: их следует запереть впредь до заключения мира. Кроме того, нужно также ускорить деятельность Революционного трибунала и новыми способами противодействовать влиянию вредных газет. При помощи всех этих средств, говорил Робеспьер, можно, не прибегая к нелегальным мерам и не нарушая законов, справиться с правой стороной и ее махинациями. Итак, все мысли стремились к одной цели: вооружить народ, экипировать его за счет богатых, даже дать ему возможность присутствовать на всех совещательных собраниях; всех врагов революции заклеймить прозванием подозрительные лица, придавая этим словам гораздо более широкое определение, нежели до сей поры; установить тесные связи между коммуной и секциями и создать для этого новое революционное собрание, которое приняло бы новые спасительные меры, иначе сказать – устроило бы восстание. Демагогическое собрание, сходившееся в епископском дворце, сначала распущенное, но теперь возобновленное по предложению Шометта в гораздо более внушительных размерах, подходило для этой цели как нельзя лучше.
С 8 до 10 мая дурные вести следовали одна за другой. Дампьер был убит. Внутренние провинции продолжали бунтовать. Нормандия почти вся была готова, по-видимому, примкнуть к Бретани. Вандейские мятежники из Туара дошли до Лудена и Монтрейля, взяли эти два города и, следовательно, почти достигли берегов Луары. Англичане высадились на берегах Бретани и, кажется, всерьез собирались присоединиться к мятежникам и напасть на столицу страны. Несколько жителей Бордо, будучи в негодовании из-за обвинений, взводимых на их депутатов, отобрали оружие у секции, в которую ушли якобинцы. В Марселе восстали почти все секции. Возмущенные безобразиями, совершаемыми под предлогом отобрания оружия у подозрительных лиц, они собрались, сменили коммуну, передали ее власть комитету, именуемому Центральным секционным комитетом, и учредили народный суд для розыска виновных в убийствах и грабежах. Распорядившись таким образом в своем городе, они послали депутатов к секциям города Экса и постарались увлечь своим примером весь департамент. Не уважив даже комиссаров Конвента, они забрали у них бумаги и приказали им удалиться. В Лионе также усилились беспорядки. Там секции готовы были драться с коммуной из-за того, что административные ведомства, объединившись с якобинцами, отдали приказ о сборе шести миллионов франков и шести тысяч солдат, хотели приступить к изъятию оружия у подозрительных лиц и учредили Революционный трибунал. Таким образом, пока неприятель двигался с севера, восстание, выйдя из Бретани и Вандеи и поддерживаемое англичанами, могло обойти всю Францию через Бордо, Руан, Нант, Марсель и Лион. Эти последние известия приходили одно вслед за другим, с 12 по 15 мая, и породили мрачные предчувствия в умах Горы и якобинцев. Сделанные уже предложения возобновляются с большей яростью. Дантон, чтобы внести хоть некоторую уверенность во всеобщую сумятицу, делает два замечания: первое – что опасение лишить Париж добрых граждан, необходимых для его безопасности, не должно мешать набору, потому что в столице всё же останется пятьдесят тысяч человек, готовых каждую минуту подняться и истребить аристократов, которые осмелились бы показаться; второе – что междоусобная война не только не может подать внешнему врагу повода к надеждам, а напротив, должна наполнить его ужасом. «Монтескье, – говорит Дантон, – уже сделал это замечание, говоря о римлянах: народу, у которого все вооружены и заняты, все души закалены, все страсти обратились в яростное желание сражаться, – такому народу нечего бояться холодной наемной храбрости иностранных солдат. Слабейшая из тех двух партий, чье состязание приведет к междоусобной войне, всё еще будет достаточно сильна, чтобы истребить марионетки, которым дисциплина не может заменить огня и жизни». Тотчас же постановляется, что девяносто шесть комиссаров отправятся в секции требовать контингента и что Комитет общественной безопасности будет работать еще один месяц. Ктостин назначается главнокомандующим Северной армии, а Гушар – Рейнской. Армии распределяются по границам. Камбон представляет проект принудительного займа в один миллиард, который следует взять с богатых под залог эмигрантских имуществ. Коммуна, со своей стороны, постановляет, что новая армия санкюлотов будет составлена в Париже для обуздания аристократии, в то время как первая пойдет против бунтовщиков; что приступят к повальным арестам всех подозрительных лиц; что центральное секционное собрание, состоявшее из административных властей, президентов секций и членов революционных комитетов, соберется в скорейшем времени для распределения принудительного займа, составления списков подозрительных лиц и т. д. Царило крайнее смятение. С одной стороны говорили, что марсельские, вандейские и нормандские заговорщики сносятся между собою; что члены правой стороны управляют этим обширным заговором и беспокойство секций есть только результат их интриг в Париже. С другой стороны, Горе приписывались все излишества, творимые во всех департаментах Франции, и сам проект перевернуть вверх дном всю страну и убить злосчастных депутатов. С обеих сторон спрашивали себя, как выйти из этой ситуации и что сделать для спасения Республики. Члены правой стороны подстрекали и подбадривали друг друга, советуя совершить какой-нибудь крайне энергичный акт. Некоторые секции, как, например, Майль, Бют-де-Мулен и несколько других, поддерживали их и отказывались посылать комиссаров в центральное собрание, составившееся в мэрии. Они также отказали в принудительном займе, говоря, что сами будут содержать своих добровольцев, и не хотели допустить новых списков подозрительных лиц, говоря, что революционных комитетов вполне достаточно для исполнения полицейской части в подведомственном каждому районе. Представители Горы, монтаньяры, напротив, кричали, что тут явная измена, всюду твердили, что нужно покончить с сомнениями, надлежит собраться, сплотиться, условиться и спасти республику от заговора двадцати двух депутатов. В Клубе кордельеров открыто говорили, что надо похитить их и просто убить. В одном собрании, куда сбегались взбесившиеся женщины, предлагалось воспользоваться первым же беспорядком в Конвенте и зарезать жирондистов кинжалами. Эти фурии носили с собой кинжалы, всякий день поднимали адский шум в трибунах и говорили, что сами спасут Республику. Везде толковали о количестве этих кинжалов, которых один только оружейный мастер предместья Сент-Антуан изготовил несколько сотен. С той и с другой стороны никто не ходил без оружия и средств к нападению и обороне. Еще не составляли заговора, но страсти дошли до той степени экзальтации, когда малейшего происшествия достаточно, чтобы произошел взрыв. У якобинцев предлагались средства всякого рода. На том основании, что обыкновенные акты, направленные коммуной против ненавистных двадцати двух, не мешали последним по-прежнему заседать в Конвенте, якобинцы настаивали на том, что необходим новый акт поистине народной энергии; что граждане, назначаемые в Вандею, не должны отправляться, не спасши сначала отечества; что народ может его спасти, но надо указать ему средства, а для этого – назначить комитет из пяти членов, которому общество разрешило бы иметь от него тайны. Иные на это отвечали, что можно говорить при обществе всё и бесполезно что-либо скрывать, а пора действовать вполне открыто. Робеспьер, находя подобные заявления неосторожными, отвергал эти полулегальные средства и спрашивал, истощены ли уже все полезные и более верные меры, предложенные им. «Организовали ли вы, – говорил он, – вашу революционную армию? Сделали ли вы то, что нужно, чтобы платить санкюлотам, призванным к оружию или заседающим в секциях? Арестовали ли вы подозрительных лиц? Заставили ли вы все ваши площади кузницами и мастерскими? Вы не применили ни одной из разумных и естественных мер, которые не компрометировали бы патриотов, и позволяете людям, ничего не смыслящим в общественных делах, предлагать вам меры, оправдывающие все распускаемые против вас клеветы! Только истощив все легальные средства, следует прибегать к средствам насильственным, и то еще не следует предлагать их в обществе, обязанном быть рассудительным и благоразумным. Я знаю, что меня обвинят в мягкотелости, но я настолько известен, что могу не бояться подобных обвинений». Теперь, как и перед 10 августа, ощущалась потребность на что-нибудь решиться, толковали о месте, где бы всем собраться, чтобы наконец до чего-нибудь договориться. Собрание в мэрии состоялось, но департаментский совет в нем не участвовал; только один из его членов, якобинец Дюфурни, пришел туда; несколько секций отсутствовало; мэр еще не являлся, и пришлось отложить начало занятий до воскресенья, 19 мая. Несмотря на довольно тесный круг деятельности, назначенный этому собранию коммуной, в нем говорилось то же, что и везде, между прочим и что необходимо новое 10 августа. Однако дело на этот раз ограничилось клубными перебранками и преувеличениями. Между мужчинами оказались и женщины, и это буйное сходбище представило не большую необузданность мысли и речи, нежели все прочие публичные места. Дни 15, 16 и 17 мая прошли в сильном волнении, и в Конвенте всё становилось поводом к беспорядкам и ссорам. Жители Бордо прислали адрес, в котором объявили, что готовы идти на помощь своим депутатам, причем одна часть их пойдет в Вандею – усмирять мятежников, а другая на Париж, чтобы истреблять анархистов, которые дерзнули бы поднять руку на национальное представительство. Письмо из Марселя извещало, что жители этого города упорствуют в своем мятеже. Петиция из Лиона требовала помощи для полутора тысячи человек, посаженных в качестве подозрительных, так как Шалье и якобинцы угрожали им Революционным трибуналом. Эти петиции поднимают ужаснейший скандал. Зрители на трибунах, даже сами члены Конвента готовы, по-видимому, сцепиться между собой. Правая сторона, воодушевляясь опасностью, сообщает свое мужество Равнине, и огромное большинство постановляет, что петиция жителей Бордо есть образец патриотизма; тем же декретом уничтожается всякий трибунал, учрежденный местными властями, и гражданам, требуемым таковым судом, разрешается отбиваться от силы силой. Эти постановления доводят до экзальтации негодование Горы и храбрость правой стороны. Восемнадцатого мая раздражение доходит до крайней степени. Гора, лишенная множества своих членов, разосланных комиссарами в департаменты и армии, кричит, что ее притесняют. Гюаде тотчас же просит слова для применения исторического факта к настоящим обстоятельствам, и слова его грозным пророчеством показывают будущую судьбу партии. «Когда в Англии, – говорит он, – благородное большинство защищало себя от бешенства крамольного меньшинства, это меньшинство тоже кричало, что его притесняют, и этим криком добилось того, что само стало притеснять большинство. Они призвали к себе настоящих патриотов. Этим именем величалась заблуждавшаяся толпа, которой были обещаны грабеж и раздел земель. Это постоянное воззвание к настоящим патриотам против притеснений большинства привело к покушению, известному под названием очистки парламента, покушению, затеянному и исполненному Прайдом, попавшим в полковники из мясников. Полтораста членов были изгнаны из парламента, и меньшинство, состоявшее из пятидесяти или шестидесяти человек, осталось полным владыкой государства. Что из этого вышло? Эти настоящие патриоты, орудия Кромвеля, который заставил их совершать глупость за глупостью, были изгнаны в свою очередь. Их собственные злодеяния послужили узурпатору предлогом. – Здесь Гюаде, указывая на мясника Лежандра, Дантона, Лакруа и прочих депутатов, обвиняемых в безнравственности и лихоимстве, присовокупляет: – Кромвель однажды явился в парламент и, обращаясь к тем самым членам, которые, если слушать их, одни были способны спасти отечество, выгнал их, говоря одному – ты пьяница, другому – ты вор, этому – ты напитан общественными деньгами, тому – а ты шляешься по зазорным притонам. Бегите же, сказал он всем, бегите все и уступите место порядочным людям. Они очистили место, и Кромвель занял его». Этот грозный, величественный намек глубоко потрясает собрание – оно молчит. Гюаде продолжает и для предотвращения подобной очистки предлагает различные полицейские меры, которые собрание утверждает среди громкого ропота. Но пока депутат возвращается на свое место, на трибунах происходит скандал. Какая-то женщина силой тащит какого-то мужчину и хочет вытолкать его вон; ей со всех сторон помогают, несчастный защищается, но толпа одолевает его. Стража тщетно силится восстановить тишину. Марат кричит, что этот человек – аристократ. Собрание негодует из-за того, что он еще ухудшает положение несчастного, который и без того легко может быть убит. Марат отвечает, что успокоится только тогда, когда не станет больше ни аристократов, ни сообщников Дюмурье, ни государственных деятелей (так он называл членов правой стороны из-за их репутации). Тогда президент Инар просит слова, чтобы сделать важное заявление. Все в глубоком молчании внимают его скорбным словам: «Мне известно о некоем замысле Англии, о котором я обязан сообщить собранию. Цель Питта состоит в том, чтобы вооружить одну часть народа против другой, толкая его к восстанию. Это восстание должно начаться с женщин. Будет совершено покушение на нескольких депутатов, они будут убиты, Национальный конвент будет распущен, и эту минуту изберут для высадки на наши берега. Вот заявление, которое я обязан был сделать моему отечеству». Большинство рукоплещет Инару. Декретом постановляется напечатать его заявление, а депутатам не расходиться. Затем начинаются объяснения по поводу беспорядков на трибунах. Кто-то говорит, что в них виновны женщины, принадлежащие к некоему обществу, называемому Братством, что они нарочно приходят, чтобы занять залу, не пускать в нее посторонних, а тем более департаментских федератов, и мешать прениям своими криками. Это ведет к вопросу о народных обществах, и тотчас же поднимается ропот. Марат, который всё это время не переставал ходить по коридорам и по зале, от одной скамьи к другой, продолжая рассуждать о государственных деятелях, указывает на одного из членов правой стороны и прямо говорит ему: «И ты тоже из них, но народ расправится с тобою и с другими». Гюаде бросается к кафедре, желая среди этой опасности заставить депутатов принять мужественное решение. Он напоминает о смутах, которыми полон Париж, о речах, раздающихся в народных собраниях и у якобинцев, о намерениях, высказанных на собрании в мэрии; он говорит, что и теперешняя выходка имеет целью только вызвать общий беспорядок, среди которого удобно будет исполнить задуманные убийства. Хотя его прерывают чуть ли не на каждом слове, он договаривает до конца и предлагает две меры, энергичные, но, увы, невозможные. «Зло, – говорит Гюаде, – сосредоточено в анархических парижских властях; поэтому я вам предлагаю уничтожить их и заменить президентами секций. Так как Конвент более не свободен, нужно созвать другое собрание, например в Бурже, и постановить, чтобы оно было готово объявить себя конвентом по вашему первому знаку». Вследствие этого двоякого предложения поднимается неописанная суматоха. Все члены правой стороны встают и кричат, что это единственный способ спасения, а затем благодарят смелого Гюаде, сумевшего показать его. Левая сторона тоже встает, грозит своими противникам, кричит, что заговор наконец разоблачен, зачинщики выдают себя сами и признаются в своих замыслах против единства Республики. Дантон хочет выступать, но его останавливают и предоставляют говорить Бареру от имени Комитета общественной безопасности. Барер со своим обычным вкрадчивым тактом говорит примирительно, что если бы ему раньше дали сказать, то он уже несколько дней назад сообщил бы много фактов относительно положения Франции. Везде толкуют о каком-то плане роспуска Конвента; президент его секции слышал от самого прокурора Шометта слова, указывавшие на таковое намерение; в собрании, заседавшем в епископском дворце, в другом, собиравшемся в мэрии, речь идет о том же; для достижения этой цели замышляется вызвать с помощью женщин беспорядок и наконец похитить двадцать две ненавистные головы. Барер присовокупляет, что министры иностранных и внутренних дел, должно быть, получили об этом сведения и надо их выслушать. Переходя затем к предложенным мерам, он объявляет, что разделяет мнение Гюаде о парижских властях, находит департаментский совет бессильным, готов подтвердить, что секции действуют самодержавно, а коммуну толкает ко всем возможным излишествам ее прокурор Шометт, бывший монах, подлежащий подозрению, как и все бывшие священники и дворяне. Но он полагает, что роспуск этих властей вызвал бы полнейшую анархию. Что касается созыва нового собрания в Бурже, оно не спасет Конвент и никогда не сможет занять его место. Есть, по мнению Барера, еще одно средство предотвратить все действительно серьезные опасности, не подвергая себя слишком большим неудобствам: назначить комиссию из двенадцати членов и поручить ей рассмотрение всех действий коммуны за последний месяц; собрать у всех комитетов, министров, властей все нужные сведения с полномочием располагать любыми средствами, требующимися, чтобы захватить особы заговорщиков. Первый порыв восторженности и мужества уже успел остыть, и большинство депутатов обрадовались примирительному плану Барера. Назначать комиссии было самым обыденным явлением: это проделывали по поводу каждого события, каждой опасности, каждой нужды, и лишь только несколько лиц бывали назначены для исполнения чего-либо, Конвент считал дело уже сделанным и рассчитывал, что комиссия проявит вместо него отвагу, знание или силу. Этот последний комитет не должен был иметь недостатка в энергии и состоял почти весь из членов правой стороны. Между ними находились Буайе-Фонфред, Рабо Сент-Этьен, Кервелеган, Анри Ларивьер – все члены Жиронды. Но сама энергия этого комитета погубила его. Учрежденный именно для того, чтобы укрыть Конвент от покушений якобинцев, он их еще более раздражил и увеличил ту самую опасность, которую надлежало устранить. Якобинцы грозили жирондистам речами и криками и ответили, наконец, решительным ударом – событиями 31 мая и 2 июня. Едва только снарядили комиссию, как народные собрания и секции подняли обычный крик: это инквизиция, закон военного времени! Собрание в мэрии, отложившее свои занятия до воскресенья, 19 мая, действительно сошлось в этот день в большем числе, нежели в прошлые заседания. Мэра, однако, и на этот раз не было, председательствовал полицейский чиновник. Собрание назвало себя Центральным революционным комитетом. Несколько секций отсутствовали: не более тридцати пяти прислали своих комиссаров. Прежде всего условились ничего не писать, не вести никаких реестров и не позволять никому выходить до конца заседания. Затем приступили к определению предмета занятий. Заявленными предметами прений были заем и новый список подозрительных лиц; но с первых же слов начали говорить, что патриоты Конвента бессильны спасти Республику и необходимо помочь им, а для этого надо разыскать всех подозрительных лиц в государственных и административных учреждениях, в секциях, в самом Конвенте, схватить и обезвредить. Один из собравшихся медленно и холодно объявляет, что нигде не видит подозрительных лиц, кроме как в Конвенте, и что удары должны быть направлены туда. Он предлагает средство весьма простое: похитить несчастных, отвезти их в глухой дом в каком-нибудь предместье, там всех зарезать и подделать письма, чтобы все подумали, что они эмигрировали. «Мы не будем делать этого сами, – замечает в заключение этот человек, – но за деньги легко найти исполнителей». Другой участник возражает, что этот план невыполним и надо подождать, пока Марат и Робеспьер в Клубе якобинцев предложат свои планы восстания, которые, вероятно, будут удобнее. «Так! – восклицают несколько голосов. – Никого нельзя называть по имени!» Третий член, депутат секции 92 года, доказывает, что самовластно убивать не годится, что существуют суды против врагов Революции. Эти слова вызывают большой шум: множество голосов восстают против, говорят, что следует терпеть только таких людей, которые оказываются на высоте обстоятельств, и что каждый обязан донести на соседа, если подозревает его в недостатке энергии. В ту же минуту последний оратор изгнан из залы. Кто-то замечает, что один из членов секции Братства, не очень расположенной к якобинцам, делает у себя заметки, – и его тоже выгоняют. Собрание в том же тоне продолжает заниматься планом истребления депутатов и выбором места для этой сентябризации и ареста прочих подозрительных лиц. Один из участников хочет, чтобы задуманное исполнили той же ночь; ему отвечают, что это невозможно; он возражает, что имеются люди вполне готовые, что Колиньи в полночь заседал еще во дворце, а в час пополудни был мертв. Время между тем проходит; рассмотрение планов откладывается до следующего дня; собрание решает заняться тремя предметами: похищением депутатов; составлением списка подозрительных лиц; очисткой всех ведомств и комитетов. Заседание назначается на завтра на шесть часов вечера. На следующий день, 20 мая, собрание сошлось снова. На этот раз Паш присутствовал. Ему представили несколько списков, наполненных именами, и он заметил, что их следует называть не иначе как списками подозрительных лиц, и это будет законно, так как таковые списки приказано составить официально. Несколько человек заметили, что не должно быть возможности узнать почерк ни одного из членов и что списки надо переписать. Другие на это заявили, что республиканцы не должны ничего бояться. Паш присовокупил, что ему всё равно, если при нем и найдут эти списки, потому что они касаются парижской полиции, которая вверена ему. Хитрый и сдержанный Паш не изменял себе: он непременно хотел удержать в рамках закона и своей должности всё, что от него требовалось. Один из участников собрания, видя все эти предосторожности, сказал мэру, что ему, вероятно, неизвестно то, что происходило накануне, неизвестен порядок вопросов и его надо познакомить с этими подробностями: первый вопрос касается похищения двадцати двух депутатов. Паш на это заметил, что особы всех депутатов вверены городу Парижу; что покушение против них поссорило бы столицу с департаментами и могло вызвать междоусобную войну. Тогда его спросили, как же он подписался под петицией против двадцати двух, поданной 15 апреля от имени сорока восьми секций столицы. Паш ответил, что исполнил свою обязанность, подписываясь под петицией, которую ему поручено было подать, но сегодня предложенный вопрос не входит в число задач собрания, так как оно сошлось с целью заняться подозрительными лицами, а потому он будет вынужден закрыть заседание, если оно станет упорствовать в обсуждении подобных вопросов. Поднялся шум, и так как никому не хотелось толковать о списках подозрительных лиц, собрание разошлось, не назначив определенного времени для нового заседания. Во вторник, 21-го, явились не более двенадцати членов. Одни не хотели более посещать такую буйную, отчаянную сходку, другие находили, что нет возможности совещаться с достаточной энергией.
Зато у кордельеров 22 мая агитаторы вполне отвели душу. Мужчины и женщины непрерывно горланили и ругались, требуя немедленного восстания; двадцати двух голов им уже было мало – они просили все триста. Одна женщина, совершенно выйдя из себя, предложила созвать всех граждан на площадь Согласия, всем вместе нести в Конвент петицию и не отставать от депутатов, пока те не подпишут декреты, необходимые для общего блага. Юный Варле, с некоторых пор появлявшийся во всех уличных беспорядках, предложил план восстания в нескольких статьях. Он хотел отправиться в Конвент, неся перед собой Декларацию прав человека под черным крепом, похитить всех депутатов, бывших прежде членами Законодательного и Учредительного собраний, разогнать всех министров, истребить всех оставшихся в живых из рода Бурбонов и т. д. Лежандр поспешил занять после него кафедру, чтобы выступить против всех этих предложений. Всей силой своего голоса он едва мог покрыть крики, поднявшиеся против, и ему с величайшим трудом удалось опровергнуть предложения Варле. Однако собрание непременно хотело назначить дату восстания и условиться о дне, когда идти в Конвент и изложить ему свои требования; но час уже был поздний, и кончилось тем, что все разошлись, ничего не решив. Весь Париж уже знал о том, что говорилось на собраниях в мэрии 19 и 20 мая и на заседании кордельеров 22-го числа. Множество членов Центрального революционного комитета сами бранили эти речи и предложения, и по всему городу разнесся слух о заговоре против граждан и депутатов. Комиссия двенадцати, созданная по предложению Барера, получила обо всех этих событиях подробнейшие сведения и готовилась действовать против зачинщиков наиболее жестоких предложений. Секция Братства сделала на них формальный донос; 24-го числа в адресе Конвенту она пересказала всё, что говорилось и делалось в мэрии, и прямо обвинила мэра в присутствии на этом собрании. Правая сторона наградила этот мужественный поступок дружными рукоплесканиями и потребовала призвать Паша к ответу. Марат ответил, что члены правой стороны – сами заговорщики и никаких других заговорщиков нет; что Валазе, у которого они собираются каждый день, посоветовал им вооружиться и они приходят в Конвент с пистолетами. – Да, – заявил Валазе, – это я посоветовал, потому что предвиделась надобность защищать нашу жизнь, и уж конечно мы бы ее защитили. – Да, да! – громко подтвердили все члены правой стороны. Ласурс сообщил одно весьма важное обстоятельство: заговорщики, полагая, должно быть, что исполнение замысла назначили на истекшую ночь, явились к нему и хотели его похитить. В эту минуту узнали, что Комиссия двенадцати обладала всеми сведениями, необходимыми, чтобы разоблачить заговор и преследовать его виновников, и что завтра она подаст свой доклад. А до тех пор Конвент заявил, что секция Братства заслужила благодарность отечества.
Вечером того же дня в муниципалитете поднялся страшный шум против секции Братства, оклеветавшей мэра и патриотов, приписывая им желание перерезать депутатов. Из того, что это было только предложением, Шометт и коммуна выводили, что предполагать заговор означает клеветать. Конечно, это еще не был заговор в строгом смысле этого слова, не такой глубоко и тайно задуманный, какие составлялись, бывало, во дворцах, а такой, какой может составить толпа в большом городе. Это было начало одного из тех народных движений, которые бурно предлагаются и бурно исполняются увлеченной толпой, как 14 июля и 10 августа. В этом смысле речь шла о настоящем заговоре. Но такие заговоры бесполезно пытаться остановить; они не нападают врасплох на ничего не подозревающую спящую власть, а открыто, среди белого дня, одолевают власть бдительную и насторожившуюся. Двадцать четвертого мая две секции – Тюильри и Мельничного холма – присоединились к секции Братства с рассказом о тех же фактах. «Если разум не может одержать верх, – говорила секция Мельничного холма, – распространите воззвание к добрым парижанам, и мы заранее можем уверить вас, что наша секция будет содействовать ниспровержению всех этих переодетых роялистов, которые нагло именуют себя санкюлотами». В тот же день мэр написал Конвенту, объясняя происшедшее. «Это был не заговор, – писал он, – а просто совещание о том, нужно ли составлять списки подозрительных лиц». Несколько горячих голов, правда, прервали совещание неразумными предложениями, но он, Паш, призвал к порядку, и эти «порывы воображения» не имели последствий. На письмо Паша не обратили особого внимания. Затем Конвент выслушал Комиссию двенадцати, которая явилась предложить декрет для поддержания общей безопасности. Этим декретом национальное представительство и государственная казна отдавались под охрану добрых граждан. Все должны были по первому барабанному бою явиться на сборный пункт каждого квартала. Секционные собрания должны былизакрываться в десять часов вечера; на президентов возлагалась ответственность за неисполнение этого постановления. Проект декрета был принят почти единодушно, несмотря на некоторые споры и замечание Дантона о том, что, отдавая себя и государственную казну под охрану граждан, Конвент декретом приказывает трусить. Немедленно затем комиссия распорядилась арестовать полицейских чиновников Марино и Мишеля по обвинению в том, будто именно они внесли в мэрии предложения, наделавшие столько шума. Кроме того, комиссия приказала арестовать товарища прокурора коммуны Эбера, который под псевдонимом Отец Дюшен издавал листок, доступный по своему гнусному, отвратительному языку самой низкой черни, еще более грязный, нежели листок Марата. Эбер в этом листке открыто печатал всё то, в изустном изложении чего обвинялись Марино и Мишель. Таким образом, комиссия думала преследовать и тех, кто проповедовал новое восстание, и тех, кто хотел исполнить его. Едва вышел приказ об аресте Эбера, как он поспешно отправился в коммуну объявить об опасности. Его отрывают от должности, говорил он, но он повинуется. Коммуна не должна забывать своей клятвы считать себя затронутою всяким покушением против одного из своих членов. Он напоминает об этой клятве не ради себя – сам он готов на эшафот хоть сейчас, – но ради своих сограждан, которым грозит новое рабство. Эбера встретили громкие рукоплескания. Прокурор Шометт и президент обняли его от имени всего совета, и заседание объявили постоянным до тех пор, пока о судьбе Эбера придут новые известия. Членов совета пригласили обойти с утешениями жен и детей лиц, которые уже задержаны или еще будут задержаны. Заседание действительно не закрылось, и каждый посылал в комиссии за известиями о «чиновнике, оторванном от должности». Варле тоже был арестован. В четыре часа пришло известие, что Эбер отвезен в Аббатство. В пять часов Шометт отправился навестить товарища в тюрьме, но его не пустили. На следующее утро Генеральный совет написал петицию Конвенту и разослал несколько экземпляров по секциям, за подписями. А 25-го числа петиция, одобренная большим числом секций, была подана Конвенту. Депутация коммуны жаловалась на клевету, распускаемую против лиц, служивших народу; она требовала, чтобы петиция секции Братства была передана государственному прокурору и виновники, если таковые имелись, или клеветники были наказаны. Наконец, она требовала правосудия относительно служителя народа, оторванного от обязанностей и запертого в Аббатстве. Президентом в этот день был Инар, и ему надлежало ответить депутации. «Господа, – сказал он им строго и серьезно, – вам необходимо выслушать важные истины. Франция вверила своих представителей городу Парижу и хочет, чтобы они в этом городе были в безопасности. Если бы вследствие одного из заговоров, которыми мы окружены с 10 марта и о которых власти нас предупредили, против народного представительства последовало покушение, я заявляю вам от имени Республики, что Париж почувствовал бы на себе мщение Франции и был бы исключен из списка ее городов». Этот торжественный ответ производит на собрание глубокое впечатление. Множество голосов требует, чтобы он был напечатан. Дантон доказывает, что такие слова могут только еще больше усугубить раздор, разрастающийся между Парижем и департаментами. Конвент находит, что на этот раз достаточно такого определенного ответа и энергии Комиссии двенадцати, а потому можно перейти к очередным делам. Итак, депутаты коммуны были отпущены, ничего не добившись. Весь этот день и весь следующий прошли в буйных сценах, происходивших в секциях. Всюду спорили, и одерживало верх то одно мнение, то другое, смотря по изменявшемуся числу членов каждой партии. Коммуна продолжала посылать депутации, чтобы узнавать об участи Эбера. Один раз его нашли отдыхающим; в другой раз он просил коммуну не беспокоиться о нем. Коммуна жаловалась, что у него скверная постель. Некоторые секции желали взять Эбера под свое покровительство; другие готовились снова требовать его освобождения; наконец, какие-то женщины носились по улицам с флагами и звали народ в Аббатство – освобождать своего любимца. Двадцать седьмого мая беспорядок дошел до крайней степени. Толпа бросалась из секции в секцию – а там везде дрались, используя в качестве оружия стулья. Наконец к вечеру двадцать восемь секций условились потребовать освобождения Эбера и написать об этом повелительную петицию Конвенту. Комиссия двенадцати, видя, какой готовится беспорядок, приказала дежурному офицеру потребовать вооруженные отряды у трех секций и нарочно назначила секции Мельничного холма, Лепелетье и Майль, зная, что они больше всех прочих преданы правой стороне и готовы за нее сражаться. Эти три секции не заставили себя ждать и стали около шести часов вечера 27 мая во дворах здания Конвента[64], со стороны площади Карусель, с оружием и пушками с зажженными фитилями. Они составляли весьма серьезную силу, вполне способную защитить национальное представительство. Толпа, теснившаяся со всех сторон и у разных входов, а также ужасный шум и крики придавали всей этой сцене характер осады. Несколько депутатов пробрались внутрь здания с большим трудом, подвергаясь оскорблениям со стороны черни, и смутили Конвент заявлением, что он осажден. Осады, однако же, не было. Двери были запружены, но входить и выходить не мешали. Однако для разгоряченного воображения довольно было и этого, и собрание пришло в замешательство. Председательствовал Инар. Является секция Сите и требует освобождения своего президента Добсента, арестованного по приказу Комиссии двенадцати за то, что он не предъявил реестров своей секции. Кроме того, секция требует освобождения и других задержанных лиц, роспуска Комиссии двенадцати и обвинительного декрета против ее членов. «Конвент, – отвечает им Инар, – прощает вас ради вашей юности. Он никогда не позволит части народа иметь на него влияние». Конвент одобряет этот ответ, но Робеспьер хочет говорить в порицание его. Правая сторона этого не допускает. Завязывается свирепая борьба, и шум с улицы и шум в зале сливаются в оглушительный рев и гул. В эту минуту появляются мэр и министр внутренних дел, воображая, как это говорилось во всем Париже, что Конвент осажден. При появлении министра на него со всех сторон начинают сыпаться вопросы о состоянии Парижа и окрестностей здания. Тара находился в затруднительном положении: нужно выбрать между двумя партиями, а это ему сложно, равно по кротости характера и по политическому скептицизму. Так как этот скептицизм вытекал из неподдельного беспристрастия, то было бы большим счастьем, если бы его могли в такую минуту выслушать и понять. Тара начинает говорить и прежде всего касается причин беспорядков. Первая причина, по его словам, это слух о сходке, собравшейся в мэрии с целью составить заговор против национального представительства. Он повторяет со слов Паша, что это вовсе не было собранием заговорщиков, а всего лишь легальной сходкой с известной целью, и если в отсутствии мэра несколько горячих голов сделали преступные предложения, то, отвергнутые с негодованием в присутствии мэра, эти предложения остались без последствий, в этом еще нельзя видеть настоящего заговора; что снаряжение комиссии для преследования этого мнимого заговора и устроенные ею аресты вызвали настоящие беспорядки; что он не знает Эбера лично и не получал о нем неблагоприятных сведений, а знает его только как автора литературного произведения известного рода, конечно достойного презрения, но напрасно считаемого опасным; что прежние собрания всегда оставляли без внимания отвратительные пасквили, распускаемые против них, и поэтому строгость, выказанная в отношении Эбера, могла показаться новым правилом, притом, может быть, несвоевременным; что Комиссия двенадцати, наконец, состоящая из порядочных людей и искренних патриотов, находится в странном заблуждении и, по-видимому, слишком одержима желанием выказать большую энергию. Левая сторона и Гора усердно рукоплещут этим словам. Тара, дойдя в своей речи до настоящего положения, уверяет, что Конвент не находится ни в малейшей опасности и что окружающие его граждане исполнены всяческого к нему почтения. Тут один депутат перебивает его и рассказывает, что его самого только что ругали. «Хотя бы и так, – возражает Тара, – мало ли что может случиться с отдельным человеком, но пусть весь Конвент покажется в дверях – и я ручаюсь ему, что весь народ перед ним почтительно расступится, встретит его приветом и послушается его голоса». В заключение Тара выражает примирительные взгляды и как можно деликатнее намекает, что именно попытки подавить беззакония якобинцев возбуждают беспорядки еще более. Конечно, в этом он был прав: занять оборонительное положение относительно противной партии – значит раздразнить ее вконец и ускорить катастрофу. Но когда борьба неизбежна, следует ли пасть без всякого сопротивления?.. В таком именно положении находились жирондисты: снаряжение Комиссии двенадцати было с их стороны неосторожностью, но неосторожностью неизбежной и осмысленной. Тара, закончив свою речь, становится на правую сторону, находившуюся в опасности, и Конвент постановляет напечатать и раздать его рапорт. После Тара говорит Паш. Он выставляет дело приблизительно в том же свете; докладывает, что Конвент оберегают три преданных секции, признанные самой Комиссией двенадцати, причем Паш намекает, что комиссия в этом случае позволила себе некоторое превышение власти, так как не имела права требовать вооруженной силы; он присовокупляет, что сильный отряд защищает тюрьму Аббатства от всякого противозаконного посягательства и что всякая опасность миновала. В заключение мэр просит Конвент благоволить выслушать граждан, ходатайствующих об освобождении задержанных лиц. При этих словах в собрании поднимается большой шум. – Десять часов! – кричат на правой стороне. – Президент, закройте заседание! – Нет, нет! – отвечают голоса с левой стороны. – Выслушайте просителей! Жирондист Анри Ларивьер не сходит с кафедры. – Если уж вы хотите кого-нибудь слушать, – говорит он, – выслушайте Комиссию двенадцати, которую вы обвиняете в тиранстве; она должна изложить вам свои действия, чтобы вы имели возможность судить о них. Громкий ропот покрывает его голос. Измученный Инар встает с президентского места. Его заменяет Эро де Сешель, которого трибуны встречают рукоплесканиями. Он спрашивает мнение собрания, и оно, увлекаемое угрозами и шумом, постановляет продолжать заседание среди этого сумбура. Вводят ораторов, они подходят к решетке; за ними врывается толпа просителей, которая дерзко требует роспуска ненавистной комиссии, освобождения арестованных лиц и торжества добродетели. – Граждане, – отвечает им Эро де Сешель, – сила разума и сила народа – это одно и то же. – Шумные аплодисменты принимают эту догматическую нелепость. – Вы требуете правосудия, – продолжает он, – правосудие – наша первая обязанность. Оно будет вам оказано. За первыми просителями следуют другие. Еще несколько ораторов произносят речи; наконец составляется проект декрета, которым из-под ареста освобождаются лица, задержанные по приказу Комиссии двенадцати, сама комиссия распускается и действия ее отдаются на рассмотрение Комитета общественной безопасности. Час очень поздний, просителей в зале битком; ночное время, толпа, крики, шум – всё способствует усугублению беспорядка. Объявляется голосование, и декрет утверждается, хотя никто хорошенько не знает, чем кончилась подача голосов. Одни говорят, что президенту не дали выступить, другие – что даже нет в наличии требуемого числа голосов, третьи – что на пустые места сели просители и декрет недействителен. Несмотря на это, декрет провозглашается, трибуны и просители разбегаются и бросаются в коммуну, в секции, в клубы – известить, что арестанты свободны, а комиссия распущена. Это известие распространило по Парижу великую радость и на мгновение опять водворило спокойствие. Даже лицо мэра как будто дышало искренней радостью. Но жирондисты, решившись сражаться отчаянно и не уступать победу своим противникам так дешево, собрались на следующий же день, исполненные жгучего негодования. Ланжюине, который не принимал участия в дрязгах, разделявших обе стороны Конвента, и которому прощалось его упорство, потому что его, по-видимому, не одушевляло личное чувство, – Ланжюине появился разгоряченным и в твердой решимости пристыдить собрание за его вчерашнее малодушие. Депутат Осселен первым требует чтения декрета и окончательной его доработки, чтобы можно было немедленно выпустить арестантов; тогда Ланжюине взбегает на кафедру и просит слова, чтобы доказать, что декрет недействителен и вовсе даже не состоялся. Его перебивает сердитый ропот. «Будьте добры, помолчите, – обращается он к левой стороне, – потому что я решился не сходить с этого места, пока вы меня не выслушаете». Ему хотят позволить говорить только о доработке декрета, однако после нескольких сомнительных попыток решают выслушать его на всякий случай. Ланжюине подробно объясняется и утверждает, что настоящий вопрос – один из самых важных для общей безопасности. «Более пятидесяти тысяч граждан, – говорит он, – перехвачено и посажено по всей Франции вашими комиссарами; за один этот месяц устроили больше произвольных арестов, нежели при старых порядках совершалось во сто лет. А вы жалуетесь, почему заперли двух-трех человек, проповедовавших убийство и анархию по два су за листок! Ваши комиссары – проконсулы, действующие скрытно от ваших глаз, и вы им позволяете делать всё, что они хотят. При этом вашей же комиссии, которая работает тут, среди вас, под вашим постоянным надзором, вы не доверяете, вы ее распускаете! В прошлое воскресенье в якобинском притоне предлагалось устроить в Париже бойню, сегодня то же самое обсуждается в епископском дворце, вам дают в руки доказательства – а вы их отталкиваете! Вы покровительствуете кровопийцам!» Разразившаяся после этих слов буря покрывает голос Ланжюине. – Нет более возможности совещаться! – восклицает Шамбон. – Нам остается удалиться в наши департаменты. – Ваши двери осаждены, – возражает Ланжюине. – Неправда! – кричит левая сторона. – Вчера, – продолжает Ланжюине, возвышая голос изо всех сил, – вы не были свободны, вами командовали проповедники убийства. Лежандр кричит со своего места: – Они хотят, чтобы заседание пропало даром. Я заявляю, что если Ланжюине будет продолжать врать, я его сброшу с кафедры. Собрание возмущается этой скандальной угрозой, а трибуны ей аплодируют. Гюаде требует, чтобы слова Лежандра были занесены в протокол и стали известны всей Франции, чтобы она знала, как обращаются с ее депутатами. Ланжюине продолжает; он доказывает, что вчерашний декрет фактически не состоялся, потому что в подаче голосов участвовали просители. А если и состоялся, то следует отозвать его назад, потому что собрание не свободно. – Когда вы свободны, – присовокупляет он, – вы не постановляете безнаказанности преступления. С левой стороны утверждают, что Ланжюине извращает факты, что просители не участвовали в голосовании, а, напротив, вышли в коридоры. С правой стороны настаивают на противном, и, не условившись заранее, Конвент требует подачи голосов по вопросу, следует ли отозвать декрет. Вопрос решается утвердительно большинством в 51 голос. – Вы совершили великий акт правосудия, – говорит на это Дантон, – и я надеюсь, что то же самое повторится еще раз перед концом заседания; но если комиссия сохранит свои тиранические полномочия, если служители народа не будут возвращены свободе и своим обязанностям, тогда я заявляю вам, что мы, доказав, что превосходим наших врагов осторожностью и благоразумием, докажем также, что превосходим их смелостью и энергией в деле революции. Предлагается голосование по вопросу о временном освобождении арестованных лиц – вопрос единодушно решается утвердительно. Рабо Сент-Этьен хочет говорить от имени Комиссии двенадцати, просит внимания во имя общественного блага, но ничего не добивается и немедленно подает в отставку. Итак, большинство снова оказалось у правой стороны; это как будто доказывало, что декреты будут издаваться согласно желаниям левой стороны лишь в минуты особенной слабости. Хотя арестованные были освобождены, хотя Эбер был возвращен коммуне, однако отмена декрета возбудила страсти, и буря, на мгновение как будто рассеявшаяся, готовилась разразиться снова и ужаснее прежнего.
В тот же день собрание, сходившееся в мэрии, но не являвшееся туда после того, как мэр воспретил вопросы об общественном благе, возобновилось в епископском дворце. Оно состояло из комиссаров от секций, выбранных в наблюдательных комитетах, и комиссаров от коммуны, департамента и разных клубов. Даже женщины имели своих представительниц, и из пятисот человек насчитывалось до ста женщин, а во главе их была одна, знаменитая своей политической пылкостью и народным красноречием. В первый день в это собрание явились посланцы не более чем тридцати шести секций; двенадцать не прислали комиссаров вовсе, и им было отправлено новое приглашение. Затем собравшиеся занялись образованием комиссии из шести членов, которой поручили придумать и на другой день предложить средства к общественному спасению. Приняв эту предварительную меру, собрание разошлось, назначив новое заседание на следующий день, 29 мая. В тот же вечер в секциях было очень неспокойно. Вопреки декрету Конвента, по которому собрания должны закрываться в десять часов, заседание длилось уже много дольше; секции объявили свое новое название – патриотические общества – и совещались до поздней ночи. Одни готовили новые адресы против Комиссии двенадцати, другие – петиции в Конвент, в которых требовалось объяснение слов Инара: «Париж будет исключен из списка городов». В коммуне Шометт произносил длинную речь об очевидности заговора против свободы, о министрах, о правой стороне и прочем. Появился Эбер, рассказал о своем заключении, ему поднесли венок, которым он украсил бюст Жан-Жака Руссо, а затем возвратился в свою секцию, сопровождаемый комиссарами коммуны. Двадцать девятого числа Конвент получает два прискорбных известия с двух главнейших военных точек – с севера и из Вандеи. Северная армия отражена и стеснена между Бушеном и Камбре; Валансьен и Камбре лишены всяких сообщений. На западе республиканские войска разбиты при Фонтене вандейцем Лескюром, который завладел и самим Фонтене. Эти известия распространяют большое уныние и делают положение умеренной партии еще более опасным. Секции одна за другой являются в Конвент со знаменами, на которых начертаны слова «Сопротивление угнетению», и объявляют, что нет ничего и никого неприкосновенного, кроме народа, и что, следовательно, те депутаты, которые старались вооружить департаменты против Парижа, должны быть отданы под суд, Комиссия двенадцати должна быть окончательно распущена и следует организовать революционную армию. У якобинцев заседание было не менее знаменательным. Со всех сторон твердили, что минута настала и надо наконец спасти народ. Как только являлся кто-то с предложением каких-нибудь определенных средств, его тотчас же отсылали в Комиссию шести. Лежандр заговорил было об опасностях, о необходимости сначала исчерпать легальные средства, прежде чем прибегнуть к крайностям, но ему объявили, что он только нагоняет сон. Робеспьер, не высказываясь ясно, заметил, что коммуне надлежит полностью соединиться с народом; что он лично не в состоянии предписать средств к спасению; что это не дано одному человеку, а тем менее ему, измученному четырьмя годами революции, истощенному медленной, но смертельной лихорадкой. Эти слова трибуна произвели глубокое впечатление и вызвали дружные рукоплескания. Они достаточно указывали на то, что он, как и все, собирается посмотреть, на что решатся муниципальные власти в епископском дворце. Это собрание сошлось опять, и там, как и накануне, было много женщин. Собрание прежде всего успокоило владельцев собственности заявлением, что собственность будет сохранена. Затем Дюфурни, один из членов Комиссии шести, сказал, что без главнокомандующего Национальной гвардией Парижа невозможно поручиться за успех и надо просить коммуну немедленно назначить такового. Одна из женщин, пресловутая Лакомб[65], больше всех настаивала на этом предложении и объявила, что без быстрых и энергичных мер спастись невозможно. Собрание тотчас же отправило комиссаров в коммуну, которая ответила, в духе обычных ответов Паша, что поскольку назначение главнокомандующего это обязанность Конвента, а мэр не имеет права сам назначать такового, то коммуна может только высказать по этому поводу свои пожелания. Этот ответ равнялся приглашению причислить и это назначение к чрезвычайным мерам, которые новое собрание на себя принимало. Тогда заседавшие решили пригласить все кантоны департамента присоединиться к ним и послали депутатов в Версаль. От имени шести требовалось слепое доверие и обещание исполнять не разбирая всё, что бы они ни предложили. Кроме того, предписывалось полное молчание по вопросу о средствах. Расходясь, собрание назначило заседание на завтра, на девять часов утра, с тем чтобы не закрываться, не придя к решительному результату. Комиссия двенадцати была извещена обо всем в тот же вечер, Комитет общественной безопасности тоже; последний, кроме того, узнал, что в Шарантоне, по слухам, происходили небольшие сходки, в которых участвовали Дантон, Марат и Робеспьер. Комитет, пользуясь минутой отсутствия Дантона, приказал министру внутренних дел приступить к самым деятельным розыскам для раскрытия этой тайной сходки. По всему было видно, что это ложные слухи. Робеспьер явно желал переворота, направленного против его противников жирондистов, но для этого не требовалось компрометировать себя: достаточно было не противодействовать более, как он это делал несколько раз в течение мая. В самом деле, его речь у якобинцев, в которой он признал, что коммуне надлежит соединиться с народом для приискания средств, равнялась формальному согласию на восстание. Этого одобрения было достаточно, а в центральном клубе и без него всё кипело. Что касается Марата, он содействовал движению своими листками, а также сценами, которыми он каждый день угощал Конвент, но Марат не принадлежал к Комиссии шести, настоящей распорядительнице. Единственный человек, которого можно было бы, пожалуй, считать скрытым зачинщиком движения, был Дантон, но он колебался. Он желал роспуска Комиссии двенадцати, но ему не хотелось трогать национальное представительство. В этот же день депутат Мельян встретился с ним в Комитете общественной безопасности, дружески с ним разговаривал, дал почувствовать, какую разницу видят жирондисты между ним и Робеспьером, как уважают его способности, и кончил тем, что Дантон мог бы сыграть великую роль, тратя свои силы для победы добра и порядочных людей. Дантон, тронутый этими словами, сказал лишь: «Ваши жирондисты мне не доверяют». Мельян хотел настаивать. «Не доверяют», – повторил Дантон и удалился, не желая продолжать разговор. Эти слова вполне обрисовывали его настроение. Он презирал эту муниципальную чернь, ни Робеспьер, ни Марат ему не нравились, гораздо приятнее было бы стать во главе жирондистов, но они ему не доверяли и руководствовались совершенно другими принципами. К тому же Дантон не видел ни в их характере, ни в убеждениях энергии, необходимой для спасения республики, а эта великая цель была ему дороже всего на свете. Равнодушный к личностям, Дантон отдавал предпочтение той партии, которая могла обеспечить Революции наиболее быстрый и наиболее прочный успех. Так как Дантон держал в своих руках кордельеров и Комиссию шести, можно предположить, что он принимал большое участие в готовившемся движении и, по-видимому, хотел сначала устранить Комиссию двенадцати, а там уж смотреть, как распорядиться жирондистами.
Наконец у заговорщиков Центрального революционного комитета вполне сложился план восстания. Они не хотели, по их собственным словам, устраивать восстание физическое, им требовалось восстание чисто нравственное, не отрицающее уважение к личности и собственности, словом – они желали надругаться над законами и свободой Конвента, соблюдая величайший порядок. Их целью было сделать коммуну центром восстания, созвать от ее имени вооруженные силы, так как она имела на это право, окружить Конвент, а затем подать ему адрес: по форме – петицию, а в сущности – настоящий приказ; они хотели просить с оружием в руках. Действительно, в четверг, 30 мая, комиссары секций собираются в епископском дворце и составляют так называемый республиканский союз. Облеченные обширными полномочиями от всех секций, они объявляют себя восставшими для спасения общего дела, угрожаемого аристократической фракцией, угнетающей свободу. Мэр, упорствуя в своем обычном двуличии, делает некоторые представления о характере этой меры, кротко противится ей и кончает тем, что повинуется мятежникам, которые приказывают ему отправиться в коммуну и там сообщить об их решении. Затем постановляют, что все сорок восемь секций соберутся и в тот же день выразят свое желание восстания, а немедленно после того колокола ударят в набат, заставы будут заперты и барабан забьет тревогу по всем улицам. Секции в самом деле собираются, и день проходит в бурном голосовании. Комитет общественной безопасности и Комиссия двенадцати требуют к себе власти, чтобы получить от них сведения. Мэр с прискорбным видом сообщает о плане, постановленном в епископском дворце. Люилье, прокурор-синдик департамента, открыто, со спокойной уверенностью объявляет, что действительно существует план нравственного восстания, и мирно удаляется к своим товарищам. Таким образом кончается день, а с самого наступления ночи колокола звонят набат, по всем улицам бьют тревогу, заставы запираются и изумленные граждане спрашивают друг друга, неужели опять начнется резня. Все депутаты Жиронды и министры ночуют не дома. Ролан укрывается у приятеля; Бюзо, Луве, Барбару, Гюаде, Бергуэн и Рабо Сент-Этьен укрепляются в уединенной квартире, запасшись хорошим оружием и готовые в случае нападения защищаться до последней капли крови. В пять часов они идут в Конвент, где уже собралось несколько депутатов, напуганных набатом. Для этого им приходится пройти через несколько групп, но так как они держат оружие нарочно на виду, то их не трогают. В Конвенте жирондисты уже находят несколько монтаньяров и Дантона, разговаривающего с Тара. – Посмотри, – говорит Луве своему приятелю Гюаде, – какая ужасная надежда блестит на этих лицах! – Да, – отвечает ему Гюаде, – сегодня Клавдий ссылает Цицерона. Тара, со своей стороны, удивляясь, почему Дантон так рано явился в собрание, внимательно наблюдает за ним. – Зачем этот шум? И чего они хотят? – спрашивает он у Дантона. – Это ничего, – холодно отвечает Дантон. – Надо им дать перебить несколько станков, да с тем и отправить. Собралось двадцать восемь депутатов. Фермой временно занимает президентское кресло, Гюаде мужественно принимает на себя обязанности секретаря; депутаты прибывают – ждут минуты, когда можно будет открыть заседание.
В этот же час в коммуне совершалось восстание. Посланники Центрального революционного комитета во главе со своим президентом Добсентом являются в ратушу, снабженные революционными полномочиями. Добсент объявляет, что парижане, уязвленные в своих правах, решили уничтожить все существующие власти. Вице-президент совета требует, чтобы ему были предъявлены все полномочия, проверяет их и, найдя в них выражение воли тридцати трех секций, объявляет, что большинством секций существующие власти уничтожаются. Генеральный совет удаляется. Добсент с комиссарами занимают упраздненные места при криках «Да здравствует Республика!». Затем он спрашивает мнения нового собрания и предлагает ему вновь утвердить муниципалитет и Генеральный совет в их должностях, так как они никогда не изменяли своим обязанностям, что немедленно и исполняется среди бешеных рукоплесканий. По-видимому, эти ненужные формальности имели целью возобновить муниципальные власти – уже с неограниченными правами. Тотчас после этого назначается новый временный главнокомандующий Национальной гвардией – некий Анрио, человек простой, преданный коммуне и уже командующий батальоном санкюлотов. Чтобы обеспечить себе поддержку народа, постановляют выдавать каждый день по сорок су каждому дежурному гражданину и брать эти деньги из принудительного займа, то есть с богатых. Это было верное средство собрать на помощь коммуне и против секционной буржуазии всех рабочих, предпочитавших заработать сорок су участием в бунте, чем тридцать – обычными работами. Пока в коммуне принимались все эти решения, граждане под звуки набата и с оружием в руках окружали знамя, поставленное перед дверью каждого секционного капитана. Многие из них не понимали, что думать об этих событиях, многие даже спрашивали, зачем их собирают, и ничего не знали о мерах, принятых ночью в секциях и коммуне. Вследствие этого они, конечно, были неспособны действовать самостоятельно и сопротивляться тому, что совершалось бы противно их убеждениям, а потому должны были, не одобряя восстания, поддерживать его своим присутствием. Более восьмидесяти тысяч вооруженных людей ходили по Парижу и послушно следовали за дерзкими властями, принявшими на себя командование. Одни только секции Мельничного холма, Майль и Елисейских Полей, давно уже высказавшиеся против коммуны и Горы и ободряемые поддержкой жирондистов, были готовы к сопротивлению. Они тоже собрались с оружием и ждали развития событий в положении людей, предвидевших опасность и готовых к защите. Якобинцы и санкюлоты, пугаясь этого настроения и преувеличивая его, бегали по Сент-Антуанскому предместью и кричали, что непокорные секции собираются водрузить белую кокарду и белое знамя и надо бежать в центр Парижа, чтобы остановить роялистскую вспышку. Чтобы возбудить более активное движение, некоторые хотели стрелять из пушки. Эта пушка стояла у Нового Моста, и стрелять из нее без декрета Конвента было запрещено под страхом смертной казни. Анрио приказал стрелять, но комендант поста не послушался, а потребовал декрета. Тогда Анрио послал людей, которые сняли пост, и в ту же минуту грохот пушки слился со звуками набата и барабанной дроби.
Конвент, собравшись с раннего утра, тотчас же потребовал к себе все власти, чтобы узнать, что происходит в городе. Тара, который давно уже был в зале и наблюдал за Дантоном, первым всходит на кафедру и сообщает то, что уже известно всем: в епископском дворце состоялось собрание, оно требует удовлетворения за оскорбления, нанесенные Парижу, и уничтожения Комиссии двенадцати. Едва Тара замолкает, как новые комиссары, величавшие себя «администрацией департамента Сена», появляются в зале и объявляют, что восстание будет нравственным, так как имеет целью лишь получить удовлетворение за все оскорбления, нанесенные городу Парижу. Они присовокупляют, что соблюдается величайший порядок, что каждый гражданин поклялся уважать личность и собственность, что вооруженные секции мирно расхаживают по городу и все власти в течение дня явятся в Конвент выразить свои чувства и предъявить требования. Президент Малларме читает записку от коменданта Нового Моста, сообщающую о столкновении по поводу пушки. Валазе тотчас требует, чтобы разыскали зачинщиков этого движения, а также звонивших в набат, и чтобы был арестован главнокомандующий, имеющий дерзость стрелять из пушки без разрешения Конвента. В ответ на это требование трибуны и левая сторона поднимают крик, чего и следовало ждать. Валазе не робеет; он говорит, что никто не заставит его изменить самому себе, что он – представитель двадцати пяти миллионов французов и до конца исполнит свой долг, а в заключение требует, чтобы Конвент немедленно выслушал Комиссию двенадцати, предмет стольких клевет, ибо то, что в настоящую минуту происходит, есть лучшее доказательство заговоров, которые она не переставала изобличать. Тюрио хочет отвечать Валазе – и начинаются борьба, шум, скандал. Матье и Камбон хотят стать посредниками: они требуют от трибун молчания, а от ораторов правой стороны – умеренности и стараются всем разъяснить, что в настоящую минуту сражение в столице было бы смертельно для дела Революции; что спокойствие есть единственное средство сохранить достоинство Конвента, а сохранение своего достоинства – единственное средство заставить уважать себя. Верньо, не менее Матье и Камбона склонный к примирению, говорит, что тоже считает завязывающуюся борьбу смертельной для свободы и Революции; поэтому он лишь в самых умеренных выражениях укоряет Тюрио за то, что тот увеличил опасность, грозившую Комиссии двенадцати, изображая ее в виде основного бича Франции в минуту, когда народное волнение и без того направлено против нее. Он полагает, что распустить комиссию следует, если она позволила себе самовластные поступки, но сперва должно выслушать ее; а так как ее доклад непременно должен будет, по свойству своему, возбуждать страсти, то Верньо просит отложить слушание до более спокойного дня. Теперь самое важное – это узнать, кто велел стрелять из пушки и звонить в набат; следовательно, никак нельзя не потребовать временного главнокомандующего. «Повторяю вам, – в заключение восклицает Верньо, – что каков бы ни был исход борьбы, если бы она сегодня разыгралась, она будет иметь следствием своим утрату свободы; поклянемся же твердо отстаивать наш долг и скорее умереть на посту, нежели отступиться от общего дела!» Собрание с восторгом поднимается с мест и дает клятву, предложенную оратором. Затем начинаются прения по вопросу о том, требовать ли главнокомандующего. Дантон, на которого устремлены все взоры, у которого и жирондисты, и представители Горы как бы спрашивают глазами, он ли виновник всего движения, всходит на кафедру – и немедленно водворяется глубокая тишина. – Прежде всего нужно упразднить Комиссию двенадцати, – говорит он. – Это несравненно важнее, чем требовать главнокомандующего. Обращаюсь к людям, одаренным политическим взглядом. Если мы и потребуем Анрио, это ничего не изменит, потому что надо заняться не орудием, а причиной смут. Причина же – Комиссия двенадцати. Я не имею претензии судить о ее поведении или действиях, не за самовластное совершение нескольких арестов нападаю на нее, а прошу вас упразднить ее за то, что она неразумна. – Неразумна?! – восклицает несколько голосов справа. – Мы этого не понимаем. – Не понимаете? – возражает Дантон. – Так надо вам объяснить. Эта комиссия учреждена единственно для того, чтобы усмирять порывы народной энергии; она задумана в том духе умеренности, который погубит Французскую революцию. Она задалась преследованием энергичных служителей народа, вся вина которых состояла в том, что они пробуждали его энергию. Я еще не спрашиваю, следовала ли она при этом личному неприязненному чувству, но она выказала такие стремления, какие ныне мы обязаны порицать. Вы сами, по докладу вашего министра внутренних дел, отличающегося кротким нравом, беспристрастным и просвещенным умом, выпустили тех людей, которых Комиссия двенадцати посадила. Что же вам делать с самой комиссией, если вы отменяете ее распоряжения?.. Пушка прогремела, народ поднялся, но следует благодарить народ за его энергию, и если только вы – разумные законодатели, вы сами похвалите его за усердие, исправите свои ошибки и упраздните комиссию. Я обращаюсь, – еще раз повторяет Дантон, – лишь к людям, сколько-нибудь понимающим наше положение, а не к тем тупым созданиям, которые внимают только собственным страстям. Итак, не колеблясь, удовлетворите народ… – Какой народ? – спрашивает кто-то справа. – Вот этот народ, – с жаром отвечает Дантон, – этот громадный народ, который служит нам передовою стражей, который ненавидит тиранию и гнусную умеренность, долженствующую вернуть ее. Поспешите же удовлетворить народ, спасите его от аристократов, от его собственного гнева, и если, когда он будет удовлетворен, какие-нибудь злоумышленники захотят продлить уже бесполезное движение, Париж сам их уничтожит. Рабо Сент-Этьен пытается оправдать Комиссию двенадцати в политическом отношении и всеми силами старается доказать, что ничто не могло быть разумнее создания комиссии для раскрытия заговоров Питта и Австрии, которые платят деньги за беспорядки, происходящие во Франции. – Долой! – кричат в зале. – Отнимите у Рабо слово! – Нет! – восклицает Базир. – Оставьте его, он лжец, я расскажу, что его комиссия организовала в Париже. Рабо хочет продолжать; Марат требует, чтобы впустили депутацию от коммуны. – Дайте же мне закончить, – говорит Рабо. – Коммуну! Коммуну! Коммуну! – кричат трибуны и Гора. – Я заявляю, – продолжает Рабо, – что когда я хотел сказать правду, вы меня прервали. – Ну, заканчивайте, – разрешают ему наконец. Рабо требует, чтобы комиссию упразднили, если так уж этого хотят, но чтобы при этом Комитету общественной безопасности поручили продолжать все расследования, начатые ею. Вводят депутацию восставшей коммуны. «Образовался обширный заговор, – докладывает один из вошедших, – но он разоблачен. Народ, поднявшийся 14 июля и 10 августа, чтобы ниспровергнуть тиранию, снова поднимается, чтобы остановить контрреволюцию. Генеральный совет посылает нас сообщить вам о принятых мерах. Первой из этих мер было отдать собственность под охрану республиканцев; второй – положить по сорок су в день гражданам, оставшимся под оружием; третьей – составить комиссию, которая сносилась бы с Конвентом в эту минуту волнений. Генеральный совет просит вас назначить этой комиссии залу неподалеку от вашей, где она могла бы заседать и сноситься с вами». Сразу после этих слов Гюаде вызвался ответить на требования комиссии. Из всех жирондистов уж конечно не он был способен унять страсти. – Коммуна, – начинает он, – уверяя, будто открыла заговор, ошиблась только в одном слове: ей следовало сказать, что она его исполнила. Крики с трибун перебивают его. Верньо требует их очистки. Поднимается страшный гвалт, и долгое время невозможно расслышать ничего, кроме несносного крика. Президент Малларме тщетно повторяет, что, если Конвенту не будут оказывать должного уважения, то он прибегнет к власти, которой наделяет его закон. Гюаде не сходит с кафедры, но ему с трудом удается добиться того, чтобы из его речи услышали хотя бы отрывочные фразы. Наконец он предлагает Конвенту прервать прения, пока не будет обеспечена его, Конвента, свобода действий, и поручить Комиссии двенадцати немедленно начать преследование тех, кто ударил в набат и выстрелил из пушки. Такое предложение не может усмирить шум. Верньо хочет взойти на кафедру, чтобы водворить хотя бы некоторое спокойствие, но является новая депутация от муниципалитета и повторяет всё уже сказанное. Конвент не может устоять перед этим новым давлением и постановляет, что служащим, затребованным для наблюдения за общественным порядком, будет выдаваться по два франка в день, а комиссарам от парижских властей предоставят залу для совещаний с Комитетом общественной безопасности. По издании этого декрета Кутон принялся возражать Гюаде, и весь остаток вечера ушел на бесполезные споры. Всё парижское население, вооружившись, продолжило шествовать по городу в величайшем порядке и полной неизвестности. Коммуна занялась составлением новых адресов по поводу Комиссии двенадцати, а Конвент не переставал волноваться. Верньо, ненадолго вышедший из залы, с удивлением смотрел на весь этот народ, не знавший, что делать, и слепо повиновавшийся первой власти, какая завладеет им. Полагая, что нужно только суметь воспользоваться этим настроением, он предложил провести резкое различие между агитаторами и народом и привязать последний к себе доказательством доверия. «Я далек от того, чтобы обвинять большинство, – заявил он собранию, – или даже меньшинство населения Парижа. День сей покажет, насколько Париж любит свободу. Достаточно обойти несколько улиц, посмотреть, какой в них царствует порядок, сколько расхаживает по городу патрулей, чтобы признать, что Париж заслужил благодарность отечества». При этих словах все собрание встало и единодушно объявило, что Париж заслужил благодарность отечества. Гора и трибуны рукоплескали, удивленные подобным заявлением из уст Верньо. Это было сделано, бесспорно, весьма ловко: одним лестным заявлением нельзя было оживить усердия секций, не одобрявших коммуну, и внушить им нужное мужество и единодушие, необходимые, чтобы противиться восстанию. В эту минуту секция предместья Сент-Антуан, возбужденная известием о том, что секция Мельничного холма водрузила белую кокарду, направилась к самому центру Парижа со своими пушками и остановилась в нескольких шагах от Пале-Рояля, где секция Мельничного холма расположилась в садах в боевом порядке, заперла все решетчатые ворота и была готова, тоже имея пушки, выдержать даже осаду. В городе продолжали распускать слухи о белой кокарде и подстрекать предместье Сент-Антуан к нападению. Однако несколько офицеров этой секции уже начинали говорить, что надо бы разузнать дело основательно и попробовать сговориться. Они подошли к решетке и заявили, что желают говорить с офицерами Мельничного холма. Их впустили, и они везде увидели одни только национальные цвета. Последовали объяснения, затем объятия. Офицеры вернулись к своим, и вскоре обе секции соединились и вместе отправились по улицам.
Итак, новой коммуне предоставлялась полная свобода спорить с Конвентом. Барер, всегда готовый к полумерам, от имени Комитета общественной безопасности предложил упразднить Комиссию двенадцати, но в то же время – отдать вооруженную силу в распоряжение Конвента. Пока он развивал свой план, появилась новая депутация и в третий раз изложила свои последние намерения от имени департамента, коммуны и чрезвычайного собрания комиссаров секций, заседавших в епископском дворце. Прокурор-синдик департамента Люилье говорит за всех. «Законодатели! – начинает он. – Давно уже город и департамент Париж очерняются в глазах всего мира. Те же люди, что хотели погубить Париж в общественном мнении, – тайные виновники побоищ в Вандее; это они ласкают и поддерживают надеждынаших врагов; это они топчут установленные власти и стараются ввести народ в заблуждение, чтобы иметь право на него жаловаться; это они вам доносят о воображаемых заговорах, чтобы создавать настоящие; это они выпросили у вас Комиссию двенадцати, чтобы угнетать свободу народа; это они, наконец, преступным брожением и вымышленными адресами питают в лоне вашем ненависть и раздоры и лишают отечество величайшего из благ – хорошей конституции, купленной сколькими жертвами». После этого горячего вступления Люилье рассказывает о будто бы существующих федералистских замыслах, объявляет, что Париж готов погибнуть за сохранение единства Республики и требует удовлетворения за знаменитые слова Инара «Париж будет исключен из списка городов». «Законодатели! – восклицает он. – Неужели действительно задумано разрушение Парижа?! Неужели вы можете хотеть уничтожить это священное хранилище человеческих знаний и искусства?!» Испустив эти притворные стенания, он требует мщения против Инара, против двенадцати и против многих других виновных, каковыми являются всё те же Бриссо, Гюаде, Верньо, Бюзо, Барбару, Ролан, Лебрен, Клавьер и другие жирондисты. Правая сторона молчит, левая и трибуны рукоплещут. Президент Грегуар отвечает на речь Люилье напыщенными похвалами Парижу и приглашает депутацию быть гостями. Участники ее перемешиваются с толпой простолюдинов. Их слишком много, чтобы поместиться перед решеткой, и потому они ищут мест в рядах Горы, которая спешит радушно принять их. В этот миг целая толпа всякого народа наводняет залу и мешается с членами собрания. Трибуны при виде такого братания между представителями и народом неистово аплодируют. Осселен тотчас же требует, чтобы петицию напечатали и начались прения о ее содержании, переработанном Барером в проект. – Президент спросит собрание, – заявляет Верньо, – желает ли оно приступить к прениям в таком состоянии. – К голосованию проект Барера! – кричат слева. – Мы протестуем против всяких прений! – кричат справа. – Конвент не свободен! – восклицает Дулсе. – Я тоже, – замечает Левассер, – пусть члены левой стороны переходят на правую; тогда собрание будет отделено от просителей и можно будет приступить к прениям. Эта идея тотчас приводится в исполнение, и на мгновение обе стороны сливаются и скамьи Горы предоставляются в исключительное владение просителям. Начинается голосование по вопросу о напечатании адреса, голосуют за это. – К голосованию проект Барера! – вновь раздаются крики. – Мы не свободны! – возражают некоторые депутаты. – Я требую, – вновь вмешивается Верньо, – чтобы Конвент присоединился к своей вооруженной охране и в ней искал защиты против насилия! С этими словами он выходит, и за ним идут множество товарищей. Гора и трибуны иронически рукоплещут удалению правой стороны; Равнина остается в испуге и нерешительности. – А я требую, – кричит Шабо, – поименной переклички, чтобы придать гласности имена тех, кто покинул свой пост! Верньо и его товарищи возвращаются; вид у них печальный, почти убитый. Процессия, которую они затеяли, могла выглядеть величественно, если бы их поддержали, а так – получилось мелко и смешно. Верньо хочет говорить, но Робеспьер не уступает ему кафедры и требует скорых и решительных мер для удовлетворения народа: кроме уничтожения Комиссии двенадцати он настаивает на строгих мерах против ее членов, затем долго распространяется о редакции проекта Барера и восстает против статьи, признающей за Конвентом право располагать вооруженной силой. – Давайте же заключение! – кричит ему Верньо, выведенный из терпения. – Будет заключение, и оно будет против вас! – заявляет Робеспьер. – Против вас, которые после революции 10 августа хотели вести на эшафот ее виновников! Против вас, которые не переставали настаивать на истреблении Парижа! Которые хотели спасти тирана! Мое заключение – это обвинительный декрет против всех сообщников Дюмурье и против лиц, указанных просителями! После долгих и шумных рукоплесканий декрет составляется, предается голосованию и принимается среди такого гвалта, который почти не дает разобрать, достаточное ли число голосов. Постановляется, что Комиссия двенадцати упраздняется; ее бумаги будут захвачены и в трехдневный срок о них будет сделан доклад; вооруженные силы будут обеспечены с помощью постоянных реквизиций; власти дадут Конвенту отчет в мерах, принятых для обеспечения общественной безопасности; по заговорам, о которых сделаны сообщения, начнется судебное разбирательство и будет издана прокламация с целью дать Франции правильное понятие об этом дне, так как злоумышленники, вероятно, постараются представить его в превратном виде. Было десять часов вечера; якобинцы и коммуна уже начинали жаловаться, что день истекает, не приведя ни к каким результатам. Этот декрет, хоть он еще ничего не решал относительно жирондистов, все-таки составил первый шаг к победе: трибуны ему обрадовались и заставили Конвент радоваться тоже. Коммуна тотчас же распорядилась иллюминировать весь город: устроили процессию с факелами; секции шли все вместе, без различия. Некоторые депутаты Горы и сам президент вынуждены были участвовать в ней, и победители заставили побежденных праздновать свое поражение. Общее настроение этого дня было очевидно. Восставшие решили совершить все свои действия согласно закону. Они хотели не распускать собрание, а только добиться от него требуемого, внешне сохраняя должное к нему почтение. Малодушные члены Равнины охотно потакали этой лжи, помогавшей им делать вид, будто они еще свободны, хотя в действительности они повиновались силе. В самом деле, мятежники, упразднив Комиссию двенадцати, всего на три дня отложили расследование ее действий, чтобы не подать вида, что уступают; они не предоставили Конвенту права располагать вооруженными силами, однако постановили, что ему будет дан отчет о принятых мерах; наконец, они распорядились издать прокламацию – чтобы заявить официально, что Конвент не боится и совершенно свободен. Бареру поручили составить эту прокламацию, и он исказил происшествия 31 мая с той редкой ловкостью, вследствие которой его перо имело большой спрос всегда, когда требовалось снабдить слабых благовидным предлогом уступить сильным. «Слишком строгие меры, – писал он, – возбудили неудовольствие; народ поднялся мощно, но спокойно, весь день был под оружием, провозгласил уважение к собственности, а также свободу Конвента и каждого из его членов, но потребовал удовлетворения, которое Конвент поспешил дать ему». Вот каким образом Барер выражался о Комиссии двенадцати, которую в свое время предложил создать сам. Первого июня спокойствие не было восстановлено. Собрание в епископском дворце продолжало свои заседания; департамент и коммуна тоже не расходились; секции не переставали шуметь; со всех сторон говорили, что достигнута только половина того, что требуется, так как двадцать два ненавистных депутата всё еще занимают свои места в Конвенте. Итак, Париж всё еще был в смятении, и 2 июня ждали новых сцен. Вся материальная сила сосредоточилась в собрании мятежников в епископском дворце, а вся легальная сила – в Комитете общественной безопасности, облеченном всевозможными чрезвычайными полномочиями. Тридцать первого мая выбрали залу для сношений законных властей с этим комитетом. В течение всего 1 июня комитет не переставал требовать к себе членов собрания, чтобы выяснить, чего еще хочет разбушевавшаяся коммуна. Это было слишком очевидно: коммуна требовала ареста или отрешения от должности депутатов, с таким мужеством сопротивлявшихся ей. Все члены Комитета общественной безопасности были этим требованием глубоко опечалены, Дельма, Трельяр, Бреар искренне горевали. Камбон, сторонник революционной власти, как он сам всегда говорил, но безусловный приверженец законности, негодовал на дерзость коммуны и говорил Бушотту, военному министру, подобно Пашу угождавшему якобинцам: «Мы не слепы: я очень хорошо вижу, что ваши чиновники – в числе зачинщики во всех этих делах». Барер, при всей своей осторожности, тоже начинал негодовать и даже высказывать это. «Надо будет посмотреть, – повторял он в этот печальный день, – Парижская ли коммуна представляет Французскую республику, или Конвент». Якобинец Лакруа, друг и помощник Дантона, казалось, чувствовал себя неловко перед товарищами из-за покушения, готовившегося против законов и национального представительства. Дантон ограничивался одобрением всей затеи с упразднением Комиссии двенадцати, потому что не терпел ничего, тормозившего народную энергию, но в то же время желал бы, чтобы уважение к национальному представительству не нарушали. Однако он предвидел со стороны жирондистов новые вспышки и новое сопротивление ходу революции, и ему хотелось найти средство удалить их, без гонения. Тара предложил ему такое средство, и Дантон ухватился за него с жадностью. Все министры были в комитете, и Тара тоже. Глубоко огорченный положением, он возымел великодушную мысль, которая могла бы возвратить согласие. «Вспомните, – сказал он членам комитета, обращаясь преимущественно к Дантону, – вспомните ссоры Фемистокла и Аристида, упорство, с которым один отвергал то, что предлагал другой, и опасности, которым они через это подвергали отечество. Вспомните великодушие Аристида, когда он, глубоко опечаленный вредом, причиняемым обоими родной земле, однажды воскликнул: “О афиняне! Вы тогда можете быть спокойны и благополучны, когда и меня, и Фемистокла сбросите в Баратрон”. Так пусть же вожди обеих сторон повторят себе эти слова Аристида, пусть они добровольно, в равном числе, удалятся из собрания. С того же дня раздор уймется. В собрании останется еще довольно талантливых людей, чтобы спасти общее дело, и отечество будет благословлять благородных людей за такой великий поступок». Все члены комитета были тронуты этой высокой мыслью; Дельма, Барер, Камбон пришли от нее в восторг. Дантон, который должен был первым пожертвовать собою, встает со слезами на глазах и говорит Тара: «Вы правы. Я иду в Конвент предложить эту мысль и вызовусь первым отправиться в Бордо заложником». Члены комитета расходятся, спеша сообщить об этом благородном поступке вождям обеих партий. Они обращаются в особенности к Робеспьеру, но такое самоотвержение, конечно, не могло ему быть по нутру, и он отвечает, что это просто западня, поставленная Горе с целью устранить ее главных бойцов. Удобоисполнимой осталась лишь одна половина плана – добровольное изгнание жирондистов, так как монтаньяры от идеи отказались. Комитет общественной безопасности поручил Бареру предложить одним взять на себя жертву, на которую у других не хватило великодушия.
В это самое время в епископском дворце устанавливался окончательный план второго восстания. Там, как и у якобинцев, жаловались, что энергия Дантона ослабла после упразднения Комиссии двенадцати. Марат предлагал идти в Конвент и прямо требовать обвинения двадцати двух. План восстания обговаривался не в самом собрании, а в исполнительном комитете, на который было возложено изыскание так называемых средств к общему спасению; этот комитет состоял из таких людей, как Варле, Добсент, Гусман – одним словом, из людей, постоянно волновавшихся с самого 21 января. Этот комитет предложил окружить Конвент вооруженными силами и не выпускать депутатов из залы, пока требуемый декрет не будет дан. Для этого следовало вернуть в Париж отряды, назначаемые в Вандею, которые нарочно были задержаны под разными предлогами в казармах Курбевуа. Инсургенты надеялись, что эти отряды согласятся на дела, на которые, пожалуй, не пошла бы Национальная гвардия. Оцепив здание Конвента этими надежными людьми, а остальную часть вооруженных сил оставляя в той же неизвестности и повиновении, как 31 мая, можно было рассчитывать легко сладить с Конвентом. Начальство над этими войсками поручили всё тому же Анрио.
 2 июня 1793 года
2 июня 1793 года
Вот что инсургенты собирались совершить в воскресенье 2 июня. В субботу вечером ударил набат, забили тревогу, и Комитет общественной безопасности поспешил созвать Конвент на заседание среди этой новой бури. В эту минуту жирондисты, собравшись в последний раз, обедали и совещались о том, что делать дальше. Им было ясно, что нынешнее восстание не могло иметь целью ни бить станки, как говорил Дантон, ни уничтожить комиссию, а речь уже шла о них лично. Одни советовали твердо стоять на своем и защищать до последнего дыхания должности, которыми они облечены. Петион, Бюзо, Жансонне склонялись к этому величественному решению. Барбару, не учитывая последствий, следуя лишь внушениям своего геройского духа, хотел идти в самую гущу врагов и подавить их своим присутствием и мужеством. Наконец, прочие – и Луве настойчивее всех отстаивал это последнее мнение – предлагали немедленно покинуть Конвент, где они не могли более принести никакой пользы, удалиться в свои департаменты, разжечь почти уже объявленное восстание и возвратиться в Париж с большими силами – мстить за законы и национальное представительство. Каждый защищал свое мнение, и никто не знал, на что решиться.
Набат и барабанный бой заставляют их встать из-за стола и искать убежища, не успев прийти к решению. Они отправляются к одному из своих сторонников, скомпрометированному менее прочих и не внесенному в знаменитый список двадцати двух: это был Мельян, уже принимавший их в своей большой квартире, где легко было собраться с оружием. Туда спешат все, кроме тех, у кого имелись другие средства укрыться. Конвент собрался при звуках набата, но депутатов оказалось немного, вся правая сторона отсутствовала, кроме Ланжюине, который рвался ко всякой опасности и пришел разоблачать заговор. После довольно бурного, но непродолжительного заседания Конвент ответил просителям, что, ввиду декрета, обязавшего Комитет общественной безопасности представить доклад о двадцати двух, не имеет смысла принимать особое постановление по новому требованию коммуны. Затем Конвент в беспорядке разошелся, и заговорщики отложили до утра окончательное исполнение своего плана. Набат и барабанный бой не умолкали всю ночь с субботы на воскресенье, 2 июня 1793 года. Пушка тоже гремела, и всё население столицы с рассвета вооружилось. Около восьмидесяти тысяч человек выстроились вокруг Конвента, но более семидесяти пяти тысяч из них не принимали участия в происходившем, а только следили за тем, что будет. Несколько надежных батальонов под начальством Анрио оцепили здание. У них было сто шестьдесят три орудия, зарядные ящики, жаровни для накаливания ядер, зажженные фитили – словом, весь военный аппарат, способный воздействовать на воображение. С самого утра в город были призваны батальоны, назначенные в Вандею, предварительно раздраженные сообщениями о мнимом раскрытии заговора, зачинщики которого находятся в Конвенте. Уверяли, что к этим доводам присовокупили и другие – в виде пятифранковых ассигнаций. Эти батальоны явились на площадь Карусель, готовые на всё, что бы ни заблагорассудилось инсургентам приказать им. Итак, Конвент, хотя его теснили только несколько тысяч сумасбродов, казался осажденным восемьюдесятью тысячами парижан. Впрочем, если и не осажденный на самом деле, он подвергался большой опасности, потому что эти несколько тысяч были вполне расположены к любым крайним действиям. Депутаты собрались на заседание. Гора, Равнина, правая сторона – все занимали свои скамьи. Обреченные на гибель депутаты, почти все собравшиеся у Мельяна, тоже хотели идти на свои места. Бюзо старался вырваться из рук останавливавших его друзей и хотел умереть в Конвенте, однако его успели удержать. Одному Барбару удалось уйти, и он явился в собрание, где весь этот роковой день проявлял нечеловеческое мужество. Остальных уговорили остаться всем вместе в своем убежище и там дождаться исхода ужасного заседания.
Заседание Конвента открывается, и Ланжюине, решившийся на последнее усилие, чтобы заставить непокорных уважать собрание, Ланжюине, которого не могут устрашить ни трибуны, ни Гора, первым просит слова, чем вызывает свирепый ропот. – Я пришел, – говорил он, – представить вам средство остановить угрожающие новые движения. – Долой! Долой! – кричат со всех сторон. – Он хочет междоусобной войны! – До тех пор, пока членам будет дозволено возвышать здесь голос, – опять начинает Ланжюине, – я не позволю унижать в моем лице звание представителя народа! До сих пор вы ничего не делали – вы всё терпели. Вы утверждали всё, что от вас требовали. Составляется какое-то собрание мятежников, назначает комитет для подготовки открытого восстания или временного главнокомандующего для руководства бунтовщиками – и это собрание, этот комитет, этого главнокомандующего вы терпите. Страшные вопли прерывают депутата на каждом слове; наконец бешенство доходит до того, что несколько депутатов Горы – Друэ, Робеспьер-младший, Жюльен и Лежандр – вскакивают со своих мест, бегут к кафедре и хотят силой сорвать с нее оратора. Ланжюине цепляется за кафедру руками и не дает себя стащить. Всё собрание приходит в волнение, и вопли трибун довершают эту сцену – самую страшную, какую приходилось наблюдать в стенах этого здания. Президент надевает шляпу и кое-как добивается того, что его начинают слушать. – Произошедшая здесь сейчас сцена, – говорит он, – крайне прискорбна. Свобода погибнет, если вы будете продолжать так вести себя. Я призываю вас к порядку; вас, которые так неистово ринулись к кафедре! Водворяется некоторая тишина, а Ланжюине предлагает отрешить от должности все парижские революционные власти; другими словами, чтобы люди безоружные поступили строго с людьми вооруженными. Как только он замолкает, опять являются просители от коммуны. Речь их более чем когда-либо кратка и энергична. – Граждане Парижа, – говорят члены депутации, – четыре дня как не клали оружия. Четыре дня они требуют у своих уполномоченных возвращения недостойно нарушенных прав, и четыре дня их уполномоченные потешаются над их спокойствием и бездействием. Нужно подвергнуть заговорщиков предварительному аресту, нужно спасти народ сейчас же, иначе он начнет спасать себя сам! Бийо-Варенн и Тальен немедленно требуют доклада об этой петиции. Большинство в то же время требует перехода к очередным делам. Наконец, среди этого гвалта собрание, воодушевляемое опасностью, голосует за переход к очередным делам, мотивированный тем, что Комитету общественной безопасности уже поручено представить такой доклад в трехдневный срок. Услышав это решение, просители выходят с криками и угрозами, показывая спрятанное у них оружие. С трибун вдруг исчезают все мужчины. Снаружи поднимается шум, раздаются крики «К оружию!». Несколько депутатов стараются убедить собрание, что оно поступило неосторожно и нужно положить конец опасному кризису, исполнив желание народа и подвергая предварительному аресту обвиняемых депутатов. «Мы все пойдем в тюрьму!» – отвечает на это Ларевельер-Лепо. Тогда Камбон извещает, что через полчаса Комитет общественной безопасности явится с докладом. Хотя для этого и был положен трехдневный срок, но постоянно возраставшая опасность заставила комитет поспешить. Действительно, Барер является на кафедру и предлагает мысль Тара, ту самую, которая накануне так тронула всех членов комитета и за которую Дантон схватился с таким жаром, – мысль о добровольном обоюдном изгнании вождей обеих партий. Однако Барер, зная, что монтаньяры не согласятся на нее, предлагает ее только двадцати двум. – Комитет, – заявляет он, – не имел времени разъяснить ни одного факта, выслушать ни одного свидетеля, но ввиду политического и нравственного положения Конвента полагает, что добровольное удаление указанных депутатов имело бы самое благодетельное влияние и спасло бы Республику от пагубного кризиса, исход которого страшно предвидеть. Инар всходит на кафедру и говорит, что как только кладутся на весы с одной стороны – человек, с другой – отечество, он не может ни минуты колебаться и готов отказаться не только от своей должности, но, если нужно, и от самой жизни. Лантена следует примеру Инара, Фоше тоже; Ланжюине, считая, что не должно уступать, снова всходит на кафедру и говорит: – Я полагаю, что до сей минуты выказал довольно энергии, чтобы вы не ждали от меня отречения, даже временного. После этих слов в собрании поднимается крик. Ланжюине уверенно обводит его взором. – В древности, – продолжает он, – жрец, который вел жертву к алтарю, украшал ее цветами и лентами, а не пугал или ругал ее… Хотят, чтобы мы пожертвовали нашими полномочиями, но всякая жертва должна быть свободна, а мы не свободны! Отсюда нельзя выйти, нельзя подойти к окнам – кругом пушки. Нам не дают права выразить наши чувства – и я молчу. Барбару говорит вслед за Ланжюине и с таким же мужеством отказывает в требуемой жертве. – Если Конвент прикажет мне отказаться от моих полномочий, – заявляет он, – я покорюсь. Но могу ли я сам отказаться от полномочий, когда множество департаментов пишут мне, что я ими пользовался хорошо, и приглашают меня продолжать? Я клялся умереть на своем посту и сдержу клятву! Дюсо предлагает выйти в отставку. – Что вы! – вдруг восклицает Марат. – Неужели оказывать виновным честь, принимая от них самопожертвование? Нужно быть непорочным, чтобы приносить жертвы отечеству. Мне, истинному мученику, мне подобает пожертвовать собой; итак, я готов временно отказаться от своей должности с той минуты, как вы распорядитесь арестом обвиняемых депутатов. Только список составлен не так. На место старого враля Дюсо, нищего духом Лантена и Дюко, виновного лишь в нескольких ошибочных мнениях, нужно поместить Фермона и Валазе; они этого заслуживают, а их там нет! В эту минуту у дверей залы раздается страшный шум. Вбегает взволнованный Лакруа и говорит, что члены собрания не свободны, что он хотел выйти из залы и не мог. Хотя сам депутат и является сторонником ареста двадцати двух, бессовестное покушение коммуны приводит в негодование и его. С минуты отказа собрания издать какое-нибудь решение по поводу петиции коммуны отдали приказ не выпускать из здания ни одного депутата. Некоторые из них тщетно пытались уйти тайком. Одному Горса это удалось, и он поспешил на квартиру Мельяна уговаривать оставшихся у него жирондистов не ходить в Конвент, а спрятаться, кто куда может. Все другие, пробовавшие выйти, были удержаны силой. Всё собрание пришло в негодование, и даже сама Гора была изумлена. Собрание потребовало к ответу виновников нового приказа и утешило себя бесполезным декретом о призвании начальника вооруженной силы. Тогда начинает говорить Барер и выражается с непривычной для него энергией. Он заявляет, что собрание не свободно и совещается под гнетом скрытых тиранов; что в инсургентском комитете есть люди, за которых он не берется отвечать; что у дверей залы батальонам, назначаемым в Вандею, раздаются пятифранковые ассигнации; и что нужно удостовериться, пользуется ли еще собрание уважением. Для этого он предлагает всем вместе выйти в самую середину вооруженной толпы, чтобы убедиться, что бояться нечего и власть собрания еще уважают. Это предложение, раз уже сделанное Тара 25 мая и возобновленное Верньо 31 мая, принимается. Эро де Сешель, к которому прибегают во всех затруднительных случаях, возглавляет собрание в качестве президента, и вся правая сторона и Равнина встает и собирается идти за ним. Одна Гора не трогается с места. Тогда последние депутаты правой стороны возвращаются назад и стыдят своих противников за то, что они не хотят разделить общей опасности. Трибуны, напротив, знаками показывают представителям Горы, чтобы они оставались на месте, давая понять, что там их ждет большая опасность. Монтаньяры, однако, движимые некоторым чувством стыда, отправляются тоже, и весь Конвент появляется во дворе здания и перед площадью Карусель. Часовые дают депутатам дорогу. Конвент доходит до ряда пушкарей, предводительствуемых мятежником Анрио. Президент приказывает ему открыть дорогу Конвенту. – Вы не выйдете, – отвечает Анрио, – пока не выдадите двадцати двух. – Схватите мятежника! – приказывает президент солдатам. Тогда Анрио оборачивается к своим со словами: – Канониры, к орудиям! Кто-то в эту минуту с силой хватает Эро де Сешеля и оттаскивает его в сторону. Собрание отправляется в сад, чтобы и там проделать тот же опыт. Несколько групп кричат «Да здравствует нация!», другие – «Да здравствует Конвент! Да здравствует Марат! Долой правую сторону!». За садом стоят батальоны, настроенные иначе, и делают депутатам знаки, чтобы те шли к ним. Но все выходы заперты, никуда не выпускают. И тут вдруг Марат, окруженный несколькими мальчишками, подходит к президенту и говорит ему: «Требую, чтобы депутаты, покинувшие свой пост, вернулись назад!» Собрание, убедившись, что все эти попытки могут только продлить его унижение, возвращается в залу заседаний и рассаживается по местам. Кутон всходит на кафедру. «Вы сами видите, – начинает он с наглой уверенностью, ставящей всех в тупик, – что народ уважает вас и слушается; вы видите, что свободны и можете приступить к голосованию по предлагаемому вам вопросу. Спешите же удовлетворить желания народа». Лежандр предлагает исключить из списка двадцати двух тех депутатов, кто предложил выйти в отставку, а из списка двенадцати – Буайе-Фонфреда и Сен-Мартена, противившихся самовластным арестам, и заместить последних Лебреном и Клавьером. Марат вслед за Дантоном настаивает, чтобы из первого списка были исключены Лантена, Дюко и Дюсо, а внесены в него Фермой и Валазе. Эти предложения принимаются, и собрание уже готово приступить к голосованию. Запуганная Равнина начинает говорить, что в конце концов депутатам не так уж плохо будет сидеть под домашним арестом и необходимо положить конец этой ужасной сцене. Правая сторона требует поименной переклички, чтобы пристыдить Брюхо за малодушие, но один из этих господ снабжает своих товарищей благовидной уловкой, чтобы выйти из этого затруднительного положения, объявив, что вовсе не станет подавать голоса, потому что он не свободен. Этому примеру следуют многие. Тогда Гора одна, с немногими другими членами, постановляет арест депутатов, обвиняемых коммуной. Так свершилось знаменитое событие 2 июня, более известное под именем 31 мая. Это было повтором 10 августа 1792 года, только направленным против национального представительства. Раз посадив депутатов под домашний арест, оставалось только довести их до эшафота – а в этом уже не было большой сложности. Этим событием закончился один из главных периодов Французской революции, ставший подготовкой к другому – самому великому и грозному.


Последние комментарии
3 часов 1 минута назад
3 часов 9 минут назад
9 часов 21 минут назад
9 часов 25 минут назад
9 часов 35 минут назад
9 часов 42 минут назад