Этого забыть нельзя: Воспоминания бывшего военнопленного [Андрей Иоанникиевич Пирогов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Андрей Пирогов
ЭТОГО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Воспоминания бывшего военнопленного


Товарищам по борьбе в фашистском плену — посвящаю.
Автор.
Глава 1. Отступление

Холмистая степь Керченского полуострова, дымящие воронки, жаркое, пылающее огнем майское небо 1942 года. По пыльной проселочной дороге бесконечной цепью движутся грузовики, артиллерийские орудия, танки, повозки. Надрывно гудят машины, скрежещут гусеницы. Взмыленные кони еле передвигают ноги. Ездовые то отчаянно хлещут их кнутовищами, свистят, гикают, то жалобно просят поднатужиться маленько, то ругаются самыми отборными словами. На фронтовой дороге то и дело возникают пробки — хаотическое скопление людей, лошадей, повозок и техники. Над всем видимым миром стоит невообразимый грохот. Где-то совсем недалеко падает снаряд. Но никто не обращает на это внимания. Вырваться б только вперед. Здесь даже дышать нечем. Разогретый воздух густо насыщен пылью, бензиновыми парами, пороховой гарью. Я сижу рядом с шофером в потрепанном «газике», голова раскалывается от жары и бессонницы, горло пересохло, губы потрескались. «Газик» пыхтит, чихает, выбивается из последних сил, и я ловлю себя на мысли, что мне хочется скорее, как можно скорее выбраться из этого пекла, где каждую минуту можно оказаться беспощадно раздавленным и смятым в лепешку. Сверху снова слышен раздирающий душу свист, голова непроизвольно уходит в плечи. На этот раз снаряд разорвался возле угоняемого стада коров. Животные в страхе бросились врассыпную, сминая все на своем пути. Второй снаряд ложится метрах в ста правее дороги. Все понимают: берут в вилку. Но транспорт движется, как ни в чем не бывало. Никто не оставил своего места, никто не побежал прятаться. Когда рассеялся дым, шофер Гриша, не обращаясь ни к кому, произнес: — От гад, по коровам лупит, идиот проклятый… Гад — самое сильное ругательство у Гриши. Его широкое, скуластое лицо с чуть косым разрезом глаз как всегда спокойно, вся его коренастая фигура с крепкими узловатыми руками, сжимавшими баранку, дышала силой и уверенностью. Вчера мы вместе раскассировали продовольственный склад под самым носом у противника. Приказ командующего ясен: ни грамма продовольствия не оставить врагу. Раздать местному населению, партизанам, отряды которых формируются, отходящим частям. Что не удастся раздать, уничтожить. Как начальник продовольственного отдела армии я лично за это отвечаю. Буквально в километре от нас ползли немецкие танки, но Гриша спокойно раздавал пехотинцам и кавалеристам сахар, консервы, галеты. Делал он это сосредоточенно, не торопясь, и я невольно радовался выдержке и терпению своего шофера. Никогда он не суетился, не проявлял растерянности, все выполнял с мудростью и умением рачительного хозяина. Сейчас мы ехали, чтобы решить судьбу отделения армейского продовольственного склада, в котором находились, главным образом, сухари. Вырвавшись, наконец, на узкую полевую дорожку, наш «газик» резво побежал между двух высоких стен наливающейся пшеницы. Гриша даже замурлыкал какой-то мотив, потом сказал, обращаясь к сидевшему сзади моему вестовому: — Ты, Ваня, хоть бы заспевал, а то молчишь и молчишь… И так невесело, а посмотришь на тебя, совсем тоска берет… Видя, что вестовой действительно приуныл, я спросил его: — Как самочувствие, Иван? — Порядок, товарищ начальник, — вздохнул он. — «Порядок»! — передразнил Гриша. — А почему ты цигарки изо рта не вынимаешь? Если человек беспрерывно чадит или воду пьет целыми баклажками — значит волнуется. Это ж факт! Иван молча слушал и виновато улыбался. Это был солдат тихий, застенчивый, немного робкий, но никогда за время боев в Крыму я не замечал, чтобы он струсил или поддался панике при виде противника. Дрался Иван в пехоте, был ранен под Каховкой и к нам попал из госпиталя. Мне он часто показывал фотографию своей младшей сестренки, которая жила с матерью в Курской области. — Больше всего боюсь, чтобы она не попала к немцам, — в минуты откровения говорил Иван. — Фашисты угоняют девушек в Германию, там они батрачат у помещиков. Как при крепостном праве… Вскоре мы добрались до пункта назначения. Склад помещался неподалеку села Семь Колодезей, в густых зарослях акации. Еще издали я заметил возле него «газик», такой же, как и наш, замаскированный сверху травой и ветками. На выпотрошенных ящиках сидели двое — шофер и комиссар продотдела Максимов. Он быстро поднялся и пошел нам навстречу. Всего лишь сутки, как расстался я с Максимовым в штабе армии, но казалось, что мы не виделись уже вечность. Комиссар крепко пожал мне руку, пристально посмотрел в глаза. — Плохи наши дела, Андрей! — произнес он и отвел взгляд в сторону. Рядом, за густыми зарослями кустарника, горело село. Расстояние до переднего края — не более трех-четырех километров. Там кромешный ад. Противник изо всех сил рвется к побережью Керченского пролива, чтобы лишить наши части возможности переправиться на Таманский полуостров. Судьба Керчи, пожалуй, уже решена. Враг сосредоточил на решающих участках огромные массы танков, артиллерии, а главное, армады фашистских самолетов непрерывно бороздят ярко-голубое крымское небо, бомбя, обстреливая из пулеметов, вдавливая наши войска в землю. Таковы превратности военной судьбы. А ведь мы сами планировали начать в первой декаде мая наступление с тем, чтобы вырваться на оперативный простор, достичь Перекопа, отрезать всю немецкую группировку в Крыму и тем самым помочь героическим защитникам осажденного Севастополя. На Керченский полуостров были доставлены с Кавказа хорошо оснащенные, но в большинстве своем недавно сформированные, необстрелянные части. Они заняли исходные позиции на самом узком участке полуострова у села Владиславовка и ожидали сигнала, чтобы ринуться в атаку. Но враг опередил события. За два дня до планируемого нами наступления танковый клин немцев внезапно пробил крупную брешь на стыке двух армий, вражеская авиация, пользуясь своим огромным превосходством в воздухе, подавила наши огневые средства, внесла дезорганизацию в неопытные войска. И вот, вместо того, чтобы торжествовать победу, мы вынуждены отступать. Я гляжу на Максимова. Как он похудел, осунулся за эти дни непрерывных боев. И все же армейская дисциплина не изменяет ему. Побрит, подтянут, и только сапоги покрыты густым слоем рыжей пыли. — Давай, комиссар, будем принимать решение, — обратился я к Максимову, показывая на горы мешков с сухарями. — Раздать сухари некому, — констатировал он. — Наши части отходят стороной, а население попряталось. Можно поджечь, но жаль бензин на это тратить, его у нас и так совсем мало. — Проще всего взорвать, — предложил шофер Гриша. — От сухарей при взрыве одна труха остается. Я уже видел однажды. Попробовали все же поджечь, не поливая бензином, но мешки только тлели, распространяя вокруг удушливый дым. Надо было поторапливаться, потому что в любой момент сюда могли просочиться вражеские танки. К счастью, неподалеку проходила группа саперов. Иван завернул их в нашу сторону. Я объяснил сержанту задачу. Не говоря ни слова, он обошел с трех сторон склад, примеряясь, как лучше с ним расправиться. Мое предложение — нагрузить бойцов сухарями, сержант категорически отверг. Он попросил у нас патронов, и нам пришлось поделиться своими запасами. Саперы быстро сделали свое дело. Уже спустя четверть часа на месте продовольственного склада взвился в небо огромный коричневый столб пыли. К четырем часам дня мы добрались до железнодорожной станции Багерово. Это в нескольких километрах западнее Керчи. Вокруг ни души. На путях стоят эшелоны. Открытые платформы загружены тракторами, сеялками, тюками сена. Мы с Максимовым пробирались по путям, чтобы поджечь эшелон с сеном. Законы войны неумолимы. Ничто не должно попасть в руки врагу. Вдруг послышался грозный окрик и вслед за ним — щелчок затвора. Я обернулся и увидел направленное в лицо мне дуло винтовки. Серые глаза часового грозно смотрели из-под каски. Попробовал объяснить часовому положение, сказал, кто мы такие, назвал имя командующего армией, но он застыл на месте, кажется, стоит пошевелиться — и ляжешь замертво. Вмешался комиссар: — Товарищ красноармеец, ваша часть отошла. Вас не успели снять с поста, и наша обязанность — забрать вас с собой. С трудом уговорили. Боец взял винтовку на ремень и пошел следом за нами. Неожиданно наткнулись на группу гражданских, человек около десяти. Разговорились. Выяснилось, что они разыскивают эшелон с продовольствием. Для чего, — я не стал расспрашивать. Было ясно: партизаны. Боец, еще недавно стоявший в карауле, залез в вагон и стал сбрасывать оттуда ящики. Надо было спешить, потому что соседние составы уже горели, пламя вот-вот перенесется сюда. Партизаны уходили в багеровские каменоломни. Туда же направились и мы. Нам было известно, что в каменоломнях временно разместился штаб 51-й армии. Мне нужно было встретиться с генерал-майором Котовым, который после гибели генерал-лейтенанта Львова принял командование армией. Люди, нагруженные ящиками, запросто нырнули в небольшой проем в стене и мгновенно исчезли. А мы долго еще пробирались по каменным уступам, падали, спотыкались, проваливались куда-то в бездну. В подземелье царила тишина, будто и нет войны, будто мы — праздные туристы, ищущие приключений. — Сюда! — услышал я голос часового. Балансируя, спустился вслед за Максимовым. Вдали, подобно волчьему глазу, блеснул огонек. Через несколько минут мы оказались у костра. Потрескивая, горели поленья, солдат с перевязанной головой открывал банку консервов. Мог ли я подумать в тот момент, что вот в таких сырых и темных штольнях мне и сотням моих товарищей по оружию придется провести долгие и трудные дни, недели, месяцы. Голодать и мечтать о глотке воды, хоронить друзей и ждать того счастливого часа, когда вновь можно будет вырваться на воздух, к солнцу. Ко мне подошел генерал Котов. — Докладывайте! — коротко бросил он, подавая руку. Я сообщил о ликвидации продовольственных складов. Приказ выполнен. Все, что можно было, вывезли, раздали населению. Остальное — уничтожено. Ночь мы провели у костра в подземельи. Несмотря на усталость, сон не шел, есть тоже не хотелось. Мозг сверлила одна навязчивая мысль: сколько еще сумеем продержаться в Керчи? Сидя у тлеющих поленьев, наблюдали обычную штабную суету, — то и дело прибывали и убывали офицеры связи, стучали пишущие машинки, раздавались четкие и немногословные приказания. Наконец, поздно ночью генерал Котов прилег на разостланную адъютантом шинель, и сразу все стало тихо. Тяжелая дремота сковала и нас. Пробудились мы с комиссаром Максимовым под утро от громких голосов, командарм ставил задачу группе командиров: прежде всего и любой ценой установить связь с дивизиями, выяснить их боеспособность, во что бы то ни стало остановить наступление прорвавшихся фашистских войск. Получаем задание и мы: — Выясните в управлении тыла фронта запас продовольствия, — обратился Котов ко мне. — Надо кормить солдат. — Генерал взглянул на часы и добавил: —Два часа — туда и обратно. Выполняйте! Максимов получил другое срочное поручение. Узнав у заместителя начальника оперативного отдела, что управление тыла разместилось в аджимушкайских каменоломнях, я с Максимовым пошел к выходу, к машинам. В четвертом часу утра наши «газики» незаметно проскользнули притихшими улицами села и разъехались в разные стороны. В чистом рассветном небе уже хозяйничал вражеский разведчик «Фокке-Вульф». Из-за двойного фюзеляжа солдаты называли его «рамой». «Рама» не так опасна, как противна. Жужжит подобно трутню, выслеживает расположение наших частей. Не раз бывали случаи, когда эти самолеты сбрасывали бомбы на стада коров, обстреливали работавших в поле женщин, охотились на одинокого путника. Поэтому, завидев «раму», Гриша жмется под деревья, прибавляет газу. Неожиданно — авария. Лопнул скат. Первым выскочил Иван. — Товарищ майор, посмотрите! — тревожно обратился он ко мне. В километре от нас, параллельно дороге, деловито шагала группа немецких солдат — человек двадцать. Иван тотчас присел, держа на изготовке винтовку, а Гриша даже не глянул в сторону противника. — Нужны они мне, поганые фрицы… Вскоре запасное колесо было водворено вместо поврежденного, «газик» помчался дальше. До аджимушкайских каменоломен недалеко, но добраться к ним — задача не из легких. С наступлением дня война возобновилась с прежней силой. Небо утюжили самолеты, все мало-мальски заметные скопления автотранспорта обстреливались артиллерией. Но после внезапной аварии больше всего я опасался за «газик». Как бы он не подвел, не лопнул бы снова какой-нибудь его ревматический сустав. Тогда — беда. Пешком не управиться за два часа, попутного транспорта нет, а приказ надо обязательно выполнить. Гриша успокаивал меня: — Все будет в порядке, товарищ майор, наша старушка еще покряхтит… Чудом проскочили открытую местность и добрались до каменоломен. Вместе с вестовым я вошел в подземелье, где еще вчера находился штаб фронта. Сейчас он уже переместился на Таманский полуостров. В подземелье остались тылы, госпитали и продовольственный склад фронтового военторга. Почти у самого входа в штольню мы обнаружили аккуратно укрытые брезентами кули, ящики, мешки. Огромное богатство: галеты, мука, концентраты, сахар, консервы, табак. Я принялся пересчитывать, Иван записывал. Больше всего сахара и табака. Возвращаясь в Багерово, Гриша вынужден был остановить «газик», вплотную прижаться к скале. Прямо над нами разразился воздушный бой. Прилетевшие с Тамани наши ястребки преградили путь группе фашистских бомбардировщиков, намеревавшихся бомбить переправу у Керчи, но их сверху атаковали «мессера». В синеве неба закружилась гигантская карусель. То и дело слышались короткие пулеметные очереди. Бомбардировщики рассыпались в разные стороны, беспорядочно сбрасывая свой бомбовый груз. От взрывов все вокруг нас заволоклось пылью, а карусель продолжалась. К тому же в районе багеровских каменоломен загрохотала артиллерия, по напряженности огня чувствовалось — отбивается атака. И все же, вопреки всем опасениям, я раньше срока выполнил приказ. Возвращавшийся с передовой офицер связи сообщил мне, что штаб армии переместился из багеровских каменоломен в рыбацкие домики на берегу Керченского пролива. Гриша развернул «газик», и вскоре мы уже были в рыбацком селении. Докладывая генералу Котову о запасах продовольствия, я понял, что ему не до меня, — оперативная обстановка сильно осложнилась, есть дела поважнее интендантских. Приехал сюда и Максимов. Мы сидели в комнате, потягивали махорку. От сильных разрывов дребезжали стекла, осыпалась глина с потолка. Наконец, генерал оторвался от карты и подозвал меня: — Вот что, Пирогов. Немедленно отправляйся на ту сторону. — Котов показал в окно, где сверкала водная гладь пролива. — На Тамань переправляются наши части, надо наладить там их довольствие. А вы, батальонный комиссар, — обратился он к Максимову, — берите в свои руки аджимушкайские запасы. Они нам еще пригодятся. Невольно ловлю себя на мысли, что возможность выбраться из этого пекла, перебраться в Тамань, радует меня, но тотчас сознание подсказывает, что это с моей стороны, по сути, будет узаконенным, благопристойным бегством. Выжидаю, пока генерал объяснит задачу. Говорю: — Товарищ командующий, разрешите остаться здесь. Я только что из Аджимушкая, могу быстро добраться туда, да и все тамошние запасы у меня переписаны. Мне легко будет сориентироваться. Зная непреклонный характер Котова, думаю: «Вот сейчас разнесет в пух и прах». Но генерал на редкость легко уступил: — Пожалуй, ты прав, майор. Тогда меняйся с комиссаром ролями. И чтобы в каменоломнях был порядок со снабжением. Выходим с Максимовым в сени. В открытую дверь видна часть пролива. У причалов колышутся на волне рыбачьи лодки. Возле моторного катера скопилась группа военных. В воздухе шныряют немецкие самолеты, то и дело доносится отвратительный свист бомб. Мы молча наблюдаем эту картину, а в голове неотступно роится одна дума: как же мы не устояли? Черт побери, мне уже за сорок, я участвовал в первой мировой войне, насмотрелся людского горя, но почему мне так сдавило сейчас горло? Совсем недавно, четыре с половиной месяца назад, в темную, бурную декабрьскую ночь 1941 года в составе морского десанта я высадился на эту землю. Тогда буквально в течение десяти дней мы дошли до Владиславовки — опорного пункта немцев в месте соединения Керченского полуострова с Крымским. Значит, мы их можем бить да еще как! Так в чем же дело? Внезапно почувствовал на своем плече руку Максимова. — Андрей, — обратился он ко мне, — зачем ты уговорил генерала? А знаешь, что Аджимушкай сегодня-завтра может оказаться в тылу противника?.. Минутная размолвка между начальником продотдела армии и его комиссаром закончилась, как и следовало ожидать, дружескими объятиями. Договорились встретиться на той стороне пролива. Увы, встреча не состоялась. Знакомой дорогой Гриша повел «газик» к аджимушкайским каменоломням. Приблизительно на полпути нас внезапно обстреляли просочившиеся автоматчики. Пули пробили кабину «газика». Гриша быстро свернул в балку, и мы заняли оборону. Выскакивая из машины, я оступился и повредил ногу у самой ступни. Сначала не почувствовал боли, но когда прибыли к каменоломням, я уже не в состоянии был подняться с сиденья. Гриша и Иван вывели меня под руки. Явился начальник одного из госпиталей — военврач первого ранга Асеев, которого я видел однажды во время боя под Владиславовкой. Учтивый, медлительный, он ощупал мою ногу и поставил диагноз: — Дело дрянь, пахнет переломом кости, придется лежать не меньше месяца. Заковали ногу в гипс, положили меня на койку. На вопрос, что же делать, Асеев заявил категорически: — Лежать, лежать!.. У моей койки бесшумно появилась женская фигура в белом халате. Рост медсестры как-то скрадывался, она казалась почти девочкой. Миловидное лицо было полно участия и доброты. Приятным, еле слышным голосом она предложила мне пить. С жадностью я выпил чашку холодного чая. Мне сразу стало легче. — Как вас зовут, сестричка? — обратился я к девушке. — Я ординатор хирургического отделения. Зовите просто Валей. Или так не положено? — смущенно поправилась она. Я попросил Валю выяснить, где мой вестовой Иван и шофер Гриша. Но их уже и след простыл. Видимо, кто-то из старших начальников отправил их вместе с машиной выполнять новое задание. Обидно, что не пришли попрощаться. От Асеева мне стало известно, что в каменоломнях оставлена большая, хорошо вооруженная группа. В случае появления немцев, она должна нанести им удар с тыла, а также обеспечить защиту раненых, женщин и детей, скрывавшихся под землей от бомбежек. Асеев сидел возле меня до поздней ночи. Вздыхал, сокрушался, ругал командование. Скажет — и ждет моего ответа. Мне не нравилось его брюзжание. Нытик в такие минуты — плохой советчик. К тому же меня основательно мучила боль в ноге. Я уснул, так и не заметив, когда ушел военврач. А проснувшись утром 18 мая, я увидел перед собой при тусклом свете электрической лампочки лицо майора Колесникова, моего старого фронтового друга, начальника одного из отделов управления тыла. Я сразу заметил, что Колесников чем-то очень взволнован, говорит, чуть шевеля бледными губами. На мой вопрос, какие новости доходят сверху, он ответил: — Приятного мало. У самого входа в каменоломню стоят немецкие «Пантеры»…
Глава 2. Подземные солдаты

Сообщение майора Колесникова, как бичом, хлестнуло меня. Я откинул одеяло и сгоряча поднялся на ноги. Вероятно, Асеев чрезмерно припугнул меня, врачи нередко преувеличивают, — во всяком случае моя левая нога, закованная в белый панцырь, свободно несла положенную ей нагрузку. А может быть душевная боль, которая так внезапно обрушилась на всех нас, притупила боль физическую, и поэтому я ничего не чувствовал. Колесников рассказывал о том, что наши пытались ночью пробиться к штольне, но силы оказались неравными. Ударной группе не удалось соединиться с гарнизоном каменоломен, и мы оказались отрезанными от мира. Желая убедиться в правдивости этой информации, ковыляю к главному выходу. Широкая штольня еле освещена электрическими лампочками. В полутьме снуют группы людей, вооруженных винтовками, гранатами. В другой обстановке Колесников, наверняка, не пустил бы меня с койки или хотя бы взял под руку, чтобы поддержать, но сейчас он даже не замечает моей забинтованной ноги. — Стой! — вдруг загородил нам дорогу старший лейтенант. — Куда? Не успел я открыть рот, как снова услышал: — Назад, назад, в госпиталь, товарищ майор. Здесь находиться нельзя. Мы потеснились за выступ. Невысокий проход, зарешеченный досками и укрепленный под самыми стенами рядом деревянных подпорок, вел к выходу. В проеме ярко светило солнце, и метрах в пятидесяти, не далее, виднелся танк с черным крестом на броне. Жерло пушки глядело в нашу сторону. Мы невольно отпрянули. Старший лейтенант бережно взял меня за гимнастерку. — Дальше нельзя, фриц заметит, сразу откроет огонь… Значит, все это горькая правда, — мы блокированы. Несколько минут мы стояли молча в тяжелом раздумье, но ничего не поделаешь, надо было уходить. Колесников втянул меня в узкий прямой туннель. Мы двигались ощупью несколько минут, кое-где задевая головами потолок. У меня на покалеченной ноге был один носок, я пальцами ощущал скользкий холодный камень. Наконец, стены расступились, блеснул тусклый огонек, послышались голоса. Колесников открыл дверь, и мы очутились в настоящей комнате. Под ногами — деревянный пол, с потолка свисает электрическая лампочка. Посередине — накрытый красной тканью стол, вдоль стен стоят стулья, диван. Стены задрапированы чем-то белым, и это прибавляет комнате света, создает впечатление нарядности. Колесников стукнул в стенку, открылась вторая дверь. — Входите! — послышался густой бас. За дверью была вторая комната, так же обставленная, только вместо дивана в ней стояла железная койка, а на столе находились телефоны и большой лист ватманской бумаги, исчерканный густыми линиями. Худощавый полковник Ягунов устало поднял голову и посмотрел на меня внимательным взглядом. Спросил: — Кажется, начпрод 51-й? — Бывший, товарищ полковник, — ответил я. Он недовольно повел губами. — Демобилизовались? Я понял, что сгоряча выпалил невпопад, и поспешил извиниться. Но Ягунов нетерпеливо махнул рукой. — Ладно, ладно. Мне доложили, что вы учли наши продовольственные запасы. Это верно? — Так точно, товарищ полковник. — Вот и хорошо, нашего полку прибыло. Продолжайте нести обязанности начпрода. — Он усмехнулся и продолжал: — Как видите, демобилизовываться нам еще рано. — А сколько личного состава, разрешите узнать? — привычно поинтересовался я. Полковник постучал карандашом по столу. Казалось, он не хотел отвечать на такой вопрос. — Много, — сказал он. — Точно не могу сказать, но много. Сегодня мне доложат, и я вам сообщу. Дайте ваши учетные данные. Я протянул ему свой блокнот, где значился подробный перечень военторговского продовольствия, составленный мною во время первого посещения каменоломен. Полковник долго рассматривал записи, беззвучно шевеля губами, затем что-то отметил на клочке бумаги. — Возьмите, — наконец, протянул он мне листок, исписанный мелким почерком. — Это суточная норма выдачи продуктов. Взглянув, я не поверил себе: таких норм у нас никогда не было — хлеб — 200 граммов, жир — 10, концентраты — 15, сахар — 100 граммов на человека. Видимо, мое лицо выдало состояние души. Полковник резко заметил: — Не кривитесь, майор, надо привыкать. Он поднялся из-за стола, одернул гимнастерку и зашагал по комнате из угла в угол. Каждое его движение, взмах руки, поворот головы — свободны и легки, каждая фраза — предельно кратка и ясна. Вдруг Ягунов заметил, что я в одном сапоге. — Вы ранены, майор? — Пустяки, кажется небольшой перелом в голенно-стопном суставе. Скоро срастется. — Ну, раз пустяки, тогда действуйте. Дел у меня сразу стало по самое горло. Развернули хлебопекарню, установили котел для варки пищи. Полковник Ягунов регулярно вызывал меня для доклада. Проверял наличие продовольствия и воды. Как выяснилось, в подземельи скопилось около десяти тысяч человек. Много гражданского населения — женщин, детей, стариков из Керчи и ближайших сел. Прячась от бомбежек, они жили здесь со всем своим скарбом. И все теперь находились у меня на довольствии. Дня через два, когда кое-как удалось наладить относительно нормальную жизнь, в комнате начальника обороны состоялось заседание военного совета. Собралось около пятнадцати офицеров. Со многими я уже успел познакомиться. Старший батальонный комиссар Парахин, старшие лейтенанты Белов и Лэнь, капитан Качурин, мои давние друзья майор Колесников и полковник Верушкин. Полковник Ягунов доложил обстановку. По данным разведки, наши войска переправились через пролив. Город Керчь и весь полуостров захвачен противником. Наше положение тяжелое. Враг сидит поверх амбразур и у главного выхода. Положение усугубляется тем, что в каменоломнях нет воды, все колодцы находятся снаружи. Не исключено, что нас попытаются выкурить газами, завалят и отравят ближайшие водоемы, взорвут отдушины, которые питают нас воздухом. После Ягунова слово взял Верушкин. Высокий, грузный, он с трудом отдышался, прежде чем начать говорить. Лишь теперь мне стало ясно, что здесь налажена четкая внутренняя служба и руководит ею полковник Верушкин. Есть и разведка, и связь, и госпиталь, и боевое обеспечение, и радио для связи с внешним миром. Словом, мы представляем собой настоящую боевую единицу, которой предстоит действовать своими, особыми методами. Верушкин нарисовал подробную картину боевой организации. Вся система подземных ходов в зоне их досягаемости противником разбита на три участка. Участки, в свою очередь, делятся на секторы. В каждом секторе имеется несколько амбразур. Возле них постоянно находятся бойцы, вооруженные пулеметами, гранатами и даже ротными минометами. По ночам большие группы совершают вылазки, не давая врагу покоя. Наша боеспособность заметно снижается из-за наличия гражданского населения. Как с ними быть? Этот вопрос решается единогласно: женщин, стариков и детей вывести ночью потайными ходами. И сделать это немедленно. Руководство операцией возлагается на старшего лейтенанта Белова. До войны он работал директором одного из совхозов в Крыму, хорошо знает эти места. При обсуждении методов ведения борьбы возникло два мнения. Первое — оставаться всем на своих местах, регулярно совершать вылазки наверх, нападать на противника и, отвлекая на себя как можно больше вражеских сил, тем самым помогать нашей армии. Второй план состоял в том, чтобы создать сильную ударную группу, с боем прорваться сквозь заслоны противника к проливу. Там можно соорудить плоты, часть людей переправить на Таманский полуостров, а если это не удастся, то пробиться в горы, к партизанам. Вряд ли кто-нибудь из нас не понимал, что последнее предложение практически почти не выполнимо. Уже в первые дни осады немцы обнесли аджимушкайские каменоломни кольцом колючей проволоки, минировали и пристреляли дороги и тропы, ведущие к выходам. За проволочными заграждениями шли окопы. Там сторожили нас вражеские солдаты, открывая огонь по всякому, кто появлялся на поверхности. Но у сторонников второго плана были и свои веские мотивы. В Севастополе наши войска все еще продолжали геройски сражаться, немцы оттягивали туда из-под Керчи свои войска. Стало также известно, что после окончания операции на Керченском полуострове многие фашистские части перебрасываются на север, в Донбасс. Следовательно, гарнизоны противника будут ослаблены, и если сколотить сильную боевую группу, то можно попытаться осуществить задуманную операцию. Выслушав мнения офицеров, полковник Ягунов принял решение оставаться в катакомбах. — Не можем мы бросить на произвол судьбы раненых товарищей, — сказал он. — Оставить их здесь — значит обречь на верную гибель. Мы обязаны превратить каменоломни в настоящую крепость. Будем активно обороняться, пока не вернутся наши… На следующий день немцы предприняли попытку проникнуть в подземелье. Один из танков, стороживший у главного входа, заурчал, зашевелился и медленно двинулся вперед, сделав три выстрела. Снаряды уходили в камень, не причиняя никакого вреда. Наши гранатометчики приняли бой. Старший лейтенант Лэнь выдвинулся вперед и, бросив под танк связку гранат, разворотил гусеницу. Экипаж выбрался через нижний люк. Сейчас же подошел второй танк, взял на трос подбитую машину и ушел восвояси. Гусеница осталась на месте. Очевидно, поняв, что проникнуть в штольню почти невозможно, немцы решили закупорить каменоломню. Мощным взрывом они завалили главный вход. Взрыв был настолько сильный, что на десятиметровой глубине еще долго то и дело происходили обвалы. Толстые пласты камня отрывались от потолка, хороня под собой все живое. Вслед за этим последовала еще серия взрывов. Все известные врагу ходы заваливались камнем, забрасывались железом, колючей проволокой. В ряде мест в результате взрывов образовались зияющие проемы, оказались заваленными внутренние ходы, что затрудняло наше, передвижение внутри штолен. Время шло, продовольственные запасы быстро иссякали. Пришлось уменьшить наполовину и без того скудный паек. Единственный продукт, норма которого не уменьшалась, был сахар. Выпечку хлеба прекратили, мука закончилась. Мизерные остатки галет, сухарей и концентратов строго распределялись между ранеными и ослабевшими женщинами-медиками. К середине июня продовольствие оказалось исчерпанным. Сахар и табак стали единственным продуктом. В ход пошли шкуры животных, забитых в первые дни осады. За ненадобностью шкуры были зарыты, но теперь пришлось их откапывать и брать в котел. Бойцы говорили: — Начпрод лезет из шкуры, чтобы накормить нас. Голод мучил людей, но особенно тяжело сказывалось отсутствие воды. Со всех концов раздавались стоны раненых: — Воды, хоть бы каплю водички, товарищи… Единственным источником водоснабжения был колодец, расположенный в тридцати метрах от главного входа. По ночам по грудам обвалившихся камней туда отправлялись вооруженные экспедиции. У колодца возникали настоящие сражения. За несколько ведер воды платили потоками крови. Но и этот колодец к концу мая был завален трупами и издавал зловоние. Спасение наступало лишь во время дождя. В вызванных взрывами расщелинах появлялись маленькие ручейки. Тогда в котелки и жестянки капля по капле собиралась живительная влага. В довершение наших бед иссякло горючее, умолк движок, питавший радиостанцию, погасли электрические лампочки. Жизнь в каменоломне стала еще более тяжелой. Каждая боевая группа жгла костер, непрерывно поддерживая огонь. Тут же готовилась скудная пища, разрабатывались планы очередных вылазок, принимались решения, приводилось в боевую готовность оружие. Тут спали на шинелях, латали одежду, чинили обувь, пели любимые песни. Ягунов вызывал меня все реже и реже. Однажды я возвратился от амбразур центрального района и решил доложить полковнику о виденном. Я вошел, держа в руках горящую лучину, и был поражен царившей в штабе тишиной. Полковник сидел за столом, подперев ладонью тяжелую большую голову. На мое приветствие он что-то невнятно буркнул и кивнул на стул. Я присел, оглянулся. У стены вповалку лежали офицеры. Кто-то медленно поднялся и приблизился ко мне. Это был майор Колесников. Я с трудом опознал его, хотя не виделись всего несколько дней. Лицо заросло бурой щетиной, глаза ввалились. Длинный тонкий нос особенно подчеркивал худобу. Колесников молча пожал мне руку и тихо заговорил: — Крысы, проклятые крысы не дают жизни. Целые стада развелись. Нахально бросаются под ноги. Страшно. Сегодня зарыли капитана, наверное, от него ничего не осталось… — Товарищ майор, по продовольственной части вам уже делать нечего. Пойдете начальником третьего сектора, в первом участке, — наконец обратился ко мне Ягунов. Он ткнул карандашом в лежавшую перед ним карту, стал пояснять задачу. Все три амбразуры сектора находятся под непрерывным наблюдением противника. Вылазки в тех местах почти невозможны. — Надо разведать другие, менее блокированные хода, — тихо сказал полковник. — Обязательно надо разведать!.. В середине июля я получил задание полковника Ягунова подобрать человек десять добровольцев и выбраться разведанным нами ходом на поверхность. Нам предстояло проникнуть в Керчь, выяснить там обстановку и возвратиться обратно. В случае невозможности возвращения действовать по собственному усмотрению. Задание было опасным, но недостатка в добровольцах я не ощущал. Особенно настойчиво просился в разведку один славный паренек, боец третьей амбразуры. По молодости товарищи запросто звали его Володькой, — ему было не более девятнадцати лет. Окончив аэроклуб, Володька сразу же попросился на фронт, получил звание старшины и водил санитарные машины. В один из последних дней обороны Керчи «мессеры» сожгли его самолет при посадке. Так Володька попал в аджимушкайские каменоломни. Приняв командование сектором, я обратил внимание на этого никогда не унывавшего крепыша с нежным, как у девушки, лицом. Паренек тоже потянулся ко мне, старался помочь, в чем мог, откровенничал. Зная грозящую нам опасность, я долго колебался, но все же решил взять Володьку в разведку, чем вызвал его бурную радость. Поздно ночью, очистив от камней старую амбразуру, мы выбрались на поверхность и здесь в первое мгновение растерялись, опьянели от свежего воздуха. Длительная пещерная жизнь, видимо, отучила нас различать стороны света, мы долго мыкались, пока выбрались на дорогу. Неподалеку маячили в лунном свете какие-то строения. Тихо переговаривались, решая, в какую сторону безопаснее двинуться, как вдруг прямо перед нами взвилась ракета. Одна, другая, третья… Огненные снопы взлетели над самыми головами. Тишину ночи разбудил пулемет. Мы бросились в другую сторону. Опять: та-та-та-та… Ничего не поделаешь, пришлось отходить. Сначала ползком по-пластунски, потом пошли гуськом во весь рост. Немцы не решались ночью вступать в открытую схватку, в темноте они действовали из засад и укрытий. Поэтому мы спокойно добрались до своей амбразуры. Постояли несколько минут, обсуждая причину нашей неудачи. — Слишком светло, — сказал старший лейтенант Белов. — Подождем более темной ночи. По одному вновь спустились в подземелье. Амбразуру заложили изнутри камнями. Возле костра я увидел группу бойцов, среди них находился и старший лейтенант Лэнь. — Товарищ майор! — позвал он меня. — С полковником Ягуновым случилось несчастье. В кабинете начальника обороны мы застали несколько офицеров. Полковник распластался на полу, лицо его было прикрыто каким-то лоскутом. Трагедия произошла час тому назад. Я вспомнил напутственные слова Ягунова: «Любой ценой свяжитесь с партизанами, достаньте хоть немного продуктов для больных и тяжелораненых, сообщите на „Большую землю“ о нас…» Не может быть, чтобы этот старый боевой командир потерял веру в наше освобождение, проявил малодушие и вот так нелепо… Толки о самоубийстве полковника оказались ложными. Произошел несчастный случай во время проверки гранаты, случай вполне объяснимый, если учесть, в каких невероятно трудных условиях приходилось готовить оружие. Взрывом тяжело ранило в ногу комиссара штаба. Ему раздробило кость выше колена, требовалась срочная операция. Меня и капитана Качурина попросили в операционную на помощь хирургу. — Анестезирующее, где я возьму анестезирующее! — беспомощно разводил руками молодой врач. Качурин предложил свой метод обезболивания. В рот раненому мы вложили толстую самокрутку и заставили его несколько раз основательно затянуться. Махорочный дым возымел свое действие на ослабевший организм. Комиссар потерял сознание, забылся. В это время врач приступил к операции. После гибели начальника гарнизона его пост, согласно уставу, должен был занять старший по званию начхим армии полковник Верушкин. Однако Верушкин тяжело болел сердцем. Мы все видели, каких трудов стоило пожилому офицеру передвигаться. У него появились отеки на ногах, мучила одышка. Поэтому командование подземными войсками взял на себя подполковник Бурмин. Более подходящей кандидатуры нельзя было найти. Бурмина знали по геройскому подвигу на заводе имени Войкова. Оказавшись в окружении, группа наших бойцов и офицеров во главе с танкистом Бурминым четверо суток сражалась на территории завода, а 22 мая прорвала окружение и с боями пробилась в каменоломни. Мы уважали своего нового командира не только за его храбрость. Это был человек отзывчивый, чуткий и в то же время непримиримый к слабодушным, нытикам. Но и Бурмин через некоторое время начал сдавать, сильно похудел, стал нервным, раздражительным. Да и все мы походили скорее на живые мумии, чем на людей. Натыкаешься в узкой темной штольне на лежащего человека, стоишь и думаешь: надо бы нагнуться и пощупать, жив ли он… Иной нагнется, а иной переступит и пойдет дальше. Просто не хватало сил. Ушел на разведку майор Колесников с группой бойцов. Ждали много дней. Не возвратился. Отправили старшего лейтенанта Лэня. Исчез и этот бесследно. А тут еще немцы стали пачками бросать в отдушины листовки, призывая нас не тратить напрасно усилий и сдаваться. Из репродукторов, установленных поблизости выходов и амбразур, целыми днями слышались аналогичные призывы. Видя, что открытая пропаганда не дает результатов, фашисты стали применять более изощренные методы. Под видом красноармейцев они заслали к нам несколько провокаторов, которые пытались посеять панические слухи, подговаривали подземных бойцов не подчиняться командирам и комиссарам, призывали обезоружить их и организованно сдаться на милость врагу. Но обезоруженными оказались изобличенные провокаторы. Несмотря на отчаянное положение, оставшиеся в штольне войска продолжали сражаться. Наши снайперы уничтожили из амбразур не одну сотню вражеских солдат, а разведчики однажды даже привели группу захваченных в плен румын. Все это приводило в бешенство фашистское командование. Все чаще слышались взрывы. Противник заваливал ходы, хотел похоронить нас заживо. После одного такого взрыва произошел крупный обвал внутри штольни. Несколько наших товарищей оказалось в каменном мешке. Они подавали слабые голоса, просили помощи. А все, что мы могли сделать, — слегка поцарапать штыками многотонные каменные глыбы. После серии взрывов в подземных коридорах несколько дней стояла едкая пыль. Нечем было дышать. Потом к пыли примешался дым. Мы долго не могли обнаружить, откуда он просачивался. Дым разъедал глаза, вызывал удушье, кашель Позже мы выяснили, что гитлеровцы в нескольких местах пропустили сквозь щели резиновые шланги и компрессорами нагнетают дым в каменоломни. И это не помогло. Подземные бойцы продолжали войну. Правда, нас в живых осталась горстка, а боеспособных — и того меньше. Я пока еще мог держать в руках оружие. Поэтому на меня и пал черед возглавить разведывательную группу.
Глава 3. Разведка

На железной треноге греется в котелке чай. Мы лежим у костра, молча слушаем, как потрескивают поленья. Сыро, стынут ноги, холод сковывает конечности. Старший лейтенант Белов разливает кипяток в жестяные банки из-под консервов. Уже много времени чай и сахар — единственная наша пища. Полковник Верушкин достает что-то из кармана. Наклоняется к моей банке, сыплет из мешочка белый песок. — Федор Алексеевич, зачем? — Ладно, ладно… — отстраняет он мою руку. — Я сберег немного для вас. Подкрепляйтесь, вам сейчас нужно сил накопить, а я обойдусь. Белов тоже протестует, решительно отказывается взять у полковника порцию сахара. Он сидя глотает кипяток, приговаривая: — Хорош чаек, только закусить нечем. Белов — человек веселый, звонкоголосый, но с тех пор, как мы перешли на один чай, и он притих. Иссяк запас прибауток и анекдотов, исчез куда-то смех. Руки его бессильно болтаются, живот запал, грудь ввалилась. Но сегодня в связи с предстоящей вылазкой у Белова поднялось настроение, пробует даже шутить. — Возвратимся из разведки, товарищ полковник, и я вам принесу, знаете что? Окорок, буханку белого хлеба и бутылку «Масандры»… При этих словах я ощущаю ароматный до головокружения запах свежевыпеченного хлеба. Прикрываю глаза и вижу мою старую мать. Какой вкусный хлеб умеет она печь! Последнее время меня все чаще преследует странное ощущение: мне кажется, что я никогда уже не смогу насытиться. Видимо, длительное недоедание до болезненности обостряет воображение. Верушкин устраивается поудобнее возле огня. — Ты лучше прихлопни десяток фрицев, — напутствует он старшего лейтенанта. — А хлеб и окорок отдашь девушкам. Мне не надо, я выдержу… И вдруг меня будто кольнуло в сердце. Как же я в суматохе и беготне забыл проведать наших врачей! Наших милых, добрых, заботливых. Их у нас пятеро. Накануне боев у Владиславовки они прибыли к нам из Краснодара. Только-только закончили медицинский институт. Подтянутые, начищенные, в пилотках, которые так кокетливо сидели на головах. В тот день, когда начальник госпиталя Асеев лечил мою ногу, я познакомился с одной из них — Валей. От нее узнал, при каких обстоятельствах пятеро молодых врачей очутились в каменоломнях. С Валей мы часто встречались. Я узнавал ее голос даже в темноте. По утрам она приходила на склад и получала продукты для раненых. Не зная действительного положения с продовольствием, она выпрашивала у кладовщика лишнюю крупицу для больных. — Я не для себя, честное слово, раненный лейтенант просит есть… Точно родная дочь была для меня Валя. Она вдохновенно рассказывала о Краснодаре —очень любила свой город. Приглашала в гости после войны. Я долго хранил ее адрес, но впоследствии вынужден был уничтожить блокнот. Раненые сердечно относились к Вале и ее подругам. Проходя мимо госпиталя, я нередко слышал: — Доктора Валю позовите, доктора Валю… Но длительный голод сделал свое дело. Четверо девушек слегли сразу. Валя некоторое время крепилась. Ухаживала за ранеными, подавала им сахар и воду. Потом и она слегла и уже больше не подымалась. В последний раз я упрашивал ее выпить чаю, но она отказалась. Просила только навещать ее обязательно. Двести метров бреду целое столетие. Поднимаю полог, держа впереди себя лучину. При виде моей тощей длинной фигуры с огнивом в руке Валя испугалась. Широко открыла глаза и, как мне показалось, беззвучно вскрикнула. — Это я, Валюша, не пугайтесь. Она не пошевелилась. Четыре одеяла, под которыми лежали Валины подруги, тоже не шевелились. И сейчас, спустя много лет, не берусь утверждать, теплилась ли под ними жизнь. — Я знала, что вы не забудете меня, — обрадовалась девушка. Говорить ей было трудно, она поминутно умолкала, чтобы набраться сил для очередной фразы. — У меня к вам просьба, Андрей Иоанникиевич, — продолжала Валя, — вынесите меня отсюда. К амбразуре. У меня нет сил добраться туда А я так хочу увидеть солнце, хоть разочек… И потом — мне тут страшно. Крысы… Я глядел на Валю, не зная, что ей ответить, чем помочь, как успокоить. Потом сказал: — Утром вас всех заберут отсюда. А сейчас я иду туда, наверх. Скоро увидимся. Крепитесь, Валюша! Но девушка, кажется, не слышала меня. Я укрыл ее одеялом и вышел. Когда я вернулся в свою штольню, разведчики уже подвешивали гранаты, осматривали наганы. Нас семь человек — Белов, я, трое пехотинцев, танкист и минометчик. Верушкин напутствует меня: — Продвигайтесь только ночью, по возможности в драки не вступайте. — Ясно, товарищ полковник. — Итак — до встречи! Верушкин обнимает поочередно всех, но провожать не вдет. До выхода далековато, а силы надо беречь. Каждый шаг стоит энергии. Шестерка гуськом шагает за мной. По нашим данным, ход, которым предстоит выбраться на поверхность, не известен врагу. Он почти отвесный, к тому же плотно заложен камнями. Вскарабкаться наверх не так-то просто, но нас радует мысль, что поблизости нет противника. В огромном подземном зале, похожем на древний храм, к узкому колодцу идет под наклоном деревянный помост. Осторожно ступает по доске Белов, за ним балансирую я. Остальные ждут внизу, подсвечивают лучинами… Белов долго карабкался, пока выбрался к самому верху. Насилу отодвинул камни, просунул голову и сразу исчез. Вскоре послышался его глухой голос: — Давай руку! Я ищу носками сапог опоры, руками цепляюсь за малейшие выступы. Чувствую, что вот-вот рухну. Наконец, Белов подхватывает меня за ворот гимнастерки. Первое, что вижу, — звезды. Их так много, что, кажется, весь мир состоит из одних звезд. И дышать легко. Во дворе рядом с отдушиной — стена, какое-то строение. Тихо. Мы знаем, что в этой части села нет никого. Жителей Аджимушкая, под которым находятся каменоломни, оккупанты выселили всех до единого. Силы мои иссякли. Ложусь на сухую теплую землю. От свежего воздуха кружится голова. Грудь душит кашель. Надо передохнуть. А Белов неутомим, он стоит над самым колодцем, подает руку следующему товарищу. И вдруг взрыв гранаты и пулеметная очередь, словно молотом, ударили меня по голове. На какую-то долю секунды я увидел старшего лейтенанта Белова. Он судорожно схватился обеими руками за грудь. Больше я ничего не видел.
Глава 4. Испытание

Сознание возвращалось медленно, словно из плотного тумана. Пытаюсь восстановить в памяти минувшие события, но мозг будто разжижен водой, не могу сосредоточиться на какой-то мысли, не могу понять, какими судьбами очутился здесь, что со мной приключилось. Чувствую, кто-то держит меня за руки, а кто-то другой торопливо шарит по карманам. Какое-то полное бессилие охватило меня. От неосторожного движения резкая боль пронзила под правой лопаткой. Отчаянно колет в груди, правый глаз затек и не открывается. Тупо ноет контуженная голова. Напрягаю слух. Обыскивающие меня тихо разговаривают на чужом языке. Но это не немецкая речь, по-немецки я немного понимаю. Вероятнее всего — румыны. И тут только молнией сверкнула мысль: случилось очень страшное, я в плену. Ненавистное, проклятое слово — плен! Закончив обыск и отобрав не только оружие, но и все, что находилось у меня в карманах — деньги, часы, документы, — солдаты потащили меня в какое-то строение. Небрежно бросили в углу прямо на пол. От нестерпимой боли я громко застонал. — Т-с-с! — угрожающе прошипел один из солдат, вытаскивая из коробки пулеметную ленту. Значит, здесь, в этом полуразвалившемся доме, находится засада. Сейчас я уже ясно различаю пулемет, направленный в сторону нашего хода. А мы-то наивно считали его секретным! Намокшая от крови гимнастерка неприятно холодит спину. Страшно хочется пить и улечься поудобнее. В отблесках лунного света различаю: один из солдат — маленький, голова сплюснутая, нос перерублен посередине. Заметил, что я подаю признаки жизни, бросает кусок хлеба. — Требуэ се мынка, майорул![1] Второго солдата не вижу. Первый раз вот так, лицом к лицу с противником. Собственно, кто эти двое? Не иначе — простые крестьянские парни, которых Антонеску послал на войну. Сами не понимают, зачем их пригнали сюда, во имя чего. Мне известно, что румыны по характеру народ добрый. И все-таки — враги. Я отталкиваю от себя хлеб, мне хочется крикнуть: «Возьми, подавись!» Солдат-уродец равнодушно лепечет: — Се мынка, майорул… Забытье мягкими волнами набегает на меня. Я то проваливаюсь в бездну, то вновь возношусь на высокий гребень. Наконец, утром сознание полностью возвращается. В комнате уже довольно светло, день вступает в свои права. Всматриваюсь в лица и форму вражеских солдат и окончательно решаю — румыны. Они о чем-то тихо переговариваются, совещаются, то и дело поглядывая на меня. О чем они шепчутся? Может, решают прикончить меня здесь и не возиться больше. В сенях послышался шум, и в комнату ввалилась новая группа румынских солдат, очевидно, смена. Столпившись, они с интересом рассматривают меня. Капрал жестами приказывает мне подняться. Напрягаю последние силы, но не могу даже пошевелиться. Сказалась и длительная голодовка, и потеря крови. Двое солдат, забросив винтовки за спину, подняли меня под руки и буквально поволокли по улице Аджимушкая. Волокут, словно недобитую скотину. Устав, бросают на землю, и я испытываю нечеловеческие мучения. Все-таки Белову повезло, он никогда не узнает, что такое плен. Наконец, меня втащили в дом, возле которого маячил часовой. Это — румынская комендатура. Вскоре прибыл румынский майор в сопровождении двух младших офицеров и переводчика. Увидев меня окровавленного и неподвижно лежащего на полу, майор отдал какое-то приказание. Явились два санитара с носилками и фельдшер. Они перевязали меня и уложили на носилки, а комендант приступил к допросу, который свелся к обычной процедуре: фамилия, имя и отчество, воинское звание, должность и много ли еще большевиков осталось в подземелье. На последний вопрос я отказался отвечать, а румынский майор не настаивал, неопределенно махнув рукой. После этого солдаты перенесли меня в околоток, где лежало несколько больных румын. Потянулись томительные однообразные дни. По утрам мне делает перевязки румынский фельдшер. Он как-то добросердечно смотрит на меня и даже потихоньку угощает сигаретами. А разговаривать все же опасается. Теплый сентябрь, солдатский хлеб и похлебка делали свое дело. Медленно, но верно, ко мне возвращались силы, и дней через пятнадцать я уже мог самостоятельно передвигаться. В первых числах октября меня навестил румынский комендант. Переводчик с трудом переводил его высокопарную речь, в которой что-то говорилось о рыцарских обычаях, о гуманности по отношению к пленным и офицерской чести. В итоге все оказалось намного прозаичнее: майор объявил, что по соглашению с вермахтом румынские войска держат у себя только рядовых советских военнопленных, а всех офицеров и генералов обязаны передавать в немецкие лагеря. Сообщив мне об этом, он галантно козырнул и вышел. В помещении долго не выветривался приторный запах дешевых духов. И вот однажды глухой ночью меня вывели на улицу, посадили в закрытый «Мерседес» и помчали в город. Керчь я знал хорошо. Но сейчас здесь было все чужое, незнакомое. Машина пробиралась мимо развалин, петляла темными переулками и, наконец, — стоп! Меня повели гулким коридором, затем втолкнули в одну из дверей. Помещение знакомо, насколько помню, здесь была столовая военторга. За стеной методично шагал часовой. Пройдется, стукнет прикладом об пол и — снова тишина. Проснувшись поутру, я увидел в углу ведро с водой, а рядом аккуратно завернутую в бумагу краюшку хлеба и яблоки. Кто бы это мог постараться, ведь яблоки, наверняка, не входят в скудный рацион заключенного. Решаю от пищи не отказываться, — если наберусь немного силенок, то пусть и безоружный, все же не буду так беспомощен. Из коридора за мной неусыпно следит стражник. Пожилой человек, по внешности и форме явно русский. Кто он? Почему служит в гестапо? Вызвать его на разговор никак не удается, он просто не отвечает на мои вопросы. Примерно в полдень в окно заглянули две девушки и поставили на подоконник котелок с супом, несколько яблок и гронку спелого винограда. Так вот кто заботится обо мне! Мой страж по-прежнему чертом смотрит на меня, но девчат не отгоняет, видимо, связан с ними кухонными интересами. Вопреки всем правилам, начинаю свой обед с фруктов, — это единственное средство избавления от авитаминоза, образовавшегося у меня во время голодовки в каменоломнях. Состояние моего здоровья по-прежнему не блестящее, но уже не приходит в голову мысль, стоит ли бороться за жизнь. Конечно, стоит! Какая птица в неволе не мечтает о полете, о свободной жизни? Но одно я твердо знаю, на поклон к фашистам, как тот караулящий меня стражник, не пойду, унижаться перед ними не стану. Ночью меня вызвали на допрос. Допрашивал гестаповец с погонами гауптмана, переводила женщина средних лет, видимо, в прошлом учительница немецкого языка. Гауптман старался быть любезным, предложил мне садиться, протянул сигареты. Я отказался, сказав, что не курю, а у самого голова шла кругом от запаха дыма. Сперва вопросы касались каменоломен. Гестаповец недоуменно пожимал плечами, мол, зачем напрасно тратили силы, проливали кровь, столько времени выносили нечеловеческие мученья, ведь все равно эта затея была обречена на поражение. А я слушал переводчицу, которая старалась поточнее подобрать слова, и неизмеримо гордился своими боевыми товарищами. Их так и не смогли сломить ни голод, ни жажда, ни взрывы, ни дымопуски. Подавляющее большинство наших людей погибло, но они унесли с собой немало врагов, к тому же на несколько месяцев сковали в Керчи крупные воинские части, не позволили противнику вывести их и бросить на наших братьев, сражавшихся на других фронтах. Нет, игра стоила свеч! Мой краткий ответ о верности солдатской присяге явно не удовлетворил гестаповца. Он переводит разговор на другие темы, пытается вызвать на откровенность. Говорят, глаза — зеркало души человека. У этого — глаза чистые, ясные, и весь он, несмотря на офицерскую форму, напоминает молодого смиренного жениха. Наша беседа длится уже более часа. Гауптман спрашивает, знаю ли я о русском генерале Власове, который собирает «истинных патриотов» России? О льготах, которыми пользуются пленные русские солдаты и офицеры, давшие согласие служить в РОА. Он показывает мне газеты на русском языке с воззваниями так называемых «добровольцев». Затянувшись сигаретой, произносит: — Помочь немецкой армии одержать победу над большевиками — большая честь для каждого русского. Немецкая армия — гуманная армия. Вы об этом по себе можете судить. Она — справедливая армия… Тут меня прорвало: — В сорок первом году, когда мы высадились десантом в Керчь, а вы драпали кто куда, я видел во рву возле станции Багерово тысячи убитых женщин, стариков и детей. Они погибли от рук «гуманной» армии! Гестаповец пропустил мою дерзость мимо ушей, и я понял: еще не наступило время для настоящего разговора со мной. Вскоре он куда-то заторопился и ушел, приказав часовому увести меня. Я бросил вслед переводчице: — Нравится вам эта работенка? Она косо посмотрела на меня, но промолчала. После первого гестаповского допроса последовал длительный перерыв. Однообразно тянулись дни. Встав поутру, я слышал монотонные шаги стражника. Он все чаще стал приоткрывать дверь и заглядывать в мою келью. Однажды даже сунул мне сигарету. Я привык к нему и не обращал на это внимания. По коридору иногда торопливо проходили девушки. Мельком посматривали на меня. По их лицам было видно — жалеют. И у них есть отцы, братья, на долю которых может выпасть такое же. Девушки нет-нет да совали мне в окно яблоко, гронку винограда или другую пищу, добытую на кухне, где они работали. Я много размышлял над тактикой своего поведения в плену. Что поделаешь, пленный тоже должен иметь свою тактику. Хорошо, что гауптман не придрался к моим словам на допросе. Но при других обстоятельствах этот день мог быть последним днем моей жизни. Надо поубавить свой пыл, все равно убедить гестаповца мне не удастся. А самое лучшее — молчать. Молчать, чего бы это ни стоило. Однажды ночью вваливаются ко мне двое. Одеты в гражданское, разговаривают по-русски. Один — пожилой, на висках седина, вид интеллигента. Говорит — инженер завода имени Войкова. Речь его спокойная, тихая. Внешне вполне симпатичный человек. Начинает разговор с того, что немецкая армия находится под Тбилиси, а Москва окружена и не сегодня-завтра падет. Второй — постарше, низкорослый, крепкий, кулачища, наверное, по пуду каждый. Поддакивает дружку: — Грозный большевики сдали, бои идут под Баку. Долго чешут языки, выматывая из меня душу. Клевещут на Красную Армию, топчут в грязь наших людей. Я стараюсь сдержать данный себе обет молчания. И опять срываюсь: — Холуи, фашистские блюдолизы! Сколько вам платят за предательство? Низкорослый приближается ко мне вплотную, глаза выпучены, налиты от ярости кровью. — Ну-ка повтори, что сказал! Интеллигент пробует урезонить приятеля, отстраняет его, но по всему видно, делает это с явным притворством. — Не тронь! — обращается он к своему дружку, а сам сильным ударом под бок сбивает меня на пол. Били усердно. Особенно больно поддевали ударами сапог. Кто больше старался, нельзя было разобрать. Потом оба чинно ушли. Мне потребовалось немало времени, чтобы придти в себя, встать на ноги. В оконном стекле, как в зеркале, рассматриваю свое лицо и не узнаю, — все оно распухло, покрылось сплошным кровоподтеком. Вечером мой страж неожиданно сам заговорил со мной. Его рассказ постепенно превратился в подобие исповеди. Я узнал, что жена его с внуком эвакуировалась из Керчи, сын служит офицером в Черноморском флоте, дочь — врач, наверное, тоже где-нибудь на фронте или в военном госпитале. А он у «них», то есть у немцев. Впрочем, все ясно. Перед самой революцией он где-то под Москвой получил в наследство заезжий двор. Не успел утвердиться хозяином, началась национализация. Наследство отобрали, его самого объявили «контрой». Пришлось бежать в Керчь. Здесь на заводе имени Войкова работал сначала рядовым рабочим, затем выбился в бригадиры. Окончил курсы — стал мастером. Жил зажиточно, собственный дом построил, регулярно получал премии, благодарности. Даже на заводской Доске почета не раз красовался. Но вот пришла война. Прослышал он откуда-то, что немцы в захваченных районах возвращают бывшим владельцам недвижимое имущество. И взыграл в нем инстинкт частного собственника. Думал: возьмут немцы Москву, а затем и война кончится. Тогда теткино наследство в самую пору придется. А сейчас мучает чувство неуверенности, по ночам одолевает страх — как перед женой, сыном и дочерью ответ за измену держать, как людям в глаза смотреть? Я задумался, с чего бы ему так откровенничать со мной. Может, увидев меня избитого до неузнаваемости, представил своего сына на моем месте. Или в самом деле по-настоящему совесть заговорила. Ведь как-никак, а столько лет варился он в трудовой заводской семье. Так или иначе, но мне теперь стало немного легче, есть возможность курить, в голове начинают зреть планы побега. Планы самые фантастические, несбыточные. И все же… Ночью выбраться через окно в сад, бесшумно снять наружного часового, добыть оружие. Несколько стандартных немецких фраз я знаю, за город выйду, а там проще, там и попутный ветер — друг. Но… быстро сказка сказывается. Опять приходят эти двое. Тогда они обещали возвратиться и еще разок поговорить с «большевистской сволочью». Ну, что ж, может быть, сегодня будет конец. Однако «гости» настроены мирно. Курят немецкие сигареты, даже мне предлагают. Коротышка не в меру говорлив: — Характер у меня вспыльчивый, понимаешь, майор? Ты оскорбил нас, я и не стерпел, понимаешь… От коротышки несет водочным перегаром. Мне противно слушать его, противно смотреть ему в лицо. Это же настоящая тифозная вошь. Инженер курит, небрежно сбрасывая пепел сигареты прямо на пол. Ко мне он обращается на «ты». — Так-то, майор, упорный ты мужик, но все твое упорство до одного места. — Коротышка хлопнул себя по ляжкам и закатился резким хохотом. — Если к нам не примкнешь, то я тебе не завидую. Они, — многозначительно подчеркнул он, — имеют такое средство, что даже корову заставят частушки петь. Заставят, браток, заставят… Когда они ушли, я с облегчением вздохнул, поздравив себя с победой: ни единого звука не издал за час. Но теперь уверен: надо ждать самого страшного. Была увертюра, начинается действие. Выдержу ли? На следующее утро меня под конвоем привели к старому знакомому — гауптману. Встретил он меня с прежней учтивостью. Справился о самочувствии. Я сразу же предупредил, что на вопросы отвечать не буду. — А мы вас ни о чем и не спрашиваем, — благодушно ответил гауптман. — Разве я задавал вам, господин майор, вопросы? Требовал называть имена ваших товарищей? Я даже не знаю, коммунист вы или нет. Хотя, кажется, коммунист. Вот смотрите, тут написано: кандидат ВКП(б). Что такое ВКП(б)? Под окно подкатила легковая машина, гауптман тотчас встал из-за стола. — Мы сегодня совершим небольшую прогулку, — обратился он ко мне. — Не возражаете? Сам он сел рядом с шофером, меня стиснули солдаты. Поехали. Куда? Я узнал шофера — он вез меня в Керчь из Аджимушкая месяц тому назад. Сколько вокруг развалин! Город кишит солдатней. Изредка мелькнет одинокая женщина. Остановится, пристально посмотрит вслед нашей машине. Я знаю, она думает: «И этого повезли». Автомобиль мчится улицей безлюдного села. Проезжаем кладбище, останавливаемся на окраине Аджимушкая. Под ногами — каменоломни. Там — друзья. Живы еще? Сколько же осталось их? — Знакомо вам это место? — спрашивает гауптман, когда мы выходим из машины. Я оглядываюсь. Приземистый домишко под черепицей. Рядом — глубокая воронка. Румынский солдат прохаживается в отдалении. Я подошел к воронке и вздрогнул. Да, здесь мы выбирались на поверхность, здесь меня схватили. Сердце сжалось от боли. Невольно перед глазами возникли образы товарищей. Знают ли они о моей судьбе? Может быть, кто-то из них и сейчас наблюдает за нами. Как видно, выражение моего лица выдавало мое настроение. Гауптман был удовлетворен. — Убедились, господин майор, что осталось от вашей подземной армии? Один пепел, прах. «Зачем же тогда часовые у воронок? — мысленно спросил я себя. — Значит, там есть люди. Иначе, какого рожна торчит солдат?» «Экскурсия» закончилась, мы поехали обратно. Машина долго петляла, затем остановилась у развалин керченского порта. Гауптман подошел к самой обочине мостовой и подозвал меня к себе. На его лице я увидел едва уловимую усмешку. Вскоре послышался странный шум. Я оглянулся. Прямо на нас двигалась большая колонна военнопленных. Впереди и по сторонам шли автоматчики и конвойные с собаками. Гауптман перепрыгнул через кювет, меня подтолкнули вслед за ним. Колонна поравнялась с нами. Я жадно ловил взгляды, искал знакомые лица в надежде увидеть кого-нибудь из товарищей. Но никто из пленных не поднял головы, не посмотрел в мою сторону. Лишь когда последний ряд скрылся за поворотом, я начал соображать, в чем дело. Пленные увидели советского офицера рядом с гестаповцем и молчаливо отвернулись все, сколько их было. Ну, а что, если среди пленных все же были мои товарищи по армии, по каменоломням, и они узнали меня? Видя мое смятение, гауптман был явно удовлетворен своей затеей. Я почувствовал всем своим существом, что этой якобы случайной встречей с пленными он стремился подавить меня, унизить, воздействовать морально, дискредитировать в глазах товарищей по оружию. Всю ночь и день лежал я в своей камере, уставившись в потолок. Тягостные думы не давали покоя. Я не мог уснуть ни на минуту. Плохо ел несмотря на постоянное чувство голода; плохо соображал. Что, если гауптман по-прежнему будет провоцировать меня? Моральные пытки намного страшнее пыток физических, страшнее самой смерти. Попробуй, докажи товарищам, что ты не променял своей чести на чечевичную похлебку. Забывшись на несколько минут, я, видимо, вскрикнул, потому что часовой приоткрыл дверь и стал грозить мне кулаком. В тот же вечер прямо в камеру пожаловал гауптман. По-прежнему корректен, учтив. Уселся на табурет, приказал солдату принести свежей воды. Узнал, что я курю и огорчился тем, что пренебрегаю его угощением. Мадам переводила. Часа два гауптман дымил сигаретами, уже без всяких обиняков склоняя меня приобщиться к «западной цивилизации» и вступить во власовскую армию. Сулил золотые горы, сохранение воинского звания. Я упорно молчал. Терпению гестаповца, наконец, наступил предел. В ярости он вскочил с табурета. — Сволочь, паршивец, мразь большевистская!.. Лицо гауптмана стало краснее вареного рака. Тонкие губы дрожали. Он подбежал, схватил меня за ворот, со всего размаха принялся бить ладонью по щекам, кулаком по переносице. Затем повалил на пол и стал топтать ногами. Переводчица стыдливо отвернулась. …Впервые за все эти дни я крепко уснул, успокоенный мыслью, что не все еще потеряно, что даже в неволе я могу сражаться.
Глава 5. Встреча с друзьями

Постепенно я уже стал привыкать к своему одиночеству. Мои мучители временно забыли обо мне. Но я понимал, что судьба моя может решиться в любую минуту. Ночью вывезут за город, поставят на краю рва. Короткая автоматная очередь — и точка. Мой колеблющийся страж что-то не появляется, вместо него меня караулит упитанный широкоскулый мужчина в нашей форме с повязкой «полицай» на руке. Не трудно догадаться, что это крымский татарин. Девушки при нем опасаются подходить к окну. От этого мне голодно и очень сиротливо. Неизвестность, отсутствие связи с внешним миром угнетают. Но пуще всего я страшусь новых провокаций. А что, если гауптман начнет устраивать инсценировки, подобные той, которая была в порту? Товарищи проклянут мое имя и будут правы. Я сам поступил бы так на их месте. Лежу и думаю об этом. И не нахожу выхода, не вижу просвета. Неожиданно громкий стук в коридоре. За мной? Так и есть. Два солдата смотрят, как на обреченного. Темной осенней ночью в слякоть я иду посередине мостовой. Впереди и сзади — автоматчики. Куда меня ведут? Вот уже и окраина Керчи осталась позади. Где-то недалеко море, пахнет водорослями. Идем долго, я чувствую, что меня покидают силы, вот-вот упаду. Наконец, впереди показались какие-то строения. Возле большого дома солдат скомандовал: — Halt! Меня ввели в помещение. Откуда-то слышалась громкая немецкая речь. Вскоре я предстал перед столом, за которым важно восседал офицер. Это — комендант лагеря военнопленных. Белое, выхоленное лицо, пенсне на носу. Измерил меня холодным взглядом. — Тут много ваших, — по-русски равнодушно произнес он, просматривая сопровождавшие меня документы. Я догадался, о ком шла речь, — о друзьях по каменоломне. Если не врет и я действительно встречу здесь своих, как отнесутся они ко мне? В сопровождении полицая, тоже татарина, я поднялся по лестнице наверх. Уже светало. В большой комнате еле тлела керосиновая лампа. На полу в самых невероятных позах лежало человек восемь. Взлохмаченные головы, небритые темные лица, рваное обмундирование в темных кровавых пятнах. Из развалившихся сапог торчали голые пальцы. Мое появление взбудоражило людей. Первый подошел ко мне коренастый светловолосый хлопец. Я не поверил глазам своим. — Володька! Ты?! Живой? — Я самый, товарищ майор, — услышал я задорный голос. Мы бросились друг другу в объятия. Невольные слезы радости появились у меня на глазах. — Значит и тебя не миновало, — обратился я к пареньку. — Ну, расскажи, расскажи, как там наши! Бурмин, Качурин, Парахин, Верушкин, Валя. — Обождите, не все сразу, — хитро подмигнул Володька. — Подойдите сюда. На черной бурке я увидел распластавшегося на животе офицера. Ах, бурка, знаменитая бурка капитана Качурина, вызывавшая зависть многих жителей каменоломен. Но кто на ней лежит? Всматриваюсь: будто Качурин и в то же время не похож. Во всяком случае, в каменоломне он выглядел лучше, был полнее да и цвет лица был не такой землистый. В каменоломне при красноватом свете костров, с отечностью на почве голода мы все были, как ни странно, более привлекательными. Володька легонько провел ладонью по голове спящего. Тот повернулся на спину. — Здравствуй, Абрек-Заур, — обратился я к капитану, — узнаешь собрата? Бурка, как видно, выносливее хозяина, она верно служит бойцу и не знает устали… Но Качурин слабо реагировал на мой восторг. Улыбнулся одними губами, под глазами набрякли кровяные мешки. Володька объяснил, что капитан ранен, к тому же у него обострение язвы желудка. Товарищи ухаживают за ним, перевязывают раны, поят и кормят. — Плохо, черт возьми, — насилу прошептал Качурин. — Такое состояние, будто живу последние часы. — Тебя били? — спросил я. Он грустно улыбнулся. — Агитировали… Но я оказался необразованной скотиной, мычал, притворялся идиотом… Я присел на бурку, бережно положил руку на грудь товарищу. Мне так много хотелось сказать ему. «И меня агитировали, и мои бока испытывали прочность немецкого сапога. Крепкая у них, добротная, черт возьми, обувь. Но куда крепче наши сердца. Мы выстоим, выдержим, так ведь, друг мой?». Володька отвел меня к окну, из его сбивчивого рассказа мне стала ясна судьба подземной армии. Почти все вылазки закончились неудачно, мало кто возвратился назад. Люди сильно отощали, у них едва хватало сил перезарядить винтовку, а о том, чтобы размахнуться и бросить гранату, не могло быть и речи. Многие умерли от голода. И все же амбразуры до сих пор охраняются, вражеские солдаты боятся к ним подходить. — Послушай, Володя, — перебил я парня, — не знаешь, жива ли доктор Валя? Володька почесал лохматую голову. — Проходил однажды мимо них, звал — никто не откликнулся… История пленения Володьки ничем не отличалась от аналогичных историй: переодевшись в гражданское платье, он с группой товарищей во главе с комиссаром Парахиным выбрался глубокой ночью на поверхность. Сначала все шло хорошо. Группа углубилась километров на шесть в сторону Еникале и более суток пряталась в скалах, пробиваясь в горы. Но собаки-ищейки обнаружили бойцов. Началась погоня, завязалась перестрелка. Троих тяжело ранило. Володька и комиссар Парахин отстреливались до последнего патрона, пока их не накрыли. Парахина увезли в гестапо, а Володьку отправили в лагерь. Рассказывая мне свою историю, юноша не стеснялся в выражениях по адресу врага. Называл фашистов самыми последними словами, а когда часовой проходил мимо окна, плюнул в его сторону. В каменоломне Володька слыл тихим малым, не сквернословил, был обходителен со старшими. Теперь я его не узнавал. На мой совет вести себя осторожнее Володька горячо воскликнул: — Чхал я на них! Пусть только тронет меня фриц, я загрызу его. Честное слово, вцеплюсь зубами в глотку и задушу. Меня убьют, но и я уничтожу хоть одного. Честное слово!.. Поднялись остальные пленные. Все офицеры. С любопытством посматривая на меня, они начали чиститься, осматривать нижнее белье, бить паразитов. В ответ на Володькину горячую речь покачивали головами, мол, больно горяч парень, как бы не сломал шею… Самоуверенность Володьки, его бесшабашность всерьез обеспокоили меня. Слишком мало жил, мало видел и потому кажется ему все так легко и просто. Может погибнуть ни за понюшку табака. А парень хорош, на настоящий подвиг способен. — В нашем положении самое лучшее — молчание, — старался внушить я ему. — Спрашивают — молчи, предлагают что-то — молчи, бьют — молчи. Он, согласно кивал головой, но потом снова стоял на своем: — А если у меня терпения не хватает? Чего ради я должен терпеть, когда он, паразит, называет меня свиньей. Какая я свинья, я — человек! В качестве примера я рассказал, как сам из-за невоздержанности чуть не стал жертвой двух наймитов. С тех пор и я дал себе зарок: молчать! Мы отошли подальше, чтобы нас не слышали. Искоса поглядывая по сторонам, Володька страстно шептал: — Знаете, я надумал бежать. Давайте вместе. Я знаю тут все ходы. Переберемся через пролив, всего три километра до Чушки, а там — свои. Я молча показал взглядом на капитана Качурина. — Бросить раненного, больного товарища? Володька тотчас согласился, но, помедлив, снова затвердил: — Все равно убегу. Как поправится капитан — убегу. Ночь выдалась тревожной. Наша авиация бомбила в Керчи железнодорожную станцию и порт. Немцы нервничали. Гулко били зенитки и яростно трещали пулеметы. Кое-где возникли пожары. Авиабомбы падали совсем рядом. Я опасался, что Володька попытается немедля осуществить свой замысел. Лагерь охранялся усиленными нарядами солдат, полицаев, собак. Достаточно сделать один неосторожный шаг и будешь немедленно пристрелен. Я лег рядом с Володькой, прислушивался к его дыханию. При каждом новом заходе наших самолетов дрожали окна, сыпалась штукатурка с потолка. Странное дело, мы вовсе не думали, что и нас может задеть бомбежка. Володька все время приговаривал: — Так их, паразитов, бей, круши! После окончания налета я долго не смыкал глаз. Мерещились какие-то неуклюжие тени, немецкие зеленые каски, звучала чужая речь. Забылся лишь под утро, а когда проснулся, посередине комнаты стоял огромный Верушкин. — Федор Алексеевич! — вскочил я. — Это ты, дружище? Верушкин молча уставился на меня. Вид у него был прямо-таки страшный. Казалось, нажми где-нибудь пальцем, и из-под кожи брызнет вода. — Здравствуй, Андрей, — наконец, тихо произнес полковник, — помоги мне присесть или прилечь. Устроили мы его, как могли. Дали хлеба. Сначала он жадно набросился на еду, но вскоре отложил хлеб в сторону. Поинтересовался: — Как там наши за проливом, не слыхали? Я напомнил о ночном налете. Авиация действует — значит порядок. Больше, к сожалению, мне ничего не известно. Верушкин долго глядел в какую-то точку, прежде чем возобновил разговор. Задыхаясь после каждой фразы, делая минутные паузы, он сообщил о гибели последних защитников каменоломен. — Все кончено, никого нет в живых… Страшное мертвое царство. Если бы не тление и крысы, можно было бы подумать, что гарнизон уснул… В течение трех дней нас не трогали. Верушкин слегка отошел, стал понемногу передвигаться. Как могли, мы подкармливали его. Был он очень задумчив, мог часами сидеть, не проронив ни слова. О чем он думал? О погибших товарищах? О семье? О катастрофически плохом состоянии здоровья? Хотелось как-то встряхнуть Верушкина, этого умного кадрового командира, окончившего две военных академии, в том числе академию генерального штаба, награжденного за финскую кампанию орденом Красной Звезды. Однажды нас обоих вызвал комендант. Последовали обычные вопросы, уже много раз повторявшиеся: звание, фамилия, должность… — Коммунист? — спросил комендант Верушкина. Тот, не задумываясь, выпалил: — Да, коммунист! Немец опешил. Его длинное туловище точно выросло из-за стола. Немигающим взглядом холодных голубых глаз он уставился в пленного. Затем рявкнул: — Вон! Мы не успели проститься с Володькой и Качуриным и, сидя в «Мерседесе», молча горевали. Машина мчала безостановочно до Старого Крыма. У меня затекли ноги. Верушкин навалился на меня всей своей тяжестью. Порой мне казалось, что он теряет сознание. В Старом Крыму обер-лейтенант, сидевший рядом с шофером, и один из солдат вышли размяться. Нас не выпустили. Немцы притащили в машину корзину яблок, насыпали нам под ноги. Сами принялись жевать, громко чавкая и гогоча. Им весело, они сыты, довольны. Яблочный аромат все заполнил вокруг, вызывал головокружение. Вдруг офицер повернулся к Верушкину и протянул ему маленькое, подгнившее от хвостика яблочко, мол, возьми, полковник, яблоки вкусные. Верушкин так гневно сверкнул глазами, что гитлеровец мгновенно одернул руку. В Симферополь прибыли ночью. «Мерседес» плутал темными, глухими улицами, наконец, резко затормозил. Нас втолкнули в калитку и гулким коридором повели в камеру — узкую и длинную. Из обстановки — только две садовые скамьи. Одному богу известно, как они сюда попали. Сдвинули скамьи и улеглись, уставшие после дороги. Трудной была эта ночь. Верушкин тихо стонал, просил воды. Я колотил ногами в железную дверь, взывая помочь больному, но в ответ раздавались лишь грозные окрики и клацанье затвора. Утром — на допрос. Тюремщик помог мне поднять Верушкина на ноги. Затем под конвоем поплелись мы по хмурому, холодному Симферополю. Первым допрашивали меня. На этот раз репертуар изменился — немца интересовала организационная структура 51-й армии. «Какой же ты дурак, — думал я, глядя на его мундир с двумя железными крестами. — Строение нашей армии вам, наверняка, известно, но даже этих сведений ты не услышишь от меня…» А он все горланил, переводчик еле успевал за ним. В документах я уже давно числился упорным молчальником. Поэтому у меня создалось впечатление, что эсэсовец и не ждал ответов. Он орал для того, чтобы разжечь себя, подготовиться к драке. Да, я хорошо изучил методику этих допросов. И здесь, в Симферополе, немец сначала ударил меня по лицу, — так, вроде забавляется или примеряется. Потом — наотмашь кулаком в бок. Падая, я сильно ушиб голову, потерял сознание. Очнулся в камере мокрый с головы до пят. Значит, отливали водой, приводили в чувство. На полу образовалась большая лужа. На дворе — день. В наше маленькое окошко под потолком врывалось солнце, и мне стало как-то теплее на душе. Оглянулся. Верушкин по-прежнему безучастно сидел на скамье и о чем-то думал. Я заметил прямо на полу две миски с какой-то бурдой и куски хлеба. — Вставайте, Федор Алексеевич, — обратился я к Верушкину. — Заботливые хозяева просят к столу… Верушкин зашевелился, подал голос: — Что тебе вздумалось среди ночи подымать тарарам? Глянь-ка, темень вокруг. — Что ты, солнце светит! — Позволь, позволь!.. — он с трудом поднялся, и на его одутловатом лице появилось выражение ужаса. — Андрей, подойди ко мне, дай руку, — подозвал меня Верушкин. — Покажи, где окна. Я ничего не вижу! Может быть, ты только пошутил? Скажи, ночь сейчас или день? Чего ж ты молчишь?! Мне плохо, тошнит, я ничего не вижу… Я уложил его на скамью, накрыл шинелью. Успокоить Верушкина было невозможно, он не обращал внимания на мои слова, умолял сказать, пошутил я или действительно сейчас день. Собрав все силы, он снова встал на ноги и, точно подбитый и обессилевший великан, начал метаться по камере, растопырив большие, набрякшие руки. И все повторял: — Я ослеп, я ослеп! Неужели это навсегда? Они били меня, проклятые, они так меня били… Потом он рухнул на пол и внезапно умолк. Мне стало холодно от этого молчания. Я полчаса барабанил кулаком в дверь, звал врача. Наконец, вошел унтер. Ощупал Верушкина. — Капут! Санитары притащили носилки. Меня вытолкали в соседнюю камеру. — Прощай, полковник, мой верный товарищ!..
Глава 6. Тюрьма на колесах

Из изолятора меня перевели в общий лагерь, находившийся тут же, во дворе. Лагерь — настоящая каторга. Кормят похлебкой из картофельных очисток. Нас заедают вши, полицаи избивают за малейшую провинность. Вдобавок — ежедневная изнурительная работа. Мне вспомнилась первая мировая война, 1916 год. Вот таких же немцев я видел под Ровно. Только тогда они были нашими пленными. Я служил рядовым пехотного полка, мерз в окопах, ходил в штыковые атаки. Россия тогда была слабее Германии. Другое дело — теперь. В моих ушах все еще звучат слова: если враг нападет на нас, мы будем бить его только на его территории. Какой же просчет мы допустили, за который приходится так дорого расплачиваться? Не лезет в горло похлебка. Почему мы отступаем? Неужели и сейчас мы слабее немцев? Не может этого быть! Но факты — упрямая вещь, враг — у стен Сталинграда. Гитлеровцы заняли Северный Кавказ, угрожают Москве, блокируют Ленинград. Здесь, в Крыму еще в июле пал Севастополь. Среди пленных много защитников славного города. Мы слушаем по ночам их рассказы. Город сражался до последней возможности, но силы были неравные. Многие подавлены, молча жуют сухой хлеб, дымят махоркой. У меня здесь ни одного знакомого, а так хочется излить душу. В голове все назойливее копошится мысль о побеге. Симферополь мне знаком. Здесь каждый дом может стать убежищем, добрые люди припрячут. Присматриваюсь к пленным, вслушиваюсь в их слова. Прямо, в упор не выскажешь предложение о побеге, не поверят, сочтут провокатором. Нужно выбрать время, подобрать верных людей. Не успел я освоиться с новой обстановкой, как опять сюрприз: меня переводят в другой корпус. Высокая, пустая комната, обшарпанная, загаженная. Похоже — тут был склад утиля. Скучать долго не пришлось. В тот же вечер привели более двадцати пленных. И среди них — кто бы подумал! — Володька и капитан Качурин. Володька повис у меня на шее. Качурин немного поправился после Керчи, но в глазах по-прежнему невыразимая тоска. Мы уединились в уголке. Я поведал товарищам о последних часах полковника Верушкина. — От гады, замучили-таки! — тяжело вздохнул Володька. Он горячо откликнулся на идею побега, но в это время Качурин дернул меня за брюки: — Видите вон того майора, что возле окна помидоры ест? Не спускает глаз с нашей компании. Да, майор действительно наблюдал за нами. Мы отвернулись, сделали вид, что ничего не замечаем. Но майор подошел к нам и протянул мне руку. — Не узнаешь? А ну вспомни, где мы встречались? — И, не ожидая моего ответа, представился Качурину: — Майор Заремба. Теперь, наверное, узнал?.. Как же, майор Заремба! Сколько веков прошло с тех пор, как мы познакомились в санатории неподалеку от Севастополя. Кажется, это было в июле сорокового года. Удили ставриду, валялись на солнцепеке, слушали московских артистов… Минуло лишь два года, а как изменился мир! — Так вот, значит, где довелось снова встретиться… Заремба подошел к окну, сгреб с подоконника недоеденные помидоры и присоединился к нам. У него нашлось еще кое-что: полбуханки черного хлеба крестьянской выпечки, несколько луковиц, яблоки. Всем этим его наделили женщины Симферополя во время шествия колонны пленных. Володьке и Качурину понравился майор Заремба. Живой, общительный, остроумный, он ничем не походил на тех пленных, которые замыкались в себе, терзались своей тяжелой участью. Но мне-то понятно было, что бодрость майора показная, наигранная, на самом деле и у него душа болела не меньше, чем у всех нас. С деловитой сосредоточенностью делили мы наши жалкие запасы продовольствия. Заремба рассказывал о последних днях Севастополя, где он служил начальником узла связи Черноморского флота. В плену он оказался при таких обстоятельствах: немецкий крупнокалиберный снаряд упал вблизи узла связи, несколько солдат и офицеров засыпало землей и, когда они откопались, то увидели рядом вражеских солдат. — Что было в Севастополе, не могу передать, — говорил майор. — Но меня сейчас другое мучит, — продолжал он, — до каких пор, братцы мои, будем отступать? Украина, Белоруссия, Прибалтика, Кубань. Я ночами не сплю, думаю: почему, черт побери? Мы же не слабаки? — Внезапность нападения, — пояснил Володька. Майор Заремба махнул луковицей. — Это для успокоения собственной совести. А где была наша разведка? Заремба перешел на более спокойный тон: — За неделю до начала войны у нас в Доме флота, помню, выступал лектор. Ему задали вопрос: может ли Гитлер напасть на Советский Союз? И как, вы думаете, он ответил? «Конечно, — говорит, — не исключено, мы должны быть готовы ко всяким неожиданностям, однако Гитлер теперь увяз в Европе, и основательно увяз». Майор помолчал, разрезал яблоко на четыре дольки, затем опять заговорил: — Я вовсе не хочу взвалить вину на кого-то. Хотя виновные, очевидно, есть, пусть судит их история. Но вот представьте, я вырвусь из этого плена и появлюсь перед своими матросами. Они меня спросят: «Как же ты, майор Заремба, дошел до жизни такой? Очутился в плену? А нам читал политинформации, к героизму призывал!..» Заремба, Володька, Качурин и я стали сообща обдумывать план побега. Нельзя отсиживаться, ждать, что нас кто-то освободит, надо самим освобождаться. К нашей четверке присоединилось еще около двадцати товарищей. Это были, главным образом, армейские офицеры и несколько моряков-севастопольцев, людей смелых и вполне надежных. Ночью тихо переговаривались, обсуждая детали. Умерить темперамент людей было нелегко, каждый выдвигал свои соображения насчет побега: напасть на комендатуру и вооружиться, перебить охрану, поджечь лагерь… Кое-как мы с Зарембой отрезвили пылкие головы. Ни одно из предложений не было приемлемо. Даже если б мы удачно обезвредили охрану и завладели оружием, нас неминуемо постигла бы неудача. Симферополь наводнен вражескими войсками, улицы кишмя-кишат полицаями, их полно и в селах,на дорогах. В большинстве своем полицаи — это местные татары, часть которых пошла на службу к фашистам. До лагеря доходили слухи, что немецкие наемники беспощадно расправляются с пленными, блокировали все пути в горы. Нельзя идти на авантюру, она приведет к бесцельным жертвам. Через несколько дней я сообщил товарищам новость, услышанную от переводчика: нас отправляют на запад. Кажется, пункт назначения — город Владимир-Волынский. Это возле границы. Дорога длинная, нам нужно держаться вместе, чтобы при распределении по группам всем попасть в один вагон. В пути дело покажет, возможно удастся бежать. Слухи о предстоящем этапе действительно подтвердились. Немцы вывозили не весь лагерь, а лишь пленных офицеров. В последнее время участились случаи невыхода пленных на работу, побегов, саботажа. Все это, не без основания, ставилось в вину командирам и комиссарам. Мы готовились в путь. Как было условлено, Володька стащил в рабочей команде небольшую пилу. Он искусно спрятал ее в шов своей шинели. Показал мне и Зарембе: — Как думаете, фриц не обнаружит? Заремба раздобыл для меня приличную шинель. Моя давно истрепалась, ее можно было использовать только на огородное пугало. Морозным утром 27 декабря 1942 года нас выстроили во дворе лагеря по четыре человека. Комендант прохаживался вдоль строя, сопровождаемый младшими чинами. Поджарый, тонконогий, он важно шагал вдоль колонны, сквозь пенсне оглядывая пленных. Около двух часов мы не могли двинуться с места. Все еще продолжалась перекличка, кого-то не досчитывались… Немцы ругались, собаки лаяли и рвались с поводков, мы угрюмо глядели на охранников, проклиная в душе свою судьбу. Вздох облегчения раздался, когда скомандовали «шагом марш!». Молчаливая, серая толпа в полтысячи человек хлынула за ворота. На улице нас провожали печальными взглядами одинокие женщины. Заремба шагал рядом со мной, позади шли Володька и Качурин. Разговор в строю строжайше воспрещен, но достаточно было охраннику чуть поотстать, как Заремба начинал шептать: — Запомните, братцы, Симферополь. Наш Симферополь! Поклянемся, друзья, отомстить… Улучив момент, подал голос Володька. Ему не давал покоя рыжий веснушчатый охранник с овчаркой. Охранник так старался, чтобы в рядах был порядок, так горланил, что у нас дрожали барабанные перепонки. Володьку это раздражало, он готов был броситься на него с кулаками. — Попадись мне эта сука в другом месте, я б из него котлету сделал, — твердил он. Соседи цыкнули на старшину, кто-то съехидничал, мол, не здесь надо проявлять храбрость. Но я знал, Володька не только на словах, но и на деле может показать себя. Когда его привезли из Керчи и поместили в одном из тюремных корпусов, там оказался переодетый шпик. Он подслушивал разговоры и передавал их полицаю. Володька выследил доносчика, и на работе, во время рытья траншеи, произошел «несчастный случай». Доказательств преднамеренного убийства не было, и немцы просто разбросали по разным командам пленных этого корпуса. Так Володька, а вместе с ним и капитан Качурин, попали в мою камеру. Длинная колонна, напоминавшая похоронную процессию, остановилась возле вокзала. Снова началась изнурительная процедура перекличек и проверок. Наконец, колонна вздрогнула, правый фланг ее отвалился и, подталкиваемый автоматчиками, быстро стал удаляться в сторону паровоза. За оградой столпилось множество женщин, стариков, детишек — все они надеялись встретить среди пленных родных и близких. Кто-то навзрыд плакал, солдаты оттесняли толпу прикладами. В каждый вагон загоняли по пятьдесят человек. Мы с Зарембой не на шутку встревожились. Если разобщат нашу группу, тогда все замыслы и планы пойдут прахом. К счастью, обошлось. Наш «хвост» насчитывал всего тридцать пять человек. Из них двадцать пять мне знакомы — несколько дней мы провели в одной камере и кое-что успели узнать друг о друге, а вот остальные десять — кто они? Впрочем, поживем, увидим. Не успели мы даже разместиться, как лязгнули буфера, просвистел паровоз. До свиданья, Симферополь, когда-то снова увидимся с тобой! Наше жилище на колесах относительно терпимое, у нас на пятнадцать человек меньше, чем в других вагонах. Но все равно теснота. Разместились на полу под стенами. Володька хозяйским глазом осмотрел вагон. Сделан он добротно, вверху по два окошка, опутанных снаружи колючей проволокой, но пол побитый, есть отстающие доски. Володька просиял: стал постукивать каблуками, мерять рукой до окон, пробовать сдвинуть дверь. Чтобы убавить пыл хлопца, Заремба посадил его между собой и капитаном Качуриным. Слева от меня место занял незнакомец. Знаков различия у него не было, но я заметил под гимнастеркой тельняшку. Поинтересовался: — Моряк? Где служили? — В морской пехоте, товарищ майор. Севастополец. Старшина. Бывший, конечно. Теперь — как видите… Голос у него приятный, движения спокойные, уверенные. С такими хорошо себя чувствуешь в беде, с ними легче переживать невзгоды. Парень назвался Виктором, осведомился, где мы попали в плен. Об аджимушкайских каменоломнях он слышал, но, как там воевали подземные солдаты, не знал. Никого из нас не смутило то обстоятельство, что старшина вместе с нами направлялся в офицерский лагерь. Немцы опасались моряков и летчиков и всегда старались изолировать их от остальных пленных. Видимо, и от этого решили поскорее избавиться. Я хотел назвать Виктору его соратника по Севастополю, однако Заремба толкнул меня под ребро. Выражение его лица говорило: не надо! Повернувшись на бок, я прислушался к биению своего сердца: тук-тук-тук. Посчитал: шестьдесят ударов в минуту. Виктор вскоре захрапел. Мы в который раз принялись обсуждать наш план. Пока едем по Крымскому полуострову, затевать побег бессмысленно. Уж если идти на такой шаг, то не здесь, а за Днепром, где каждый кустик будет надежным другом. Я родился и провел детские годы в Елисаветграде, нынешнем Кировограде. К тому же мне хорошо известны те места по гражданской войне. От Знаменки на север, до самого Киева, тянутся леса, и там, вероятно, есть партизанские отряды. Ночь. Поют монотонную песню колеса: на запад, на запад, на запад… Заремба считает, что лучше всего выпилить боковую стенку, выбраться на буфера и, когда на подъеме поезд замедлит ход, выпрыгивать по одному. Бежать надо всем до единого, даже больным и слабым. Кто останется, того немцы не пощадят. — Всем до единого, — повторяю я, — иначе не стоит огород городить. — Только дурак или псих останется здесь, — шепчет Качурин. — Лучше размозжить голову о шпалы, чем подыхать от голода у немчуры. Володька поддерживает капитана. — Все пойдут за нами, честное слово! Я показал кончик пилы одному полковнику, так он аж засиял. Заремба одернул Володьку. — Дурак, нашел чем хвастать. Хочешь все дело провалить? Володька сопит, ворочается. Замечание старших он принимает близко к сердцу, но обуздать свой невыдержанный характер ему, очевидно, нелегко. Решение принято: днем поговорить со всеми тридцатью товарищами. Это взяли на себя Качурин и Заремба. Будут колеблющиеся, — не останавливаться. Побег совершим ночью, когда поезд будет идти лесами правобережной Украины. Заседание нашего «комитета четырех» закончилось поздно ночью, впрочем, может быть, даже под утро, на часы никто не смотрел. Проснулись мы поздно. В окна тускло проглядывало зимнее солнце. Володька сообщил, что поезд уже давно стоит на станции Запорожье. Снаружи послышался лязг железа. В приоткрытую дверь просунулась голова немецкого унтера. Приказал выходить. Мы выпрыгнули один за другим и выстроились в затылок длинной цепочкой. В двадцати шагах дымила полевая кухня, там уже собралась очередь. Первый раз за сутки нас решили покормить. Пахло каким-то варевом. Повар то и дело опускал черпак в огромный бак, затем выливал содержимое в котелки. — Schnell, schnell! — подгонял офицер. Пищу раздавал наш пленный, рослый парень лет двадцати восьми. Пользуясь тем, что немец не понимал по-русски, он сыпал шуточками, подмигивал: — Навались, ребята, подставляй котелочки. Ну, живей, живей, получай немецкий суп на первое, на второе — отбивная по ребрам, тоже немецкая. Не теряйтесь, подкрепляйтесь, после такого вкусного обеда у вас сразу поднимется настроение. В общем, жить будете… Между шуточками и прибауточками нет-нет да и проскользнет слово, которого мы так ждем, — о боях в Сталинграде, на Кавказе, под Ленинградом. Слушая прибаутки балагура, люди подняли головы, на лицах появилось нечто похожее на улыбки. Вот это настоящий повар, дело свое знает, кормит пленных не одной похлебкой. Слушать бы его весь день. Но задерживаться нельзя. Чуть отстанешь, сразу получишь пинок в спину. Холод пронизывал до костей. Пока передние поднимались в теплушку, я успел в один присест проглотить бурду, не разбирая даже, из чего она сварена. Похоже — мерзлая свекла, скользкая, приторно-сладкая. Но любой из нас с удовольствием опорожнил бы еще пару котелков. — Вот так суп по-немецки, — говорил Качурин, вымазывая пальцами остаток на дне. — С голодухи прямо-таки божественное блюдо. — Помои, — гневно перебил Володька, — у нас дома свиней кормят лучше. За оградой, в двадцати-тридцати метрах от поезда, как и на Симферопольском вокзале, собралась толпа. К нам никого не подпускали. Пока дверь была открыта и охранник отошел в сторону, Виктор-моряк перебрасывался словами с рабочим-железнодорожником. — Возьмите на память, — предложил он собеседнику и, не раздумывая, прямо на морозе стащил с себя новенькую тельняшку. — В чем дело? — удивились мы. — Полундра! — хитро подмигнул Виктор. — Идет обмен товара на продукты. Этот потомок запорожских казаков притащит нам жратву. Буду спасать вас от дистрофии. Часовой прикрикнул на рабочего, но тот все же успел схватить тельняшку и быстро удалился. Остаток дня мы провели в томительном ожидании. Поезд стоял. Мимо, лязгая буферами, спешили на восток немецкие эшелоны. Везли солдат, танки, орудия, автомашины, горы ящиков с боеприпасами. Они — на восток! Мы — на запад! Мы, которые давали клятву, что никогда не отдадим врагу пяди своей земли, беспомощно взирали, как упитанные, хорошо экипированные гитлеровцы орали песни, грозили нам кулаками, корчили рожи. Лица у людей стали, как небо в грозу. Высокий, седой полковник не сдержал слез. Заремба буквально окаменел, лишь желваки двигались на скулах. Володька ругался, как мог. Качурин уткнулся лицом в стенку вагона, чтобы ничего не видеть. Когда эшелоны промчались, стало как-то-необычно тихо. Виктор нервничал, все поглядывал через щели на перрон. Послышалась перебранка. Это к вагону, вопреки запрету охранника, подошли двое рабочих. Виктор опустил в окно пояс и выудил сверток. — Молодцы, запорожцы, не подвели-таки! — радостно воскликнул он. — Пышка еще теплая, прямо из печки. Разделить драгоценный подарок поручили майору Зарембе. Первый кусок — Виктору. Ведь это благодаря его жертве мы получили подкрепление. Началось обсуждение: почему рабочие решили взять у моряка тельняшку, разве не могли они дать нам хлеб так, даром? Ведь и они, и мы — свои, советские… — Понимать надо, — разъяснял Виктор. — Принцип частной собственности. Немцы разрешают только обмен, другая помощь пленным строго запрещена. Разрезая на равные кусочки пышку, Заремба обнаружил в ней какой-то предмет, завернутый в бумажку. Это оказалась миниатюрная стальная пилочка. На клочке бумаги расплылись буквы, написанные химическим карандашом: «Помогаем, чем можем. Рабочие Запорожья». — Здорово! — покачал головой Заремба. Он завернул в носовой платок стальную пилочку. Записка пошла по рукам. Да здравствуют рабочие Запорожья! Володька аж подпрыгивал от радости. — В случае чего, эта штучка нам здорово пригодится, ее можно спрятать так, что никакая сатана не найдет. Моей пилочке подмога пришла, — говорил он, похлопывая себя по борту шинели. Лишь часу в десятом вечера в вагоне стихло. Люди угомонились. Один только Виктор не лег на свое обычное место рядом со мной. Он умолял стражника принести воды, положил на дно котелка немецкую марку и все просил: — Ну, будь человеком, возьми деньги, я умираю от жажды… Сквозь дрему я слышал перестук колес, они пели одну и ту же тяжелую песню: на запад, на запад, на запад!.. Потом все стихло. Разбудили меня крики. Что случилось? Пять солдат шныряли с фонариками по вагону. — Hände hoch! Я стал спиной к стене, рядом с Володькой. Ко мне прижался Виктор. Обыск! Нельзя пошевелиться, дуло автомата направлено в грудь. Трое охраняют нас, двое обыскивают. Поочередно снимаем шинели, верхнюю одежду, сапоги, шапки и остаемся в одном белье. Немцы выуживают из наших карманов махорку, самодельные зажигалки, ломти хлеба, картофелины. Высокий, длинношеий немец подступил к Володьке. Неужели найдут пилу? А вдруг катастрофа минет! Не миновала! Немец торжественно вынул из Володькиной шинели пилу. За потоком брани последовал удар кулаком в переносье, еще удар… Юноша зашатался, кровь хлынула у него на лицо, залила рубаху. Зарембе досталось за вмешательство. Остальных не тронули. Пилочку — подарок запорожских рабочих — не нашли, так как все мелкие вещи были собраны в кучу и выброшены на землю. Она, очевидно, выпала из носового платка и затерялась. Часа два держали нас полуобнаженными в холодном вагоне. Наконец вошел обер-лейтенант, разрешил одеться и с помощью переводчика-немца прочитал нравоучение. — Пленный русский офицер должен вести себя хорошо — быть покорным, точно выполнять все приказы немецкого командования. В противном случае он будет очень строго наказан. Далее обер-лейтенант заявил, что прямой попытки к бегству не обнаружено, но молодому офицеру незачем было прятать пилу. Впредь за хранение подобных вещей последует более суровая кара. План побега рухнул. В наказание нас везли в течение трех суток без пищи и воды. Люди сильно ослабели. Особенно плох был Володька в результате большой потери крови. Мы всячески поддерживали его оставшимися кое у кого крохами. У парня выпали два передних зуба. — Нишего, — шепелявил Володька, подсмеиваясь над своей речью, — я им еще покажу, гадам, вот пошмотрите. За нашим вагоном усилили присмотр. На каждой остановке открывалась дверь, нас выстраивали, и солдат тыкал пальцем: — Ein, zwei, drei… На шестые сутки состав прибыл во Владимир-Волынский. Еще в пути, после бесславного краха нашего заговора, мы с Зарембой и Качуриным не могли найти себе места. Неотступно преследовала мысль: «Неужели нас предали? Неужели в нашу группу затесался провокатор? Но кто же это?» Вопрос не давал нам покоя, однако выяснилось все значительно позже.
Глава 7. Офицерский лагерь

Маленький городок Владимир-Волынский точно замер под толстым покровом снега. Наглухо прикрыты ставнями окна в домах, заперты калитки и ворота, на тротуарах не видно следов человеческих ног. Опустив головы, мы шагаем по тихой безлюдной улице. Монотонное поскрипывание сапог нарушается лаем собак, выкриками конвойных: — Schnell! Schnell! Кто-то споткнулся, упал на снег. Его тотчас подхватывают товарищи, ведут под руки. Немец ругается, овчарки рычат, скалят зубы. Впереди меня шагает сутулый человек. Я вижу под фуражкой седые космы волос. Это — полковник, который собирал в вагоне хлеб для Володьки. В последние сутки нашего пути он выглядел очень плохо. Недвижимо лежал в уголку, молчаливый и тихий. Полковник шепотом рассказывал Володьке, что его жена и две взрослых дочери-невесты живут на Урале и что он много о них думает. Вот и конечный пункт. Колонна проходит за ворота. Конвойные дальше не нужны. Нас берут под опеку немецкий офицер, несколько солдат и невысокий плотный человек, одетый в советскую военную форму, однако без знаков различия. — Как доехали? — спрашивает он. — Господин майор интересуется, не обидел ли вас кто, может быть, у кого ценные вещи забрали? В ответ — гробовое молчание. Лишь в передних рядах кто-то пожаловался: часы отобрали. Немец и русский обходят строй, спрашивают у каждого: — У вас? У вас? Володька гудит мне в ухо: — Что за тип? И наш будто, и не наш. Продажная шкура, наверное. Слово «тип» так и стало потом нарицательным именем этого человека. Не зная, как именовать его, мы говорили: «Тип лезет, какого ему черта здесь надо?» Очередь доходит до меня. — У вас? — Часы забрали. — Не волнуйтесь, майор, получите в свое время. Мне вручают бумажку такого содержания: «Справка. Дана сия офицеру Пирогову в том, что у него взяты на хранение ручные часы, которые подлежат возвращению по окончанию войны. Комендант лагеря (подпись неразборчива)». У Володьки не было часов. Он разбил их при посадке горящего самолета. Но и ему выдали такую же справку. — Эту бумаженцию воткнуть кобыле под хвост, — довольно громко заявляет Володька. Я тяну его за рукав подальше от немцев. — Прекрати, не место митинговать. — Что значит прекрати, товарищ майор? Они собираются рассчитываться с нами после войны, но мы еще посмотрим, кто с кем будет рассчитываться. Звук «с» у него не получается, вместо него выходит «ш». — «Пошмотрим, пошмотрим», — передразнивает его Качурин. — Рекомендую тебе помолчать… Но парень петушится, ему хочется драки, и нам с трудом удается его унять. Вообще Володька заметно переменился с тех пор, как в вагоне ему окровавили лицо. Он перестал шутить, редко смеется. А однажды, во время стоянки поезда, кажется, в Белой Церкви плюнул вслед проходившему офицеру. Плевок угодил в фуражку. Немец, к счастью, спешил и ничего не заметил, иначе б хлопцу не сносить головы. Мы бдительно следим за поведением Володьки, не отпускаем его от себя. Чего доброго — сотворит глупость, а у немцев разговор короткий: к стенке. Пятьсот новоприбывших офицеров-крымчан поселяют с одноэтажном кирпичном бараке. Это карантин. От остального лагеря он отделен колючей проволокой. В помещении полы прогнили, стены покрыты изморозью, в заколоченные кое-как досками окна то и дело врывается ветер, занося хлопья снега. Трехэтажные нары пусты. На них не то что матрацев, нет даже соломы. Вчетвером взбираемся наверх в надежде согреть окоченевшие тела. Но и наверху — собачий холод. Я совсем не чувствую ног, пальцы на руках задубели. Заремба растирает лицо снегом. — Что-то нос мой тово, деревянный. Боюсь, отморозило. Володька перематывает портянки, Качурин делает разминку. Внизу тихо ругаются: — Ай да офицерский лагерь, упекли, сатана им в глотку! Ругаться можно, сколько угодно, немцев здесь нет, а старший по казарме, хоть и не знаком, но мы уже осведомлены о нем: доносить не станет. Всю ночь не стихают тяжелые вздохи. Резкие выкрики — это мечутся больные, стонут раненые. Наша четверка проявила находчивость: одну шинель мы простелили, а тремя накрылись и плотно прижались друг к другу. Поочередно меняли места: крайние ложились в середину, средние занимали места крайних. Так прошла первая ночь. Задолго до подъема я спустился с нар, натянул шинель и стал вышагивать по длинному узкому проходу. В дальнем конце казармы, где тускло светился фонарь, творилось что-то непонятное. Я отшатнулся, увидев, как вытаскивали во двор трупы замерзших людей. Разбудил Зарембу. Он яростно стиснул челюсти. — Подыхать здесь от холода и голода? Нет, надо действовать. Качурин предлагает ночью навалиться большой группой на комендатуру, захватить оружие. — Нас поддержат, тут не меньше трех тысяч офицеров, — говорит он. — Не то, — машет рукой Заремба. — Перебьют всех, как щенят. К воротам немцы не подпускают на пятьдесят метров. Ночью плац освещается прожекторами. Везде расставлены пулеметы. Лагерь обнесен колючей проволокой в два ряда. Между проволокой ходят часовые. Качурин сдается. Действительно, план нереальный, фантазия. — Что же, по-твоему, делать? — в упор задает он вопрос Зарембе. — Есть думка, — говорит тот. План майора Зарембы совпадает с моим замыслом: попасть во внешнюю рабочую команду. Володька тоже намекнул мне: хорошо бы вырваться за лагерные ворота, а там… Но Володьку мы не посвящаем в наши тайны из-за опасения, что он по своей невыдержанности может проговориться. Проходит, однако, неделя, вторая, уже середина февраля, а нас используют только на внутренних работах. И других офицеров, прибывших в лагерь значительно раньше нас, не посылают на работы в город. Жизнь в этом ледяном мешке, жизнь без какой-либо, хоть маленькой надежды вырваться из проклятого плена, становится сушей мукой. Ежедневно в шесть утра — команда на построение. Потом выдают пол-литра эрзац-кофе. Весь день проходит в изнурительной работе. Чем офицер старше по званию, тем унизительнее работу ему поручают. В обед — бурда и кусочек хлеба. И так все время. Часто казарму посещает фельдфебель Мейдер — пожилой, худощавый немец, сущий палач, мучитель, каких свет не видывал. Он не столько говорит, сколько действует резиновой палкой и пистолетом. Бьет наотмашь, изо всех сил, бьет по спине, по ногам, но чаще всего — по голове. И чем больше делает взмахов, тем сильнее удар. Стоит кому-нибудь замешкаться, фельдфебель спокойно вынимает из кобуры вальтер и, не целясь, стреляет. За месяц с небольшим группа, прибывшая из Крыма, не досчиталась более восьмидесяти человек. Одних убил или ранил Мейдер, другие замерзли, умерли от ран, от истощения. Из пяти полковников, ехавших в нашем вагоне, двоих не стало, в том числе седого высокого артиллериста. Исчез и наш попутчик Виктор, променявший в Запорожье тельняшку. Впрочем, о моряке говорят разное. Ходят слухи, будто он попал в санитарную команду, другие утверждают, что он работает на кухне. В последнюю декаду февраля 1943 года участились вызовы. Приходит и моя очередь. Полицай выкрикивает: — Майор Пирогов! Пройдя за ворота лагеря, я впервые после гражданской войны увидел белоказака, настоящего белоказака, сущего деникинца. Новые хромовые сапоги, красные лампасы, кокарда, залихватский чуб. Я просто остолбенел. Полицай толкнул меня: — Сюда, направо. И вот я сижу в комнате наедине с Типом. Давненько не виделись. Он любезно пригласил сесть. — Пирогов Андрей? — Да. — Русский? — Да. — И я русский… Мне вдруг смертельно захотелось двинуть его чернильницей. Но я уже поплатился в Керчи и Симферополе за свою горячность. Самое испытанное средство — молчать. — И я русский, — продолжал Тип. — Люблю свою нацию, великую, сильную… Тип долго тасовал карты, прежде чем открыл козырную масть. — Гляньте-ка на этих молодцов! — показал он за окно, где прогуливалось несколько белоказаков. Предупредив, что я могу быть с ним откровенным, что сам он с Дона, пострадал от большевиков и теперь знает, за что борется, Тип продолжал: — Истинно русские люди ныне объединяются, чтобы сражаться с Советами за свободную Россию. — Русские люди борются сейчас против тех, кто пришел на их землю грабить и убивать, — не сдержал я обет молчания. Тип выпучил серые, бесцветные глаза. Я пояснил: — Вы сами просили быть откровенным. — Да, но я должен вам сказать, что Советская Россия проиграла войну безоговорочно и навсегда, — не унимался Тип. — Рождается новая Россия, и вам стоит побеспокоиться, чтобы не опоздать на поезд и занять в нем приличное купе. Несмотря на кипевший во мне гнев, я ответил ему совершенно спокойно: — В России, о которой вы твердите, для меня не найдется места, потому что такой России нет и не будет. — Вы что?! — Тип побагровел. — Большевистскую агитацию проводите? Не рекомендую! Попадете в подвал, не то запоете, там быстро собьют гонор, покажут кузькину мать… Тип сразу потерял ко мне интерес. Видимо, так кончался у него разговор не только со мной. Вошел полицай. Я встал и поплелся к двери. На душе было спокойно, даже очень спокойно. Тип давно «обрабатывает» наших офицеров, агитирует вступать в сколачиваемую немцами «русскую» армию. Да, неважные, видно, дела у фрицев, если они вынуждены делать ставку на предателей. В бараке я слышал рассказ о том, как один подполковник, вызванный для «обработки», бросился на Типа с кулаками и основательно его отдубасил. Проходя по коридору, я невольно задержался у выхода. Один человек в группе полицаев показался мне знакомым. Ладно скроенную фигуру облегала новая куртка с меховым воротником. На голове — цигейковая шапка. Кровь застыла в моих жилах. Неужели это он? Или мне изменяет зрение? Своими догадками я пока не решился делиться с Зарембой и Качуриным, а позже совсем перестал думать об этой встрече. В лагере то и дело происходили более важные события. Утром следующего дня я поднялся за полчаса до подъема. Качурин был уже на ногах. Люди в бараке не спали, о чем-то перешептывались между собой — верно какая-то важная новость. Заремба и Володька тоже спрыгнули на пол. Качурин отвел нас в сторону. — Я что говорил, товарищи! Я был прав, вы зря не хотели послушать меня… — В чем дело? — Пять человек из соседнего корпуса бежали ночью. Перебили охрану и бежали. Он досадливо хлопнул себя по лбу. — Нас тут не меньше трех тысяч, а фрицев — жалкая сотня, пусть две. Мы б их руками передавили, захватили б оружие — и в лес. Там партизаны, свои… Внезапно казарма замерла, притихла. Вошел фельдфебель Мейдер. Поскольку все давно были на ногах, на этот раз обошлось без жертв. Мы быстро выбежали за дверь и становились в строй. Радостное возбуждение охватило людей. Истощенные, обессилевшие, они не гнулись, а стояли ровно. Посветлели лица, тверже стала поступь. Пятеро наших товарищей сбросили цепи плена. Где-то они теперь? В погоню за беглецами устремился взвод солдат с ищейками. Комендант распорядился усилить внутреннюю охрану. Мы знали — после этого происшествия режим в лагере станет еще жестче, но едва ли из трех тысяч пленных нашелся бы десяток таких, которые отказались пойти на любые жертвы во имя победы пяти храбрецов. Володька ходил гоголем. Когда кто-нибудь обращался к нему, мол, как дела, старшина, он гордо вскидывал голову: «Порядок в авиации». И все же тревога за судьбу товарищей не покидала казарму. Нет-нет да и вырвется вздох: — Неужели поймают? Со двора донесся лай собак. Все, кто находился в бараке, точно по команде, умолкли. Заремба съежился, вопросительно глядя на меня, а я читал в его глазах: «Поймали!» Володька и Качурин прильнули к щели в заколоченном окне. Кто-то громко ругался, клял бога и всех святых, призывал мор на немцев. Но действительная картина оставалась пока неясной. Слышен был только яростный лай собак. Может быть, погоня все же закончилась ничем. Как нам хотелось, чтобы это было именно так! Старший казармы прошмыгнул в свою конуру. Люди слезали с нар, собирались группами в проходе. — Ни один не убежал, всех привели!.. — Трепня, не верьте, знаем мы немецкие штучки. Взяли пять человек из внешней команды, чтобы продемонстрировать, дескать, поглядите, вот они, беглецы. Правдой оказалось самое худшее. Пятерка действительно была поймана и возвращена в лагерь. Под вечер всех нас выстроили на широком плацу. Осужденных вели по одному и ставили к стенке. Процедура тянулась мучительно долго. Расчет прост — чем дольше мы будем наблюдать, тем сильнее впечатление. Мы стояли на порядочном отдалении, но нам хорошо были видны товарищи. Руки у них связаны за спиной, одежду собаки изорвали в клочья. В момент, когда раздалась команда «огонь», послышались гневные голоса осужденных. Я видел, как расстрелянные один за другим рухнули на снег. Падали на колени, потом безжизненно валились на бок. После неудачного побега пятерки репрессии усилились. Автоматчики, полицаи, собаки заполонили все уголки лагеря. Нечего было и мечтать о том, чтобы попасть во внешнюю рабочую команду. Пленные знали одну дорогу: от казармы до уборной и обратно. Маршрут движения был строго очерчен. Чуть отклонишься — того и гляди получишь пулю в спину. Правда, спустя некоторое время Мейдер разрешил нам выходить после обеда из казармы. Мы совершали небольшие пробежки по уплотненному снегу, размахивали руками, чтобы привести в чувство застывшие члены. Пробежишь десяток метров и остановишься. Организм истощен, сердце колотится, вот-вот выскочит из груди. По ту сторону проволочных заграждений работают с лопатами наши. На изрядном расстоянии мы обмениваемся приветствиями: — Никого нет из Вятки? А киевляне? Ростовчане? Воронежские есть? Володьке не терпится подойти ближе к проволоке. Приходится силой тянуть парня назад. — Гляди, нарвешься, — отчитываю Володьку. Как-то несколько человек приблизилось к заграждению. По ту сторону оказались земляки. С вышки тотчас раздалась короткая пулеметная очередь. Двое были убиты наповал, один тяжело ранен. Свора полицаев набросилась на нас, потеснила в казарму, заперла всех на засов. После ужина Володька сообщил нам неожиданную новость: видел возле комендатуры Виктора. — Честное слово — он, — клялся Володька, стуча себя в грудь кулаком. — Любезничает с немцами, одет в теплую куртку, сапоги блестят… Качурину не верилось: — Зрение у тебя хорошее, но я все же сомневаюсь. Моряк, севастополец… Не может быть! Володька кипятился. — И никакой он не моряк. Самый настоящий уголовник. Помните, тельняшка была на нем совсем новая. Где пленному достать новую тельняшку? Постепенно всплыли и другие подробности: откуда у Виктора взялась немецкая марка, которую он предложил часовому за котелок воды? — Там, возможно, вместе с маркой была и записка, — высказал предположение Заремба. Качурин не сдавался. — Но он же моряк, севастополец! — Липовый, — настаивал на своем Володька. И я вспомнил день, когда меня вызвал в комендатуру Тип. Да, тот человек в цигейковой шапке был Виктор. В услужении у немцев. Холуй, продажная душа. Володька и Заремба правы. Не кто иной, как он, выдал нас в вагоне. Выслушав мои догадки, Заремба тяжело вздохнул: — Я сначала приглядывался к нему, чем-то он казался мне подозрительным. Но потом поверил: человек последнюю тельняшку променял на хлеб, чтобы поддержать товарищей. Теперь ясно — замаскировался, мерзавец. Будет нам наука.
Глава 8. Подвиг десяти

Расстрел пяти офицеров должен был внушить пленным мысль, что каждого, кто попытается бежать из лагеря, неизбежно ждет пуля. С дотошной пунктуальностью лагерные власти ставили к стенке не только беглецов, пойманных за воротами лагеря, но и тех, кто им открыто сочувствовал. Убивали в казарме во время построения, в очередях за похлебкой, убивали, если ты косо посмотрел в сторону начальства. Казалось, у гестаповцев разработан своего рода график истребления военнопленных офицеров, и они его скрупулезно выполняют. Но сломить волю к сопротивлению нельзя, как нельзя загородить телом прорвавшуюся плотину горной реки. Вскоре в лагере произошел случай, взбудораживший всех заключенных. Из карантина нас перевели, наконец, в общую казарму, но перед этим помыли в бане. Там тоже работали военнопленные офицеры. Я никого не знал по фамилии, да никто этим и не интересовался. Но, помню, все они были пожилые люди с высокими воинскими званиями. Спокойно, не торопясь, делали они свое дело. Когда мы впервые пришли в баню, нас встретил высокий худой полковник. На вопросы отвечал односложно и скупо. Подавал шайки, устанавливал очередь к парикмахеру и на дезинфекцию одежды. Банщикам разрешалось носить петлицы и знаки различия. Мы недоумевали. Мне объяснили, что такое исключение сделано немцами не случайно. За полгода пребывания в лагере эти люди ни разу ни в чем не проштрафились. Вели себя тише воды, ниже травы. Тут же, в предбаннике, они жили. Проверявший их офицер неизменно оставался доволен. По заключению комендатуры лагеря, десятка, работавшая в бане, была своего рода образцом для всех пленных. Нас же удивило и озадачило поведение офицеров. Они словно отрешились от мира, безропотно покоряясь судьбе. Зная, что мы, новички, прибыли из Крыма, ни один из них не спросил о Севастополе. Моя попытка завести разговор с полковником ни к чему не привела. Он буркнул себе что-то под нос и отошел в сторону. Так же вели себя и остальные банщики. Устроившись на новом месте, Качурин возмущался: — Что за люди! Кроты какие-то или просто шкурники, за свое теплое место дрожат. Заремба высказал предположение: — А может они боятся провокаций. Мало ли немцы подсылают шпионов. Провокаторы в лагере действительно попадались, но пленные с ними безжалостно расправлялись. Наш Володька частенько приносил новости: в одном месте Иуду прикончили на веревке, в другом — размозжили череп… Предателям нет пощады! И неспроста Виктор своевременно учуял недоброе и ретировался к своим покровителям. Но меня почему-то тянуло к банщикам, хотелось наедине перекинуться с ними словом. Не может быть, чтобы люди так безропотно отказались от своего человеческого достоинства. Однажды старший по казарме разрешил мне сходить в баню, попросить мыла. В душе я надеялся, что меня ожидает успех, что в небольшом кирпичном домике я найду ответ на вопросы, которые мучают меня и моих друзей. Баня находилась почти рядом с нашей казармой, ее глухая стена прилегала к колючей проволоке на границе лагеря. Совсем недавно помылась очередная группа пленных. Я постучал. Негромкий голос спросил: — Кто там? — Свои, я на минутку. Старший казармы просит хоть кусочек мыла. Дверь приоткрылась. Передо мной стоял седоголовый стройный полковник. — Время работы истекло, — сухо сказал он. — Не положено никого пускать. А мыла у нас нет, все израсходовано. Его явная недружелюбность взорвала меня. С издевкой в голосе я произнес: — Говорят, вы когда-то были советским командиром… — Действительно, был, — тотчас отозвался он. — Командовал полком, служил начальником штаба дивизии. А сейчас, как видите, банщик. Судьба! Сказав это, полковник решительно потянул на себя дверную ручку. — Уходите! Заметит патруль — и вам, и мне несдобровать. Я возвратился растерянный. Старший по казарме посмеивался надо мной: — Говорил тебе, майор, не ходи. У этих мужиков зимой снега не выпросишь. Да и вообще они нашего брата не признают, для них авторитет — сам комендант. А рано утром я проснулся, разбуженный винтовочной стрельбой. Огонь вели, как видно, со всех вышек. Володька вскочил и помчался в коридор. Там уже собралась половина казармы. Старший шумел, загоняя людей в помещение. За малейшее нарушение распорядка ему доставалось от Мейдера по первое число. Но малый он безвредный, на нас не доносит. И хотя мы с презрением относились ко всем, кто был на услужении у немцев, своего старшего иногда даже жалели. — Не иначе — кто-то убежал, — высказал догадку Качурин. Мы с Зарембой возразили: — Удерешь отсюда, черта лысого. В Симферополе, там еще были лазейки. Тут — настоящий карцер. Утренняя тревога оставалась загадкой недолго. Уже на построении по рядам прокатилась новость: десять старших офицеров, работавших в бане, бежали все до одного. Как и в предыдущий раз, когда совершили побег пятеро наших товарищей, так и сейчас, мы почувствовали необычайный прилив энергии. Сердца наполнились неизмеримой гордостью за боевых друзей. Все резервы, находившиеся в распоряжении коменданта лагеря, были брошены на поимку беглецов. Но прошли сутки, другие, третьи. На четвертый день к нам приковылял фельдфебель Мейдер. Лицо перекошено, фуражка сидит на голове криво, и сам он какой-то потрепанный. Еще бы! Гонял трое суток по лесам, даже сапоги не почищены. — Как ты стоишь, скотина! — сразу же набросился он на худого, сгорбленного офицера в потрепанной фуражке пехотинца. Вслед за этим резиновая дубинка пошла гулять по головам. — Русские свиньи! — орал Мейдер во всю горлянку. — Вешать вас мало, надо на колья сажать. Злобствование Мейдера было для нас очень красноречивым. И хотя он утверждал, что беглецы пойманы и расстреляны, мы знали: врет! Не было еще такого случая, чтобы пойманных — живыми или мертвыми — не выставляли в устрашение лагеря. Вот, мол, полюбуйтесь, от нас далеко не уйдешь!.. А тут немцы молчали, точно в рот воды набрали. В конце концов правда дошла до нас. Она прорвалась сквозь толстые стены комендатуры и пошла гулять по взбудораженному лагерю. В то ранее февральское утро немецкий часовой, спокойно шагавший между двумя высокими рядами колючей проволоки, вдруг провалился по пояс в землю. Провалился он как раз напротив бани и сначала подумал, что попал в сточную яму. Но под ногами было сухо. Солдат разгреб снег и увидел подземный ход. Тогда он стрельбой поднял тревогу. К месту происшествия немедленно прибыл дежурный с группой автоматчиков. Вся охрана была поставлена на ноги. Сам комендант руководил поисками беглецов. Город оцепили плотным кольцом, жителям Владимир-Волынского в течение нескольких дней не разрешалось никуда выезжать и выходить. Стали известны и другие подробности этого подвига. Побег готовился не менее полугода. В углу бани, там, где стояла широкая деревянная кушетка, были сорваны половицы. Ночью их приподымали, и человек спускался в подполье. Землю скребли ножами, ложками, разжижали водой и аккуратно спускали в канализацию. Подземный ход был очень узок, по нему с трудом ползком пробирался один человек. Выходил туннель в котловину, куда сбрасывали лагерный мусор. Рядом начинался густой сосновый лес. Никто из нас даже не подозревал, что десять мужественных, настойчивых людей под самым носом у врага готовят себе свободу. — Вот это конспирация! — восхищался Заремба. — Умная работа. Баню на некоторое время закрыли, но всякий раз, проходя мимо нее, мы косили глаза влево. От Мейдера не ускользнула даже эта маленькая деталь. Он приказал водить нас кружным путем. Удачный побег группы офицеров привел фашистов в ярость, они сгоняли свою злобу на пленных. Особенно доставалось нашей казарме, где находилось много участников севастопольской обороны. Севастопольцев немцы считали виновниками всех происшествий, подстрекателями и заговорщиками. Приумолк, задумался Заремба. Не спит, ворочается по ночам. Прильнет ко мне лицом, дышет горячо: — Знаешь, Андрей, о чем я думаю? Если кто из нас выживет и вернется домой, надо рассказать правду о плене. Я уверен, что многие думают о нас плохо, будут колоть нам глаза, мол, советский командир, а попал в плен. Тяжело, ох, как тяжело. А ведь здесь, в этих вонючих бараках, тоже проходит линия фронта, идут ожесточенные бои. Во всяком случае, я себя по-прежнему считаю в строю… Шла весна 1943 года. Советская Армия разгромила гитлеровцев под Сталинградом, вырвалась на просторы Кубани. Хотя мы и плохо знали о действительном положении на фронтах, но все же правда проникала сквозь проволочные заграждения. Верным барометром было обращение немцев с нами. Если гитлеровцы свирепеют, значит, наверняка, войска бесноватого фюрера опять «эластично выравнивают линию фронта». Доходила правда и иными путями. Однажды Володька показал мне на одного переводчика. Я и раньше обращал на него внимание. Чернявый парень, лет двадцати пяти, ходит неслышным шагом, говорит тихо и все оглядывается. Живет он вместе с полицаями, но заметно сторонится этой братии, среди которой полно всякого отребья. — Он хочет с вами поговорить, — сообщил мне Володька. Улучив момент, когда все стали укладываться спать, я незаметно выскользнул из комнаты. Длинный коридор освещала единственная лампочка, висевшая под самым потолком. Из полутьмы вынырнул человек и направился ко мне. — Здравствуйте, товарищ майор, — тихо произнес переводчик. — Меня зовут Миша. Не удивляйтесь, что я к вам обращаюсь. Мне Володя посоветовал. Я спросил, как он чувствует себя в незавидной роли переводчика, но Миша, в свою очередь, задал вопрос мне: — А как вы думаете? И начал свою исповедь: — Я проклинаю себя за то, что приходится быть у немцев в услужении. Вы ж понимаете, будто я виноват. Когда я попал в плен под Севастополем, то был просто пленным. А в симферопольском лагере кто-то донес, что я знаю немецкий язык. И вот — пожалуйста… Миша обещал регулярно информировать меня о внутреннем положении в лагере. Немецким языком владел он прилично, часто подслушивал разговоры офицеров, кое-какие сведения добывал от полицаев. Он долго не решался вступить с нами в контакт. Полицаи следили за переводчиками и в случае чего немедленно докладывали по команде. И вот, несмотря на опасность, все же решился. — Я знаю, мне теперь все равно конец, — печально констатировал Миша. — Не сегодня-завтра они расстреляют меня. Они ведь догадываются, что я еврей… — Кому это известно? — Мейдер намекнул недавно. Раз эта гадина знает, то считай — всё. — Держитесь стойко, — посоветовал я. — Не давайте себя запугать. Напоследок Миша успел сообщить мне важную новость: немцы на днях собираются эвакуировать транспорт, прибывший из Крыма. Куда — неизвестно, но вероятнее всего в Польшу или Германию. После побега офицеров из бани начальство лагеря страхует себя. Миша сказал правду. Вскоре посередине плаца был воздвигнут деревянный барак — формировочная. Нас вызывали туда по нескольку человек, осматривали, ощупывали, заглядывали в рот, пробовали бицепсы. Молодых и крепких — в одну сторону, пожилых — в другую, сильно истощенных — в третью. Заремба и Качурин попали в первую группу, я — в третью. Я сделал вид, что не понял и направился к Зарембе, но Мейдер грозно заорал: — Пирогов, третья! Зато Володьке удалось надуть лагерное начальство. Во время построения он улизнул из первой группы, которая отправлялась в тот же день. — Я их обвел вокруг пальца, — радовался парень. — Сказал — живот очень заболел. Послали в лазарет, выпил какую-то дрянь, полежал на койке… Другому едва бы удался такой трюк, но Володьке сошло. По распоряжению коменданта его приписали к нам, как отставшего от своего эшелона. Я чувствую, что Володька, как к отцу, тянется ко мне, ему смертельно не хочется расставаться. Гляжу на парнишку — и жаль, и смех разбирает. Выгоревшая старая фуражка натянута до ушей, шинель подпоясана веревкой, к ней привязан котелок. Но храбрости Володьке не надо занимать. И мне с ним все время легко и радостно. Прощание с товарищами, с Качуриным, Зарембой и многими другими, с кем подолгу пришлось делить наш скупой хлеб-соль, было по-мужски немногословным. Крепко обняли друг друга,приговаривая: — До встречи после победы. Нашей победы! Вот уже и мы с Володькой в последний раз шагаем по лагерному плацу, в последний раз я смотрю на стену казармы, у которой были расстреляны пятеро беглецов, на баню, из которой совершила побег отважная «десятка», показавшая всем нам пример мужества и умелой конспирации. Лают собаки, кричат солдаты-охранники: — Schnell, schnell!.. Теперь я твердо знаю, прав Заремба, — война продолжается и вдали от боевых позиций, за колючей проволокой, в проклятом ненавистном плену.
Глава 9. Ченстохов

Товарный вагон битком набит человеческими телами. Смрад, духота, одолевают паразиты. В ногах у меня прикрытые шинелями три холодных, окоченевших трупа. Просим начальника эшелона убрать. Не разрешает, надо ждать конечной остановки, где всех нас — и живых и мертвых — предстоит сдавать по счету. Люди лежат вповалку, переговариваются. — Куда нас везут? — спрашивает кто-то, ни к кому не обращаясь. — А ты что не знаешь? На невольничий рынок. Читал, небось, как в старину рабов продавали. Вот так и нас продадут… Наступает долгое, тягостное молчание. И снова мы слышим знакомый голос: — Но все же — где будем приземляться? Неужели в Германии, чтоб ее… Услышав слово «приземляться», Володька приподнял голову и бросил в темноту: — Эй, кто там? Летчик? — Да, а ты? — Тоже из пернатых. Нового Володькиного приятеля зовут Иваном. По фамилии здесь никого не называют. Поинтересовавшись фамилией, можно вызвать подозрение товарищей. Чувство боевого братства сближает. Забыв обо всем на свете, летчики вспоминают фронтовые дела, клянут ту минуту, когда попали в руки врагу. А в зарешеченных окнах теплушки мелькают места ожесточенных боев, виднеются обгоревшие танки, врезавшиеся в землю самолеты. Где-то совсем рядом проходит граница. Здесь наши братья принимали на себя первые удары гитлеровской военной машины. Вечером в вагоне все затихает. Кто-то просит воды. Но воду можно получить лишь на узловой станции и то не всегда. Человек плачет, умоляет: — Товарищи, братцы, хоть один глоток, неужели ни у кого не найдется?.. Сердце обливается кровью, но чем поможешь умирающему товарищу, когда у всех фляги давно пусты. Я долго не мог уснуть, вслушиваясь в стоны бедняги. Наконец, он затих. Я задремал и не заметил, когда остановился поезд. Ворох человеческих тел закопошился, пришел в движение. Где мы? Похоже — Германия. Виднеются высокие шпили, крутые черепичные крыши. Утром выяснилось: Ченстохов. Что такое Ченстохов, многие знают. Польский город. Немного отлегло на душе: Польша — не Германия. Поляки ненавидят фашистов, многие из них воюют в партизанских отрядах. Мы с поляками — не только братья-славяне, но и братья по оружию. С вокзала колонна движется улицами города. Нас конвоируют немецкие солдаты и власовцы. Большинство пленных давно лишилось обуви, на ногах у них деревянные колодки — сабо. Колодки гулко стучат по каменным мостовым, и польские женщины то испуганно, то с состраданием смотрят на нас из окон. Я вижу старушек, медленно бредущих по тротуарам, они крестятся и что-то шепчут про себя. Может быть и их сыновья вот так же шагают где-то под собачий лай и резкие окрики конвойных. — Русские, русские, — несется с тротуара. — Матка боска, цо се роби на бялым свеце?![2] На улицах одни женщины. Молодые смотрят грустными глазами, пожилые вытирают платками глаза. А какое чувство испытываем мы! Даже Володька и тот идет с опущенными глазами. Да, стыдно быть гнаному, как скотине. Лучше сложить голову в бою за отчизну, чем такой позор. Мертвые сраму не знают. Март в Польше — весенний месяц не только по календарю. Сквозь камни пробивается ярко-зеленая трава. Небо чистое, синее. Вдыхая пьянящий воздух, я размечтался, отстал от своей шестерки. Удар в спину привел меня в чувство. Если б товарищи не поддержали, лежать бы мне безжизненной колодой на мостовой польского города Ченстохова. Да, власовцы еще свирепей немцев!.. Лагерь, в принципе, ничем не отличается от Владимир-Волынского. Такие же казармы, набитые людьми, как бочки сельдями. Огромный плац, изрытый учебными траншеями. Видимо, здесь еще недавно находилась воинская часть. Володька сразу завязал знакомство с рабочей командой, состоящей из советских военнопленных. Наши работали и на кухне. Из расспросов стало известно, что два дня тому назад в Германию был отправлен эшелон, который проходил в Ченстохове переформировку. Этот эшелон прибыл из Владимир-Волынского. — Я напал на след Зарембы и Качурина, — торопливо рассказывал мне Володька. — Они были тут, честное слово. Во время обеда я спросил раздатчика пищи, не приметил ли он двух товарищей из предыдущей партии — статного брюнета-моряка и с ним артиллериста. — Крымчане? Помню, позавчера их отправили. — Куда? — Кто ж его знает, куда немцы народ девают. Мабуть, в Берлин, или еще в какую душегубку. Надежды вновь встретить друзей оказались тщетными. Позже, будучи в Штаргардте, Штеттине, Заксенхаузене, я пытался отыскать следы Зарембы и Качурина. Увы! Поныне так ничего и не знаю о них. В Ченстохове нас держали недолго. Формировочный лагерь — своего рода сортировочный пункт. Слабых, безнадежных отсеивали, более крепких — отправляли на работу в Германию. В ожидании процедуры отбора толпа пленных, одетых в рубища, долго слонялась по плацу. Светило весеннее солнышко, от земли исходил пряный аромат. Поодаль стояла группа немецких офицеров, ждала появления начальства. Миг — и они замерли. По ту сторону проволочных заграждений мелькнула фуражка коменданта. Его стройная, туго затянутая поясным ремнем фигура медленно и важно двигалась по дорожке. Как из-под земли вынырнул переводчик. Офицеры-немцы вытянулись в струнку. Пленные тоже, как предусмотрено лагерными правилами, приняли стойку «смирно». Комендант остановился вблизи нашей группы, достал из кармана серебряный портсигар, взял две сигареты и, показывая их нам, что-то залопотал. Поляк-переводчик обратился к пленным: — Господин комендант желает послушать русскую песню «Волга-Волга, мать родная…» Кто будет петь — выходи сюда, в сторону. Все были очень удивлены этим предложением, поскольку немцы, опасаясь, что пленные могут распевать советские, антифашистские песни, вообще запретили любое пение. И вдруг такой каприз коменданта. Переводчик сделал пять шагов вдоль ограды. — Прошу, господин комендант ждет. Получите в награду по две сигареты. Гробовое молчание было ответом на слова переводчика. Комендант ждал. Его дородное холодное лицо выражало нетерпение. — Ну, кто же хочет спеть? Быстрее, быстрее, — волновался переводчик. Но мы стояли, вперив глаза в землю, точно каменные столбы. Развлекать гитлеровца — ни за что! Картинно подняв руку с зажатыми в ней двумя сигаретами, комендант прогнусавил: — Вольха — Вольха, русиш мутер… Кто-то не удержался и прыснул от смеха. И тут случилось непредвиденное. Плечистый детина, в потрепанной солдатской шинели до колен, протолкался вперед и замер в нерешительности. — Неужели будет петь? — услышал я Володькин возмущенный шепот. — Вот паразит, продажная шкура… Между тем мужчина выпрямился, набрал полную грудь воздуха и сильным, волнующим баритоном затянул:
Глава 10. Штаргардт
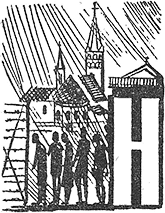
Небольшой немецкий городишко Штаргардт встретил нас холодным проливным дождем. Ветер гонит по небу серые тучи. Мы, кто как может, кутаемся в свое тряпье, напяливаем поглубже головные уборы. Прохожие оглядывают колонну недружелюбными взглядами. Мальчишки плюют нам вслед, бросают камни. Как и в Ченстохове, на улицах больше женщин. В их глазах затаена враждебность, смешанная со страхом. Медленно тянется наша колонна по улице. Вот уже впереди показались сторожевые вышки. Лагерь! Он устроен по-особенному, не так, как другие лагеря. Территория разбита на две части: в первой — санчасть, баня и одноэтажные деревянные бараки. Это для нас. Вторая половина — французская. Там находятся комендатура и карцер. Французы отгорожены от нас высокой стеной колючей проволоки. Попасть к ним можно только через калитку, охраняемую часовым. Подходить близко к ограде нельзя. Как бы там ни было — над головой крыша. Мы вздыхаем с облегчением, ведь трястись в товарняке — сущий ад. Нас загоняют в бараки. Снимаем и выкручиваем мокрое тряпье. Многие до костей промерзли, дрожат, как в лихорадке, стучат зубами. В барак едва проникает свет через маленькое квадратное оконце. Сыро. Ноги скользят по мокрому полу. Кое-кто взбирается на верхние нары, там все-таки теплее, но мне не хочется карабкаться наверх. Черт с ним, с теплом, последние силы потеряешь, пока взберешься на третий этаж. Располагаюсь внизу на голых досках. Нет даже соломы. Но это еще куда ни шло, не трогали б только сегодня, пока мы хоть немного отойдем. В новой обстановке пленные сразу же начинают группироваться по признакам землячества, возраста, профессий. И это хорошо. В коллективе легче преодолевать невзгоды, коллектив часто спасает от беды. Одиночки, люди, думающие только о себе, чаше всего гибнут. Из одиночек немцы обычно вербуют предателей и изменников. Мне также посчастливилось найти подходящих ребят и составить с ними крепкую, дружную общину. Еще в вагоне сблизился я с фельдшером Жорой — молодым парнем с Кубани. Помогал он одному раненному командиру и обратил на себя внимание. У офицера была сорвана повязка с раны. Накладывая бинт, фельдшер нежно приговаривал: — Ну-ка, приподымись, матушка-пехота, будем царапины ремонтировать. Вот так хорошо, теперь полный порядок. О себе он сообщил скупо: в мае сорок первого года закончил фельдшерскую школу, получил отпуск, не догулял два дня, — началась война. В первом же бою был ранен и попал в плен. В минуты откровения он горько сетовал на судьбу. Все причины своего несчастного положения видел в ошибочном выборе военной профессии. По его словам, будь он не фельдшером, а летчиком, артиллеристом или танкистом, то никогда б не дался живым в руки врага. Друзья Жоры — капитан-пехотинец Николай и воентехник Саша — оба родом из Ростова-на-Дону. Первый — спокойный и уравновешенный, второй — анекдотчик и балагур. Всей тройке вместе не более семидесяти пяти лет. Стало быть, и по возрасту, и по званию я среди них самый старший. Саша так и обращался ко мне: — Батя, ложись в середину, теплее будет. Хорошие, отзывчивые ребята, на них можно было опереться. Вскоре по прибытии в лагерь нам выдали брюквенный суп. Отхлебывая из котелка, Саша, как заправский дегустатор, оценивал: — Превосходная жратва: вкусно, питательно, полезно. Не хватает мелочей — крупы, сала, картошки. Вместо ужина дали по куску хлеба. Жора обращается ко мне на «вы». — Отведайте, товарищ майор, немецкого эрзаца… Хлеб напоминает ссохшийся кизяк, да еще отдает карболкой. Но мы проглатываем его единым духом. Ничего не поделаешь, есть хочется. Пусть хлеб с опилками, с чем угодно, — больше б только дали. За кусок хлеба некоторые меняли часы, кожаные пояса, бритвы, зажигалки — все, чем владел пленный. Но еще желанней была для заядлых курильщиков папироса или сигарета. За нее люди готовы были порой лишиться даже хлеба. В минуту священнодействия над хлебом в барак явился полицай. В лагерях полицаи тоже из военнопленных, им, как и нам, запрещено выходить из лагеря, но за усердное холуйство немцы наделяли их властью над остальными пленными, создавали для них привилегированное положение. Во всех лагерях эта порода предателей работала по единому образцу. Полицай — сторожевой пес гитлеровцев. Он следит за распорядком, стоит у тебя над головой, когда ты ожидаешь очереди за похлебкой, он тут как тут, если ты громко разговариваешь в бараке. Остерегайся ругать лагерные порядки, непочтительно отзываться о начальстве. Полицай сразу же шепнет фельдфебелю, тот передаст дальше. Начнутся вызовы, допросы. Посадят в карцер, будут истязать и морить голодом. Подавляющее большинство полицаев — разного рода уголовники, дезертиры, сынки осужденных в свое время Советской властью за различные преступления перед народом. Вот такой молодчик и появился перед нами — красное, одутловатое лицо, заплывшие, бесцветные глаза. — Меняю сигарету на пайку хлеба, — громко объявил он. — Есть желающие? Охотник совершить сделку тут же выискался. Это был низенький, щуплый человек в фуражке с черным околышем. Принимая из его рук хлеб, полицай придирался. — Ты надкусил? — Ей-богу нет, вот свидетели. — Почему ж кусок маленький? Тут нет и ста граммов! Полицай выжидал, прикидывая на ладони хлеб и не выпуская из рук сигарету. Обмен ему казался явно невыгодным. За свой товар хотел взять больше. Наконец, вздохнув с притворным сожалением, отдал сигарету. — Возьми, да знай мою добрость. Полицая проводили сотни ненавидящих глаз. Всю ночь и следующий день не прекращался дождь. Несмотря на ненастье, полицаи утром стали выгонять нас из барака во двор. Некоторые наотрез отказались выполнять это распоряжение. Здоровенные верзилы силком выволакивали их в коридор, затем выталкивали на улицу. — Вот подлецы, — сорвалось у меня, — раздетых и разутых гонят на холод. Я не ожидал, что меня услышат. Но до полицая дошло. Огромной ручищей он скрутил воротник моей шинели. — Ну-ка, повтори, что сказал? — Отстань, — пробовал я отделаться. Но он не отпускал меня, глядя в упор красными, бычьими глазами. — Задушу, пикни еще хоть раз. Под кадык и амба! На выручку поспешили Жора и Саша, а с ними еще несколько человек. Видя, что перевес на нашей стороне, полицай выругался отборной бранью и удалился. Меня начали отчитывать товарищи: — Зачем связался с гадом? По-глупому умереть всегда успеешь. Лишь позже мне довелось убедиться, какому риску подверг я себя. Среди всей полицейской своры этот верзила — самый лютый и злобный. Одни говорили, что он сын кулака, перебежал польскую границу накануне войны. Другие утверждали, что он из уголовников, был осужден за убийство. Второе было более вероятным — ему ничего не стоило хлюпнуть в лицо пленному кипятком, запустить в него тяжелым предметом, избить до полусмерти. Он и выгнал нас под холодный дождь главным образом для того, чтобы потешиться, удовлетворить свою злобу к людям. После того памятного утра многие заболели воспалением легких. Умирали от туберкулеза, дизентерии, но больше всего — от истощения. И никому не под силу было предотвратить гибель людей или хотя бы уменьшить их страдания. Мучителя-полицая мы не могли прикончить, как это делалось в других лагерях. Он был слишком видной фигурой, и случись с ним неприятность, нам бы несдобровать. Немцы в таких случаях выстраивали всех в ряд, выводили каждого десятого и расстреливали. Не стоит поганая шкура предателя крови многих наших товарищей. Время шло. Дожди сменялись ветрами, густыми туманами. Но весна все настойчивее стучалась в бараки. Однажды Жора громко спросил, знаем ли мы, что такое шталаг. Оказывается, шталаг — это постоянный рабочий лагерь. Мы заключены в шталаг. Отсюда посылают пленных на заводы, в шахты, в рудники, к помещикам и бауэрам-кулакам. — Работать на противника! — возмутился Николай. — Я давал присягу. Пусть меня морят голодом или расстреливают, но работать не буду. Все равно погибать. — Не надо шуметь, — кто-то урезонил его. — Работать можно по-разному. Мы переглянулись и согласно кивнули. Верно, работать можно по-всякому. А главное, птица на воле расправляет крылья. Сумеем взмахнуть крыльями, — поднимемся в небо. Не удастся, — ничего не теряем, во всяком случае лучше умереть под солнцем, чем заживо гнить на вонючих досках. А пока что нас не трогают. Присматриваются к нам. Количество больных и немощных с каждым днем увеличивается. Кормежка та же: в обед — баланда из брюквы и кусочек черного хлеба с опилками. Вечером и утром — по пол-литра эрзац-кофе. — Вот она, Германия! Если так продолжится месяц-два, все мы протянем ноги! — вздыхает молодой фельдшер. — Жаловаться после войны, — шутит Саша. Чем-то напоминает дорогого мне Володьку этот неугомонный, непоседливый воентехник. Опять новость. Саша тычет мне газету: — Почитайте, товарищ майор, к вам обращаются…. Гляжу — русская. Сердце забилось от радости. Почти год не видел я газет. Раньше — и до войны, и на фронте — дня не мог прожить без них. Готов был остаться без пищи, но не без газеты. И вот перед глазами мелькают русские буквы, они построены в строчки и образуют слова. К сожалению, не те слова, которые мне нужны. Саша посмеивается: — А вы думали «Правда» или «Красная звезда»? Я, было, действительно обрадовался, а теперь вижу — газета власовская, печатается немцами специально для советских военнопленных. И здесь, в Германии, эти подонки не оставляют нас в покое, вернее, даже усилили свой нажим. Возле входа в казарму мелькнула знакомая тень полицая. К нашей четверке после того случая, когда ребята заступились за меня, он относится явно враждебно. Мы не хотим заводиться с гадом. Саша нарочито громко читает сообщения с германских фронтов. Жора по-своему их комментирует. Полицай не уходит далеко. Растопырил уши, пыхтит сигаретой. Но долго так не выдерживает, уходит. Тогда Жора дает волю своим чувствам: — Брехня все — от первой до последней строчки. Ничему я не верю!.. Лагерь буквально наводнен газетами. Цель — обработать пленных, посеять среди них недоверие к своей армии, склонить к вступлению во власовский легион. Эти гитлеровские листки вызывают у нас отвращение, но мы их все же читаем, так как многое научились понимать между строк. Так, если говорится о выравнивании линии фронта, — значит наши успешно наступают; если утверждалось, что за какой-то город немецкая армия ведет упорные бои, то мы уже знали — этот город давно наш. Слоняясь возле барака, мы неизменно наблюдали, что делалось во второй половине лагеря, отделенной от нас колючей проволокой. Общение с французскими военнопленными не разрешалось, но иногда французы подходили близко к забору, подолгу смотрели в нашу сторону, бросали сигареты — штуками, а иногда и пачками. — Рус, рус! — слышались негромкие голоса. — Рус, Сталинград — карашо. Содержались французы намного лучше советских пленных. Хотя они тоже жили скученно, но у них были матрацы, за санитарным состоянием казармы следили врачи. Они получали сигареты, им присылал пайки международный Красный Крест, они могли свободно разгуливать по лагерному плацу, от барака к бараку, тогда как нас обычно сопровождали даже в уборную. Из всех военнопленных, которые попадали в гитлеровские лагеря, советским пленным создавались самые невыносимые условия. Прошла первая неделя нашего пребывания в шталаге. Приближался май 1943 года, а с ним — золотая предлетняя пора. Что ждет нас впереди? Выйдя после обеда из смрадного барака, мы присели на бревна. Жора развернул газету. Не скрывая, немцы бьют тревогу. Ожесточенные бои идут уже в Донбассе. — Если так пойдет дальше, — мысленно подсчитал Николай, — наши к концу года обязательно будут на немецкой границе. — Но до Штаргардта еще добрых две тысячи километров, — вставил Саша. — Неужели мы будем сидеть вот так, хлебать бурду, читать эту паршивую газетенку и ожидать свободы? — Почему сидеть? — раздался у меня за спиной незнакомый голос. — Надо действовать… Мы резко повернули головы. Наш разговор слышал совершенно незнакомый человек. — Собственно; кто вы такой? — сразу же пошел в наступление Саша. — Мы обсуждаем сводку с фронта. Человек присел на корточки. — Кто я, спрашиваешь? Гамлет, принц датский… Он глядел на нас внимательными, умными глазами, потом тронул меня за рукав. — Можно на минутку? Мы отошли, и незнакомец спокойно, как добрый старый учитель заговорил: — Хотя я простой колхозник, но могу понимать хороших людей. Глянь прямо, видишь барак? Вторая дверь справа. Вечером заходи, спросишь дядю Степу. Не успел я опомниться, как он юркнул за угол, бросив на ходу: — Обязательно приходи!
Глава 11. Дяди Степа

Товарищи не могли мне посоветовать что-нибудь определенное. Трудно было разобраться с первого взгляда, кто этот дядя Степа. Жоре не понравилось, что он подслушивал наш разговор. Саша с ним соглашался. Но Николай, который довольно редко высказывался в таких случаях, стал на мою сторону. — Дядя Степа — наш, — утверждал он. — И никакой он не колхозник, уверяю вас. Слишком складная у него речь. Скорее он сельский учитель или агроном… — Ох, не доверяйтесь, товарищ майор, — качал головой Жора. — Шпики маскируются под кого угодно. Заведет вас в мышеловку, будете потом каяться. — Но ты ж сам говоришь, что он на мужика похож, — возражал Николай. — Верно, в нем есть что-то такое, понимаете, от земли. И руки, я заметил, грубые, под ногтями — чернозем. — Дурак! — засмеялся Николай. — А у тебя на ногтях что? Маникюр? Руки сейчас у всех одинаковые. Мне дядя Степа понравился. И то, как назвал себя, улыбнувшись в густую, черную бороду, и как легко присел и начал палочкой ковырять землю, а потом держал меня за локоть твердой сильной рукой. Голос у него приятный, каждое слово оставалось в памяти. Вспомнилась горькая история с моряком Виктором, и я стал размышлять над прошлыми ошибками. Виктор тоже понравился, мы доверились ему, а что получилось? Прояви я тогда осторожность, может быть наш побег закончился бы удачно и теперь мы не кормили бы вшей в шталаге, а сражались в партизанском отряде… Преодолев колебания, я все-таки решил пойти в чужой барак. Ребята сделали мне множество напутствий: не откровенничать, не называть никаких имен, присмотреться к окружению дяди Степы. Я знал, что на ночь внутри лагеря расставляются дополнительные посты, поэтому предупредил товарищей, чтобы они не волновались, если я вдруг заночую в гостях. Дядю Степу я отыскал быстро. Он сидел на нижней наре и снимал с себя обувь. Пока пленные укладывались спать, мы толковали о всякой всячине. По словам дяди Степы, он — колхозник из Ленинградской области. В первые дни войны был мобилизован в армию, участвовал во многих боях. В плен попал под Вязьмой, побывал в нескольких лагерях и вот уже пять месяцев в шталаге. Определили во внутреннюю рабочую команду. Приходится копать землю, пилить и колоть дрова, столярничать и даже сапожничать. Биографию дяди Степы я не принял на веру. В его словах было немало нарочито простонародных выражений, и эта нарочитость выдавала. Однако говорил он спокойно, невозмутимым тоном, будто выступал где-то на ответственном собрании. «Наверняка политработник и вынужден маскироваться», — решил я, зная, что немцы не давали никакой пощады «советским комиссарам». Наконец, дядя Степа заговорил о главном. Шталаг — своего рода биржа невольников. Здесь формируются различные рабочие команды. Пожилых и ослабевших посылают к помещикам, на полевые работы. — Я не попал ни в одну из команд только потому, — говорил дядя Степа, протягивая мне сигарету, — что меня подозревают, не верят, что я колхозник. Допрашивали несколько раз, проверяли познания в сельском хозяйстве. Экзамен выдержал, но на подозрении остался. — А если нас отправят с командой? — жадно закуривая, спросил я. — Там — другой табак. Есть где ветру в поле погулять, как говорил наш комбат. Конечно, и тут кое-что люди делают, сиднем сидеть не приходится. Он говорил намеками, но я понял, что в лагере есть подпольная организация, которая пользуется большим влиянием на военнопленных. Час уже был поздний, во избежание осложнений следовало торопиться. Мы договорились об очередной встрече. За мной придет человек и передаст привет от дяди Степы. Когда я вернулся в барак, товарищи учинили мне настоящий допрос. Жора все еще продолжал высказывать свое недоверие. — Прикидывается воробьем, а может оказаться коршуном. — Наш он! — твердо решил Николай, и я с ним согласился. На следующий день было воскресенье. Для нас оно ничем не отличалось от остальных дней недели. Но на французской стороне царило оживление. Мелькали красные штаны, кто-то выводил на губной гармошке веселый мотив, кто-то напевал песенку. Посредине плаца, на площадке, играли в волейбол. Вокруг поля собралось много болельщиков, они очень темпераментно реагировали на ход игры. Нам подходить близко к ограде запрещено, однако на расстоянии можно даже переговариваться с французами. Было среди нас несколько человек, которые владели французским языком. Они пояснили, что французы сегодня особенно оживлены потому, что отмечают свой национальный праздник. Немцы позволили им эту необычную роскошь. А мы сразу же поняли, что, видимо, не так уж хороши у Гитлера дела на Восточном фронте, раз его подручные начинают заигрывать со своими западными соседями. Вообще, немцы стали чаще подчеркивать свою европейскую близость к французам, использовали их в различных лагерных службах, выдерживали для них терпимый рацион, в который входили даже сигареты. Нас же, русских военнопленных, посылали на самые изнурительные работы, кормили впроголодь, а главное, немцы старались всячески унизить нас в глазах французов. Вот и на этот раз несколько эсэсовских офицеров, видимо, задумало какую-то пакость. Выйдя из лагерной комендатуры, они не спеша направились к проволочной ограде, отделявшей французскую и русскую половины лагеря. Остановились, о чем-то договариваясь и явно предвкушая удовольствие. Толпа на обеих сторонах затихла, игра прекратилась, все замерли в ожидании. Один из офицеров вынул из кармана пачку сигарет, на глазах у многих наших курильщиков, изнывавших без табака, закурил, пустил несколько колец дыма. И вдруг швырнул пачку в нашу сторону. Она описала большую кривую и упала у ног толпы. От удара штук пять сигарет выпало и рассыпалось по земле. — Не брать! — раздался сзади чей-то зычный голос. Но было уже поздно. Несколько отчаявшихся людей бросилось за добычей. Они мгновенно смешались в клубок, мутузили друг друга кулаками. А немцы стояли, хохотали и что-то громко говорили французам. Гнев закипел в наших сердцах. Послышались голоса: — Мерзавцы, нашли чем забавляться! — Кость вам поперек горла, изверги! Кровопийцы! Стоявшие впереди бросились разборонить дерущихся. Мне вдруг вспомнился Ченстохов, безвестный певец, разбередивший нам душу привольной песней о Волге, гордый человек, растоптавший сигареты, брошенные ему в награду немецким комендантом. А здесь, значит, люди уже доведены до крайности, если готовы за пачку сигарет забыть обо всем на свете. Случайно мы обнаружили, что нет Саши. — Саша! Саша! — не жалея горла, стал выкрикивать Жора. Сквозь толпу к нам неожиданно протиснулся совсем не тот Сашка, которого мы знали. Лицо в крови, под левым глазом синяк, фуражка в грязи. Но вид у него победно-торжественный. Разжал кулак и протянул мне несколько смятых сигарет. — Вам, товарищ майор! У вас ведь давно уши опухли… Я взорвался от гнева: — Как ты смел?! На радость и потеху поганым фрицам! Выбрось сейчас же эту мразь и не подходи больше ко мне. Бедный Саша напоминал подсудимого. Он только сейчас понял, что совершил огромную глупость, и пытался хоть немного оправдаться: — Пачка упала совсем рядом, даю слово. Я не думал брать, я ж не курю. Но вспомнил, что майор мечтал сделать хоть одну затяжку, и нагнулся. А дальше пошло… Товарищи оказывали помощь пострадавшим в свалке. А по ту сторону колючей проволоки французы стояли молча с суровыми, словно окаменевшими лицами. Резкий возглас: Vive les russes![3] вывел их из оцепенения. И вслед за этим через колючую проволоку к нашим ногам полетели пачки сигарет, солдатские галеты, пакеты с сухим картофелем, самодельные зажигалки. — Берите, товарищи! Берите! — кричали на своем языке французы и торжественно выворачивали карманы в знак того, что они поделились с нами всем, что у них было. С обеих сторон к месту происшествия примчались немецкие солдаты и полицаи. Вскоре и мы, и французы оказались загнанными в свои бараки. Из них нам разрешили выйти только под вечер. Выйдя на плац, я встретился с человеком от дяди Степы. Он приветствовал меня, как было условлено, и сказал, что работа стоит, нельзя терять времени. Работа стоит — значит меня ждут. На этот раз дядя Степа был какой-то особенный: побрит, аккуратно причесан. Попыхивал цигаркой, предложил закурить. В ответ я вынул пачку сигарет: — Закуривайте лучше мои. Подарок друзей — французские… Дядя Степа хитро подмигнул: — Э-э, нет, я нашу махру ни на что не променяю! И мне представилось на миг, что нет ни плена, ни лагеря, а мы сидим после боя в блиндаже и дымим махоркой. Такое настроение создавал этот человек одним словом, выразительным жестом, взглядом своих добрых глаз. Дядя Степа выслушал мой рассказ об инциденте на границе нашего и французского лагерей. Лицо его вдруг помрачнело, он сильно затянулся, отвел взгляд в сторону. Резко бросил: — Эсэсовские выкормыши! Мы когда-нибудь доберемся до них. Как полагаешь, доберемся? — Время придет, заставим их отвечать сполна. — И я такого мнения. Мы подрубим их систему под самый корень, а затем и корни выкорчуем, сожжем в пепел и развеем по ветру. Барак стал наполняться людьми. Дядя Степа предложил мне пройтись по плацу, в воскресный день иногда допускались такие вольности. Не спеша, обстоятельно излагал он обстановку. Шталаг не имеет постоянного состава, пленные проходят здесь своего рода естественный отбор. Период отбора переживали сейчас мы, прибывшие из Ченстохова. Не сегодня-завтра из нас начнут формировать рабочие команды. — Попадешь туда, а это наверняка случится, помни, — напутствовал дядя Степа. — Мы продолжаем воевать, никто нас не демобилизовал из армии. Это было сказано так убедительно, что я на какое-то мгновение забыл о своем положении пленного. Да, никто нас не увольнял со службы в Красной Армии, мы не имеем права складывать оружие! — Ну, так вот, — продолжал мой спутник, — куда б тебя ни забросила злая судьбина, не забывай о своем долге: потихоньку, незаметно точи под корешок ядовитое дерево. Будет возможность бежать — не теряйся. Немцы хвастают, что из их лагерей только птицы улетают. Враки! Сколько наших ушло в Польшу, во Францию, Чехословакию! Об этом должны знать наши люди. Это поднимет их дух, укрепит стойкость. Особенно нужно морально поддержать тех, которые отчаялись, почву под ногами потеряли, вроде ребят, что за сигареты сегодня дрались. Я рассказал ему, как в феврале прошлого года бежали из Владимир-Волынского офицерского лагеря десять наших товарищей. Дядя Степа энергично потирал руки, приговаривая: — Вот это молодцы, вот это да, чистая работа, как говорил наш комбат. Дядя Степа сделал короткую паузу, вздохнул и продолжал: — В лагере не только формируются рабочие команды. Вербовщики из так называемой Русской освободительной армии усиленно втягивают людей в свою банду. Мы кое-что предпринимаем, но, представь, некоторые все же уходят к Власову. Недавно я разговаривал с одним лейтенантиком. Сам из Донбасса, отец инженер, мать врач. Единственный сын у родителей. Закончил среднюю школу, потом военное училище. В плен попал в первые дни войны. Пробовал его надоумить: «Что ж ты, — говорю, — сынок, душу продал сатане. Отец и мать, если узнают, умрут от позора». И что ты думаешь он мне заявил? «Вы, — говорит, — старик, ваша песенка спета, а мне двадцать три года, я жить хочу, а не сдыхать с голоду». — Ты понимаешь теперь, в какой обстановке приходится работать? — спросил дядя Степа. — Немцы ловят на удочку таких шкурников. Внушают мысль, что Россия их забыла, отказалась от них, что будто бы есть даже специальный приказ, объявляющий всех попавших в плен изменниками. Немцы выставляют на показ американских и французских пленных. Вот, мол, посмотрите, у них — и хлеб, и сало, и сигареты. Получают через Красный Крест. А вы лопаете баланду и пьете эрзац-кофе, потому что ваша страна считает вас предателями. Представь, находятся нестойкие, принимают это за чистую монету. Скоро должна была последовать команда к отбою. Дядя Степа спешил выложить передо мною все, что он считал нужным. — Ты, Андрей, присматривайся к людям. Собери вокруг себя надежных ребят, пусть каждый изучает соседа, а тот — своего соседа. Нужно сделать так, чтобы ни один пленный не пошел к Власову. За каждого человека мы должны драться, да еще как драться. Он сказал «мы». «Мы» — значит организация, которая проводит подпольную работу, — думал я. Ноги мои с трудом ковыляли по дорожке, но мысли обгоняли одна другую. Счастье, что есть дядя Степа. Может быть, не зря уходят дни, может быть, и я что-нибудь сделаю, сослужу полезную службу. Возвратившись в барак, я застал своих друзей за газетой. Читали вслух сводку с фронта. Немецкая армия, выравнивая линию обороны, оставила город Краснодар. Бои идут на Таманском полуострове… Жора и Николай злорадно ухмылялись: знаем, мол, как эту линию выравнивают. Я подозвал к себе Николая, с него первого решил начинать разговор с ребятами. — Послушай, Коля, ты парень серьезный, я хочу быть с тобой откровенным, — сказал я. — Не считаешь ли ты, что пора начинать настоящую работу? Он внимательно слушал, но не сразу понял, к чему я клоню. Поинтересовался: — А что еще надо делать? — Многое! И прежде всего, нельзя допускать, чтобы фашисты наших людей совращали. Почему мы не даем по зубам власовским агентам? — Еще как даем, — усмехнулся Николай. — Сегодня тут один хлюст заливался соловьем, обещал золотые горы. В новой форме, парабеллум немецкий, на рукаве — нашивка «РОА». Ушел не солоно хлебавши. «Роашникам», действительно, давали отпор, но они вели бешеное наступление. Забрасывали нас газетами, восхваляли своего «главковерха», хвалили тех, кто пошел служить в армию Власова. Газеты регулярно печатали портреты «добровольцев», им посвящались даже стихи. Стрелы пускались, главным образом, в молодых. Придет полицай, назовет фамилию. Такой-то — для разговора. И уведет парня на несколько часов в комендатуру. А оттуда, глядим, иной возвращается сам не свои, в глаза друзьям не глядит, обдумывает про себя тяжелую думу. Мы понимали, значит, заколебался человек, ему сейчас особенно нужна моральная поддержка товарищей. И сами старались подойти к нему, убеждая не поддаваться на дешевые посулы, оставаться верным воинской присяге. Однажды полицай явился за Жорой. Но скоро тот вернулся. Спрашиваем: — Ну как? — Ничего. Сказал, что болен язвой двенадцатиперстной кишки. Пусть попробуют проверить! Затем ходил Николай. С ним очень долго вели разговор, но он прямо, без обиняков отказался. Николаю пригрозили, однако отпустили. Сашу не тронули. После свалки за французские сигареты он долго носил «фонарь» под глазом. Контрпропаганду против вступления во власовскую армию вела не только наша четверка. У дяди Степы оказалось множество своих людей. В результате «роашники» терпели крупный провал. Из четырехсот человек, населявших наш барак, всего трое-четверо стали наймитами. Это были молодые лейтенанты, которые, по сведениям Саши, в первом же бою из страха сдались в плен.
Глава 12. На полевых работах

Группу военнопленных в сорок человек выводят на построение. Приказ — забирать с собою вещи. Мы сразу поняли — формируется рабочая команда — арбейтс-команда. Куда нас погонят? В Рур? На строительство подземных сооружений? В лагере все делается с необычайной спешкой. Нас торопливо ведут на станцию. И вот уже пронзительно свистит поезд, ритмично стучат колеса. Часа через три — остановка. — Выходи! Мы выпрыгиваем из вагона и выстраиваемся в шеренгу. — Ein, zwei, drei… — пересчитывают конвойные невольников. Затем командуют: марш! Нет, это не Рур. Обычное немецкое село. Лают собаки, поют петухи. Заводят нас вкрестьянский двор средней руки и разрешают присесть. Двор обнесен колючей проволокой в три ряда. По сравнению с лагерем тут намного лучше. Воздух чистый, ласточки летают, пахнет травами. Посредине двора — большое шелковичное дерево, к нему пристроен столик, сбитый из грубых досок, рядом вкопаны в землю скамьи. Видно, хозяева любили обедать в тени, наслаждаясь тишиной и покоем. Дом кирпичный, двухэтажный, под черепицей. Двадцать человек размещаются на первом этаже, двадцать — на втором. Осматриваем свое новое жилье. Окна на улицу замурованы — смотреть можно только во двор. Полы деревянные. Нары добротные. Есть даже матрацы-мешки, набитые сухой соломой. Все предусмотрено для приема пленных, все до мелочей. Часа через два прибыла кухня-тележка, на ней бак. Обоняние у нас настолько обострено, что мы сразу определили: картофельный суп, разумеется, без мяса. И хлеба не дают. Но суп чертовски вкусный, и мы проглатываем свои порции в мгновение ока. Всеми делами в лагере заправляет фельдфебель — пожилой, припадающий на ногу сухопарый немец. После завтрака он выстроил нас, чтобы решить некоторые практические вопросы. Первый — кто владеет немецким языком? Нужен переводчик. Фельдфебель приподнялся на цыпочках: — Wer schpricht deutsch?[4] — Îch! — послышался знакомый голос. У меня зарябило в глазах: Жора! Жора — переводчик! Сколько ночей спали рядом в Штаргардтском лагере, а я и не подозревал, что он владеет немецким языком. Сотня слов и десяток стандартных фраз, выученные каждым из нас в силу необходимости, — слишком бедный запас. Жора, правда, знает немного больше, все-таки изучал язык в фельдшерском училище, — и вдруг переводчик, правая рука фельдфебеля… Черт знает что! Немного отлегло на душе, когда в пяти шагах от себя я увидел Жору, повернутого лицом к строю. По хитрому прищуру глаз без труда можно было прочитать: «Не дрейфь, ребята, все будет в порядке…» Вопреки нашим ожиданиям, переводил Жора довольно бойко. Там, где возникала заминка, импровизировал на ходу. Не успеет фельдфебель закрыть рот, как тотчас из уст переводчика сыпалась целая лавина распоряжений, приказов, команд. После работы огней в доме не зажигать, после отбоя во двор не выходить, дверь будет запираться на замок. Строжайше запрещается петь, танцевать, громко разговаривать. Подъем в пять утра. Выход на поле в пять тридцать. Работать надо хорошо. Кто будет симулирен, тому не ждать снисхождения. По совместительству Жоре положено и куховарить. Далее фельдфебель спросил, кто умеет доить коров. Таких нашлось пятеро. Это были совсем молоденькие офицеры-медики. По всему видно, что не так они умеют доить коров, как интересуются содержимым коровьего вымени. Девять человек назначены копнить сено, остальные — на прополку кормовой свеклы. Остаток дня мы использовали для наведения чистоты во дворе: подметали, вырубывали бурьян под забором, посыпали песком дорожки. Сидеть без дела нельзя ни минуты, и мы занимаемся пустяками для отвода глаз. С наступлением сумерек Жора весьма своеобразно перевел команду фельдфебеля: — Братцы, пора баиньки!.. В пять часов утра скрипнула дверь. Вошел фельдфебель. Он первым делом пнул в спину Жору и стал отчитывать его со всей немецкой строгостью: переводчик должен первым быть на ногах, встречать начальство, а он дрыхнет как ни в чем не бывало… Доильщики ушли раньше всех, за ними отправилась девятка на сенокос. Нас двадцать пять человек фельдфебель вывел за ворота и передал двум вооруженным винтовками пожилым штатским. Это фольксштурмовцы. На левой руке у них красные повязки со свастикой. Поле находилось в километре от села. Охранники расставили нас группами, показали, как нужно прорывать свеклу. Рядки загущены, сильно заросли сорняками, приходится орудовать не столько сапкой, сколько руками. Саша идет по правую руку от меня, дальше — Николай. — Посмотрите, отличная сапка, режет, как бритва, — говорит Саша, подряд вырубывая растения. Но выходка его оказалась замеченной. Разъяренный фольксштурмовец набросился на парня: — Russische schwein! Schwein! — И, подняв пучок травы, стал наотмашь хлестать его по лицу. Мы с Николаем отчитали Сашку за неумный поступок. Этак ничего никому не докажешь. Не такие уж болваны эти немцы, чтобы не заметить явного вредительства. Надо действовать более осмотрительно, изобретательно. Сначала работа на свекловичной плантации кажется нам приятной и легкой. Необозримый простор, поле, неподалеку — сосновый лес. Все это бодрит, придает силы, а главное — на какую-то минуту возвращает тебя к далекому прошлому, когда ты был человеком. Но уже спустя час я почувствовал невероятную усталость. Сказалось сильное истощение. Болели колени, суставы рук, ныла поясница. Я не мог выпрямиться, расправить плечи, точно меня отстегали кнутом. Остановиться, сделать передышку нельзя, за спиной — охранник, он все время повторяет: Schnell! Schnell! Молодые еще выдерживали, но тем, кому было за сорок, падали от усталости. Некоторые, боясь наказания, становились на колени и карачки ползли по рядкам, стараясь не отставать. Мне казалось, что я вот-вот свалюсь на сухую горячую землю, свалюсь и уже не встану. Саша заметил мое плачевное состояние, вырвался вперед, потом перешел на мой рядок. Таким образом я не отставал и получил возможность сделать хоть маленькую передышку. Солнце высоко поднялось над лесом, когда мы добрались в другой конец бесконечно длинного поля. Положен десятиминутный отдых. Обессиленные люди повалились на траву, многие стали сбрасывать с себя гимнастерки. Перерыв закончился. В обратный путь тронулись с великими муками. Даже неумолимые фольксштурмовцы, видя наше плачевное состояние, перестали угрожать. Лагерь рядом, поэтому обедать отправляемся в село. Мы уже знаем, что называется оно Мариниендорфом. Трапеза длится ровно тридцать минут. В нашем приятеле Жоре проявился еще один талант — он сварил вполне вкусный картофельный суп с луком. В два часа — команда на построение. И снова свекловичное поле. За день мы прошли по шесть рядков — это с восхода и до захода солнца, за двенадцать жарких летних часов. Люди изошли потом, посерели, сгорбились. Молодые превратились в пожилых, пожилые выглядят глубокими стариками. Саша храбрится. В течение всего дня он помогал то мне, то моему пожилому соседу, подбадривал нас, отпускал остроты в адрес охранников. Но ему приходилось особенно трудно. С парня фольксштурмовцы не спускали глаз. Подойдет охранник, разгребет срубленную им траву, придирчиво осмотрит, нет ли среди нее хороших растений. — Gut? — каждый раз спрашивал Саша. Немец кивал утвердительно. — Вот я и говорю, — продолжал парень, уверенный, что немец ничего не понимает. — Вот я и говорю: хорошо сработано, зер гут, чтобы тебя, собаку, черти съели… Боясь рассмеяться, мы отворачиваемся, пригибаемся к земле. Немец слушает, поддакивает по-своему: — Ja, seher gut, seher gut! Итог первого дня удовлетворил хозяев. Возвращались с поля в сумерках. Охранники разрешили идти вольным шагом, даже предложили спеть, но из этого ничего не вышло, — люди шагали молча. — Эх, товарищи, — нарушил тишину Саша. — Знаю я одну песенку, вот бы грянуть ее. Сразу прибавится силенок. Не обращая внимания на идущего впереди фольксштурмовца, Саша стал напевать:
Глава 13. Побег

Работа подходила к концу. Саша ожесточенно рубил все подряд, пыль клубилась из-под ног. Охранник сидел у дороги, зажав между ног винтовку. На нас не обращал никакого внимания, курил сигарету. Всей тройкой мы вышли на край поля. Немец разрешил нам присесть. Вдруг Саша жестами стал показывать ему, мол, наши сабо[5] остались на том конце поля. Надо пойти забрать. Охранник одобрительно махнул рукой. — Gehen Sie und kommt schnell zurück![6] Быстро подались мы в противоположный конец плантации. За лесом садилось солнце. Пели птицы. Заманчиво шумел лес. — Интересно, наблюдает он за нами? — любопытствовал Саша. — Не смей оглядываться! — приказал я ему. — Охранник может заподозрить. Идите спокойно, как ни в чем не бывало. Вот уже и конец поля. Тропинка на меже с полосой клевера. Сабо разбросаны в беспорядке. Оглядываюсь. Охранник не смотрит в нашу сторону. Вот бы сейчас крылья нам! — Бегом, ребята! — вырвалось у меня. Мы помчались по узкой стежке. Впереди Николай, за ним Саша, я замыкающий. Лес рядом, рукой подать, но добираться до него надо целую вечность. Я не чувствую под ногами земли, не вижу ничего вокруг, кроме черных Сашиных пяток, мелькающих впереди. Пять минут напряженного бега. Сердце, кажется вот-вот выпрыгнет из груди. Короткая передышка. Где-то там, за лесом раздались один за другим три выстрела. Это сигнал тревоги, но мы уверены, что охранник побоится бросить остальных пленных и бежать за нами. А пока прибудет ему подмога, пройдет немало времени. Ощущение свободы, смешанное с тревожным чувством опасности, придает нам силы. Мы бежим, что есть духу, бежим густыми зарослями, топкими сырыми низинами. Трещит под ногами валежник, больно хлещут по лицу ветки. Но какие это мелочи в сравнении с тем, что мы на воле, не видим ненавистных солдат и охранников со свастикой на рукавах. Ноги вынесли нас на поляну. Пасутся коровы. Девочка лет десяти помахивает хворостиной: — Ге, ге, ге! Заметила нас, сильно испугалась, спряталась в высокой траве. — Откуда эта фрау взялась! — чертыхнулся Саша. И опять бежим, выбиваясь из последних сил, спотыкаемся, падаем, раздираем в кровь тело. Выбравшись, наконец, на лесную дорогу, вдруг обнаружили: нет Саши. — Саша! Саша! — громко стал окликать Николай, но в ответ слышался только шум деревьев. — Эх, Сашок! — сокрушался Николай. — Как сквозь землю провалился. Было обидно. В пылу бега, плутая по лесу, потеряли парня. Ему одному не выбраться из этой проклятой страны, где все против нас. Двоим еще, может быть, но не одному! Сколько слышал я в лагерях историй о побегах одиночек. В подавляющем большинстве заканчивались они трагически. А пока нужно принимать решение. Скоро наступит рассвет, где-то надо пересидеть день, отдохнуть и ночью снова пробиваться на юг. Стоим на опушке леса, впереди — пшеничное поле, справа километрах в четырех от нас — село. В небо устремилась кирпичная труба. Вот уже далеко-далеко на востоке вынырнуло краешком солнце. Оно нас совсем не радует. Нам нужна ночь, темная, без луны, без звезд. Сколько мы прошли? В семь вечера убежали, а сейчас, приблизительно, пять утра. Часа три кружили на одном месте в поисках Саши. Значит, в пути находились не менее шести часов. В среднем три километра в час — выходит, прошли около двадцати километров. — Неплохой бросок! — удовлетворенно говорит Николай. — Еще несколько таких маршей и будем в Польше. Главное — проскочить Германию. Вид у нас плачевный… Одежда изорвана, ноги, руки, лица в запекшейся крови. Мокрыми от росы листьями обтираем царапины. На день решаем спрятаться в пшеничном поле и ждать следующей ночи. Ползем на четвереньках. Я оглядываюсь и прихожу в ужас: за нами остается ясная дорога, будто катком проехало. Возвращаюсь, пробую поднять стебли, но они кланяются нам вслед. Тогда мы возвращаемся на опушку, проходим метров двести до ложбины, сворачиваем вправо и углубляемся в середину поля. Идем межой, согнувшись и стараясь не топтать растений. — Здесь! — говорю я, падая навзничь. Нас скрывают хлеба. Приподнимаешься, — только верхушка кирпичной трубы видна вдали. Ориентир. Николай вмиг заснул от усталости. Я несколько минут сидел, перебирая в памяти события минувшей ночи. Всего одна ночь, но мне кажется, что это был год, полный кошмаров и ужасов. Потом все слилось в каком-то тумане. Разбудил меня Николай: — Товарищ майор, проснитесь! Открываю глаза. Над самой головой поют жаворонки. Где я и что со мной? Николай продолжает меня тормошить, но я все еще не могу прийти в себя. — Собаки лают! Прислушиваюсь. Да, лают овчарки. — Возможно, охотники! — Охотники за пленными, — с горечью бросает мой друг. Собачий лай все ближе, все ближе. Бежать? Но они сразу же обнаружат нас. Спустят собак. — Вот бы нам оружие! — говорит Николай. — Пусть попробовали б тогда взять меня живым. Я б им, гадам… Теперь не остается никакого сомнения: немцы идут по нашему следу. Через пять-десять минут, они будут здесь. Лежу на спине, безразлично уставившись в небо. Мне уже знакомы минуты, когда теряешь над собой власть. — Aufstehen![7] Прямо на меня наставлено дуло автомата. Собака рвется с поводка, я слышу ее учащенное, яростное дыхание. Подымаюсь. В голове проносится: «Черт с вами, изверги, делайте, что хотите». Незнакомый унтер с размаха бьет меня кулаком по лицу, кричит по-русски: — Где второй? Показывай, куда он ушел! Я не заметил исчезновения Николая. — Не знаю, — говорю разбитым в кровь ртом. Но снова наотмашь бьет меня унтер. Губы мгновенно одеревенели, глаза заплыли. Толчок прикладом в спину — и я бегу, подгоняемый ударами и овчаркой. Впереди маячит фигура Николая. Видимо, ему удалось отползти на порядочное расстояние, однако спасения это ему не принесло. Кроме двух солдат и унтера, нас сопровождает уполномоченный райха в имении — худой, высокий блондин. Он тоже участвовал в нашей поимке, рад благоприятному исходу операции. Он что-то говорит унтеру, заводит мотоцикл и на малой скорости едет краем поля. Мы следуем за ним. Руки наши подняты вверх, ладони сложены на затылке. Глядеть по сторонам нельзя. — Schnell! Schnell! — то и дело слышится за спиной. Ведут нас лесной дорогой, и я думаю о судьбе Саши. Удалось ли ему скрыться? Парень он смекалистый, ноги у него резвые. И тут я вспомнил грозный окрик унтера: «Где второй?». Значит, Сашу они сцапали раньше… Лес закончился, дальше идем полем. Я чувствую, что не выдержу, — руки затекли, перед глазами мелькают красные круги. Долго ли еще смогу держать поднятыми руки? Может тут и придется сквитаться с жизнью. Немецкая пунктуальность мне хорошо известна: нарушил приказ — без предупреждения пуля в спину. Пока я размышлял, шлепая босыми ногами по горячим камням, мы вошли в «наше» село Мариниендорф. Женщины, старики и старухи высыпали на улицу. Ни одного дружелюбного или сочувственного взгляда. Мальчишки горланят, плюют нам вслед. Меня охватывает и облегчение, и горькая обида. Облегчение, потому что мы выдержали дорожную пытку. Обида, потому что мы обманулись. Думали на двадцать километров удалились, а оказалось — всего на пять, семь от силы. Очевидно, всю ночь искали Сашу, кружась на одном месте. Часовой открыл ворота в лагерь. Во дворе — ни души. В связи с побегом трех пленников работы были отложены. Все тридцать семь человек, включая и переводчика Жору, сидели под замком. Фельдфебель бросился навстречу: — Ferflüchter bolschevik![8] — И вновь на меня посыпались удары. Нас втолкнули в казарму. Товарищи подхватили на руки окровавленного Николая, дали мне пить. Окрик фельдфебеля заставил людей встать смирно. Вместе с ним вошли два солдата и уполномоченный райха. Пленных выстроили вдоль нар, и фельдфебель стал произносить длинную речь о том, как в Германии наказывают таких, как мы с Николаем. Жора вынужден переводить. Оказывается, нас могут повесить, расстрелять, надолго посадить в камеру-одиночку, сослать на каторжные работы. В случае, если мы раскаиваемся, наказание смягчается. Например, казнь через повешение может быть заменена расстрелом. Главная же мысль фельдфебеля — это то, что побег является глупостью, ибо беглецов все равно поймают. По мере того, как фельдфебель входил в азарт, лицо его багровело, уши становились малиновыми, глаза округлялись. Он так кричал, что дребезжали окна. Исчерпав весь запас красноречия, он пошел на меня: — Bolschevik? Я безразлично глядел в его холеное, налитое кровью лицо. — Komissar? Не добившись от меня ни слова, фельдфебель перешел к Николаю. — Bolschevik? Переминаясь с ноги на ногу, Николай произнес: — Все мы большевики! Почувствовав в его словах дерзость, фельдфебель выхватил у солдата плоский штык и плашмя стал бить свою жертву по голове. Николай повалился на пол. Потом опять ринулся ко мне. Больше всего я опасался ударов по голове. Что это такое, мне хорошо известно. Этот палач может рассечь череп — тогда конец. Нелепо, бессмысленно умереть вот здесь от рук паршивого фельдфебеля. Он избивал меня зло и яростно, до исступления. Руками я прикрыл голову, но от ударов не уклонялся. Удары приходились по плечам, спине. Только один раз саданул он меня в ухо. Я зашатался, в глазах потемнело, но выстоял, не свалился. В голове одна мысль: не проявить слабости перед товарищами. Наконец, фельдфебель устал, что-то крикнув еще напоследок, он вышел из комнаты. За ним последовали остальные немцы. Товарищи бросились к нам, уложили на нары, стали накладывать на места ушибов холодные компрессы. Ночь прошла в сплошных кошмарах. Я несколько раз впадал в забытье, а когда приходил в себя, слышал тяжкие стоны Николая. Пять дней спустя случилось новое происшествие: бежали два лейтенанта. Этим еще больше не повезло. Их накрыли спустя три часа. В казарму ввели избитых до полусмерти, оборванных. Они не в состоянии были раскрыть рта. Мы кое-как привели ребят в чувство. Но состояние обоих тяжелое. У одного прострелена нога в колене, второму отбили внутренности, у него горлом шла кровь. Пришел Жора. Бледный, руки дрожат. — Что еще стряслось? — спрашиваю его. Он вытирает ладонью лоб, покрытый испариной. — Плохо, товарищ майор. Саша… — Говори, — тормошу его. — Где он? — Убили. В лесу. Залез на дерево и отказался сдаться. Автоматной очередью… Жора говорил со слов фельдфебеля. Можно было и верить этому и не верить. Все мы глубоко скорбели о друге, однако в глубине души надеялись, что он остался жив, ибо, как правило, трупы убитых привозили на обозрение.
Глава 14. Зондерфюрер

Фельдфебель поклялся перед начальством Штаргардтского лагеря отучить нас от недопустимой привычки убегать из рабочей команды. Первым делом он приказал послать меня, как зачинщика и подстрекателя, на тяжелые земляные работы, куда направляли пленных за всевозможные «проступки». Я наотрез отказался выполнить его приказание. Фельдфебель побелел. В уголках его тонких губ выступила пена. Вряд ли он ожидал такой дерзости. Но бить на этот раз не стал. Зато на следующий день я был отправлен обратно в Штаргардтский лагерь. На баланду, как говорили пленные. Николай, прощаясь, всплакнул. Состояние его было очень тяжелым. Изверг-фельдфебель нанес ему несколько серьезных увечий, проломил штыком череп. Мы понимали — видимся в последний раз. С Жорой обмолвиться на прощанье словечком не довелось. Старые приятели радостно приветствовали мое возвращение в Штаргардт. Радоваться было чему: под Курском и Белгородом идут ожесточенные бои. Лагерное начальство нервничает, а это значит, что наша берет. В Мариниендорфе до нас эти новости не доходили, немцы запретили нам общаться с местным населением, с пленными французами и поляками, работавшими по соседству с нами в поле. Из старых товарищей многих не оказалось на месте. Одних направили на работы в глубь Германии, другие вообще неизвестно куда исчезли. Сотни умерли от голода и болезней. Сразу за внешней оградой лагеря, буквально в двадцати метрах от бараков, было кладбище. Советских хоронили в общих могилах. Вырывали глубокую траншею, трупы укладывали штабелями и присыпали известью. Потом укладывали второй штабель, третий, а сверху снова присыпали известью и заваливали землей. — Глянь за проволоку и увидишь, где сейчас наши, — показал мне в окно знакомый подполковник, лежавший на верхних нарах. На работы его не брали по состоянию здоровья, и теперь он ждал своей участи, медленно угасая от голода. В тот же день меня повели в комендатуру. Перелистав мое пухлое «дело», обер-лейтенант заявил: — Еще раз попробуешь бежать — повесим. Из всех встреч с лагерным начальством это была самая скоротечная. Мне известно: немцы не бросают слов на ветер. Что же делать? Прежде всего, обрести способность нормально мыслить, принять человеческий облик. После фельдфебельского штыка я немного разуверился в своей выносливости. Иногда кажется, вот-вот оборвется что-то внутри, упаду и больше не встану. Иногда наступают минуты, когда все становится безразличным. Соскабливаю щетину тупой бритвой. Слышу над ухом приятный мягкий баритон. Оглядываюсь, и все мои болячки на миг как рукой сняло. Передо мною стоит дядя Степа. На плече пила, в руке стамеска и молоток. Почесал затылок, подсел рядышком. — Жив? — Как видите! Он оглянулся, по-крестьянски вытер шапкой лоб. Оказывается, дядя Степа уже знал о нашем неудачном побеге и его последствиях. — Иного исхода и нельзя было ожидать, — сказал он. — Пойти на такой риск без подготовки, все равно, что добровольно прыгнуть в могилу. Но ваш побег всколыхнул народ и это уже плюс. — Вы верите в гибель Саши? — поинтересовался я. — Вообще одиночке вырваться из Германии, да еще разутому и раздетому, дело трудноватое. Но пока я не увижу этого парня живого или мертвого, буду верить в его звезду. Сашка из тех, кто на карачках будет ползти, а доберется до своих. Потом дядя Степа изложил обстановку. Перед началом боев на Курской дуге в лагере проводились приготовления к приему новых транспортов с пленными. Однако таковых не оказалось. В связи с этим власовские вербовщики, чуя для себя недоброе, еще более усилили обработку молодежи, тянут ее в свои банды. — Мы, — дядя Степа подчеркнул это слово и многозначительно посмотрел на меня, — мы тоже должны усилить свою работу. Есть тут одна группка завербованных, их опекает зондерфюрер лагеря, писаный красавец. Трудно разобрать, кто он — немец, русский или из восточных, но выдает себя за кавказца. Так ты постарайся встретиться с кем-нибудь из этих ребят. Я уверен, — все они наши, ничего у них враждебного к Советской власти нет. Просто желторотые хлопцы, бесхарактерные. Морили их голодом, припугнули, вот они и не устояли. Кое-кто у дяди Степы уже был на примете, например, один лейтенант-пехотинец, живший в соседнем бараке. Я тоже знал его в лицо. По имевшимся данным, зондерфюрер очень долго убеждал лейтенанта записаться добровольцем в РОА, пока тот, наконец, дал согласие. Но, очевидно, на душе у парня скребут кошки, бродит он по лагерю чернее тучи. На следующий день утром, возвращаясь из санитарной части, я столкнулся с лейтенантом возле барака. — Привет матушке-пехоте, — сказал я. — Как живем-можем? Лейтенант доверчиво улыбнулся. Представился: — Семен. — Куда это вас, Сеня, водят так часто? — На прогулки, в кино. Знакомят с прелестями европейской жизни. — И как, нравится? — Да ну их! — он сочно выругался. — Типичная пропаганда. А как на деле, разве кто из нас знает? — Почему же ты записался в «роашники»? Семен ничего не скрывал, видно, порядком накипело у него, и он был рад случаю излить свое горе: — Не по своей воле, принудили. Не один я такой. Ребята промеж себя говорят: пусть дадут нам оружие, а там еще посмотрим, в какую сторону оно стрелять начнет… По всему видно было, что лейтенанта угнетала кличка «власовец». Он стал расспрашивать о положении на фронтах. Услышав о провале немецкого летнего наступления, обрадовался, а потом вдруг помрачнел. — Понимаешь, немцы катятся на запад, — говорил я ему. — Не в этом, так в будущем году вся наша страна будет освобождена. А там придет конец и нашим мукам. Представь себе, Сеня, твои братья идут освобождать тебя, а ты встречаешь их автоматным огнем… Парень ушел расстроенный, но я знал, разговор не прошел впустую. Он, наверняка, расскажет остальным «добровольцам» о положении на фронтах, и многие, как и он, задумаются, служить ли им в армии предателя Власова. С того дня Семен регулярно информировал меня о настроении завербованных. Однажды он пришел ко мне и передал совершенно необычную новость: зондерфюрер приглашает майора Пирогова зайти к нему. Зондерфюрер, невысокий красивый брюнет с вьющимися волосами и приятной улыбкой, сам подошел ко мне в тот же день на плацу и, говоря по-русски без малейшего акцента, изложил суть дела. Завтра в девять утра он ведет своих ребят в лес на прогулку. — Не хотите ли пойти с нами? — предельно учтиво спросил он. Положение мое было довольно щекотливое. Отказаться напрямик — нет веских причин, а согласиться — можно навлечь на себя подозрение товарищей. Они не без основания будут ломать голову над тем, с какой это стати завел я дружбу с власовским последышем. Взвесив все «за» и «против», я ответил: — Самочувствие мое неважное, поэтому не могу точно обещать. Вид у меня действительно был прескверный. Зондерфюрер посочувствовал, но советовал не отказываться от прогулки, это ведь лучше, чем работать во внутрилагерной команде. Уходя, он загадочно подмигнул мне, давая понять, что у нас могут оказаться некие общие точки соприкосновения. Когда я рассказал дяде Степе об этом эпизоде, он не сразу нашелся. — Ну и загадка, — говорил он, сворачивая козью ножку. Мы стали вдвоем размышлять, зачем может понадобиться зондерфюреру пленный офицер, который совершил побег и демонстративно отказался работать для райха. — Конечно, — после некоторого раздумья заметил дядя Степа, — он не собирается тебя агитировать в армию Власова, слишком неподходящая кандидатура. Тут какая-то другая собака зарыта. Иди, Андрей, только будь осторожен. Этот зондерфюрер, по моим наблюдениям, личность странная. Возможно, тебе удастся раскусить его. Во всяком случае, стоит попытаться. К девяти утра я уже был у ворот. Здесь собирались будущие власовцы. Их не более тридцати, в том числе Семен. Увидев меня, он развел руками, давая понять, что затея с «добровольцами» ломаного гроша не стоит. Явился зондерфюрер. Команда построилась, часовой открыл ворота. Солдаты, стоявшие у проходной будки, даже не спросили, кто я и зачем следую вместе с командой. В лесу зондерфюрер разрешил завербованным разойтись, а мне предложил устраиваться на зеленом пригорке. Сам тоже сел рядом, расстегнул поясной ремень с кобурой и небрежно бросил его в траву. Угостил сигаретой. «Что ему нужно от меня?» — терялся я в догадках, поглядывая на кобуру, лежавшую у меня под правой рукой. Глубоко затянувшись, зондерфюрер заговорил: — Майор, ответьте мне начистоту: как по-вашему, в чью пользу закончится война? Я уклонился от прямого ответа, заявив, что, если кого интересует исход войны, то лучше всего обратиться к историческим фактам. — Иначе говоря, — подхватил он, — Германия проиграла. Представьте, и я так думаю: победит Советский Союз. Зондерфюрер взволнованно схватил меня за руку и, сверля темными глазами, сказал: — Майор, я знаю, вы обо мне плохо думаете. Вы полагаете, что я фашист, немец. А я совсем не тот, за кого вы меня принимаете. Совсем не тот! Дайте слово, что никому не скажете о нашем разговоре. Я вам все объясню. Теперь и в моих глазах зондерфюрер становился загадочной личностью. — То, что я вам сообщу, — начал он снова, — большой секрет. Я вовсе не немец, вы, наверное, заметили сами, хотя немецким языком владею в совершенстве. Отец мой был наркомом… — Он назвал одну из наших союзных республик, ее столицу, улицу и даже номер дома, где жил. — Мать — певица, заслуженная артистка. В тридцать седьмом году отца арестовали. Вскоре забрали и мать. Меня исключили из комсомола, потом из института. Я писал жалобы. Тогда меня мобилизовали и, определив рядовым в строительный батальон, отправили строить дорогу в Западной Белоруссии. Мы работали недалеко от границы. 22 июня немцы внезапно заняли нашу местность. Большинство строителей ушло на восток. А я подумал: жизнь моя пошла кувырком, впереди никакого просвета. И перебежал к немцам. Добровольно! — Должен сказать, что, выслушав мою биографию, немцы встретили меня хорошо, — продолжал он. — Я прошел у них военную подготовку. Сражался в Африке, в корпусе генерала Роммеля, был ранен, имею награды — вот гляньте! В Африке мне было спокойно, но когда меня послали в антипартизанские части в Белоруссию, я лишился покоя. Как, думал, стрелять в своих? Будучи переводчиком, я пользовался неограниченным доверием и спас там много советских людей. Он сделал паузу, желая убедиться, производит ли его рассказ должное впечатление. — Все это не лишено интереса, — заметил я. — Для кого интерес, а для меня — трагедия. Скажите, что мне теперь делать? Сын врага народа, изменник… Меня тяготит мое положение, я не нахожу решительно никакого выхода. Родина не простит мне моих грехов, я это знаю. И в то же время я не могу больше оставаться у немцев. — Родина великодушна к тем, кто честно признает свои заблуждения, — сказал я. Круглые черные глаза его повлажнели. — Это верно, мне могут простить, я в Белоруссии спас много партизан. Но мне хочется сделать еще больше: организовать побег группы офицеров из Штаргардта. Понимаете, если я приведу из плена группу офицеров, мне тогда наверняка простят. У вас найдутся товарищи, которые присоединятся к нам? Я неопределенно сдвинул плечами. Зондерфюрер между тем излагал план побега. Главное — подобрать надежных людей. Он сам разработает маршрут, обеспечит карту, компас, оружие, продовольствие. Он говорил со мной целый час, а я курил и думал: конечно, хочется верить этому человеку, заблудившемуся и теперь ищущему пути для искупления тяжелой вины. Но что если все это чистейшая провокация? Провокаторы рядятся в любые одежды, напяливают на себя любые маски. Имею ли я право впутывать кого-нибудь в это подозрительное дело? Вечером я подробно рассказал дяде Степе о разговоре с зондерфюрером. — Говоришь, предлагает организовать группу? — потирал он свой сократовский лоб. — И фамилии требовал? — Пока только намекал. — Уверен, что это ловушка. Встретишься с ним снова, так и скажи: никого не знаю, мне не доверяют. Дядя Степа весь как-то съежился, даже стал меньше ростом. Пожимая мне руку, напутствовал: — Будь осторожен. Понимаешь, куда он гнет? Дня через три зондерфюрер появился в нашем бараке. Прошелся между нар, отыскал меня глазами и дал знак следовать за ним. — Запишитесь на завтра в санчасть, — сказал он на ходу и направился к выходу. В санчасти собралось множество больных. Сидя в сторонке, я вдруг увидел зондерфюрера. Он подошел ко мне и громко спросил: — Вы на перевязку? — Да, у меня раны. — А остальное у вас в порядке? Намек был ясным. Речь шла о готовности к побегу. Я ответил утвердительно. Более недели зондерфюрер меня не беспокоил. Но вот он снова вызвал меня из казармы и повел на французскую половину. Часовой молчаливо открыл калитку. В здании комендатуры мы поднялись на второй этаж в большую светлую комнату, в которой жил зондерфюрер. Налево от двери — рабочий стол, в углу — застланная зеленым одеялом кровать. Половину стены занимала карта Европы. Мы присели к столу. Он предложил мне закурить. Предчувствие у меня недоброе. Вижу — зондерфюрер тоже нервничает. Щелкает зажигалкой, сует ее в дымящую сигарету. — Все уже подготовлено, майор, — сообщил он мне. — Завтра в шесть утра я веду группу офицеров на полевые работы. Сбор возле вашего барака. Давайте людей. Следуя совету дяди Степы, я сказал, что желающих совершить побег мне подобрать не удалось. — То есть, почему? — разочарованно скривил он лицо. — Я должен представить список коменданту, чтобы вас выпустили. Мне, конечно, доверяют, можно было бы и без списка, но сами понимаете, навлекать на себя подозрение в сочувствии советским военнопленным я не могу. Что же нам делать? — Не знаю. — Но в чем загвоздка, объясните? — Людей, которых я знал, в лагере почти не осталось. Одних увезли, другие умерли. А новички мне не доверяют. Да и не идут они на такой риск, боятся. Он помолчал с минуту, нервно барабаня пальцем по полированному столу. — В таком случае все рухнуло, провалилось. Неужели у вас нет десятка надежных товарищей? — Ни одного. — Вы поймите, в какое положение я поставлен, — сокрушался зондерфюрер. — Сам я хоть сегодня убегу, но что толку? Что мне скажут дома? — А почему бы вам не увести с собой ребят, завербованных в РОА? — поинтересовался я. — Тоже ведь бывшие советские офицеры. Зондерфюрер недовольно махнул рукой: — Эта совсем не та публика. Малонадежные. В трудную минуту могут струсить. А у вас, значит, ни одного верного человека нет на примете? — Ни одного, — снова повторил я. — Послушайте, майор, вы знакомы с плотником из рабочей команды? Кажется, его зовут дядей Степой. Мне пришлось притвориться: — Кудлатый такой, немного ненормальный! — Почему ненормальный, напротив, человек он в здравом уме. Будь он психический, его давно бы отправили к праотцам. Так вот, потолкуйте с ним, подберите вдвоем надежных людей. Повторяю, я не могу останавливаться на полдороги. Хотите убедиться, что я серьезно готовился? Он вытащил из-под стола небольшой баул, щелкнул замком и дал мне взглянуть. На дне лежали несколько пистолетов, компас, плитки шоколада. Баул был поспешно спрятан. Зондерфюрер возобновил свои требования. — А если и с дядей Степой у меня ничего не получится, — поинтересовался я, — что тогда? — Тогда, майор, двинем с вами вдвоем. Идет? Множество мыслей сразу зароилось у меня в голове. А что, если наши подозрения напрасны и он действительно искренне хочет искупить свою вину перед Родиной. Собой-то я имею право рисковать. Эх, была — не была! Отвечаю: — Идет! Наступила томительная пауза. — А кто останется вместо вас? — неожиданно спросил зондерфюрер. Меня словно током ударило. Провокация! Как можно спокойнее ответил: — Все останутся. Мы ведь бежим только двое. Замысел зондерфюрера явно проваливался, и он повысил голос: — Меня интересует, кто будет вести работу после нашего ухода? Я прикинулся простаком: — Не понимаю, о какой работе вы говорите. В это время, как в плохом детективном романе, распахнулась дверь и в комнату ворвались немец-переводчик с пистолетом наготове и офицер, который вел мое «дело» после первого побега. — Hende hoch![9] — скомандовал офицер. Зондерфюрер застыл на месте. Я не спеша примял в пепельнице сигарету и, подняв руки, направился к двери.
Глава 15. Карцер

Офицер приказал мне раздеться. Сбрасываю с себя верхнюю одежду, деревянные колодки. — Все снимай, говорят тебе! — горланит переводчик, а солдат выбрасывает за порог мои тряпки. — Ложись! Мною вдруг овладевает равнодушие. Наверное, будут обливать холодной водой. Не все ли равно?! А может быть,прикончат и пикнуть не дадут. Карцер для того и предназначен. Отсюда ни единый звук не вылетит наружу. Облака, птицы, товарищи — все это где-то там, наверху. Здесь — могила. В единственное окошко-щелку пробивается крошечный солнечный луч. Мне хочется так лечь, чтобы он падал на лицо. — Фреди! — голос офицера гулко разносится по коридору. — Фреди! Покажи, как надо ложиться. Я не успеваю лечь, как ударом сапога Фреди сбивает меня с ног, и я валюсь животом на цемент. — Встать! — орет эсэсовец. Я не могу даже приподняться, кажется, ноги отбиты по колени и болтаются на одних сухожилиях. И снова раздается грозный окрик: — Покажи ему, Фреди! В моих глазах снова мелькнул носок сапога, огромный, похожий на свирепую бульдожью морду. Он приближался ко мне со страшной скоростью, и я сжался в комок, зажмурился. Со второго удара я потерял сознание. Продолжал ли Фреди свою работу, кричал ли на него офицер, требуя проучить меня, не знаю. Очнувшись, я увидел солнечный луч под самым потолком. Тело невыносимо ныло, зубы выстукивали дробь, в ушах звенело. Возле себя я нащупал что-то мягкое. Это моя одежда. С огромными муками напяливаю на себя белье, гимнастерку, всовываю ноги в деревянные колодки. Тело закоченело и, чтобы хоть немного согреться, я с трудом поднимаюсь и начинаю шагать из угла в угол. Время считаю по стуку колодок: пять ударов туда, пять — обратно… Так, пока солнечный луч не исчез совсем. Мысли работают удивительно четко. Все получилось правильно. Теперь, узнав о моем аресте, дядя Степа поймет, кто такой этот «сын наркома», и примет меры предосторожности, товарищи еще глубже уйдут в подполье. Мне отсюда вряд ли удастся выкарабкаться. Вот бы только повидать краешком глаза дядю Степу, махнуть ему на прощанье рукой. На второй день меня повели к следователю на допрос. Фреди толкал меня в спину, как тяжело груженую тележку. Длинные, гулкие коридоры, узкие подземные проходы. Вверх-вниз, вверх-вниз. Крайняя дверь слева обита черным дерматином. Следователь сидел за широким письменным столом, перед ним — недопитый стакан чаю, пачка сигарет. Вид эсэсовца вполне интеллигентный. Очки в золотой оправе. Темные волосы зачесаны на пробор. Заложив назад руки, я остановился в отдалении. — Майор Пирогоф, — коверкая русское произношение, обратился ко мне офицер. — Вы совершили тяжкое преступление, бежали из рабочего лагеря вместе с двумя сообщниками, но были возвращены нашей бдительной охраной. Вас надо было расстрелять. Но немцы — гуманная нация. Мы отнеслись к вам великодушно, надеясь, что в дальнейшем вы исправитесь. Теперь вы снова пытались бежать. Вас приговорят к смертной казни через повешение. Это очень плохо. Он говорил тихим вкрадчивым голосом и чем-то напомнил мне старого учителя, который когда-то в Херсоне читал нам закон божий. — Но вы, майор, можете облегчить собственную участь, — продолжал следователь, — у вас есть такая возможность. Надо надеяться, вы не упустите случая воспользоваться ею. Я стоял молча, уставившись в позолоченные очки вежливого немца. — Да, можете облегчить свою участь. От вас требуется немного: назовите имена участников подпольной организации. Ну? Я понял: одним молчанием на этот раз отделаться не удастся. А что, если сражаться с врагом его же оружием? Что ж, попробую. — Вы можете мне не поверить, — ответил я, — но мне абсолютно не известно ни о какой подпольной организации. В лагерь я возвращен недавно и почти никого не знаю. Все, кого знал раньше, исчезли. Господин зондерфюрер предложил мне бежать с ним… — И вы дали ему свое согласие? — тотчас перебил меня следователь. — На словах я согласился, но в действительности намеревался немедленно сообщить о преступном замысле зондерфюрера господину коменданту лагеря. Сами поймите, вторично я не мог рисковать своей жизнью… Лицо у следователя вытянулось. Он явно не ожидал такого оборота дела. Снял золотые очки, стал протирать их платком. Наконец, сообщил: — Зондерфюрер арестован. Он тоже будет судим. Но вы все-таки постарайтесь вспомнить, кто состоит в подпольной организации? Я молчал. Следователь повторил свой вопрос несколько раз. — Что ж, не буду настаивать, — заявил он. — Но скажу откровенно: вы мне не нравитесь. Из маленьких шансов вы не выбрали ни одного. Напрасно. Советую подумать. Он нажал кнопку, вошел солдат, но не Фреди, а другой, и увел меня в карцер. Было часов семь вечера, измотанное тело просило отдыха. Я присел в угол и там продремал до утра. Шум за дверью заставил меня открыть глаза. По коридору что-то волокли, ясно слышалась французская речь. Щелкнул замок, и я увидел сначала голый затылок, а затем и лицо француза из пленных, обслуживавшего камеры-одиночки. Он втащил деревянный топчан на низких ножках, нарочито возился, кряхтел. Повернувшись спиной к часовому, улыбнулся мне большими желтыми зубами. С трудом до меня дошло: — Камарад… Потом он принес мне шинель, выцветшую, потертую, без единой пуговицы, нельзя было даже установить ее национальную принадлежность. Положил на топчан, отступил на шаг, дружески кивнул. Эту ночь меня не тревожили, но на следующий день за мной снова явился Фреди в своих огромных сапогах. Следователь начал разговор с того, чем закончил в предыдущий раз. — Вспомнили? — Мне нечего вспоминать. Я никого не знаю. — Скажите, майор, если я сам назову членов подпольной организации Штаргардта, вы будете по-прежнему отрицать? Услышав это, я невольно вздрогнул. Неужели немцы что-то действительно пронюхали? Вдруг сейчас откроется дверь и введут дядю Степу… Чувствую, что не сумею в этом случае быть безучастным. Но покамест надо стоять на своем. Повторяю: — О подпольной организации лагеря мне ничего не известно. Мое упорство было достойно вознаграждено: меня снова водворили в карцер. В течение многих дней длилось затишье. Я лежал на полу. Топчан вносили раз в три дня — в «хорошую ночь», которая полагалась узнику карцера в зависимости от степени его «преступления». Чем тяжелее считалось преступление, тем чаще заключенному приходилось спать на цементном полу. Я лежал и думал о дяде Степе. Конечно, все нити подполья ведут к нему. Немцы чувствуют, что в лагере есть организация и пытаются напасть на одну из этих нитей. Но по ходу допроса ясно, что ничего определенно они не знают, догадываются, но не знают. И все же тревога за судьбу товарищей ни на минуту не оставляет меня. 26 августа 1943 года в карцер вошел мой старый знакомый — француз. Вывел в коридор, где на оконном выступе лежали безопасная бритва и другие бритвенные принадлежности. Под наблюдением часового я тут же соскоблил бороду месячной давности. Француз, не торопясь, убрал после меня. Он не переставал улыбаться, повторяя свое «камарад». Рядом, прислонившись к стене, стояли два солдата, одетые по-походному. Когда я закончил бриться, один из конвойных жестом приказал мне взять шинель и выходить. Видно, путь предстоял далекий. Мы прошли русской частью лагеря. За густыми рядами проволоки группами и в одиночку, как тени, бродили люди. Завидев меня, они принялись махать фуражками: — Прощай, Андрей! В свою очередь, я судорожно вглядывался в их лица, отыскивая дядю Степу, смотрел по сторонам, однако его не было видно. Когда поравнялись с бараком, в котором я жил, в дверях показалась знакомая фигура. Расстояние между нами сокращалось. Человек, стоявший у порога, заметил меня и отвернулся. Я крикнул изо всех сил: — Господин зондерфюрер, роль «сына наркома» у вас не получается, топорно играете!.. Конвойный ударил меня в спину прикладом, я с трудом удержался, чтобы не распластаться. Миновали главные ворота. Знакомая мостовая главной улицы Штаргардта. Обычная вокзальная суета. Подошел поезд, и вот мы уже едем на запад, вдогонку заходящему солнцу. Переговариваясь, охранники несколько раз упомянули Штеттин. Мое знакомство с заключенными штеттинской тюрьмы началось необычно. Перед отправкой в камеру положено пройти дезинфекцию. В ожидании своей очереди я разговорился с седым человеком в полосатом халате. Он спросил, не знал ли я в Штаргардтском лагере плотника из рабочей команды. — Слыхал, — говорю, — про такого, колхозник из Ленинградской области. Больше ничего о нем не знаю. — Ошибаетесь. Я сам поначалу думал, что он колхозник, — возразил седой. — А на самом деле — дивизионный комиссар, опытный политработник. Если останемся живы, поеду хоть на край света, чтобы пожать руку этому мужественному человеку.
Глава 16. Штеттинская тюрьма

Прямо на полу сидят и лежат в самых невообразимых позах человек пятнадцать. Кто они? Русских тут, кажется, нет. Вон тот, что уткнулся лысиной в стену, одет в странную форму. Брюки от штатского костюма, а френч военный, даже вшитые погоны сохранились. Разве определишь по такому одеянию, кто этот человек. Рядом — толстяк-коротышка в военной гимнастерке неопределенного цвета. Поворачиваю голову, и на душе теплеет. Вижу медные пуговицы со звездочками. Значит, свой, советский. — Где мы находимся? — У тещи. Скоро блины будут подавать, — говорит человек с медными пуговицами, подбирая ноги. — Садись, отдыхай. Люди разговаривают неохотно, вид у всех измученный, в глазах застыл не то страх, не то испуг. Моему соседу лет тридцать, у него круглое лицо, белесые брови, голубые глаза. Настоящий русак. — Как зовут тебя? — обращаюсь к нему. — Зови просто: Иван. В это время раскрылась дверь, и солдат в форме эсэсовца вызвал арестанта в штатских брюках. Тот медленно поднялся и вышел. В камере после этого воцарилось напряженное молчание. — Откуда ты? — спрашиваю Ивана. Он пристально посмотрел на меня, потом обвел всех в камере взглядом и ничего не ответил. То ли не хотел говорить, то ли побаивался. Мне удается выяснить, что нахожусь в камере предварительного следствия. Среди товарищей восемь русских, два чеха, три поляка, немец и голландец. И каждый из них опасливо ждет вызова солдата СС. Отныне я перешел из рук вермахта в распоряжение службы «безопасности». Снова открылась дверь, и картина окончательно прояснилась. Перед нами стоял эсэсовец. Он втолкнул в камеру того самого, высокого в штатских брюках. Потом, заглянув в список, вызвал следующего. То был поляк, бежавший из какого-то лагеря и застигнутый немцами в квартире своего приятеля в момент переодевания. С допроса он возвратился минут через сорок. Встал на пороге, окинул комнату залитыми кровью глазами, грохнулся на пол. Мы подхватили его, отнесли в угол, уложили, но он потребовал, чтобы помогли ему сесть. Видно его люто избивали: нос был расквашен, розовая лысина стала синей. Он не мог вымолвить слова, только всхлипывал, покачивая большой конусообразной головой. — Да, серьезный был у него разговор, — бросил реплику коротышка. Коротышка — чех, сапожник по профессии, попал сюда за связь с партизанами. Шил для них обувь. Непонятно, каким чудом оказалась на нем военная гимнастерка. Сам он, по его словам, никогда за свои сорок лет жизни даже из пугача не стрелял. Пока мы занимались поляком, с допроса возвратился очередной — наш русский офицер, лет тридцати трех или около этого. Этот вошел в комнату необычно, не лицом вперед, а как-то боком, закидывая правую ногу, будто ее перебили во многих местах. — Что, брат, — участливо обратился к нему чех и, подав руку, стал усаживать на свое место. Парень закрыл глаза, уронил голову на грудь. В это время заговорил сидевший рядом со мной поляк. Он ударял в грудь кулаком, повторяя: — Ка́ты, ка́ты! — и совсем неожиданно стал плакать. Иван угрюмо наблюдал за всем этим. Мне показалось, что и он ждет вызова. Но его не трогали. Ушел второй поляк, за ним — русский, потом — чех-сапожник. Возвращались избитые, едва держась на ногах. Мы уступали им места, как могли, старались облегчить боль. Пошли еще трое. Иван молчал. Наконец, гестаповец показал на него. Иван встал, и я, к удивлению, увидел очень рослого человека. Прежде он казался мне невысоким. — Иду, товарищи, — сказал он басом и шагнул через избитые тела, будто Микула Селянинович, отправлявшийся на поединок. Когда стихли его шаги, кто-то обронил: — Пропал, парень… Ждал я его с нетерпением, но так и не дождался. Вызвали меня. Встал, иду, а ноги, как ватные, совсем не ступают. Плетусь за солдатом по длинному коридору. Множество дверей по обеим сторонам. Наконец, мой конвоир останавливается возле одной, обитой клеенкой. Кое-как беру себя в руки, вхожу в комнату. Допрос ведет эсэсовец лет тридцати пяти. У него редкие светлые волосы, зализанные назад, узкий срезанный подбородок. Рядом, как обычно, переводчик. За отдельным столиком сидит полный маленький человек, печатает на машинке. Допрос начался по известному образцу: фамилия, имя, звание, возраст. Не ожидая перевода, отвечал механически. Но когда последовали более сложные предложения, я вопрошающе взглянул на переводчика. — Ты почему замолчал? — возмущенно рявкнул эсэсовец. — Не знаю немецкого языка. — Врешь, скотина! Только что знал и уже забыл! Я попытался объяснить, что к простым вопросам привык за время пребывания в плену. Мой спокойный тон вывел эсэсовца из себя. Он вышел из-за стола. В руках — каучуковая дубинка. Взмах — и я повалился на ковер, но тотчас вскочил. Из личного опыта знаю: не встанешь моментально, будет хуже. — Ты бежал из рабочего лагеря? — допытывался переводчик. Вопрос совершенно излишний. В сопровождавшем меня деле ясно говорилось: бежал. Мне ничего не оставалось, как ответить утвердительно. И в то же мгновение резиновая палка снова обрушилась мне на голову. Офицер целился ударить по лицу, но я удачно защищался рукой. Тогда на помощь ему подоспел переводчик. Вдвоем они стали дубасить меня в самые неожиданные места. Я снова упал на пол. — Встань! — заорал переводчик. Во рту у меня солоно, язык превратился в мочалку, очевидно, я прикусил его, в ушах звенит, левый глаз затек, ничего им не вижу. Вызванный из коридора солдат помог мне подняться, предварительно дав пинка под ребра, затем тюремными лабиринтами повел в камеру. Часу в девятом вечера всех нас, избитых и обессиленных, вывели из камеры и втолкнули в большую освещенную комнату. Окна зашторены черной тканью. Посреди комнаты за огромным столом восседал человек в незнакомой нам форме. Он быстро и аккуратно заполнил на каждого формуляры, после чего тюремщики стали разводить нас по камерам. Итак, новоприбывшие узники предварительно допрошены и рассортированы. Я оказываюсь в коридоре, таком узком, что двое встречных с трудом могут разойтись. С обеих сторон — двери, в каждой — черный глазок. Тюремщик огромным ключом открывает одну из них, и я переступаю порог. Кромешная тьма. Пахну́ло сыростью. Настоящая могила. Однако чувствую — тут люди. — Есть кто-нибудь? В ответ: — Чекай, ходзь ту…[10] Я ткнулся коленками в скамью, чья-то рука поймала мою руку. В камере сидят трое: два поляка и подросток лет шестнадцати, украинец из Закарпатья. Он устраивается возле меня. Нежный, почти детский голос щебечет мне в ухо. — Як же ти, друже, потрапив сюди? — спрашиваю его по-украински. — Працював у робочому таборi та робота була дуже важка. Я раптом зламав iнструмент, перелякався i втiк. Нiмцi спiймали, привезли до Штеттiна. А тут мордують, ой, як мордують!.. Усталость одолевает меня. На скамье с трудом помещаются трое. Парнишка ложится на пол, на свою меховую телогрейку. Слышу, как он чмокает во сне губами, зовет кого-то по имени. Поляки быстро уснули, прислонившись спиной к холодной стене. Мне поначалу не спится. Голодно, ноет избитое тело. Шаги часового в коридоре то усиливаются, то затихают. Глаза невольно слипаются. Снятся мне невероятные кошмары: все время бегу от немцев, но не по дороге, а по каким-то ухабам, топям, рвам. Взбираюсь на скалы, скачу по крышам домов, теряю под ногами почву и валюсь в бездну. Боль заставляет очнуться. — Achtung! Achtung![11] — слышу команду. Мы вскакиваем, как ошпаренные, сон мгновенно улетучивается. Попробуй замешкаться и будешь жестоко наказан. Постепенно камера наполняется светом, можно отчетливо видеть лица людей. Парнишка-украинец, светловолосый, синеглазый, голос у него протяжный, певучий. Наверное, пас овец в своем родном Закарпатье, пел любимые песни, мечтал о счастье. Он доверительно глядит мне в глаза, говорит: — А ви добре розмовляєте по-нашому, хоч ви i руський. Я пояснил ему, что родился и долгие годы жил на Украине и поэтому могу с полным основанием считать себя украинцем. Принесли завтрак: четыре крошечных кусочка хлеба и столько же кружек кофе. Кофе воняет чем-то жженным, оно без сахара, хлеб черный, с густой примесью деревянных опилок. Мы с хлопцем съедаем все это буквально в одну минуту. Зато поляки не торопятся, они не едят, а священнодействуют. Маленькими крошками откусывают хлеб, затем отхлебывают из кружек теплое варево. Парнишка жалуется: — Он у таборi давали хлiб, i супу давали, i кофе було з цукром, а тут можна померти з голоду. Встреча с этим славным пареньком заставила на какое-то время забыть пережитое. Будто души коснулось что-то светлое, чистое. И нет ни камеры, ни часового за дверьми. Мы беседуем о ловле форели в быстрой Тиссе, о лесных птицах. Он оказался знатоком грибов, умеет готовить из них различные вкусные блюда. Спрашивает, ел ли я когда-нибудь кесаря, жаренного на сливочном масле. Нашу беседу внезапно прервал тюремный страж: — Pirogof! Raus![12] Поляки переглядываются. Подросток пытается успокоить меня: — Все буде добре, не хвилюйтесь… Не знаю, куда и зачем вызывают, скорее всего на допрос. Нет, оказывается переводят в другую камеру. Размером она побольше, но и заселена погуще. Осматриваюсь. Французы — их легко узнать по форме, поляки. Сутулый, худой мужчина лет сорока нервно шагает по камере. Немец. А те двое? Одного из них я где-то видел. Да это ж Иван! Присаживаюсь к нему. — Знакомься, это Тихон, — представляет Иван своего друга. — Вместе, как говорят, страдали. — Спохватившись, поправляется: — Вместе боролись.
Глава 17. Товарищи

Тюремные порядки намного жестче лагерных. Правда, и в лагере бьют и тоже морят голодом, но там пленный все же пользуется хоть какой-то условной свободой: может погулять под солнцем в положенный час, встретиться с товарищем, обменяться новостями с фронта. Здесь же — четыре голых стены, окошко под потолком и это непрерывное раздирающее душу: Achtung! Заслышав команду, мы должны немедленно стать в положение «смирно». Что бы ты ни делал, в каком бы состоянии не находился, но если ты дышишь и ноги твои передвигаются, вытягивайся перед тюремщиками. И так раз пятьдесят в сутки! Муштра доводит до отупения, парализует волю. День длится бесконечно долго. Заключенные держат себя замкнуто, но Иван явно напрашивается на откровенность. Он спросил меня, за что я попал в тюрьму. — Наверное за то же самое, что и ты, — ответил я. Он покрутил головой. — Вряд ли! Ты, брат, не был в таких переплетах, как мы с Тихоном. — Как сказать… Нельзя, не узнав человека, открываться перед ним. Иван, наверное, понял это. Он умолк, лег рядом с Тихоном, уставился в потолок. Сидеть в камере и гадать, какую меру наказания готовит тебе враг — расстрел или повешение, занятие невеселое, поэтому я сам стараюсь найти тему для разговора. Меня беспокоит, почему наш третий товарищ, Тихон, за все время не проронил ни звука. — У него в душе ничего не осталось, кроме ненависти, — пояснил Иван. — Раскален человек добела. Верно, Тиша? Ласковое «Тиша» не заставило парня даже улыбнуться. Он по-прежнему был хмур, точно осенний вечер. — Понимаешь, случись со мной такое, и я, наверное, молчал бы до скончания света, — в оправдание друга сказал Иван. — В первый день войны Тиша возвращался на рассвете с дежурства, в это время и начался артиллерийский обстрел пограничного города. Он — назад, в часть. А когда снова прибежал домой, увидел лишь воронку и груду кирпичей. В тот же день, 22 июня, его тяжело ранило, он попал в плен. С тех пор и замкнулся в себе. — А как свела вас судьба? — поинтересовался я. Иван стал старательно чертить указательным пальцем по цементу. — Погляди, тут Одер впадает в Балтийское море, разливается на рукава. В устье много островов — больших и совсем крошечных. Наименований их не знаю. Так вот на одном из них — Пюнемюнде, мы и подружили… — Что вы там делали? — Ты, пожалуй, слишком любопытный… — тотчас замолчал Иван. Французы и поляки, уединившись в угол, о чем-то шептались между собой. Немец шагал по камере. Нам стало жаль его. Иван сказал ему что-то по-немецки. Немец провел рукой по шее. — Бедняга, — сочувственно вздохнул Иван. — Сегодня ждет приговора. Вот и мечется, не находит себе места. — Он действительно немец? — полюбопытствовал я. — Самый настоящий, рабочий из Гамбурга. Говорит, Тельмана знает. Встал Тихон, взял его за плечи большими сильными руками. — Камрад, товарищ… На минуту немец успокоился. Но как только Тихон отошел, снова зашагал по камере. Ночью его увели. Назад он не возвратился. Все мы молчаливо переживали потерю. Каждый спрашивал себя: «Кто следующий?» Говорливые французы умолкли, поляки не подавали признаков жизни. Тихон лежал, уставившись в потолок. Мы чувствовали себя подавленными, обреченными, по ночам вскакивали, едва заслышав стук каблуков за дверью. Прошло несколько дней. Иван не удержался, рассказал мне историю своего пленения, о том, как он, прервав отпуск, примчался в свою часть на границе, но никого уже не застал. Ринулся в лес, где должен был находиться командный пункт, и угодил прямо немцам в руки. Как-то в глухую полночь я проснулся от яркого света электрического фонаря. У моих ног стоял эсэсовец. Иван натягивал гимнастерку. Мы были уверены: никогда нам не видать его, но какая же радость охватила камеру, когда под утро его втолкнули обратно. Поляки, державшие себя обособленно, и те повеселели. Ивану делали примочки, уложили поудобнее, накрыли шинелями. Лишь много позже я узнал подлинную историю двух моих новых друзей. В мае сорок третьего года, вместе со многими советскими военнопленными они были вывезены на маленький островок в устье Одера. Ночью сгрузили их с баржи и небольшими группами стали уводить в подземелье. — Я сразу смекнул, — говорил Иван, — нас привезли на секретный военный завод. Общаться с соседями не разрешалось, разговаривать можно было только с мастером-немцем. Мы с Тихоном договорились при первом же удобном случае бежать. Все равно живыми оттуда никого не выпустят. Такой случай вскоре представился. Однажды ночью английские бомбардировщики совершили массированный налет на островок. Земля стонала и вздрагивала от взрывов. Сразу же погас электрический свет, в непроглядной темноте все валилось, трещало, рушилось. Охрана попряталась, раненые стонали, просили помощи. Иван и Тихон, не встретив препятствий, выбрались на поверхность через развороченный бомбой ход. Что делать дальше? Бросились к берегу, но неожиданно натолкнулись на часового, охранявшего лодки. Тихон ужом подкрался к нему, и часовой даже не пикнул. Теперь путь к свободе был открыт. Сели в лодку, взялись за весла. Весь остаток ночи плыли на восток, а утром выбрались на берег, бросив лодку в море. День провели в прибрежных кустарниках, затем снова двинулись в путь, ориентируясь по звездам. Но вот при попытке переправиться на правый берег Одера полиция схватила их и доставила в Штеттин. На допросе оба заявили, что бежали из рабочего лагеря. — Если они узнают правду, — спокойно закончил Иван, — нам петля. Но пока все нормально. Лупят нещадно, но я выдержу, на Тихона тоже надеюсь. Вместо казненного немца к нам водворили советского бойца по имени Федосей. Ему было лет сорок или немногим больше. Войдя в камеру, Федосей сразу же начал выкладывать из карманов вареную картошку в мундирах. — Кто желает подкрепиться, братья-славяне? — добродушно рокотал его бас. Мы сдержанно встретили новичка. Нам показалась подозрительной его необыкновенная щедрость. Появиться среди голодных людей с полными карманами картошки! Такое можно увидеть только во сне. Но сомнения скоро рассеялись. Федосей работал на кухне — колол дрова, мыл посуду, топил печи. Повар-чех, тоже заключенный, регулярно передавал ему картофель и просил подкармливать советских, которые подвергаются особенно жестокой дискриминации. Вечерняя подкормка картофелем стала правилом. Мы каждый раз нетерпеливо ожидали появления Федосея. Получали из его рук благословенную пищу, глотали ее, не очищая, и похваливали повара. Приносил он иногда и ломоть хлеба, вареное мясо, луковицу, щепотку соли. Все это делилось на семь частей. Федосей ничего не брал себе, говоря, что и так не обижен. Настоящие торжества наступали, когда Федосей угощал нас сигаретами. Можно представить себе состояние курящего человека, который много дней не нюхал табачного дыма и которому дали вдруг сигарету. Жадно затягивается он, глотая дым вместе с горькими крошками табака, обжигая губы и пальцы. Федосей — наш бог и спаситель, Федосею сыпятся благодарности: спасибо, дзенькуем, мерси. В одну из октябрьских ночей мы были разбужены топотом сапог в коридоре. Погас свет. Где-то над нашими головами раздавались глухие разрывы. Все замерло, даже за дверью воцарилась мертвая тишина. Потом — пронзительный свист, грохот, в оконце блеснул яркий свет, камера наша вздрогнула, и мы инстинктивно закрыли глаза. Бомбили Штеттин. Утром только и разговоров было что о ночном налете английской авиации. Мы ждали возвращения Федосея, он обязательно приносил из кухни, кроме сигарет и картошки, интересные новости. Но вместо этого солдат с черепом на рукаве приоткрыл дверь и громко выкрикнул: — Пирогоф! Товарищи провожали меня вопросительно-молчаливыми взглядами и суровым скупым напутствием: — Крепись! Знакомая обстановка. Знакомые лица. Флегматичный следователь восседает за своим столом. Справа от него — переводчик, за отдельным столиком возле окна постукивает на машинке ефрейтор. Перекинувшись несколькими словами со своим шефом, переводчик любезно обращается ко мне: — Перестал бы ты, майор, упираться, рассказал бы честно — и тебя оставят в покое. Господин следователь вполне удовлетворится, если ты скажешь, кто руководит вашей организацией в Штаргардте и какую цель она ставит перед собой. Господин следователь заверяет — никто о нашем разговоре знать не будет. Мне ясно — никаких доказательств о моих встречах и разговорах с дядей Степой у них нет. И я вновь повторяю то, что говорил на следствии в Штаргардте: — Ни о какой подпольной организации не знаю. Зондерфюрер подбивал меня к побегу, рисовал заманчивые перспективы, но я не мог вторично рисковать… Говорю я спокойно, все выглядит вполне правдоподобно. Немцы внимательно слушают. Только в глазах следователя вдруг загораются свирепые огоньки. Он что-то говорит переводчику, и тот немедленно переводит: — Врешь, майор, нет такого русского солдата, который отказался бы бежать из плена. Лучше рассказывай начистоту, пока с тобой по-доброму обращаются! — Я все сказал, — настаивал я на своем. — Убить тебя или повесить? — зашипел переводчик. — Говори! Сопя и ругаясь, он ударил меня чем-то тяжелым в затылок. Я упал на ковер, но тотчас поднялся на колени. Правая ладонь окровавлена, за ворот капает что-то теплое. Сильно болит голова, на некоторое время забываю, что происходит со мной. — Будешь говорить? Но я уже не в состоянии реагировать на слова, вот только бы подняться на ноги… В камере меня встретили, как пришельца с того света. — Hex жие! Вива! — ликовали друзья-иностранцы. Иван подвел к крану, обмыл лицо. Тихон исследовал рану на затылке. Кожа оказалась разодранной. — Пустяки, — сделал вывод Иван. — Меня не так полосовали. Заживет, Андрей, не волнуйся. Я вот думаю теперь о другом: наступит же, в конце концов, время, когда мы начнем их бить. И не по затылку, а под зад коленом. — Мстить мы не станем, — вдруг заговорил Тихон. — Мы не изверги. Просто воздадим по заслугам. — Забыть, как нам рассекали затылки и кровавили морды? — разгорячился Иван. — Нет, братцы, этого забыть нельзя! Разговор доходит до меня будто из далёкого далека́. Стараюсь отогнать от себя мысль о смерти, хочу двигаться, слушать, говорить. Весь день проходит в напряженной борьбе за то, чтобы не потерять нить мыслей, которые обгоняют одна другую, и никак не могу я остановить их, сосредоточиться на чем-то. К вечеру головная боль утихает. Но тело еще больше слабеет, становится непослушным, вялым. Возвратился с кухни Федосей, оглянул меня внимательными, прищуренными глазами. Как всегда, притащил в карманах картофель. Вся камера единогласно постановила отдать мне свои порции. Норма больше, чем достаточная, съесть все с непривычки трудно, и я решительно отказываюсь. Федосей принес кучу новостей. Наши войска форсировали Днепр, ведут бои за Киев. После ночного налета в Штеттине паника. Рана моя затянулась на удивление быстро, и когда спустя десять дней меня снова вызвали на допрос, я чувствовал себя уже довольно сносно. Следователь подошел ко мне вплотную, рукояткой резиновой палки поднял мой подбородок. На миг мною овладело безумное желание схватить его за горло, впиться зубами. Насилу сдержался. Ведь безрассудно с моими силами пытаться причинить ему хоть небольшой вред. Не убью его. Меня сразу оторвут. Но тогда уже виселицы не миновать. Пуская дым кольцами, следователь явно обдумывал дальнейший ход. — Послушайте, Пирогоф, — мягко заговорил он. — Вы можете избежать казни. Я предлагаю один выход. Идите служить к генералу Власову. Подумайте. Я наотрез отказался, сославшись на присягу и нежелание воевать против своего народа. У следователя заметно пропал интерес ко мне. В его бесцветных глазах ничего не отражается. — Другие твердили то же самое, — говорит он. — Потом, вероятно, жалели о своем упрямстве… Выслушав мой рассказ о допросе, Иван звонко сплюнул: — Заткнулись бы со своим Власовым! Откопали где-то паразита и носятся с ним, как черт с писаной торбой. Русская освободительная! От кого она, интересно, освобождает? Агитировал и меня один субъект из власовских горлопанов. Я сказал ему: «Не трепись, не люблю, когда трепятся…» В тот вечер из нашей камеры увели еще одного немца, его друг сиротливо пригорюнился в уголке, ожидая свой черед. Федосей сообщил, что в прошлую ночь повесили троих русских. За что — никто не знает. Да и не все ли равно! Поводом мог послужить самый незначительный пустяк. Немцы планомерно истребляют всех, кого считают неподдающимися их воспитанию. Спустя три дня снова за мной: — Пирогоф! Следователь встретил меня угрожающим окриком: — Вашу подпольную организацию в Штаргардте накрыли. Скоро твои дружки предстанут перед тобою. Посмотрим, что ты запоешь тогда. Перед моим взором вновь встал дядя Степа, мужественный, отважный, непоколебимый. Неужели и его?.. Но внутренний голос твердил: «Врет, врет, если бы он знал хоть что-нибудь, то назвал бы имена. Врет, врет…» — Будешь говорить? — Все уже сказано. — Ну и черт с тобой! — разозлился следователь. — Завтра очутишься на веревке… Через несколько суток меня ночью вызвали из камеры. Ребята растерялись. Уж если вызывают ночью — это явно не к добру. Иван крепко обнял меня, подошел Тихон, но тюремщики за порогом торопят, я спешу. — Прощайте, товарищи! — Держись, Андрей! Несколько минут ведут меня по узким лабиринтам. Наконец, открывается одна из дверей, и я оказываюсь в темной клетке-камере. По едва уловимым признакам чувствую дыхание человека. Протягиваю вперед руки. — Есть кто живой? — А ты кто? Тут и скамейка есть. Пристраиваюсь. Слабый, упавший голос шепчет: — Нас, наверное, вешать будут… На мгновение меня охватил страх, но через минуту я взял себя в руки. Все равно ничего не изменишь. Чувствую, мой сосед дрожит, надо его хоть чем-нибудь ободрить, но не нахожу нужных слов. Собравшись с духом, говорю пришедшие на ум слова: — Давай, друже, хоть в последние минуты не покажем фрицам своей слабости. Считай, что нас убило в бою. — Случайно, закурить нет? — попросил сосед. Я вынул сигарету, которую на прощанье сунул мне Федосей, протянул ему, щелкнул зажигалкой. В ее тусклом мигающем пламени увидел заросшее щетиной лицо товарища по несчастью. Он, кажется, даже улыбнулся. — И верно, вдвоем умирать легче. Хоть я и бодрюсь, но мысли мои уже где-то в тюремном дворе. Сколько осталось еще дышать? Лязг засова приводит меня в чувство. По гулкой каменной лестнице попадаем в знакомую комнату, где нас, арестантов, сортировали в первый день. Десятка два узников толкаются у стен, затем выстраиваются по два. Здесь по-прежнему священнодействует тюремный чиновник. Не успел я сообразить, в чем дело, как моя правая рука оказалась в стальном браслете. Я прикован к своему товарищу по камере. В свободную руку тюремщик сует сверток. Прощупываю — хлеб. Мой напарник не может сдержать своих чувств: — Харч дали, значит в дорогу! — В дорогу, в дорогу! Колонну выводят во двор. Одна за другой подъезжают крытые автомашины, и нас по несколько пар вталкивают внутрь. Синий свет падает на бледное худое лицо моего напарника. Мы обмениваемся взглядами. — Куда?
Глава 18. Заксенхаузен

Тихое позвякивание стальных цепочек, облегченные вздохи. Громко ничего делать нельзя. Нельзя разговаривать, кашлять, стучать деревянными башмаками. Даже паровоз и тот будто не идет по рельсам, а подкрадывается. Сдержанно шипит парами, как бы предупреждая нас: тише, тише! Прячет куда-то в брюхо свои гни. Про себя мы отмечаем: война пришла уже и на немецкую землю. Строжайшая светомаскировка — результат налетов английской авиации. На перроне с нас снимают наручники, после чего по одному загоняют в вагон. В таких я еще не ездил: вдоль коридора протянулась ковровая дорожка, над головой горят синие лампочки. Надзиратель распахивает дверку купе: — Kommen![13] Купе, как видно, рассчитывалось на одного человека, — в нем узкая скамья и маленькое зарешеченное окошко вверху. Со мной оказываются еще двое: мой напарник Федя и пожилой, мрачного вида мужчина. Судя по тому, как нажимает он на «о», — волжанин или ивановский. С потолка льется мертвенно бледный свет. И все видимое кажется неживым, застывшим. Мы вдвоем усаживаемся на скамью, Федор устраивается на миниатюрном столике. Дружно принимаемся за хлеб. Единственное, что я успел узнать о Федоре за два часа пребывания с ним в одиночке, это то, что он нагрубил кому-то из тюремного начальства и ему пригрозили виселицей. Мне этот парень не по душе. Что-то в нем есть неприятное. Голос пискливый, движения вялые, неуверенные. Меня он ни разу даже не спросил, кто я и откуда. Таких, как Федор, можно жалеть, им можно сочувствовать, но верить им опасно. А впрочем, возможно, я не совсем справедлив. Может быть, он не такой, каким показался с первого взгляда. Проглотив последние крошки, Федор первый нарушил молчание: — Эх, едри его в корень, поживем еще на белом свете, раз сегодня не повесили. Поживем! — Тебе так хочется жить? — спросил его наш попутчик, назвавшийся Семеном. — А вам разве нет? Я где-то читал, что живая собака лучше мертвого льва. Верно сказано? — Глупая мыслишка! — резко возразил мой сосед. — Наверное, паря, она и довела тебя до плена. Раз любая жизнь хороша, тогда бросай оружие, сдавайся в плен. Сделав короткую паузу, Семен продолжал: — Мне, брат, собачья жизнь не нужна, да и любой скажет то же самое. А ты, стало быть, согласен выгребать им нужники, лишь бы тебя не трогали? — Я говорю, — оправдывался Федор, — что жизнь лучше смерти. — Чудак-человек! Кто же возражает против этого. Все мы хотим жить, но не небо коптить. Жить надо с толком. — Семен толкнул меня под бок: — Не так ли? Мне не хотелось обижать Федора, и я сослался на известные слова о том, что жизнь прекрасна и удивительна, добавив, однако, что наша жизнь в плену хуже собачьей. Щелкнул волчок, в круглом отверстии показался глаз надзирателя. Надо думать, у нас все в порядке. Сидим боком к двери тихо-мирно, не спим, песни не поем, убегать не собираемся. Наверное, уже полночь, сильно клонит ко сну. Беседа не клеится. Слишком устали, слишком перенервничали. Вдруг перестук колес затих, вагон вздрогнул и остановился. В коридоре послышались торопливые шаги, захлопали двери. — Raus! Меня кто-то толкнул со ступеньки, и я сразу очутился в строю. Плотной стеной протянулись вдоль перрона эсэсовцы, у многих на поводках овчарки. Где мы? Арестантов быстро пересчитали, и колонна двинулась в путь. Послышалась резкая команда, передние усилили темп. Быстрее, быстрее!.. Нам пришлось побежать, чтобы не отстать. Потом на некоторое время бег сменился нормальным шагом, затем снова галоп. Ряды ломались, в темноте то и дело раздавались резкие удары, вскрики, стоны. Передние падали, задние невольно наваливались на них. Настоящее столпотворение. Я находился в середине колонны, крайним справа. Силы быстро убывали, пот застилал глаза, нестерпимо хотелось пить. «Куда так торопятся конвойные? Не хотят, чтобы жители города видели нас, но ведь до рассвета еще далеко», — мелькнула мысль. Позднее я понял, что это был своеобразный, тонко продуманный прием, рассчитанный на подавление психики заключенных. Мозг был занят одним — не споткнуться, а то могут затоптать, не пропустить команду, не отстать. Невольно забываешь, что ты человек. А о побеге и думать не приходится. После двухчасового галопа подошли к высоким стенам и остановились у ворот. Ворота распахнулись, и мы оказались на темном плацу. Точно так было в штеттинской тюрьме. Но это, по всему видно, не тюрьма, а что-то посерьезнее, пострашнее. Семен, мой сосед по строю, зашептал мне на ухо: — Заксенхаузен. Концлагерь Заксенхаузен! Вот оно! — едва не вырвалось у меня. В Штеттине я кое-что слышал об этом «райском» уголке Германии. Там говорили: из Заксенхаузена выходят на волю только через трубу крематория… Нас подводят к приземистому бараку, выстраивают в затылок и по одному вталкивают в ярко освещенное помещение. В нем суетится несколько человек, одетых в странную форму. Такого одеяния мне не приходилось видеть ни в лагерях военнопленных, ни в штеттинской тюрьме: брюки, куртка и шапка-безкозырка сшиты из грубой полосатой материи. Голубое с белым. На левой стороне груди и на правой ноге выше колена в белом прямоугольнике — цифры. Выше, острием вниз, нашиты цветные треугольники. У одних они красные, у других зеленые, есть и черные, и коричневые. В центре треугольника — латинская буква, а у некоторых буквы нет. Люди деловито переговариваются, бегают из конца в конец, рапортуют старшему, стоя навытяжку. Выйдя на середину строя, старший приказал нам раздеваться. Мы быстро сбрасываем с себя жалкое подобие обуви. Гимнастерки, брюки, белье связываем поясами в тугие узлы и снова становимся в строй человеческих скелетов. Стоим в очереди к парикмахеру. Всех остригают наголо, точно отару овец. Мощная струя смывает пот и грязь, приятно освежая тело. Слышатся возгласы: — Хорошо, ей-богу, как сто пудов снял!.. Ну, хватит блаженствовать, уступай место другому… Эй, шевелись, шевелись! И во время стрижки, и здесь в душевой некоторые «полосатые» пытаются заговорить с нами. Есть среди них чехи и поляки. Их интересует, что там на свободе, как дела на фронте. Пользуясь случаем, выясняем лагерные порядки. Оказывается, здесь нет фамилий, существуют только люди-номера. Латинская буква в треугольнике означает национальность, немцы-заключенные буквы не имеют. Цвет треугольника — «винкеля», как его здесь называют, определяет характер совершенного преступления. Красный — политический заключенный, зеленый — уголовник и т. д. Помывшись, прохожу в соседнее помещение. Немец, один из тех, кто обслуживает новоприбывших, вручает мне одежду: полосатые штаны, полосатую куртку, шапочку, деревянные башмаки. Треугольник у меня красный. Отныне мы уже не военнопленные, — это слишком благозвучно! Мы заключенные фашистского концлагеря, и на нас распространяется только один закон — воля и настроение коменданта, любого эсэсовца и вот этих бандитов «зеленых», которых лагерное начальство ставит на различные должности внутри лагеря. Как ни плохо, как ни гнусно было в лагерях военнопленных, но там хоть соблюдалась элементарная видимость законности. Здесь этого нет и в помине. Здесь сплошной произвол. Кое-кто успел добыть информацию: Заксенхаузен находится в тридцати километрах севернее Берлина. Город посещают английские самолеты, но лагерь не трогают, видимо, жалеют узников. Тут же разместилось центральное управление концлагерей Германии, которым лично руководит Гиммлер. За малейшее ослушание, неточное выполнение распоряжений и команд, за лишнее слово, сказанное в адрес лагерных властей здесь положено одно наказание — смерть. Ослабевших, больных, инвалидов, неспособных выполнять физическую работу, без промедления отправляют в крематорий. Все эти сведения отрывчатые, далеко не точные, но, наслушавшись, мы еще глубже задумываемся над своей судьбой. Глазами встречаюсь с Семеном. — Вы? — Как видите, собственной персоной. Чем не представитель зеброобразных? Он шутит, и у меня становится легче на душе. Жизнь берет свое, ничего не поделаешь. Только что, одевая деревянные колодки, я подумал о невозможности бороться в условиях лагеря смерти. Но вот встретился остроумный человек, сказал одно необычное слово, и сразу изменился мир. Мне даже хотелось улыбнуться. И верно — мы в самом деле похожи на африканских зебр в своей полосатой форме. Послышалась команда строиться. Впереди движутся сгорбленные полосатые спины, немец в штатском повелевает шевелиться быстрее. Пустынный, темный двор, холодное мертвое небо. После горячего душа в легкой арестантской одежде довольно-таки прохладно. Но самое большое горе — деревянные колодки. Наши прежние сабо — верх комфорта. А эти истинно кандалы, хотя и не железные. Ступня закована в них намертво. Когда идешь, ногу надо ставить прямо и не гнуть в коленях. Каких-нибудь десять минут ходьбыкажутся вечностью. В бараке горят большие электрические лампы. Значит, бомбежки здесь не опасаются. Посредине стоят длинные столы, к ним приставлены скамьи. Мы перестроились в одну шеренгу, ждем дальнейших распоряжений. Вошли наши новые начальники. Я хорошо вижу переднего человека. Он в приличном штатском костюме, среднего роста, тонкие губы плотно сжаты. На груди пришит красный треугольник и трехзначная цифра. За ним второй, тоже с красным треугольником. Подойдя вплотную к строю, они начали опрос заключенных. Вот один обратился к правофланговому по-немецки, без переводчика. Тот что-то ответил, что мы не расслышали. «Хозяин» размахнулся и дал ему звонкую пощечину. Некоторые ответы немцу явно не нравились, на другие он кивал головой и коротко бросал: gut! Наконец, очередь дошла до меня. Чтобы избежать наказания, я мобилизовал все свои познания в немецком языке. — Что тебя привело сюда в лагерь? — последовал вопрос. — Я русский майор, бежал из лагеря военнопленных, был пойман и заключен в Штеттинскую тюрьму, — ответил я. Думал, последует удар. Нет. Немец окинул меня взглядом. — Коммунист? На какую-то минуту я помедлил с ответом. Но скрывать бесполезно, они все знают. Мой формуляр везде сопровождает меня от самой Керчи. — Да, коммунист. Немец еще пристальнее взглянул мне в лицо и неожиданно спросил: — Есть хочешь? Этот вопрос можно было не задавать. Скрывшись за небольшой загородкой, он вскоре возвратился и ткнул мне в руку пайку хлеба. Рядом послышался голос Федора: «Немец, а хороший человек…» Остро захотелось есть. Разломив хлеб на три части, я дал Федору и Семену. — Это твои товарищи? — поинтересовался немец. Затем немец, угостивший нас хлебом, произнес короткую речь. Из нее мы узнали, что он, Вилли, штубовый, то есть старший половины блока. Но есть еще блоковый — он командует всем блоком, в том числе и штубовыми. Закончив поучения, Вилли громко скомандовал: — In Betten![14] Переводить не надо, все ясно! Люди в полосатых костюмах стремглав бросаются к нарам. Пожилые занимают нижние места, но большая часть старается оседлать третий этаж. Каких-нибудь специальных подставок для подъема наверх нет, поэтому взбираться приходится с большими муками. Кто-то срывается и падает на пол, кто-то просит подсадить, нет сил преодолеть двухметровую высоту. Вскоре все затихло. Неизвестно, сколько продолжался сон. Вдруг посреди ночи послышались крики, топот ног. Мы соскочили с нар, натянули жесткую одежду — и в строй. Появился Вилли. Объяснил — это поверка. Вторично нас разбудили в четыре часа утра. Наскоро брызнув на лицо струю воды, мы помчались во двор на построение. На плацу горели фонари, видно было, как из барака напротив высыпали люди в полосатом и тоже строились в шеренги по два. Там — опытные, а мы новички. У нас получалось не так четко и слаженно. Кое-кто задержался в туалете. Вилли надрывался от крика, грозил расправой опоздавшим. Пришел блоковый «зеленый» — высокий плотный мужчина лет под сорок. Блоковый и двое штубовых прошлись вдоль фронта, пересчитывая нас. В центре колонны блоковый отошел метров на пять в сторону и остановился. Подчиненные докладывали ему о результатах поверки. Тот удовлетворенно кивал. Вдруг он, чеканя шаг, направился к воротам, и сразу же оттуда послышались его громоподобные крики: Achtung! Mützen ab! Schtill schtehen! Это означало: Внимание! Шапки долой! Стоять смирно! Наш штубовый Вилли, запыхавшись, прибежал на свое место. Мы застыли в ожидании. Холод пробирал до костей, зубы выбивали дробь. И опять: — Внимание! От ворот приближался эсэсовец — дежурный по лагерю. К нему подскочил блоковый и отдал на ходу рапорт. Эсэсовец не дослушал, взмахом руки приказал замолчать. Затем прошелся вдоль строя, бегло осматривая новоприбывших, и, очевидно, довольный, направился проверять барак. Первое знакомство с Заксенхаузеном состоялось.
Глава 19. Итак, концлагерь

Стоя в строю, я обратил внимание на странную группу заключенных. На них та же полосатая форма, но за спинами — ранцы. Они выстроились по четыре, блоковый придирчиво осмотрел каждого, после чего колонна удалилась с аппель-плаца. Казалось, Гитлер требует солдат для своей армии из числа узников концлагеря, готовит их в маршевые роты. Но это было не так. Принятые за солдат оказались заключенными-штрафниками, на которых испытывалась прочность новых образцов солдатской обуви. Ежедневно несчастным навешивают на спины ранцы, набитые песком и камнями до веса полной выкладки солдата и гоняют их по лагерю в течение десяти часов. Специально созданная дорога разбита на участки: асфальт, бетон, грейдер, песок, булыжник. Полсуток непрерывной изнурительной ходьбы то строевым, то свободным шагом, то быстро, то медленно. Через определенное время специалист тщательно осматривает потертости обуви, отправляет ее на специальное исследование в лабораторию, а штрафники снова таскают тяжелые ранцы и совершают с утра до вечера утомительные марши. Мимо проскользнул Вилли. Он заметил, что мы наблюдаем за штрафниками. Легонько толкнул меня в бок и сказал: — Туда не надо попадать, там плохо… Может быть, мы не ошиблись в этом никогда не улыбавшемся человеке. Многие получали от него тумаки за разные мелкие провинности. Но крупных обид он нам не причинял. Да и бил он, будто шутя, не больно, лишь в редких случаях давал крепкую оплеуху. После жидкого кофе штубовый приступил к занятиям. Цель — приучить нас быстро и четко выполнять команды. Мы тренировались ходить немецким строевым шагом, перестраиваться, приветствовать начальство поворотом головы. Особое внимание уделялось упражнению — Mützen аЬ! По этой команде следует молниеносно сорвать правой рукой головной убор и шлепнуть им себя по правой ляжке. Хлопок должен звучать одновременно, а у нас, как мы не старались, получалась нестройная дробь. Вилли нервничал, называл нас бездарями, неспособными выполнить пустяковую команду. Во время этого занятия нас навестил блоковый. Вилли опасливо поспешил ему навстречу. Блоковый широко расставил ноги, руки заложил за спину. Трудно понять — доволен он или нет. Но мы знаем одно: среди «зеленых» подавляющее большинство — изверги и садисты. Наш — в прошлом крупный бандит, и убить человека для него развлечение, тем более, что эсэсовцы это поощряют. На этот раз никаких происшествий. Блоковый круто повернулся и зашагал в сторону. Вилли, очевидно, получил внушение. Он продолжал муштру с еще большим усердием. «Шапки снять, шапки одеть!» — повторял он до хрипоты. Мы старались, сколько могли, но усталость и голод брали свое, одновременного хлопка, хоть убей, не получалось. — Стадо баранов! — беззлобно ворчал Вилли, грозя кулаками. Видно, и ему порядочно осточертело это занятие. Тренировка продолжалась до самого обеда. Без пяти минут два Вилли перестроил команду и повел ее к блоку. К этому часу четверо штубиндистов — уборщиков бараков, принесли дымящиеся баки. Скорее бы, скорее! Пожилой немец в полосатом выдавал миски и ложки, сам Вилли массивным железным черпаком разливал суп. В ожидании своей очереди я стал рассматривать оловянную миску. На оборотной стороне дна чья-то рука выцарапала пятиконечную звезду. Ниже мелкими буквами надпись: «Смерть фашизму!». Замечаю и на других мисках такие же звездочки и таинственные инициалы: «С. Н. О.» Мой сосед объяснил, что это начальные буквы слов: «Смерть немецким оккупантам!». Когда подошла моя очередь, Вилли опустил поглубже черпак, помешивая им внутри бака, затем наполнил миску доверху. Брюквенный суп заправлен эрзац-жиром неизвестного происхождения. Горячий, невкусный. Но изголодавшиеся люди просили добавки. Впереди меня человек с тонкой шеей жадно вылизывал миску, затем незаметно снова втиснулся в очередь. Я узнал в нем Федора, моего штеттинского попутчика. В эту самую минуту как из-под земли вырос эсэсовец. Он спокойно взял из рук Вилли черпак, поднял его и со всей силы ударил узника по лицу. Заливаясь кровью, Федор упал на руки товарищам ˂…˃ штубиндисты, поволокли парня в душевую. В нестройной толпе наступило тягостное ˂…˃, изредка нарушаемое позвякиванием Виллиного ˂…˃. «˂…˃ оно, — думали мы, — не зря старожилы ˂…˃ быть осторожными». Вилли никак не реагировал на происшествие. Уставился в бак, механически орудовал своим инструментом: — Давай, не задерживайся, подходи следующий! Когда время обеда истекло, Вилли скомандовал выходить на построение. Штубиндисты убирали опорожненные баки, звенели посудой. Несколько пленных пробовало выклянчить у них немного баланды, оставшейся на дне бака, но те отбивались, как могли. Вилли не обращал внимания на запоздавших в строй. Шумел, грозился лишь для видимости. Оказавшись снова на аппель-плаце, мы до шести вечера отрабатывали упражнения «шапки долой!» и «шапки надеть!». Вилли коротко поясняет: надо добиться абсолютной четкости; если при появлении высокого начальства будет замечен какой-нибудь промах, — не сдобровать никому. Подводить Вилли мы не хотим, потому стараемся изо всех сил. — Genügh!..[15] — наконец, удовлетворенно прохрипел Вилли. Пройдя вдоль строя, штубовый предупредил, чтобы мы не допускали безрассудных поступков, наподобие того, который произошел сегодня во время обеда. Малейшее отступление от установленного в лагере порядка карается очень строго. Он не рекомендовал противиться никому из лагерного начальства. Он, Вилли, наш непосредственный начальник, не желает нам худа, поэтому и говорит это. Медленной походкой, еле волоча ноги, в ворота вошли штрафники, на которых испытывалась обувь для вермахта. Шли они, низко склонив головы, будто каторжники с галер. Пора было отправляться в барак, но Вилли медлил, ему хотелось, чтобы мы наглядно убедились, к чему приводит нарушение лагерных законов. Штрафники — самые несчастные люди. Сейчас они съедят жалкий ужин, отправятся спать, а в четыре утра опять подъем и снова шагистика по каменным дорогам и ухабам. На вечерней поверке Вилли продемонстрировал перед блоковым результаты своих упорных стараний. По его ˂…˃ дружно сорвали головные уборы. Раздался ˂…˃. Блоковый осмотрел строй. Руки у всех по ˂…˃ как положено, разведены. Придраться не к чему, но блоковый что-то искал, высматривал, нюхал. Так и казалось, сейчас ткнет: — Ты, выйди из строя!.. Неожиданно хлынул дождь. Осенняя туча будто специально выливает на нас пол-океана. Десять, двадцать минут стоим под холодным ливнем. Промокли до нитки, многие не в силах держаться на ногах, трясутся, точно в лихорадке, стучат зубами. Но поверка продолжается. На следующий день четверо из нашей команды заболели воспалением легких. В блоке, что напротив нас, дела еще хуже — штубиндисты выволокли из барака несколько трупов и свалили их, как падаль, в углу двора. После утренней поверки Вилли подозвал меня и дал крошечный пакетик. Объяснил: в нем двенадцать пилюль, на каждого по три. Надо дать их больным, но так, чтобы никто не видел. Напоить всех цикорием, сохранить им порции хлеба. За больными присматривала вся команда, но сохранить нам удалось лишь двух. Двое других нуждались в срочной врачебной помощи, поэтому по распоряжению блокового санитары забрали их будто бы в госпиталь, на самом же деле, как позже выяснилось, еще живых бросили в крематорий. Двухнедельный карантин подходил к концу. Скоро нас должны определить на работы. Куда — никто, кроме Вилли, не знал. Мы пробовали вызвать штубового на откровенность, похваливали его за гуманное отношение, но Вилли — кремень. — Ничего не знаю, не спрашивайте. Некоторые стали допускать по отношению к штубовому разные вольности. Вилли быстро ставил их на место, а однажды так двинул одного словака за самовольный выход из строя, что тот умылся юшкой. После этого инцидента многие усомнились, тем ли является Вилли, за кого выдает себя. Красную нашивку можно носить и подставному уголовнику. И поскольку Вилли с первых дней нашего пребывания в лагере явно симпатизировал мне, Семен предупреждал быть поосторожнее. — Какой он политический, бандит настоящий, — говорил он. Меня тоже раздирали сомнения. История с зондерфюрером была еще свежа в памяти. Навели справки у старожилов лагеря. Оказалось, Вилли действительно политический заключенный, уже около десяти лет скитается по разным лагерям. Из-за нехватки «зеленых» эсэсовцы вынуждены на различные должности в лагере ставить и немцев-«красных». Так Вилли стал штубовым. Вилли действительно благоволил ко мне. Однажды во время побудки буркнул на ходу: — Фронт зеер гут. Днепр. В Штеттине до нас просачивались скудные сведения о сражениях на Днепре. Теперь штубовый подтвердил их. Как сдержать свою бурную радость: на фронте хорошо! Я сжал Семену руку: — Наши вышли к Днепру. — Честное слово? — Тише, не ори. Вилли шепнул. — Мало чего твой Вилли наболтает, верь ему. А я думал, правда. Правда или нет, но мы готовы подпрыгивать от радости. С Семеном у меня самые дружеские отношения, ему можно доверять. К тому же он незаменим, если надо установить связь с соседними бараками, добыть внутреннюю информацию, произвести мелкую коммерческую сделку. Многих ослабевших поддержал он, доставая неизвестно откуда то лишнюю миску баланды, то кусок хлеба. Завел дружбу с дежурными, охранявшими наши ворота, менял у них разные мелочи на сигареты. После отбоя, когда разрешалось на полчаса выйти на воздух, мы прятались за бараком и, затаив дыхание, выкуривали по полсигареты. Это было связано с громадным риском. Если б заметил блоковый — не миновать порки! Внешне Вилли оставался таким же строгим, немногословным, хмурым. Обронит два-три слова, точно невзначай, и скроется с глаз. В предпоследний день карантина он остановил меня у выхода из барака: — Завтра вас передадут форарбейтеру. Я уже знаю, что форарбейтер — это старший рабочей команды, обычно очень строгий начальник, умеющий выматывать душу из заключенных. — Значит, с вами распрощаемся? — поинтересовался я. — Вилли будет ночью, форарбейтер — днем, — ответил штубовый. Действительно, утром блоковый писарь — длинноногий, тонкий, как жердь, немец — приткнул нас к другой команде. Общим строем руководил один из «зеленых». Простуженным голосом скомандовал он «шагом марш», и мы, отбивая колодками шаг, двинулись за ворота. Там нас уже поджидали десятка два солдат СС, вооруженных, помимо пистолетов, толстыми кленовыми палками — для «выравнивания» строя. Достаточно отстать на полшага, нарушить строй — и на тебя посыплется град палочных ударов. Привели нас на территорию лагерных мастерских. Низкие кирпичные здания, из потемневших от копоти окон доносилось жужжание станков. Воняло чем-то горелым. Людей быстро разбили на группы и увели. Нас осталось восемь человек. Но вот форарбейтер подозвал к себе. На ходу Семен показал мне большую четырехугольную трубу, из которой зловеще валил густой черный дым. — Смотри, крематорий! Вот откуда несло горелым. Действительно, пока что выход на «свободу» для нас, заключенных, только через эту мрачную трубу.
Глава 20. В рабочей команде

В мастерской толстяк-немец, видно, из цивильных показал мне, как включать и выключать сверлильный станок, зажимать деталь. Мои обязанности довольно несложны: на небольших металлических брусьях в размеченных мелом местах делать отверстия. — Все понятно? — в который раз поинтересовался мастер и, закрепив деталь, включил рубильник. Слушая гул мотора, я думал: «Вот до чего дошел ты, Андрей! Возможно, эти детали предназначены для танков. Останешься жив, вернешься домой и спросят тебя когда-нибудь!» Мысленно рассуждая сам с собой, я не заметил приближения опасности. Послышался характерный звук, и в ту же секунду перед моими глазами мелькнула половина сверла. Вторая половина осталась в металле. Я взялся за рубильник, чтобы остановить станок, но удар в затылок свалил меня с ног. — Свинья! Осел! — гремел на всю мастерскую толстяк-немец. У меня из носа текла кровь, руки были расцарапаны. Мимо проходил форарбейтер, поинтересовался, в чем дело. Мастер доложил, что я сломал сверло. У форарбейтера побагровели уши. Он схватил меня за грудки. — Большевик, доннер ветер! Не вмешайся мастер, он расплющил бы меня в лепешку. Но толстяк стал доказывать, что я уже получил за проступок. — Иди за мной! — приказал форарбейтер. Я поплелся за ним через цех, опасаясь новых издевательств. Заключенные сочувственно провожали меня взглядами. Но ничего особенного не произошло. Меня отстранили от сверлильного станка и поставили в кузнице работать на прессе. Моим напарником оказался чернявый симпатичный француз. Вдвоем мы должны были вручную вращать маховик пресса, придававшего разогретым докрасна полосам железа нужную форму. С непривычки нам не удавалось добиться единого ритма, металл под прессом остывал. Форарбейтер не спускал с нас глаз, казалось, вот-вот снова ринется на меня и тогда уже наверняка несдобровать. К счастью, завыла сирена. — Воздушная тревога! Мгновенно умолк гул станков, притихла кузня, люди ринулись в подвал. Наверху рявкали зенитки, глухо ухали вдали взрывы бомб. Подвал был глубокий, весь заставленный железом, какими-то ящиками. В полумраке ко мне приблизилась чья-то незнакомая фигура. Оказалось, русский. — Тебя-то мне и нужно, — дохнул мне в лицо незнакомец. Деловито подал руку: — Николай, сын собственных родителей. — Очень рад, присаживайся, — предложил я, подвинувшись на ящике. Николай начал без предисловия: — Наблюдаю за тобой и никак не могу понять, зачем тебе нужно на виду так плохо работать? Жить тебе что ли надоело? Я смекнул, что он имеет в виду случай с поломкой сверла. Попробовал было доказать, что сделал это непреднамеренно. Но Николай непреклонен: — Не будь дурнем! На первых порах нужно показать прилежание. Не спеши, но работай с толком. Думаешь, они болваны, ничего не понимают? Скажи спасибо мастеру, форарбейтер считается с ним. А если б попался другой — забил бы на месте. Николай поинтересовался, на каком блоке я живу, и, когда узнал, что на карантине, воскликнул: — У Вилли? — Ты его знаешь? — Еще бы! Договорить нам не пришлось. Тревога закончилась, форарбейтер приказал подниматься наверх и приступать к работе. Люди устремились по узким каменным ступенькам, запрудили лестницу. Помимо форарбейтера и нескольких мастеров, за работой цеха наблюдал фельдфебель СС — щуплый немец с желтым испитым лицом и маленькими голубыми глазками. Ходил он бесшумно, глядел себе под ноги, но видел все, что делалось вокруг. Не успели мы с французом взяться за ручки маховика, как на пороге кузницы появилась фигура фельдфебеля. Я жал что было сил, стараясь не отстать от своего напарника. Немцу, видимо, понравилось наше усердие, он постоял несколько минут и, насвистывая, удалился. Как только он вышел, француз тотчас остановил пресс, показывая мне жестами, мол, бросай, раз немец ушел — бросай! Работу прекратили и остальные — четыре француза и два норвежца. Было выставлено наблюдение у двери на случай, если появится кто-либо из начальства. — Отшен карашо! — хлопнул меня по плечу француз. — Алеман[16] нет — арбайт нет. — И улыбнулся, показывая желтые выщербленные зубы. До самого полдня нас не трогали. Кузня саботировала. Мне понравились эти спаянные ребята — угрюмо-молчаливые жители Скандинавии и не унывающие при любых обстоятельствах французы. Меня они с первых минут приняли в свою семью, поделились хлебом и сигаретами. После обеда оставалось несколько минут в нашем распоряжении. Большинство заключенных устремилось в уборную не столько по необходимости, сколько для того, чтобы еще оттянуть время. По двору шагали мастера, «зеленые», эсэсовцы. Не попадайся им под руку! Я спрятался за угол здания, отсюда удобно наблюдать, когда будут возвращаться мои друзья по кузнице. Сидя на цоколе, я незаметно вздремнул. — Alarm, alarm![17] — раздалось над самым ухом. Я вздрогнул. Фельдфебель уперся в меня сверлящими голубыми глазками, вид его не предвещал ничего доброго. — Почему ты здесь? Тебе нечего делать? — Жду товарищей, — в растерянности пролепетал я. К цеху бежали заключенные. Эсэсовец подозвал одного из них. Вижу — Николай. Он прилично знал немецкий язык. — Скажи этому остолопу, — обратился фельдфебель к Николаю, показывая на меня, — что здесь надо работать, а не мечтать. Николай переводил по-своему: — Прошу тебя, остерегайся этого гада, он может наделать много подлостей. — Понятно? — обратился ко мне фельдфебель и приказал следовать за ним. По дороге в кузницу Николай продолжал свои наставления: — Имей в виду, он знает о твоем проступке и держит тебя под наблюдением. Теперь достаточно чуть-чуть оступиться, и судьба твоя будет решена без промедления. Вслед за эсэсовцем мы вошли в пустую кузницу. Немец выкрикнул неясные для меня слова. Николай перевел: надо перенести в угол вон те заготовки осей. Чтобы продемонстрировать свое усердие, я бросился опрометью в угол. Только б отцепился этот плюгавый тип! Схватил обеими руками ось и сразу даже не понял, что со мной произошло. Ладони приклеились к железу. Я рванулся всем телом и инстинктивно поднял руки вверх. Сердце будто остановилось, в глазах поплыли круги. Оказалось, оси только что вытащили из горна. Эсэсовец захихикал, словно его щекотали под мышками, затем вышел. Николай посылал в его адрес отборные ругательства. Как мне помочь, он не знал, к тому же растерялся. Пришли французы, поняли, в чем дело, и окунули мои обожженные руки в минеральное масло. От этого дикая боль медленно стихала. Мой напарник-француз о чем-то переговаривался с Николаем, тот все время кивал головой. Затем Николай обратился ко мне: — Будь осторожен. Тут ребята помогут. Думаю, этим еще не кончилось… Николай, работавший в мастерской электриком, ушел, но опасения его подтвердились очень скоро. В кузницу снова явился эсэсовец. — Ком! — поманил он меня пальцем. Привел на то самое место, где я дремал в ожидании товарищей. Скомандовал сесть на корточки, вытянуть руки вперед, не подниматься. Закурив сигарету, фельдфебель скрылся за углом. Я оглянулся по сторонам и заметил несколько человек, тоже сидевших на корточках. Как и я, они отбывали наказание за «проступки» перед райхом. Вскоре ноги мои онемели, руки стали дрожать, почерневшие от ожога ладони ныли. Неужели упаду? Тогда конец! Пытка продолжалась около двух часов. По сигналу, возвещавшему об окончании работы, заключенные выстроились во дворе. А о нас забыли. Заметил Николай и попросил о чем-то форарбейтера. Тот направился к нам: — Идите в строй! Но встать я был не в силах. Сделал движение и повалился на камень. Спина задеревенела, коленки — хоть иголками коли. Подбежали Николай и француз, который лечил мои ладони, подняли меня и повели в строй. — Знаешь, — говорил я Николаю, — если б возвратился СС, я, наверное, кинул бы последний козырь. — Пойми ты, — ласково увещевал он меня, — отдать жизнь — раз плюнуть. Надо ее сберечь, время придет, и мы скажем еще свое слово. В строю я с трудом волочил ноги, но постепенно кровь в них начала циркулировать нормально, и я вместе со всеми смог отбивать шаг и выполнять команду «мютцен аб!». Вечерняя поверка окончилась быстро. Тяжелые думы бередили мне душу. Порой овладевало такое состояние, будто я уже тысячи лет живу в аду и неизвестно, когда наступит просвет. Кто-то тронул меня за рукав. — Семен! Ты где сегодня страдал? — обрадовался я. — Возил железные болванки. Помогал ковать оружие врагу… Последние слова Семен произнес дрожащим голосом. У меня была сигарета, подаренная Николаем. Мы спрятались за барак и минут пять наслаждались ароматным дымом. Семен немного успокоился. В бараке я увидел Вилли. Он присел рядом и стал осматривать мои руки. Потом вытащил из кармана баночку с мазью, сунул мне под одеяло. — Карашо. С наступлением холодов узники получили зимнюю одежду — длинные полосатые халаты, сшитые из той же грубой мешковины, что и костюмы. Халат плохо греет, а на улице ноябрь. По утрам на крышах белеет изморозь. Хрустит под ногами мерзлая земля. Днем часто идут проливные дожди вперемежку с мокрым снегом. Все чаще я просыпаюсь на рассвете, ощущая недомогание. Нет сил, чтобы натянуть на себя робу, влезть в колодки. Не хочется есть. Болят суставы. Тянет в постель. Сказать о болезни? Нет уж! И я толкаю тачку, доверху наполненную металлическими чушками. Работа терпимая. На плечах у меня лямки, привязанные к рукояткам, и это облегчает работу. Николай замечает мое состояние. — Тебе плохо? — Не беспокойся. Выдержу. Прижимает ладонь к моему лбу. — У тебя жар. Отдохни, я подменю. Подошел форарбейтер с красной нашивкой. Николай объяснил ему мое состояние. Немец повел меня в дальний конец помещения, толкнул в клетушку. — Посиди, скоро конец смены. Не успела захлопнуться дверь, как за окном показался фельдфебель. Он заметил меня, стал барабанить пальцами по стеклу: — Выйди! Разговор протекал любезно. — Чем занят? — допытывался эсэсовец. Как умел, я объяснил, что по указанию форарбейтера должен убрать помещение. — Gut, gut! — остался доволен фельдфебель и приказал заодно помыть закопченные окна в цеху. Я еле поволок окованную железом лестницу. Такая она тяжелая. Мокрой тряпкой начал вытирать оконные стекла. Чем больше тер, тем они становились грязнее. Опускаясь на ступеньку, я почувствовал внезапное головокружение и сделал резкое движение. Лестница поползла по мокрому асфальту, я потерял равновесие и грохнулся вниз. На голову мне посыпались осколки разбитого стекла. Эсэсовец яростно пнул меня носком сапога в бок, заставил вскочить на ноги. — Русский медведь! И вот в наказание за проступок я снова сижу на корточках, вытянув руки вперед. К счастью, вскоре ударил гонг, товарищи подняли меня и поставили в строй. Вечером я окончательно слег, а к утру не мог даже поднять головы. Не докладывая блоковому, Вилли отвел меня в санитарную часть. Несколько врачей в белых халатах производили прием больных. Один из них протянул мне термометр. — Что у вас? — спросил он по-русски. Лицо у него худое, нос заострен, глаза внимательные и немного грустные. — Не знаю, плохо себя чувствую. Так я впервые встретился с врачом Николаем Шеклаковым. Взглянув на термометр, он обеспокоено покачал головой и стал меня инструктировать: — Вас отведут в больничный барак в распоряжение доктора Василия. Некоторые зовут его доктором Базилем. Он устроит вам койку и будет лечить. Постарайтесь одолеть хворобу как можно скорее. Больничный барак ничем не отличался от жилого. Те же трехярусные нары, кормят баландой и кофе-цикорием. Зато тепло, не надо вставать на аппель-поверки, и блоковый хороший парень — немец с красной нашивкой. По немногозначному номеру видно, что он в заключении много лет. Доктор Василий оказался молодым человеком лет двадцати семи, очень милым и обходительным. Он сказал, что у меня грипп, лежать придется дня три, больше — связано с риском. Постукивая пальцами по моей спине, Василий тихо наставлял: — Если немецкий врач будет спрашивать о болезни, имейте ввиду: у вас ничего не болит — ни желудок, ни сердце, ни легкие. У вас просто грипп. Старайтесь казаться бодрым и жизнерадостным. Никаких жалоб. Ясно, товарищ? Эсэсовский врач обходил несколько раз, но возле меня не задерживался. По его приказанию тяжелобольных укладывали на носилки. Все мы знали, куда их несут. Оттуда возврата нет. Через три дня доктор Василий сообщил, что завтра меня должны выписать, ибо дальнейшее мое пребывание в лазарете может возбудить подозрение эсэсовца. Если понадобится, через штубового Вилли он и доктор Шеклаков будут передавать лекарства. Возвратился я на свой блок к вечерней поверке. Семен поймал меня за руку, слезы вот-вот брызнут из глаз. — Поздравляю, у нас праздник. Я вначале не понял. Седьмое ноября было три дня назад. — Наши освободили Киев, — еле сдерживая волнение, сообщил Семен. — Киев! — воскликнул я так громко, что стоявший неподалеку Вилли обернулся и строго посмотрел в нашу сторону. Новость подтвердил и электрик Николай. Киев наши взяли в канун седьмого ноября. Весь лагерь об этом знает. Николай отвел меня в сторону, открыл свою неизменную сумку с инструментами. Там вместе с отвертками, шурупами, роликами лежал для меня подарок: несколько вареных картошек и сигарета. — Возьми, подкрепись. После трехдневной разлуки мне стал особенно родным и близким этот простой и сердечный парень. Я поинтересовался его мнением о Вилли. — Можешь смело положиться на него, — сказал Николай. — А если он кого и треснет по затылку — не смущайся. Иначе нельзя. Он политический, за ним следят «зеленые» и СС. — Теперь слушай, — продолжал Николай. — Тебя переведут на другой рабочий блок. Тот плюгавый фельдфебель с длинным носом все эти дни спрашивает, куда ты девался. Он не даст тебе жизни. Я хорошо изучил его повадки: если прицепится к кому, то не отстанет, пока не сживет со света. На следующий день меня действительно перевели в команду по разборке трофейных радиоприемников. В команде восемь человек: двое русских — я и молодой лейтенант-артиллерист и шесть норвежцев. Старшего зовут Иогансеном. Норвежцы деловито орудуют инструментом, отделяют внутренности аппарата от коробки, затем сортируют детали и складывают в ящики. Я — в роли мальчика на побегушках: принести, подать, отнести. Эсэсовец — заведующий мастерской, завидя меня, остановился, как вкопанный: — Откуда взялся этот скелет? Я сделал вид, что ничего не слышу и не понимаю. А Иогансен стал хвалить меня: — Русский солдат хороший, работает за двоих. Похвала подействовала. Эсэсовец окинул меня презрительным взглядом и вышел. Больше мы его в тот день не видели. Он беспробудно пьянствовал со своими дружками — «зелеными». С Иогансеном у нас дружба. Придя на работу, он подзывает меня и лейтенанта-артиллериста и дает несколько галет, сухую рыбу, сигареты. Норвежцы содержатся в лагере на особом положении. Когда гитлеровцы захватили Норвегию, они, чтобы избежать возникновения патриотических групп сопротивления, арестовали множество лиц. В лагере они скорее заложники, а не заключенные, получают посылки Красного Креста и из дому, живут сносно. Во всяком случае не умирают от истощения, реже болеют. Подкармливать русских небезопасно. За это положено в первый раз двадцать пять ударов палкой, при повторном случае — расстрел. Поэтому Иогансен приказывает нам немедленно съедать провизию. Мы рады стараться. Рыбу поглощаем вместе с головой и хвостом. Закусываем галетами. Курево остается на вечер. Мой друг-норвежец доволен, похлопывает меня сильной рукой рабочего: — Давай, давай! Слово это стало в полном смысле международным. Французы, поляки, сербы, чехи, встречая советских пленных, восклицают: — Давай, давай! За время работы с норвежцами у меня заметно прибавилось сил, я почувствовал под собою землю, голос мой окреп, мышцы стали упругими. Вскоре к нам на карантин прибыло шестнадцать советских военнопленных, новичков, а нас, уже отбывших проверку, было приказано перевести на 67-й блок, расположенный в самом конце территории лагеря. Первое впечатление такое, будто ты попал в мрачное сырое подземелье, наполненное человеческими тенями. Постукивая собственными костями, изможденные существа медленно передвигаются по узкому проходу между нар. Разговаривают очень тихо, как бы боясь кого-нибудь побеспокоить. Они ко всему равнодушны, и наше появление ни у кого не вызывает интереса. Люди истощены до предела. Видно, и нас ожидает та же участь. Вечером заглянул Николай. Должность электрика давала ему некоторые права передвижения по лагерю. Впрочем, свобода была относительной. Любой эсэсовец мог расправиться с ним, как и с любым другим пленным, но Николай хорошо знал безопасные маршруты и поэтому не попадался. Мы шли по аппель-плацу и вели тихую беседу. — Я должен предупредить тебя, Андрей, — говорил Николай, — что эсэсовцы не любят, когда пленные вот так секретничают. Они могут подкараулить нас, развести и каждого в отдельности допросить, о чем шла речь. Если наши ответы совпадут — все в порядке, если же начнем путать — пиши пропало. Крематорий обеспечен. Поэтому договариваемся: ты рассказывал мне о своем детстве, а я — о девушке Тане, на которой собирался жениться перед войной. У Тани глаза синие, она играет на гитаре… После столь необычного вступления он перешел к существу дела. — Рядом с тобой будут спать наши товарищи. Запомни: Козловский, Винников, Телевич. Ну-ка повтори! Я повторил. — Они про тебя кое-что знают. Поддерживай с ними связь. И еще один человек интересуется тобой: генерал. Позже ты повидаешься с ним. Бывший командир дивизии, настоящий человек. — Слушай, — перебил я Николая, — а не можешь ли ты говорить со мной прямее? Николай внимательно взглянул на меня. — Понимаю, — произнес он, — но всему свое время. Приятно слышать, что в лагере есть люди, которые знают меня, следят за моей судьбой. Николай стал подшучивать над моим неудачным побегом в Штаргардте. — Здорово все-таки околпачил тебя зондерфюрер. Красивую легенду выдумал про себя. — Откуда ты знаешь об этом? — удивился я. — Свое информбюро… На этом разговор прервался. Впереди показался эсэсовец. Медленно шагал он по боковой дорожке аппель-плаца, присматриваясь к одиноко бродившим полосатым фигурам. Николай тотчас зашагал вперед, я поотстал. Улучив минуту, когда эсэсовец отвернулся в сторону, я быстро возвратился к своему бараку и юркнул в дверь. Возле нар стоял худой, стройный человек. — Здравствуй, товарищ, — протянул он мне руку и добавил: — Козловский. А ты — Пирогов? Откуда-то из тени выплыли еще двое. Тиснут мне руки. — Борис… Марк… Я вижу их впервые, но мне кажется, что мы давно знакомы. Борис Винников — учитель из Белоруссии. Марк Телевич — москвич, перед самой войной окончил среднюю школу и добровольцем ушел в армию. Борис и Марк от голода едва держатся на ногах, несмотря на это, шутят, отпускают крепкие словечки в адрес немцев. Радостно находиться среди своих, может быть, еще и потому, что в последнее время работал с иностранцами и целыми днями не слышал родной речи. Марк сообщил, что приходил какой-то норвежец, спрашивал меня и очень огорчился, что не застал. Просил передать, чтобы я заглянул к ним на блок. Ходить к норвежцам категорически запрещено, за нарушение полагается двадцать пять палочных ударов. Но желание повидать друзей сильнее грозящей опасности и я пошел. Правда, перед этим Борис отправился на разведку и сообщил: — Путь открыт. Не задерживайтесь, майор. Через двадцать минут отбой. Открыл дверь барака. Норвежцы сидели за длинным столом и ужинали. Чтобы не показаться попрошайкой, я повернулся к выходу, но Иогансен заметил меня, обрадовался: — Давай, давай! Стал усаживать за стол, но я упирался изо всех сил. Заметит блоковый — не снести нам голов. Тогда он стал хватать все, что попадалось под руки, — коробки с паштетом, пачки галет, сухари, куски недоеденной рыбы, и поспешно засовывать мне в карманы. На прощанье Иогансен сообщил, что договорился с блоковым о том, что я по-прежнему буду работать в их группе по разборке приемников. Возвратился к себе благополучно. Товарищи ждали моего прихода. Борис поздравил: — С богатыми гостинцами вас, майор. До отбоя мы успели разделить продукты и съесть все до крошки. С тех пор я по вечерам иногда навещал норвежцев и всегда возвращался в барак с некоторым запасом провизии. Через два дня я снова встретился на аппель-плаце с Николаем. Он сообщил мне последние сводки о положении на фронте: наши успешно развивали наступление. Я уже не спрашивал, откуда ему все это известно. Для меня совершенно ясно, что в лагере действует сильная подпольная организация, у которой связи простираются далеко за обычный круг. На душе у меня посветлело. Я среди своих. Опять возникло ощущение локтя. Хорошо, когда рядом настоящие товарищи!
Глава 21. Александр Степанович

Мои друзья давно говорят о некоем таинственном человеке. И вот я иду на встречу с ним. Николай впереди. Он должен представить меня генералу. Еще издали среди одиноко бродящих фигур я замечаю высокого ладно скроенного человека. Он не спеша идет от барака. Полосатый халат на него узок, шапка туго натянута на крупную голову. Когда мы поравнялись, Николай, прошмыгнув дальше, остановился в стороне. Впереди я увидел еще одного человека, понял, что охраняют генерала. Я нагнулся и стал поправлять завязки на колодках. Рядом раздался приятный спокойный голос: — Здравствуйте, товарищ Пирогов! Как дела? Не поднимая головы, я ответил: — Добрый вечер, товарищ генерал. Спасибо. Он тут же поправил: — Александр Степанович… Таким и представлялся мне генерал: открытое русское лицо, большие серые глаза под густыми лохматыми бровями. Слова у него льются плавно, с нажимом на «о». — Слушайте меня внимательно, — произнес Александр Степанович и тоже нагнулся, делая вид, что поправляет обувь. — В лагере сейчас около двадцати тысяч заключенных. Все они против фашизма, но это не значит, что все они наши друзья. Поэтому присматривайтесь. Доверять нельзя. На фронте у нас дела хороши. Информацию будете получать через Николая. Осторожно сообщайте об этом своим. Вас понемногу будут ссужать продуктами — вы делитесь с другими. Но главное, поддерживайте моральное состояние… Не докончив фразы, он удалился. Я повернул к своему бараку. Вскоре меня догнал Николай. Условились, о чем будем докладывать, если эсэсовцу вздумается нас допросить. Затем речь зашла о генерале. Фамилия его Зотов, он командовал дивизией, в 1941 году попал в окружение и был захвачен в плен. Мне кажется, я знаю его давно. Есть такие люди: поговоришь один раз, а потом он стоит у тебя в памяти вечность. В бараке все находились на месте. Козловский поглядывал на мои карманы, но на этот раз они были пусты. Мой сосед по нарам воентехник Вася молча сидел, подперев лицо ладонями. Второго соседа на месте не оказалось. Мною овладело смутное предчувствие. На мой вопрос Телевич мрачно буркнул: — Умер. Шел напиться воды, упал и не ойкнул. Вчера — один, сегодня — трое, завтра будет пятеро. Люди уходят из жизни, не успевая назвать имя любимой, передать прощальное слово матери. У них даже нет сил высказать свою ненависть к тем, кто довел их до голодной смерти. Через несколько дней после вечерней поверки я снова встретился с Александром Степановичем. Меня, как магнитом, тянуло к нему, я улыбался от радости. Зотов легонько оттолкнул меня: — Не увлекайтесь, дружище, смех и улыбку здесь считают преступлением. — Сделав короткую паузу, он продолжал: — Гитлеровцы хотят превратить нас в животных, потерявших человеческий облик. Голодом, каторжным трудом, пытками. Уж очень много случаев, когда «мусульмане»[18] бросаются на колючую проволоку под током высокого напряжения. Нужны огромные усилия, чтобы хоть морально поддержать людей. Пытливо взглянув на меня, Зотов спросил: — Вам ясна обстановка в лагере? Имейте в виду, наша опора не на все красные винкели, а главным образом на коммунистов. Их здесь много. «Зеленые» немного приутихли, побаиваются близкого возмездия. В связи с тем, что Италия вышла из гитлеровской «оси», немцы, отступая, вывозят политических заключенных из итальянских тюрем. В лагерь прибывает много патриотов-итальянцев. Это тоже наше подспорье. Нам следует привлечь на свою сторону всех способных сопротивляться фашизму. Я спросил: — Что возлагается на меня? Зотов тотчас ответил: — Ваш сектор — бараки вокруг 67-го блока. Встречайтесь с людьми, объясняйте ситуацию, ведите учет по военным специальностям. Мы разошлись в разные стороны, не попрощавшись. С тех пор почти каждый вечер я встречался с различными заключенными из своего и соседних блоков. Иногда их приводил ко мне Николай. Некоторые приходили сами, передавая как пароль привет от Николая. Так я познакомился с группой москвичей, которые жили в соседнем штубе. Один из них по имени Володя однажды привел ко мне своего форарбейтера, мастера часовой мастерской. — Пауль Глинский, — отрекомендовался он. Пауль говорил довольно сносно по-русски, с каким-то особенным акцентом, выдававшим в нем скорее чеха, нежели немца. Винкель у него был красный, а небольшой номер свидетельствовал о том, что в заключении он находится уже много лет. — Вы, случайно, не родственник знаменитого русского хирурга? — всерьез обратился он ко мне. — Бери выше, он правнук Александра Суворова, — стал подшучивать Володя. После этого визита Пауль стал проявлять заботу обо мне. Навещая по вечерам, обычно приносил либо суп, либо хлеб. Сам он не курил, но это не мешает ему ссужать меня сигаретами. — Бери, я еще достану, — говорил он и моментально исчезал. В помощь себе я привлек воентехника Василия. Сообща мы группировали советских людей, стараясь помогать им в первую очередь. В этом была огромная необходимость. До сих пор еще стоят у меня в глазах горы трупов. Большинство умиравших от истощения — русские. Это нас, советских людей, гитлеровцы поставили вне всяких законов. Не легко было и другим заключенным, но им хоть изредка выдавались посылки Красного Креста, разрешались посылки из дому. Видно было, что Козловский, Телевич и Винников занимаются тем же, что и я, но только в других местах. Я с ними вижусь каждый день, но о работе — ни слова. Конспирация есть конспирация. Винников и Телевич хорошо знают немецкий язык, это им служит основательным подспорьем. После одной из очередных встреч с Зотовым я задержался на плацу. Разнесся слух, что утром из лагеря будет отправляться транспорт. В бараке стоял переполох, блоковый составлял списки. В них не включали лишь «мусульман», которых не сегодня-завтра ожидал крематорий. — Не волнуйся, мы с тобой не попали в списки, мы числимся «мусульманами», — грустно ухмыльнулся Козловский. Однако утром, после кофе, когда блоковый стал выкрикивать фамилии тех, кому надовыходить на построение к главной канцелярии, я услышал и свою фамилию. Натянул фуфайку, поверх нее халат и скорее на плац. Со всех бараков спешили заключенные. Целая свора «зеленых» терлась возле эсэсовца. — Живее, живее! По слухам, транспорт отправляют в Берлин на расчистку улиц и извлечение неразорвавшихся бомб. Можно не сомневаться, что так оно и есть. В главной канцелярии работают немецкие коммунисты, от них исходит точная информация. Многие приободрились. Хотя расчищать руины придется под бомбежками, да и извлечение неразорвавшихся бомб не очень приятное дело, но все-таки это лучше, чем умирать медленной смертью в Заксенхаузене. Меня же не радовала перспектива попасть в Берлин. Я думал о Зотове, о Николае, о Козловском, Винникове, Телевиче. Неужели снова придется остаться без верных друзей? Строй долго сортировали. Слабых выводили и отправляли обратно в бараки, других вталкивали в ряды. То и дело слышались удары палок — эсэсовцы равняли строй. От удара кто-то свалился наземь. — Кто хочет плавать? — послышался звонкий голос рапортфюрера. В ответ раздался взрыв смеха. Хохотали эсэсовцы, им вторили «зеленые». Виновного в проступке подхватили за руки два рослых детины, тот послушно шел за своими истязателями. — Плавать его научить, плавать! — горланили немцы. Я увидел, что «зеленые» вели на расправу Федора. С тех пор, как эсэсовец разбил ему переносицу за попытку получить вторую порцию баланды, я потерял его след. И вот встреча. У меня запершило в горле, с трудом сдержал себя, чтобы не крикнуть: «Федор, держись!» Что такое «научить плавать», я уже знаю по рассказам Пауля Глинского. Предчувствия не обманули меня. Федора потянули к бочке, наполненной водой. Он упирался, пробовал сопротивляться, но палачи без труда подняли худое тело и с размаху бултыхнули головой вниз. Так погиб этот маленький, рыжий человек, мечтавший когда-нибудь наесться досыта. Опять перестраивают ряды, пересчитывают людей. Неожиданно я заметил среди блоковых Вилли. Он направился в нашу сторону, ища кого-то. Увидев меня, Вилли решительно подошел к нашей группе и сообщил, что меня вызывают в шрайбштубу — лагерную канцелярию. Он тут же вытащил меня из строя и повел за собой. В канцелярии было полно блоковых, штубовых и другого внутрилагерного начальства. Вилли подвел меня к писарю и сам тотчас ушел. Писарь, в свою очередь, передал меня одному блоковому. Я его немного знал, он изредка заходил в наш барак еще в дни карантина. Парень как будто не плохой, носит красную нашивку. Он привел меня к бараку, открыл свою комнату и, дав кусок хлеба с маргарином, приказал сидеть до вечера, не показываться никому на глаза. Уже в темноте я незаметно пробрался к своему блоку. Товарищи радостно встретили мое появление, Козловский бросился в объятия. — Голубчик, какими судьбами? Винников и Телевич ощупывали меня, точно перед ними стояло привидение. — Да, брат, — покачивал головой Винников, — родился ты под счастливой звездой. Расскажи, как тебе удалось выскользнуть. Зотову доложили о моем возвращении, и он на второй день предложил мне явиться в условленное место. Погода благоприятствовала: на дворе бушевала метель, мокрый снег слепил глаза, ветер гудел в проводах. В такие часы эсэсовцы мало ходили внутри лагеря, пьянствовали, блоковые и штубовые сидели на своих блоках, играли в карты. Мы встретились на углу барака, готовые в случае опасности незаметно растаять в ночи. Против обычного, разговор продолжался минут двадцать. Александр Степанович предостерегал против безрассудных поступков — надо обязательно помогать нашим людям, которые истощены голодом, но не следует делать это открыто да еще вдобавок выражать им сочувствие. Демонстрация тут ни к чему. Немцы зорко следят за тем, что творится вокруг, людей подозрительных убирают немедленно. — Вот так и вы, видимо, попали на мушку, — говорил Александр Степанович. — Будьте осторожнее, помогайте товарищам, но и себя берегите. Умереть в Заксенхаузене можно в два счета, но мы не будем спешить, у нас еще много дел впереди… Генерал пожурил меня. В последнее время я и впрямь действовал неосторожно, в присутствии многих делил полученные от Иогансена продукты. У норвежцев тоже была из-за этого неприятность. — А от Берлина тебя спасли немецкие товарищи, — усмехнулся Александр Степанович. — Считай, что мы ничего не знаем, не ведаем. В лагере существуют землячества, организованные по национальным принципам. Они стали серьезной силой, но действуют обособленно. Нужно попытаться создать единый руководящий центр, который координировал бы действия всех антифашистов. Зотов предложил мне встретиться с представителем чешской подпольной организации. — Руководит ими коммунист Антонин Запотоцкий, но сперва нужно связаться с Водичкой, — пояснил он. — Ты обязательно постарайся установить с ними контакт. Если удастся, мы тогда наметим дальнейшие меры. Уточнив вопросы, которые предстояло решить при встрече с Водичкой, Зотов поинтересовался нашими повседневными связями с иностранцами. Я сказал, что, по моему мнению, некоторые поляки ведут себя так, словно их привезли сюда отбывать трудовую повинность. И хотя они, как и мы, советские, ненавидят фашистов, однако ведут себя обособленно. Одним словом, не желают ни с кем варить кашу. — В том-то и беда! — продолжал мою мысль генерал. — На пути нашего единства стоит еще национальная ограниченность отдельной части заключенных. Национализм — большая опасность, националисты даже здесь, в концлагере, часто договариваются до абсурда: лучше Гитлер, твердят они, чем Красная Армия на их земле. Вот что значит национализм! Зотов сообщил мне, что в лагере находится много интернированных видных государственных и политических деятелей различных стран Европы: французы, чехи, поляки, даже испанцы-республиканцы. Для них в центре лагеря имеются специальные бараки. Так вот эти люди нередко сбивают с толку своих земляков, вносят разлад и сумятицу в землячества. А наш главный лозунг: против фашистов быть вместе. Напоследок генерал предупредил о том, что в барак ко мне явится один товарищ по имени Ганс. Все, что он сообщит, я должен передать друзьям. Молча обменялись мы крепким рукопожатием: — До встречи! С нетерпением ждал я появления неизвестного мне Ганса. Вскоре он пожаловал. Остроносый, светлоглазый паренек лет двадцати двух. Штубовый обходил барак, и я опасался, как бы он не приметил моего гостя. Но с Гансом штубовый поздоровался очень приветливо. Несколько минут, пока я стоял в стороне, они о чем-то оживленно говорили. Оказалось, Ганс работает в главной канцелярии лагеря, ведет «дела» заключенных. Историю моего пленения он знал наизусть. Мы вышли во двор. — Привет от Александра Степановича, — сказал Ганс по-русски. На этом исчерпался его запас русского языка, и он продолжал уже по-немецки, стараясь говорить медленно, чтобы я все понял: — За последние дни Красная Армия отбила много городов… — Он хлопнул меня по плечу. — Seher gut! С тех пор я регулярно встречался с Гансом. Без лишних слов он говорил мне: Житомир, Брянск, Мелитополь… Понятно? Еще бы! Весь лагерь уже знал о крупном советском наступлении. Сводки Совинформбюро каким-то чудом становились известными в тот же день. Ложась после отбоя на холодные нары, я уже не думал о том, встану ли утром. Я сжимал кулаки и шептал про себя: «Скоро, скоро…»
Глава 22. Казнь

Однажды, стоя в очереди за получением миски брюквенной баланды, Борис Винников обратил внимание на резко очерченное красное пятно у меня на левой щеке. Козловский предположил, что это рожистое воспаление. Пока я глотал баланду, товарищи разглядывали меня, не скрывая своего беспокойства. — Надо принимать меры! — Ради бога, я здоров, — пытался я отбиться. Но состояние мое и в самом деле неважное. Голова раскалывается от боли, по телу распространился неприятный зуд. Заявить о болезни штубовому я боялся. Думал, отведет к врачу СС, а там — конец. Больных кожными заболеваниями отправляли на специальное исследование и, если оказывалось что-нибудь серьезное, их ждала газовая камера. — Надо, — предложил Козловский, — отправить тебя к нашему врачу. Мой сосед по нарам, беспокойный и суетливый Василий, взялся провести меня в ревир.[19] — Нельзя! — возразил Марк Телевич. — Заметят эсэсовцы, кончится плохо. Сопровождать должен немец. Выход нашли. У Козловского хорошие отношения с блоковым писарем. Позвали его. Писарь взял меня под руку и повел через плац, стараясь обходить эсэсовцев и «зеленых». В ревире я снова предстал перед доктором Шеклаковым. Он удивленно оглядывал меня, точно перед ним стоял человек, возвратившийся с того света. — Редкий случай, — улыбнулся он. — Заключенные больше одного раза сюда не обращаются. Если часто болеют, то их отправляют туда! — махнул он рукой. Врач пристально осмотрел мое лицо. В металлической коробке, которая стояла передо мной на столике, я видел свое отражение. Вот оно, красное пятно, величиной с пятак, окаймленное синеватым вздувшимся ободком. — Что за штука? — пробовал я храбриться. — Штука? — повторил врач. — Ничего опасного. Воспаление кожи. Я вас снова пошлю к доктору Василию. Доктор Василий уже работал не в том бараке, где я лечился у него от гриппа. Теперь у него в лагере лежали больные желудком. Но прочитав направление, подписанное Шеклаковым, он принял меня и положил в самом конце барака на верхнюю койку, предупредив, чтобы я не поворачивался лицом к проходу. — Вы, кажется, у меня вторично? — поинтересовался врач. — Ваша фамилия мне знакома. — Был один раз. Вы меня от гриппа, то есть от гроба вылечили… Василий понимающе кивнул. Я заметил у него на верхней губе маленький кружочек пластыря. Несмотря на внешнее спокойствие, чувствовалось, что врач нервничает. Щеки подергивались, веки вздрагивали. Оно и понятно: если обнаружится, что среди желудочников лежит больной рожей, Василию несдобровать при всем его авторитете. Василий мазал меня какой-то черной остро пахнувшей мазью, давал пить стрептоцид. Когда краснота немного сошла, он пригласил меня однажды вместе с ним выйти подышать свежим воздухом. Небольшой внутренний дворик заполняли худые, изможденные люди в полосатых робах. Это выздоравливающие. Одни шагали, бодрясь, другие осторожно переставляли ноги, как маленькие дети, которые учатся ходить. Пригревало зимнее солнце, капало с крыш. Василий шепнул мне на ухо: — Обратите внимание вон на того высокого в синем костюме. Хотите, я познакомлю вас? Я не знал, что ответить врачу, не знал, к чему это знакомство и с чьего ведома. Мне не следовало делать ошибок. Но уклоняться, возможно, тоже нельзя. Высокий худощавый мужчина лет шестидесяти, завидев врача, заулыбался. У него смуглое лицо, бородка, подстриженная на французский манер, темные с проседью волосы. Где я мог видеть его? Василий обратился к нему по-французски, назвал мою фамилию. Потом ко мне: — Это Ларго Кабальеро… Я пожал его большую руку, и память возвратила меня к тридцать шестому году, когда Испания сражалась против войск Франко. No passaran! Они не пройдут! — было в те дни самым популярным лозунгом. Вспомнил, как Михаил Кольцов передавал из Мадрида репортажи о боях за столицу Испании. Я находился тогда в военных лагерях под Киевом. Дорогие имена — Долорес Ибаррури, Хосе Диас… Их портреты печатались в газетах и журналах вместе с портретами Ларго Кабальеро, главы правительства республиканской Испании. Генерал Франко с помощью Гитлера и Муссолини задушил республику. Пожимая руку испанцу, я сказал: — О вас тоже позаботились… Намек, очевидно, не дошел до него. Он сразу заговорил о Сталинграде. Доктор Василий переводил. — Защитники этого города восхитили весь мир, — чеканя слова, говорил Кабальеро. — Испанцы берут пример с русских и гордятся этим. Речь, конечно, шла об испанцах, заключенных в лагере. Прибежал запыхавшийся санитар. В лазарет нагрянул эсэсовский врач. Пришлось прекратить беседу. Мне удалось улизнуть от осмотра, но Василий предложил немедленно возвращаться на свой блок. Мы пожали друг другу руки. — Привет Александру Степановичу, — тихо сказал врач. — Передайте: делаем все возможное, чтобы помогать нашим людям. Явившись на блок, я узнал, что за минувшую неделю барак посещали Иогансен, Пауль Глинский, Ганс. Приносили продукты, лекарства, табак. Николай передал мне привет от Зотова и тут же огорошил неожиданной вестью: с завтрашнего дня я зачисляюсь в вальдкоманду. Так называлась команда чернорабочих, которая обслуживала лагерные мастерские, находившиеся в лесу. — Понимаешь, так надо, — успокаивал он меня. — Сначала тебе будет трудно, но потом все уладится. Вместо тебя к норвежцам послали нашего товарища, он очень ослаб, там его поддержат… Вальдкоманда разбивалась на группы, каждая состояла из тридцати-сорока французов, поляков, чехов и русских. Выполняла она самую грязную и тяжелую работу. Под конец дня я настолько уставал, что еле волочил ноги. Болезнь тоже забрала порядочно сил, и я опасался, что могу свалиться в присутствии форарбейтера. Однажды вечером, возвращаясь с работы, мы заметили, что возле барака, в котором жило около трехсот подростков, вывезенных немцами из оккупированных стран, устанавливают разборную виселицу. Не иначе, будет публичная казнь. Время от времени эсэсовцы совершали такие казни для устрашения заключенных. Из бараков нас сразу же погнали на плац. Возле виселицы образовалось нечто вроде каре. В центре его еще копошились, стучали молотками люди. Двое «зеленых» вывели под руки белобрысого вихрастого подростка. Ему лет пятнадцать от силы. Он бойко оглядывался по сторонам, казалось вот-вот спросит: «И чего вы пристали ко мне?» В гробовой тишине рапортфюрер зачитал приказ начальника лагеря. Приказ обжалованию не подлежит, — начальник лагеря отвечает за свои действия только перед фюрером. Суть проступка мальчишки состояла в том, что, работая в мастерской по изготовлению санитарных сумок, он отрезал кусок брезента, намереваясь пошить себе тапочки. За этой операцией его застал надсмотрщик. И сколько подросток ни показывал на свои натертые колодками, покрытые сплошными волдырями ноги, ничего не помогло. Приказ коменданта лагеря гласил: двадцать пять ударов палками, после чего повесить. Прислуга деловито хлопотала возле виселицы. Петлю то опускали ниже, то подымали. Едва замолк рапортфюрер, как мальчишку схватили и мгновенно привязали к «кобыле» — специальной скамье для порки заключенных. Жутко бывало смотреть, когда наказывали взрослого, а здесь, здесь ведь ребенок, да еще истощенный голодом. Конец! Дали все двадцать пять. Когда его отвязали, он едва стоял на ногах, шатался. Эсэсовец за рукав потащил его к виселице. Нужно было видеть этот жест, которым паренек оттолкнул его руку. Как можно спокойнее подошел он к виселице и таким же жестом отстранил эсэсовца, державшего петлю. В этот жест было вложено все: и неудержимая ненависть к своим палачам, и еще что-то невероятно брезгливое. — Палачи! Собаки! — звонким дискантом по-русски закричал он. Эсэсовец быстро набросил ему петлю на шею и поторопился выбить из-под ног подставку. Утром, проходя с вальдкомандой на работу, мы уже не видели П-образного сооружения. Ночью его разобрали и спрятали до нового случая. Но в ушах, не переставая, звучали слова казненного: «Палачи! Собаки!» В проходе между бараками, куда по утрам обычно сносили умерших за ночь и где мы по вечерам курили иногда тайком от блокового, я столкнулся с Паулем Глинским. Он сам завел разговор о казни, возмущался, клял Гитлера и Гиммлера, вздыхал, разводя руками: — Ах, варвары! Что они делают! Что они делают! Боясь задеть его самолюбие, я сказал: — Тебе, Пауль, легче ответить на это. Ты немец, знаешь больше, чем мы. Он измерил меня укоризненным взглядом. — Думаешь, мне легче, чем тебе, или поляку, чеху, французу? Нам вдвойне тяжело. Пройдут годы, ваши дети спросят: неужели не нашлось немцев, которые бы обуздали Гитлера? Почему они допустили его к власти? Ведь сейчас даже само слово «немец» стало во всем мире ненавистно людям. Коль скоро зашла речь о детях, я поинтересовался, есть ли наследники у Глинского. Пауль не мог скрыть своего горя. — Нет у меня ни родных, ни детей, ни жены. Я даже не успел никого полюбить, мне не дали. Вот, взгляни на мой номер. Номер у Пауля трехзначный. Стало быть, он один из старейших узников концлагеря. — Сколько же лет ты сидишь? — С 1934-го! Вскоре после прихода Гитлера меня схватили и заключили сюда. Десять лет ношу полосатую форму. Но все равно я выдержу, останусь жить. Ваши уже недалеко, они освободят нас. Пауль покинул место наших свиданий очень расстроенный. Николай объяснил мне, что у него недавно произошла стычка с кем-то из иностранцев. Те бросили ему в лицо обидные слова: мол, все немцы одним миром мазаны, все они убийцы, не умеют жить без войн. Пауль не мог открыто вступить в полемику, доказывать абсурдность таких утверждений, ведь он носит нашивку форарбейтера, за ним бдительно следят. Но реплика эта ударила его в самое больное место, и вот он ходит теперь сам не свой. Появление Николая всегда означало, что меня ждут интересные новости. Так и есть. Мы договорились о встрече с генералом, которого я не видел со дня болезни. У меня было чем порадовать Александра Степановича. Продовольственная помощь помаленьку поступает из многих рук, мы поддерживаем людей, спасая их от голодной смерти. Сообщения с фронтов своевременно распространяются среди пленных. Уже учтены по войсковым специальностям все русские. Моему соседу по нарам воентехнику Василию за время моего отсутствия удалось кое-что выведать и в соседних бараках. Были у меня и личные вопросы к Зотову, решить их я сам не мог. Дело касалось полковника Б. — человека отчаявшегося, потерявшего способность к сопротивлению, к тому же больного. Последний раз, когда я встретился с ним у ворот карантина, полковник едва не расплакался. Он уверял, что каждую ночь из барака уносят не меньше десяти русских. Я хотел попросить Пауля или Ганса провести его какими-нибудь путями к врачу Шеклакову, возможно, там он получит направление в лазарет. Николай задумался. — Без ведома А. С. ничего делать нельзя. И потом, ты знаешь, кто этот тип? Служил у Власова. Предатель, изменник, стрелял по нашим. Удивительно, как он угодил в концлагерь! — Некоторая часть власовцев открыто саботировала службу в РОА и за это попала в Заксенхаузен, — объяснил ему. — Не верю я им! — Николай тряхнул стриженой головой. — Ну, как это можно, скажи, пожалуйста, продать душу черту, а потом проситься в рай! А дудки, вот! — свернул он кукиш. — Не поверю никогда! Николай зашагал в сторону ворот. Потом возвратился, решительно поправил шапку. — Я хотел тебе сообщить да запамятовал. Помнишь врача, который в лазарете работал, молодой такой, военно-медицинскую академию закончил? — Василий? — Вчера утром сожгли в крематории. Подробности стали известны позже. У Василия возник фурункул на верхней губе. Еще при мне он носил на губе наклейку. Эсэсовский врач, несмотря на возражения Василия и доктора Шеклакова, произвел эксперимент — сделал ему укол в больное место. Спустя шесть часов Василия не стало.
Глава 23. Наши идут!
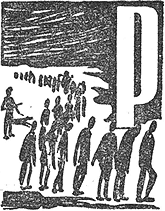
Раскаты орудий еще не доносятся до Заксенхаузена, фронт еще далеко. Но все мы, живые, способные кое-как передвигаться, что-то делать, нормально мыслить и рассуждать — все мы уже слышим за толстыми стенами лагеря победный марш Красной Армии. Мы — это не только русские. Мы — это и немцы, и французы, и норвежцы, чехи, поляки, югославы. Мы — это двадцать с лишним тысяч узников с ввалившимися животами, выпирающими из кожи ребрами, воспаленными глазами, высохшими, тонкими руками. Двадцать тысяч живых и во много раз больше — мертвых, сожженных в печах крематория, выпущенных «через люфт». Мы радуемся. Радость светится в глазах Ганса! Он немец из Гамбурга, он никогда не видел советского солдата, но у него даже лицо посветлело. Наклонившись ко мне, он шепчет: — Букарешт, Вестен Украина, Висла… Гитлер капут! Нас пятнадцать советских офицеров. Кто сидит на нарах, кто примостился у окна. Сообщение Ганса производит впечатление разорвавшейся бомбы. Считаем, сколько километров от Варшавы до Берлина, от Бухареста до Будапешта. — Теперь не долго осталось ждать, — потирает руки Борис Винников. — Еще несколько стремительных рывков — и наши будут здесь. Ему возражают: — Война — не игра в футбол. Реки крови прольют наши люди, пока освободят нас. — Интересно все-таки, — вступает в разговор Николай, — чем все кончится. Дожить бы до победы, посмотреть, какая она, победа. Гитлера, наверное, расстреляют. — Слишком мягко, — доносится голос с верхних нар. — Я б посадил его в железную клетку и повез по миру: «Глядите, люди, вот он, виновник гибели наших отцов, братьев, сестер. Глядите и не забывайте!» Он говорит страстно, горячо, каждое слово, что раскаленный кусок угля. Кто этот человек там, наверху? Не все ли равно. Наш, советский. Мы слушаем его молча. Я думаю о том, что завтра, второго сентября 1944 года исполняется два года, как я нахожусь в плену. Вот уже более года, как я здесь в концлагере. Моя дорога пролегла от Керчи до безвестного города Ораниенбурга под Берлином. Два года иду я по этой дороге в колонне узников, теряя по пути товарищей. Сколько осталось их убитыми, затравленными, умершими от голода, сожженными в крематории, задушенными, повешенными. Если мне суждено выжить, я должен отомстить за них. Никто из нас никогда не простит палачам гибели невинно замученных людей. — Ну, задумались! — пробует расшевелить нас неугомонный Николай. — Давайте поговорим, что будем делать после войны. Кто на завод, кто в колхоз, кто учиться… Вновь появляется Ганс. Все внимание обращено к нему. — Порадуй нас, Гансик, хорошими словами! Ганс оглядывается: — Es lebe die Rote Armee![20] — подняв над головой кулак, он приветствует Красную Армию, которая форсировала Вислу и успешно пробивается на Запад. — Ганс, дорогой, — бросается к нему Николай, — повтори еще раз! Штубовый лежит в своей каморке. Мы знаем: он все слышит. Но штубовый с красной нашивкой, политический, доносить он не станет. Сейчас многое изменилось. Даже «зеленые», эти бандиты, как-то по-другому относятся к нам, русским. Хотя они все еще показывают свою власть, но мы безошибочно угадываем трусливую нотку в их голосе. Вернувшись однажды после вечерней поверки в казарму, мы увидели на аппель-плаце целую колонну черных тюремных автомашин. Ганс рассказал нам, что был заговор на Гитлера. Покушение не удалось, фюрер отделался испугом. Арестованы сотни офицеров вермахта, среди них есть даже высшие чины. Арестованных поместили в отдельный барак рядом с крематорием, близко никого не подпускали. По ночам их допрашивали, расстреливали и сжигали в печах крематория. Из установленных на аппель-плаце громкоговорителей то и дело доносился голос Геббельса, вещавшего: «Если и не верить в чудо, то чудо все же совершилось. Рука провидения спасла нашего любимого фюрера!..» Несмотря на лихорадочную обстановку в лагере, Зотов вызвал меня на свидание. Казалось, мы не виделись целый век. То болезнь загнала меня в лазарет, то за Александром Степановичем усилилась слежка и он настрого предупреждал не приходить к нему. Я узнал Зотова издалека. Генерал пожал мне руку, справился о здоровье и сразу же приступил к делу. Александр Степанович подтвердил то, о чем я и сам подумывал. Наступление наших войск породило у некоторых пленных беспечность. Думают, что немцы, боясь неизбежной расплаты за содеянные злодеяния, стали гуманными. Наши люди в бараках открыто обсуждают сводки с фронтов, ругают Гитлера, угрожают блоковым. — Можно понять чувства, которые владеют каждым из нас, — говорил Зотов, — но нельзя допускать безрассудства. Вчера, например, из сорок пятого блока увели троих наших офицеров. Они угрожали размозжить голову блоковому. Теперь все трое уже там, — он показал в сторону крематория. — Поэтому я требую усиления конспирации. Нужно сохранить жизнь людей. Мелкие диверсии ни к чему. Это на заводе «Хейнкель» есть смысл портить моторы, а здесь, в мастерских, ломать сверла… Я понял намек генерала. Сказал: — Среди пленных большой моральный подъем. Готовы хоть завтра в бой. — Понимаю, хорошо понимаю, — кивнул он. — Ждать осталось недолго, больше ждали. Надо готовиться к удару изнутри. Пора думать о вооружении боевых групп. И вот еще что, Пирогов, прекратите встречаться с полковником Б. Этот предатель занимал у Власова крупный пост и что-то они не поделили. С ним разберется Родина, а мы — солдаты и должны быть твердыми. Я доложил Зотову, что никак не могу связаться с Водичкой, сколько ни делал попыток, все неудачно. — Я знаю, — сказал Александр Степанович. — На этот раз Водичка сам разыщет тебя. Выслушай его внимательно. Потом расскажешь мне. Представитель чехов не заставил себя долго ждать. Как-то у выхода из 67-го блока мне преградил дорогу кряжистый, широкоплечий мужчина. Подавая руку, доверительно посмотрел в глаза. — Ты Пирогов? — Я. — Водичка. Я немало слышал о Водичке, хотя лично не смог с ним встретиться. По-русски он разговаривал плохо, но мы — славяне, и вполне понимали друг друга без переводчика. Не торопясь, прошлись вдоль барака. Мой новый друг говорил о том, что чехи потеряли в Заксенхаузене сотни прекрасных товарищей, главным образом коммунистов. Многие тяжело болели на почве голода и были сожжены. Теперь, рассказывал Водичка, мы боремся за спасение каждого человека. Достаем продукты, с помощью немецких товарищей устраиваем людей на более легкую работу, добываем лекарства. Наступление Красной Армии по всему фронту вселило в сердца чехов большие надежды. — Но мы не станем ждать, пока русские солдаты откроют ворота концлагеря, мы собираемся драться с гитлеровцами, — тут же добавил Водичка. Из дальнейшего разговора выяснилось, что чешская подпольная организация создает боевые группы по одному с нами образцу. — А оружие? — поинтересовался я. — Мы связаны с немецкими коммунистами, которые работают на складах, в мастерских и могут кое-что добыть для нас и для вас. Из-за угла, от барака, где размещалась часовая мастерская, вынырнул эсэсовец. Водичка первым стал во фронт, снял шапку и хлопнул ею по бедру. Я последовал его примеру. Эсэсовец важно продефилировал мимо, даже не взглянув в нашу сторону. Договорившись встретиться на следующий день, мы немедленно разошлись. Чем черт не шутит, немец мог возвратиться и устроить перекрестный допрос. Но на следующий день наше свидание не состоялось. Ночью английская авиация совершила массированный налет на Ораниенбург. Четыре часа подряд не прекращались взрывы. Город был буквально стерт с лица земли. Деревянные бараки в лагере трещали по швам, нары вздрагивали, но к нам не залетела ни одна бомба. По всему небу англичане развешали фонари и бомбили всюду, только не лагерь. При каждом новом взрыве, Василек повторял с наслаждением: — Так их, еще разок, еще! Люблю симфоническую музыку… Его сосед заметил: — Мирное население пострадает. Василек злился: — А в Ленинграде, в Киеве и Минске не было, по-твоему, мирного населения? Часам к трем утра налет закончился. Выстроившись на поверку, мы услышали за стенами лагеря приглушенный незнакомый рокот. Точно море подкатывалось к Заксенхаузену. Когда я вышел с вальдкомандой за ворота, то увидел такую картину: тысячи женщин, стариков, детей с узлами, колясками, чемоданами сидели вдоль стен на пожухлой траве и взирали на дымящий, закопченный город. Женщины плакали навзрыд. Слышались детские голоса. У многих были перевязаны головы. По иронии судьбы эти люди пришли под стены лагеря смерти спасаться от бомбежки. Со страхом глядели они на черепичные крыши своего еще вчера уютного, но теперь такого страшного Ораниенбурга и, наверное, вспоминали тех, кто остался там, под развалинами. Глазами, наполненными настоящим человеческим горем, глядели они нам вслед. Да, это были уже не те взгляды, которыми когда-то встречали нас на улицах Штеттина, Штаргардта. И ребятишки не кидали нам в спины каменья. Шагая в колонне, я вспомнил разговор Василька со своими соседями. Может быть, эти престарелые немцы и немки хоть тайком проклянут фюрера и его банду, затеявшую мировую бойню и принесшую так много страданий и горя народам. Потом в лагерь непрерывным потоком повалили автомашины, битком набитые ранеными. Это были заключенные, работавшие на военных предприятиях в окрестностях Берлина. Смрадно задымил крематорий — жгли трупы множества погибших от бомбежки. После ночного налета в концлагере во всем чувствовалось смятение. На аппель-плаце кишмя-кишело эсэсовцами. В такие дни сиди на месте, если не хочешь попасть волку в зубы. А мы с Николаем наведались по делу в санитарную часть, к доктору Шеклакову. С возмущением доктор говорил, что даже не очень тяжелораненых немцы отправляют в крематорий. В окна барака нам видна была верхушка трубы. Из ее жерла валил густой, тяжелый дым. В санчасть ввели новичка, — ноги едва переставляет, одежда вся в темных кровавых пятнах, глаза завязаны бинтом, только белый кончик носа торчит. Расспрашиваем, откуда он. Работал на авиационном заводе «Хейнкель». Ночью во время налета многих товарищей убило прямым попаданием бомбы, он чудом уцелел. — Ребята, — обратился раненый, поводя в воздухе растопыренными пальцами. — Тут все наши? Можно спросить? — Спрашивай, чужих никого нет. — Где сейчас линия фронта? Наши далеко? Николай пересказал ему последнюю сводку, доставленную Гансом. Парень обрадовался. Шеклаков повел его на перевязку, а мы выскользнули на аппель-плац и благополучно добрались до барака. Вечером Ганс принес нам маленький листик, на котором латинским шрифтом были напечатаны названия городов, освобожденных Красной Армией на всех фронтах. Листовка была напечатана на папиросной бумаге, чтобы в случае опасности можно было ее проглотить. Из ревира привели уже знакомого мне раненого, и Василек рассказал ему новости. — Вот здорово! — восхищался парень. — Мы на заводе ничего этого не знали, жили, как робинзоны. Во время вечернего кофе Василек шепнул, что раненый спрашивает меня. Я подошел и остановился у его изголовья. — Я — Пирогов. Только, к сожалению, не хирург, — пошутил я. — Здравствуйте! Меня зовут Антоном, — тотчас отозвался раненый. — Я, кажется, уже слышал ваш голос в ревире. Белая марля на его лице шевелилась, как живая, на ней отчетливо выступили кровавые пятна. — Жаль, что не могу подать вам руку, — продолжал он. — Видите, обе искалечены. Тут никого лишнего? — Все свои. — Я прошу передать Александру Степановичу, что известный ему товарищ на заводе «Хейнкель» погиб сегодня ночью во время бомбежки. Обязательно сообщите ему об этом! — Не волнуйтесь! — успокоил я Антона, а сам подумал: «Вот как далеко простираются связи нашей организации! Оказывается, она имеет своих людей и за пределами лагеря». Через несколько дней Ганс принес сообщение: союзники, наконец, высадили во Франции десант. Немецкое радио сообщило об этом значительно позднее, когда продвижение десантников удалось приостановить и столь долго ожидаемый нами «второй фронт» фактически опять замер. В наш барак в который раз привели группу новичков. Не успели они обосноваться, как послышались крики, ругань. Кого-то избивали. Я выбежал во двор и увидел, что несколько новичков насели на одного, повалили на землю и колотили его чем попало. — Вот тебе, гадина!.. На, получай, предатель, будешь помнить!.. Пострадавший охал, просил помощи. Сразу мелькнула мысль: лагерное начальство может использовать эту драку для любой провокации против заключенных. Схватил за руки одного, другого. — Товарищи, опомнитесь! Подоспел Василек, товарищи. Насилу разборонили. Я помог пострадавшему встать. Отряхивая пыль с коленок, он ругался на чем свет стоит. — Кто вы? Он назвался: полковник Мальцев. Фамилия показалась знакомой. — Летчик? — Какое! Матушка-пехота. Избивавшие его парни сразу смутились. Один из них, как в плохом анекдоте, произнес: — Извините, мы, кажется, обознались! И тут мне вспомнилась одна история. Однажды во власовской газетенке, которой обильно снабжали нас в Штаргардте, на первой странице появился большой, в полстраницы, портрет. Надпись сверху гласила: «Перед нами портрет русского летчика полковника Мальцева, который вместе с семьей переехал жить в Германию». У многих наших ребят еще тогда сильно зачесались руки. Попадись им этот полковник-иуда, несдобровать бы ему. И вот Мальцев сидит рядом со мной. Предатель? Нет, просто однофамилец. Я объясняю, почему постигла его беда. Полковник почесывает бока. — Несчастье с моей фамилией. В офицерском лагере в Польше тоже намекали мне на какого-то летчика. Но там обошлось. А здесь отдубасили. На второй день удалось отыскать старую газету с портретом изменника, сравнили и окончательно убедились: не тот! Перед Мальцевым еще раз извинились. Он не сердился.
Глава 24. Бункер

Аппель-плац колышется тысячами полосатых тел. Только что закончилась утренняя поверка. Узников разводят по рабочим командам. Стуча колодками по камням, колонны одна за другой уходят за ворота. Некоторые направляются в мастерские — слесарные, швейные, сапожные, деревообрабатывающие. Заксенхаузен не только фабрика смерти. Прежде чем довести человека до печей крематория, у него забирают все, что он в силах отдать. Недвижимо стоит только небольшая группа, человек двадцать, чьи фамилии только что были объявлены перед строем. В отдалении замерли старшие блоков. Двое штубовых и писарь ждут распоряжения. Ожидание становится тягостным. Площадь опустела, а мы стоим точно приговоренные. Наконец появился эсэсовец. Начальство 67-го блока поспешило ему навстречу. Эсэсовец сказал что-то писарю, тот бегом направился к канцелярии. В десяти метрах от меня замер Борис Винников. Дальше маячат незнакомые. Стоять приходится долго. Эсэсовец исчез, но вслед за этим послышался свист, гиканье, лай собак. Нас согнали в кучу, как овец, затем выстроили по четыре. В голову колонны вошел эсэсовец с овчаркой на поводу. По бокам и сзади — охрана. — Марш! Все делалось в бешеном темпе. Бегом пересекли мы аппель-плац и оказались возле одного из бараков. Это — 58-й блок. Раньше тут помещались штрафники, потом их расселили по другим баракам, а здание отгородили стеной, обнесли колючей проволокой. Я вижу на столбе белые ролики. Значит, проволока под током высокого напряжения. По одному нас пропускают через калитку. Часовой стоит внутри. Двое немцев пересчитывают заключенных. Счет повторяется и при входе в барак. Чувство тревоги все сильнее закрадывается в душу. Предательство? Или враг сам напал на следы организации? А главное, мы ничего не успели передать товарищам, не знаем, что с ними. Все утро немцы бегали и кричали, отдавая какие-то распоряжения. Лишь к семи часам все утихло. Жизнь на новом месте, среди новых людей началась обычно. На завтрак — кружка горячего цикория, на обед — пол-литра баланды, вечером — триста граммов эрзац-хлеба. Но аппель-плац отныне для нас закрыт. День и ночь у входа стоит часовой. Без дела мы не сидим. Нам приносят в деревянных ящиках болты, гайки, шайбы, шестерни. Мы снимаем с них ржавчину, смазываем маслом, после чего наша продукция уносится обратно. Осмотревшись, я стараюсь сообразить, в чем же, в конце концов, дело! В бараке 160 человек. Четверо русских: я, Борис Винников, Петр Щукин и Иван Сиренко. Щукин до этого работал на авиазаводе «Хейнкель» — филиале концлагеря Заксенхаузен. Есть один француз, остальные — немцы. Среди них и Пауль Глинский. Пауль избегает разговора со мною и Борисом. Показывает глазами: «Нельзя!». Изредка за чисткой гаек мы обмениваемся короткими взглядами. Я пожимаю плечами: «Что случилось?». В ответ читаю: «Не робей, все будет в порядке!» О Щукине у нас складывается хорошее мнение. На фронте был помощником политрука батареи, два с лишним года находится в концлагерях. — Что ты делал на «Хейнкеле»? — спрашивает его Винников. Петр не сразу открывается. Осторожность присуща каждому конспиратору. Чтобы вызвать его на откровенность, мы кое-что рассказываем о себе. Петр постепенно входит в наш маленький круг. Он работал рассыльным в заводоуправлении, встречался со многими немецкими коммунистами, распространял среди советских пленных информацию о положении на фронтах. — Немецкие коммунисты — замечательные парни, — говорит Щукин. — С такими можно в огонь и в воду. Они ненавидят фашизм и ждут того часа, когда наши придут на немецкую землю. Щукин рекомендует Ивана Сиренко как человека, вполне проверенного. — За него ручаюсь, — говорит Петр. — Кремень! На следующий день начались вызовы на допрос в главную канцелярию. Брали сначала немцев — по одному, изредка по двое. Часто один не возвращался, а второго приводили избитого, в синяках. Заключенные-немцы молчали. Они даже между собой разговаривали очень мало. Вызовы на допрос — самое отвратительное. Я уже успел отвыкнуть от этого. Появляется на пороге эсэсовец, вынимает записную книжку, щурится близорукими глазами. Затаив дыхание, мы смотрим на его тонкие губы, которые сейчас откроются, чтобы произнести одно слово. И каждый думает: «Не меня ли?». Прежде чем назвать фамилии, эсэсовец оглядывает нас. — Глинский! Пауль уронил гайку, которую чистил наждачной бумагой, но быстро пришел в себя. Вытер ветошью руки, одернул куртку. Как всякий немец, он любил аккуратность и, даже отправляясь на пытки, не хотел менять привычек. Друзья-немцы подбадривали Глинского. Два слова, короткий жест, скупая улыбка. — Не дрейфь!.. Мы еще с тобой разопьем бутылочку… Будь настоящим немцем! Последний взгляд Пауль подарил русской четверке. Мысленно мы жмем ему руку в знак солидарности: «Держись!». Пауль не возвращался до вечерней поверки. Мы уже мысленно простились с ним. Десять лет сидит в концлагере, видимо, наступил и его черед. Но мы преждевременно похоронили парня. Он возвратился, хотя и полуживой, не способный разговаривать, держать в руке ложку. Дня через три Пауль поднялся. Мне он не разрешил спрашивать о чем-либо, но через Щукина передал: ему предъявили обвинение в связях с подпольной организацией Заксенхаузена. Нашу четверку пока не трогали. В минуты затишья, когда вызовы на допрос прекращались, я пытался восстановить в памяти все связи, которые были у меня на протяжении года в Заксенхаузене. Пауль Глинский, Ганс, штубовый Вилли — нити, ведущие к немецкой подпольной организации. Водичка — связной чешских коммунистов. Доктор Шеклаков, электромонтер Николай, Козловский, Винников, Телевич — такие же, как и я, заключенные. Встречи и разговоры с ними касались подпольной работы. Были короткие свидания с полковником Б., но я их своевременно прекратил. Однажды виделся с генералом Ткаченко и то накоротке. Генерал произвел впечатление очень потрясенного человека, и я не уверен, жив он или уже в крематории. Заходил изредка ко мне старший лейтенант Скрябин, приносил хлеб и сигареты. Кроме того, что он бывший летчик-истребитель, мне о нем ничего не известно. Но вот Александр Степанович Зотов… Все дороги ведут к нему. В случае, если начнут расспрашивать, устраивать очные ставки, ничего не знаю, никаких Зотовых не встречал. Опыт молчания у меня есть. Штеттин и Штаргардт. Там я прошел трудную школу. Надо выдержать экзамен и на этот раз! За калиткой мелькнула знакомая фигура эсэсовца. Прямо с ходу он выпалил: — Винников! Борис с трудом разжал челюсти: — Прощайте, ребята. Не забудьте адрес моих родных. Винникова увели перед завтраком. Мы глотали теплый кофе, сидя за длинным шершавым столом, и думали о том, что Бориса нам больше не видать. Винников — еврей. Об этом знает кое-кто из немцев, вернее догадывается. Но те, кто знает, не предадут. Не прошло и получаса, как нежданно-негаданно в барак впорхнул Борис. Трудно было поверить своим глазам, но это был он. Впервые за три недели пребывания в 58-м блоке человек возвратился цел и невредим. Борису выдали положенную порцию кофе. Мы потеснились, он присел к столу. — Ну, рассказывай! — Дайте сначала придти в себя, — попросил Винников. Отхлебнув суррогата, он обратился к Щукину: — Ущипни меня! Тот с серьезным видом исполнил просьбу. — Сильнее, сильнее, я хочу убедиться, что я жив. Торопливо глотая противную жидкость, Борис рассказал о том, что произошло с ним в главной канцелярии. Он ждал допроса, приготовился к самому худшему, а офицер СС, оказывается, поинтересовался, каким образом он год тому назад получил пятьдесят пфеннигов. — Отыскал ведомости, тычет мне в лицо, ругается. Я жду, что он прихлопнет меня. Но ругательства относятся к блоковому. Вызвал солдата и приказал отвести обратно. Вот так, братцы, — закончил Винников, проглотив последние капли цикория. Щукин и Сиренко высказывали различные предположения по этому поводу. Вряд ли пятьдесят пфеннигов могли послужить причиной вызова. Винников и сам не верил, что ему удалось отделаться легким испугом. Подобные случаи — большая редкость. Уж если попал на допрос, то по меньшей мере тебя искровавят, посчитают все ребра. Борис ждал второго вызова. Да и все мы были начеку, никому не миновать своей участи. Тем более, что нам известно: в 58-й блок отправляют смертников. Наших товарищей, немцев, забирают ежедневно. В течение месяца их уменьшилось на двадцать семь человек. Это были лучшие люди Германии, друзья Эрнста Тельмана и Вильгельма Пика… На очереди — мой сосед Петер. Сидя рядом с ним, я день за днем протираю тавотом гайки. Это молчаливый, неразговорчивый немец. Изредка мы обменивались несколькими словами. Разговор, как правило, касался лагерных порядков, питания. Иногда я пробовал задать ему вопрос, кто он и почему попал в Заксенхаузен. В ответ — лишь легкое покачивание седой головой. Петер избегал разговора на такие темы. Когда пришли за ним, Петер, не говоря ни слова, подал мне руку. Сто человекпожелали ему благополучного возвращения. — Петер, Петер! Ауфвидерзейн, Петер! Эсэсовец был уже возле калитки, когда Петер одним стремительным рывком перепрыгнул через колючую проволоку, отделявшую левую часть двора от дорожки. Часовые тотчас изготовились к стрельбе, но было уже поздно. Петер подбежал к забору и с разбегу бросился на проволоку. На нем задымилась одежда, лицо и руки почернели. Доложили коменданту. Он приказал сфотографировать труп, задал несколько вопросов эсэсовцу. Потом явились двое заключенных в резиновых сапогах и перчатках, стянули черное тело, положили на носилки и унесли. Всю эту картину мы наблюдали, не проронив ни слова. Только покашливание, только тяжелые вздохи нарушали мертвую тишину шляфен-зала. Гибелью Петера закончились расправы над узниками 58-го блока. Вечером, проходя в умывальник, я заметил необычную картину. Во дворе прохаживались охранники с овчарками. У выхода из барака тоже охранники. Раньше такого не было. Борис показывает в угол коридора. Там лежит гора наручников. Не иначе — для нас. Зашел эсэсовец и приказал выстроиться по два. Затем каждой паре одели — одному на правую, другому на левую руку — стальные браслеты. Меня «бракосочетали» с Иваном Сиренко. Пересчитали, вывели на аппель-плац, выстроили по четыре. Офицер предупредил: во время марша не нарушать строй, кто отстанет или попытается бежать, будет пристрелен на месте. Мы с напарником старались не сбиваться с ноги. Он жался ко мне, стальная цепочка, соединявшая браслеты, очень коротка, надо точно рассчитывать каждое движение, чтобы не причинять боль рукам. На повороте дороги мне удалось сосчитать количество заключенных: тридцать две четверки, значит сто двадцать восемь человек. Теперь ясно — нас куда-то отправляют. Вповалку легли мы на пол товарного вагона. Два автоматчика застыли у двери. Подняться можно лишь с разрешения и то по крайней надобности. Бесконечная тряска в товарном вагоне. Голод и жажда. Смрад и холод. А главное, тоска. Когда же придет этому конец?
Глава 25. Маутхаузен

Поезд загромыхал на стрелках. Темнота — хоть глаз выколи. Подыматься не позволено, и мы лежим, прислушиваясь к таинственным шорохам по ту сторону вагона. Свет ручных фонарей за дверями говорит о том, что за нами уже пожаловали. Первыми спрыгивают часовые. Повелительный бас отдает команду: — Встать! Быстро выходи! Мы беспорядочно спрыгиваем, наваливаясь один на другого. Некоторые не в состоянии сохранить равновесие после двухсуточного лежания, у них подкашиваются ноги, и люди валятся на перрон. Но товарищи подхватывают их под руки. Принимают нас долго и придирчиво. Часа два стоим на холодном, пронизывающем ветру. Где-то рядом чувствуется дыхание большой реки, доносится пряный запах сосны. Разговоры запрещены. Борис Винников нашел мою руку и нервно сжимает ее. Петр Щукин уткнулся мне в спину и изредка трется лицом о мою куртку. Мой напарник Сиренко тоже время от времени дает о себе знать. Как хорошо, что рядом есть товарищи! «Наших» часовых уже нет. Распоряжаются нами долговязый, поджарый ефрейтор СС и несколько солдат с овчарками. — Внимание! Марш! Строй колыхнулся, послышался ритмичный стук колодок. — Не отставать! Перейдя железнодорожное полотно, мы оказались на улице какого-то городка. По бокам притаились домики. Там, за аккуратными узорчатыми заборами, за толстыми каменными стенами спят люди, им, наверное, снятся приятные сны. А мы устало шагаем по булыжной мостовой, голодные, мучимые жаждой, обтрепанные, замерзшие. Проклинаем в душе день и час, когда судьба привела нас в этот безвестный тихий городок. Ясно одно: здесь нас ждет худшее, нежели было в Заксенхаузене. А пока — не отставать! Домики кончились, берем вправо, дорога спиралью вьется вверх. Тянет прелью, звенят, перешептываются деревья. Справа от меня Иван Сиренко, слева — Борис Винников. Я знаю, в случае чего, они не дадут мне упасть, погибнуть на этой горной лесной дороге. Помогут дойти, доведут, донесут, но не бросят. Сил у них побольше моего, ведь каждому из них — не более тридцати, а мне — пятый десяток. Подъем становился круче, идти было труднее. Впереди упал немец-старик. Вместе с ним свалился и его напарник. Товарищи хотели поднять их, но не успели. Строй не мог остановиться, и люди переступали через упавших. Сзади послышались два глухих выстрела, яростно залаяли овчарки. А мы всё карабкались на гору, думая только об одном: не свалиться бы на этот шуршащий под ногами гравий. Часа два взбирались на проклятый «Монблан». Ноги мои отказывались подчиняться, еще пять, две, одна минута — и я распластаюсь на дороге. Но друзья подбадривали: — Держись, старина, скоро финиш. Наконец, я почувствовал облегчение в коленях, — мы вышли на равнину. Перед нами выросли две массивные башни в виде срезанных конусов. Башни соединены каменной галереей. Без проволочек нас пропустили в ворота, поставили у стены и дали команду «вольно». Можно оглядеться. Высокие стены, густая паутина колючей проволоки, сторожевые вышки — все это само за себя говорило: концлагерь. Но где? В самой Германии или в какой-нибудь другой стране, оккупированной немецкими войсками? Из канцелярии вышел эсэсовец, сопровождавший нас вместе с конвоем. Ругает за то, что мы ползли улитками. Уже первый час ночи, герр комендант отдыхает. Поэтому нам придется стоять здесь до утра в ожидании герра коменданта Бахмайера. Единственное облегчение — с нас сняли наручники. Оставив вместо себя блокового, эсэсовец исчез. Сначала мне казалось, что я готов простоять вечность, только б не заставили снова шагать. Но вскоре убедился, что нет большей пытки, чем стоять недвижимо. Ноги затекают, подошвы будто кто поджаривает на сковороде, пальцы сводит судорога. Вижу, переминается с ноги на ногу Борис Винников, выстукивает деревяшками Иван Сиренко. Пожилые немцы просят блокового разрешить им присесть. Они совершенно обессилели. — Отставить! — орет блоковый. Сам он широким шагом прохаживается по гладким каменным дорожкам, курит сигареты. Кто-то не выдержал, плюхнулся на камень. Блоковый тотчас направился к голове колонны, вытащил за полы маленького, сухощавого старика, поставил его перед строем и, отпуская ругательства, избил несчастного до крови. И опять, как ни в чем не бывало, вышагивает вдоль строя. Я пробую отвлечься и начинаю считать его шаги. Дохожу до тысячи, больше нет сил. В глазах темнеет, голова отказывается соображать. Тело трясет от холода. Наконец, за темными силуэтами бараков мы заметили светлую полоску зари. Рассвет наступал медленно-медленно, словно зловещая тьма сковала здесь мир и не желала уступить место свету. Послышались знакомые сигналы подъема. Вот уже стали отчетливо видны контуры бараков. Впереди маячила труба. Крематорий. Аппель-плац в Заксенхаузене был асфальтирован. Здесь он покрыт гранитными плитами. Очевидно, тут все сделано более прочно, основательно, на долгие годы. Из бараков выбегали заключенные, становились в строй. Началась поверка-аппель, за ней — развод на работу. Распорядок точно такой же, как и в Заксенхаузене. А мы все стоим. Блоковый выкурил все сигареты, устало поглядывал на ворота. Вдруг Винников дернул меня за рукав и взглядом показал влево. Я подумал было, что сплю, раскрыл широко глаза. Нет, это не сон. По ступенькам домика с кувшинами в руках спускались четыре молодые очень красивые женщины. Одеты в цветастые пижамы, роскошные волосы спадали на плечи. Они непринужденно болтали, поблескивая белыми зубами, легко вскрикивали в притворном испуге. Смеющиеся красавицы рядом с тысячами изможденных обессилевших мужчин. Какая злая насмешка! Глядя на них, многие в строю на мгновение забыли об усталости, о голоде и жажде. Хотелось верить, что где-то есть другая жизнь, что, кроме побоев, издевательств и смертей, полосатой тюремной одежды, кроме вонючих нар и брюквенной баланды, есть мягкие ласковые руки подруги. — Это из пуфа! — шепнул кто-то из немцев, и шепот этот пронесся по рядам. Я не сразу понял, что это значит, но сосед, стоявший впереди меня, пояснил, что эсэсовцы для своего услаждения отбирают в женских концлагерях молодых узниц и содержат их на привилегированном положении. К тому же это служит изощренной пыткой заключенных, для которых присутствие здесь, в лагере, красивых женщин становится настоящей мукой, остро напоминает о доме, о возлюбленных, о человеческой жизни и еще больше подчеркивает всю невозвратимость потерянного ими мира. Вдруг строй вздрогнул. В воротах показалась группа эсэсовцев. Они направлялись к нам. Впереди — комендант. На поводу держит огромную, ростом с теленка, овчарку. Эсэсовец идет ленивой, медлительной походкой, собака зевает, показывая белоснежные хищные зубы. Остановившись в центре строя, комендант Бахмайер некоторое время молчит, предоставив нам возможность полюбоваться им. Да, перед нами типичный ариец, откормленный, пышущий здоровьем. Взгляд скучающий, безразличный, надменный. — Имейте в виду, — чеканя слова, обратился он к нам, — из Маутхаузена не убежал еще ни один заключенный. Тот, кто думает сейчас о побеге, пусть запомнит мои слова. В это время какой-то заключенный, судя по хорошо пригнанной полосатой куртке — блоковый или штубовый, вынырнул из-за домика-пуфа и, неожиданно напоровшись на начальство, замер в страхе и растерянности. Бахмайер заметил его и резко обернулся: — Ко мне! — гаркнул он. Заключенный не двигался с места. — Ко мне! — повторил комендант, сдерживая овчарку, которая стала рваться с поводка. Полосатая фигура опасливо приблизилась к коменданту. И вдруг Бахмайер, словно заправский футболист, выбросил правую ногу вперед, целясь ударить человека в пах. Тот, очевидно, ожидал такого удара, каким-то чудом увернулся, подставив бедро. Снова и снова «футболил» Бахмайер человека и все неудачно. — Вон отсюда! — наконец крикнул он, и заключенный опрометью помчался прочь. Нам, стоявшим навытяжку в строю, была непонятна причина внезапного гнева коменданта. Лишь позднее мы узнали, в чем дело. Отдельные блоковые из «зеленых» иногда тайком наведывались к девицам из пуфа, а эсэсовцы не хотели ни с кем делить своих краль и зорко следили за этим. Как бы там ни было, но для нас уже совершенно ясно, что Маутхаузен — это почище Заксенхаузена. Блоковый ведет нас в подвал. Нам знакома эта процедура: баня и стрижка. Душ здесь холодный: сильная ледяная струя режет тело, забивает дыхание, сковывает руки и ноги. Чуть отойдешь в сторону, с порога гремит: — Эй ты, палок захотел? Это орет капо, старший команды из числа уголовных, царь и бог заключенных. Обработка новичков идет по конвейеру. Из душа капо заталкивает нас в парикмахерскую. Русских стригут под первый номер, после чего посредине головы, от лба до затылка, пробривают полосу шириной в два пальца. Немцам волосы оставляют, но дорожку тоже делают. С таким знаком далеко не убежишь, сразу обнаружат. — Теперь я турок, не казак! — декламирует Иван Сиренко, ощупывая голову. — Скажи, Борис, — пытается он развеселить приунывшего Винникова, — с такой лысиной нас узнали бы дома? Шутка никого не трогает. Мы сгрудились в коридоре, ожидая команды. Дверь на улицу приоткрыта, оттуда доносятся звуки музыки. Мы заглядываем в щелку. Музыканты в полосатой одежде — их человек десять — идут строем, наигрывая веселую песенку:
Глава 26. Товарищи выручают

На третий день нашего пребывания в Маутхаузене меня разыскал седой морщинистый немец с чистыми голубыми глазами. — Was wollen Sie?[21] — обратился к нему Винников. Заслышав родную речь, немец оживился и стал о чем-то быстро говорить. Некоторые слова я улавливал. Речь шла обо мне. Но всего я не понял. Борис же, как и Щукин, свободно разговаривал по-немецки. Гость попрощался и вышел из барака. Борис задумался, потом отвел меня в сторону. — Передал, чтобы ты на завтра записался в санитарную часть. Надо обмозговать это дело, как бы тут не пахло провокацией. Положение мое не из легких. Как вести себя у врачей, где никто меня не знает? Да и ходить по территории лагеря опасно, любой капо или эсэсовец может прибить на месте. Борис высказывает опасения. Щукин и Сиренко настаивают: надо отправляться! Принимаем решение: идти. Не без опасения добрался к бараку, где размещалась санитарная часть. На что мне жаловаться? Сердце, легкие, печень? Но моя болезнь, как и у десятков тысяч заключенных, — истощение организма в результате голода. Вот нашли бы средство: выпить пилюлю и в течение суток жить без хлеба и баланды. Фантазируя, я и не заметил, как начался вызов больных. Человек из обслуживающего персонала называл номер заключенного, и тот протискивался к двери кабинета врача. В ожидании вызова я потолкался около часа. Людей скопилось много. Это — тяжело больные сердцем, легкими, с гноящимися ранами, с дизентерией, трахомными глазами. Все изможденные, жалкие и страшные. Но на лицах затаенная радость. Авось врач спасет, поможет. Говорят о профессоре Подлаге, чехе. Он многих вытащил с того света. Вот к нему бы попасть… Человек, который распоряжался в приемной, указал мне место, и я стал в строй. Группу выравняли, посчитали и повели к воротам. Минут через пятнадцать мы оказались в другом, так называемом нижнем или русском лагере. Русским он назывался потому, что еще в первую мировую войну здесь находились русские военнопленные. Сейчас здесь размещался лазарет. Нас развели по разным баракам. Меня — в самый отдаленный, который находился рядом с высокой проволочной стеной. Сопровождавший постучал в дверь каморки штубиндиста. — Прими, твой. Сам ушел разводить следующих, а штубиндист со мной направился в барак. В первой половине находились больные трахомой, вторая принадлежала дизентерийным. Войдя в зал, я задохнулся от смрадного, спертого воздуха. Штубиндист молча показал пустое место на нижнем этаже нар, предложил ложиться. Я заколебался — подстилка была вся в подозрительных пятнах. Лежать здесь совершенно невозможно. Сверху что-то булькает и льется на ноги. Больные стонут, плачут, мечутся в горячке. Равнодушный санитар обходит новичков, в руках бачок с магнезиевой кашицей. Из одной ложки кормит он больных. Хочешь, не хочешь — принимай. Глотаю отвратительное месиво, а оно застревает в горле, не идет дальше. Мучает меня вопрос, по чьему велению вынужден я находиться в такой обстановке? Ведь заразиться дизентерией и отдать здесь богу душу — дело абсолютно пустяковое. Появился санитар. Остановился и долго рассматривал меня. Я попробовал объяснить ему, что на этой наре нельзя лежать. Показал наверх. Санитар в знак согласия кивнул головой и куда-то исчез. Вскоре вернулся и пригласил следовать за ним. В противоположном конце барака, напротив окна оказалось свободным верхнее место. Даже одеяло было сухим и чистым. Я поблагодарил чуткого санитара и поспешил улечься. Тут спокойнее и тише. Думаю о товарищах, оставшихся в бараке. Иногда мне кажется, будто я дезертировал, сбежал, оставив их в беде. А, возможно, и лучше, что меня отделили. Состояние мое, особенно после тяжелого и длительного трехдневного пути от Ораниенбурга до Маутхаузена, и впрямь резко ухудшилось. Ребятам приходилось порядочно возиться со мной. Теперь они избавились от обузы. Очнувшись под вечер, я нащупал под одеялом твердый предмет. Присмотрелся — хлеб. Если тебе подсунули кусок хлеба, то знай: здесь есть друзья. На душе потеплело. Немец с голубыми глазами, распорядитель в санитарной части, чуткий санитар — все это, наверное, свои, друзья. Может быть, их много, может быть, они рядом. Но почему они заботятся именно обо мне? Ведь в этом лагере я еще новичок. Неужели это заксенхаузенские товарищи имеют столь далеко идущие связи?! Вверху лежит чех, корчится от боли, стонет. Предлагаю ему ломоть. Секунду он смотрит с недоверием — не шутят ли над ним? Потом протягивает худую белую руку. — Спасибо, друг, очень спасибо. Мы завязываем разговор о жизни в концлагере, о питании, я рассматриваю своего соседа. Он невероятно худ, жует хлеб, а нижняя челюсть вот-вот разорвет тонкую прозрачную кожу подбородка. — Доктор! — внезапно воскликнул чех и перестал жевать. — Пришел доктор! В проходе между нарами медленно шел невысокий мужчина в белом халате, плотно облегавшем его фигуру. Он явно разыскивал кого-то. Остановится возле больного, скажет слово и торопится дальше. Подошел ко мне. Приподымаюсь на локтях и вижу черную курчавую голову. Как у всех нас, голова пробрита посередине, но волосы отросли, топорщатся ежиком. — Пирогов? — Да, — ответил я. — Вставайте, пойдемте со мной. Только прошу живее. Стараясь не шуметь, я быстро натягиваю на себя робу. Усиленно заколотилось сердце. Может, это и есть новые друзья? За дверями барака глаза ослепила непроглядная тьма. Я остановился, чтобы разобраться, куда ставить ногу. Доктор потянул меня за руку. — Смело ступайте, тут выбоин нет. — Послушайте, — не выдержал я, — скажите хотя бы, как вас зовут? — Зовите, как все: врач Саша. Впрочем, это не важно. Давайте лучше помолчим, говорят, молчание — золото. В кромешной тьме мы добрались до соседнего барака. Те же трехэтажные нары, битком набитые людьми, тот же зловонный воздух. Врач уложил меня на свободное место внизу, молча стиснул мою руку. Помещались здесь больные с различными заболеваниями, в том числе психическими. Ночью меня разбудил шум. В проходе стоял долговязый немец и декламировал стихи Гете. Он неистово кричал, размахивал руками. Двое заключенных связали его и уложили на место. — Вчера Шиллера читал, сегодня Гете, завтра, наверное, в программе будет Гейне… — послышалось рядом. — Гейне у них запрещен, — подал я голос. Говоривший уставился на меня. — Вы русский? Очень приятно. Здесь больше немцы, французы, испанцы. Поболтать не с кем. У вас тоже ТБЦ? Несмотря на сильную одышку, больной старался все время говорить. Мне казалось, что перебивать его нельзя, обидится. Рассказал про ночного декламатора. Фамилия его — Генрих Штрассель, он фельдфебель вермахта. Весь барак называет его сумасшедшим Генрихом. Приехал он к своей Гретхен на побывку с Восточного фронта и начал творить невообразимое: бродил по улицам, кукарекал петухом, называл себя Фридрихом Великим, Адольфа Гитлера объявил самозванцем. Его за шиворот да в психиатрическую больницу. А оттуда — в Маутхаузен. Сделав глубокий вдох, мой новый знакомый продолжал еще тише: — Мне кажется, этот Генрих себе на уме. Пусть объявят завтра об окончании войны, куда денется его сумасшествие. Вас как именовать? — неожиданно спросил он. Я назвал себя. — Рад познакомиться. Я — Виктор Логинов, старший лейтенант, родом из Москвы, до войны — художник. У вас тоже ТБЦ? — повторил он вопрос. — Нет, я болен желудком. — А у меня легкие. Живу благодаря товарищам. Два месяца прячусь тут, не знаю, сколько еще сумею продержаться. Таких, как я, долго не держат. Уставший и обессилевший я уснул, так и не дослушав сбивчивую, лихорадочную речь Логинова. Он помог мне яснее определить свое положение. Скорее всего меня, как и этого парня, прячут здесь от газовой камеры. Видимо, доктор Саша и есть мой спаситель. О нем я теперь с благодарностью думаю каждую минуту. Саша появился после обеда, бросил сверток на одеяло и приказал немедленно переодеться. Разворачиваю узел — полосатые брюки, но лучше моих, довольно-таки потрепанных, и новая куртка. На ней отсутствуют эмблемы смертника: красная мишень и буква «К». И номер другой: 108478. Об этой процедуре я уже слыхал во время пребывания в тюрьме и лагерях. Бывали случаи, когда свои люди переодевали смертников в одежду только что умерших и таким образом спасали их от гибели. Для лагерной стражи, прежде всего, важен не сам человек, а его номер. После переодевания меня перевели на верхние нары. Вероятно, в этом тоже есть свой смысл. Когда эсэсовцы проверяют бараки, то прежде всего обращают внимание на нижние нары. — Вам будут кое-что передавать, — шепнул Саша. — Принимайте, как должное. Я тоже буду наведываться. От Саши приходят теперь каждый день. Логинову приносят двойные порции супа, мне — кусок хлеба, сигарету. Это — не считая положенного по норме. Недели через две я почувствовал, что ноги мои твердо упираются в землю, а голова прочно держится на шее. Какая ни есть пища, но она вдохнула в организм силы, дала питание сердцу и мозгу. Для меня уже не является секретом причина моего внезапного перевода в санитарный лагерь. Сделали это русские, чешские и немецкие коммунисты-подпольщики. Сотни заключенных, которые числятся умершими, скрываются здесь. Однажды Виктор Логинов, взглянув в окно, забеспокоился и попросил меня подойти. — Гляди-ка, немецкий врач прет, — показал он. — А с ним польский профессор Чаплинский. Он — заключенный. Сейчас будут искать здоровых и тех, кто скрывается. Следом за врачами шагали четверо эсэсовцев. Они остановились возле барака, стали закуривать. Среди больных началась суматоха. На Виктора напал кашель, он буквально надрывался, закрывая ладонью рот. — Как же мне быть? — спросил я у него. — Валяй под нары, — задыхаясь, проговорил Логинов. В дверях уже появились врачи. Послышалась команда строиться. Пятьсот человек, громыхая колодками, стонали, охали. Некоторые не могли подняться с нар, их силком подымали и ставили в строй. Воспользовавшись суматохой, я спрятался под нарами и по-пластунски пополз в другой конец барака. Сюда доносились истошные крики блокового. Я знал: когда он закончит сгонять людей в главный проход, то обязательно начнет искать спрятавшихся. Поэтому мне нельзя терять времени. Сорокаметровую дистанцию я преодолел легко. Незаметно проскользнул в умывальную. Окно выходило в глухую часть двора. Я распахнул его и выпрыгнул наружу. Неподалеку находилась уборная. Там и довелось скрываться более часа, пока в бараке закончилась процедура выискивания «дезертиров». Увидя меня живым и невредимым, Логинов кинулся обнимать. — Ты просто гениальный! Ловко улизнул. Меня интересовали результаты налета эсэсовского врача. — Увели человек двадцать безнадежных и пять здоровых, — сообщил Виктор. — Считай — всем им крышка. Безнадежных — в крематорий, здоровых — в рабочие команды. Логинов умолк. Ему было тяжело говорить. Потом продолжал: — В рабочих командах убивают десятками и сотнями. Слыхал про «лестницу смерти»? Это такая, брат, западня в каменоломне, не советую туда попадать. 186 ступенек в скале, уклон градусов пятьдесят. Взрывают гранит, и заключенные на горбу выносят по этой лестнице плиты наверх. Представь, подымается одновременно человек тридцать-сорок, у каждого на плечах игрушка весом в два с половиной-три пуда. Споткнется ведущий, обронит на нижних камень, и начинается мала-куча. Люди скатываются вниз, ломают руки и ноги, раскалывают головы. А эсэсовцы стоят и хохочут от удовольствия. Зрелище! Такого даже римские императоры не видели. Виктор закашлялся. — Не надо волноваться. Ляг и помолчи, — предложил я. Однако Логинова нельзя было остановить. Сжимая костлявые кулаки, он долго грозился в окно, посылая на головы эсэсовцев проклятия.
Глава 27. Партийное собрание

— Я — Григоревский. Доктор Александр Григоревский. Ну, запомнил? — Саша положил мне руку на плечо: — А теперь докладывай, как ты скрылся от проверки. Право, здорово у тебя получилось! Мы уже всерьез забеспокоились, спрашивали Логинова. Виктор говорит: «Не успел нажить друга и уже потерял». Мне хотелось многое сказать Саше. Но он приложил палец к губам: никаких излияний чувств, следуй за мной! Мы подошли к столу, за которым, судя по белому халату, сидел врач. Он легко вскинул голову, из-под очков в роговой оправе на меня глядели внимательные и добрые карие глаза. — Здравствуйте, Андрей! — запросто протянул он руку, точно мы были с детства неразлучные друзья. — Это доктор Зденек Штых, — скороговоркой сообщил Григоревский. Нас оставили наедине. Штых говорил по-чешски, вставляя иногда русское слово. Оглядывался, умолкал, к чему-то прислушивался. — Майор, будешь работать санитаром, — предложил он. — Надо что-нибудь делать. Иначе может закончиться плохо, заберут в каменоломни. Согласен? Я кивнул головой. Зденек Штых предупредил меня не вступать ни в какие конфликты с блоковым. Он из «зеленых», ненавидит русских и за малейший проступок жестоко избивает. Итак — отныне я санитар. По сравнению с другими работами, моя немного легче, а главное — безопаснее. Но блоковый… Эта порода людей везде одинакова. Мы, заключенные, ненавидим их так же, как и эсэсовцев. Я до сих пор не забыл, как в Заксенхаузене двое верзил утопили Федора в бочке воды. Здесь, в санитарном лагере по углам бараков тоже стоят такие бочки, и когда я по утрам выношу из помещения трупы и встречаю «своего» блокового, мне становится не по себе. «Зеленому» ничего не стоит подсторожить человека и позабавиться над ним. Обязанности мои не сложны. Каждое утро обходим с напарником барак, стаскиваем с нар холодные, застывшие тела. За ночь трупы костенеют, и стоит больших трудов извлечь их. Они обязательно цепляются руками и ногами за стойки нар, словно не хотят уходить со своих привычных мест. Штых и блоковый писарь живут в отдельной комнатушке. Закончив работу, стучусь к ним. — Сколько сегодня? — спрашивает Штых. — Пятьдесят два, доктор. — Вчера было шестьдесят, — говорит он. — Пошло на уменьшение. Писарь докладывает блоковому, тот эсэсовцу. В главной канцелярии списывают число умерших. На первых порах я сильно расстраивался. Да, это почище Заксенхаузена. Одна ночь уносит десятки людей. И это только в одном бараке. Снились кошмары, я кричал во сне. Но со временем острота ощущений понемногу сгладилась. Врачи научили нести службу. Трупы мы складывали штабелями за бараком. Потом их отвозили в крематорий специальные команды. — Кто этот Зденек? — однажды спросил я у Саши. — Коммунист, — сказал Григоревский. — Был арестован вскоре после прихода немцев в Чехословакию. В Праге тогда было схвачено много коммунистов, рабочих и интеллигентов. Долго сидел в Пражской тюрьме. Суд приговорил его к заключению в концлагерь. С Григоревским они настоящие друзья. А у меня с обоими врачами отличные отношения и полное доверие. Я ведь санитар, ближайший их помощник. Учитывая, очевидно, мои старания, а скорее под влиянием Зденека Штыха, блоковый разрешил выдавать мне на обед лишнюю порцию супа. Я настолько окреп, что взбираюсь на третий этаж нар без посторонней помощи. Ложусь и подолгу гляжу через окно. Сколько еще будет длиться война? Вот уже декабрь 1944 года, а ни с востока, ни с запада не слышно залпов орудий. На возвышенности белеют под снегом крыши бараков, а за ними торчит кирпичная труба крематория. Когда бы я ни глянул туда, над страшной трубой всегда стоит красный треугольник, и от этого труба напоминает горящую гигантскую свечу. Я долго лежу, присматриваясь, уменьшается пламя или нет. Но оно не только не уменьшается, а, наоборот, полыхает еще сильнее. Пока придет долгожданная свобода, сколько жертв еще сожрет это ненавистное чудовище! Разволновавшись, я соскакиваю на пол, одеваю колодки и брожу по узкому длинному коридору. В такие минуты на помощь приходит Григоревский. Мы уединяемся в темный угол, где за пологом стоит его кровать, и Саша рассказывает мне последние новости. Фронт неумолимо движется на запад. Безостановочно, день за днем. — Тебе трудно работать санитаром? — спрашивает Саша. — Если трудно, — не скрывай. Поручим другое дело. Кстати, познакомишься с хорошими ребятами. Они про тебя немного знают. Парни вполне надежные. Этими ребятами оказалась тройка, составлявшая самостоятельную команду. Занималась она тем, что из верхнего лагеря доставляла продукты в лазарет. Занятие не трудное — возить туда-сюда тележку, вдыхая аромат эрзац-хлеба, но небезопасное. На пути встречаются капо, эсэсовцы, начальство лагеря. Оступишься где-либо, плохо выполнишь команду «мютцен аб!» — изобьют до крови, пошлют в каменоломни. Однако решение принято. Отныне я перехожу в команду продовольственников, продолжая одновременно выполнять обязанности санитара. Встретил меня высокий, широкоплечий мужчина лет тридцати. Говорил он спокойно, не обращая ни на кого внимания: — Моя фамилия — Никитин, а это, — он показал на коренастого пожилого человека, — Петрович, капитан интендантской службы. Появился и третий член команды. При виде его Никитин улыбнулся: — Индри Коталь, потомок Яна Гуса… Коталь склонился над тележкой, потом повернул голову, стараясь лучше рассмотреть меня. — Никитин — великий насмешник, — промолвил Индри, все еще не отрываясь от дела и щуря больной глаз. — За это его на том свете постигнет страшное наказание. — Но скажи, Индри, — тем же невозмутимым тоном продолжал Никитин, — у тебя есть хоть капля крови Яна Гуса? — О-о! — воскликнул Индри Коталь. — Все капли. Все до единой! Ребята, действительно, хорошие, видно, живут дружно. Перед тем, как отправиться в верхний лагерь, Петрович сунул мне в карман два небольших пакета. — Один тебе, один — Виктору, — сказал он. Никитин подмигнул: — Вот что значит интендант, всегда у него есть резерв. Петрович и Коталь потянули тележку, Никитин дружески кивнул мне и пошел следом за ними. День, два, неделю, вторую встречаюсь с «троицей» в часы раздачи пищи, перебрасываемся малозначащими фразами, пытливо оглядываем друг друга. Мне уже известно, что Петрович и Никитин — офицеры, что в санитарном лагере существует подпольная группа, перед которой поставлена задача спасать людей, обреченных на неминуемую смерть, распространять правду о положении на фронтах, доставать продукты. Но все делается тихо, незаметно, без единого лишнего слова. Однажды Григоревский завлек меня в свой полутемный угол, отгороженный пологом, посадил на кровать и дал сигаретку. — Хочешь курить? — Еще бы! Место, где мы собирались курить и отвести душу, — стык двух бараков, заваленный разным хламом. Место это всегда продувается сквозняками. Погода стояла сырая, холодная, падал мокрый снег, с Альп дул пронизывающий до костей ветер. В этом была дополнительная гарантия, что начальство сюда не заглянет, и мы можем чувствовать себя в безопасности. Завернув за угол, я увидел два блеснувших огонька. — Давай сюда, — послышался голос Никитина. Возле него жался Петрович, затягиваясь сигаретой и постукивая колодками. — Логинова не будет, — сообщил Григоревский. — Ему нельзя, он может застудиться. — Хорошо, — согласился Никитин. — Нас большинство. Поэтому разрешите начать. Он привлек к себе Петровича, и мы образовали тесный кружок, подставив спины ветру. — Мы имеем полное основание доверять друг другу, — сказал Никитин. — Трое из нас — коммунисты, а Логинов и доктор, хотя и беспартийные, но это формальная сторона дела. Главное — они зарекомендовали себя стойкими большевиками. Война близится к концу, мы тоже должны готовиться к активным действиям. В этих условиях, товарищи, необходимо создать подпольную партийную организацию санитарного лагеря… Вверху стучал и метался ветер. Саша, осторожно ступая, выглянул за угол. «Маяки», расставленные им на всякий случай, находились на местах. — Кого изберем секретарем? — спросил Григоревский, потирая озябшие руки. — Вот его предлагаю, — Никитин тронул легонько меня за рукав. — Согласен! — поддержал Петрович. — Логинов, я знаю, тоже «за». Я — секретарь подпольной партийной организации! Для меня это полная неожиданность. Ведь я ничего еще не сделал, чтобы заслужить столь высокое доверие. Однако Никитин предложил голосовать и сам поднял обе руки. На крыше с новой силой загромыхало. Мы стояли молча, голодные и замерзшие, но у нас гулко бились сердца и мы чувствовали себя бойцами, коммунистами. — А теперь, — нарушил короткую паузу Никитин, — я свои полномочия складываю. Веди собрание, товарищ секретарь. Стараясь говорить тверже, я сказал: — Давайте посоветуемся, что нам следует делать в первую очередь. Кто просит слова? Взволнованным, чуть приглушенным голосом доктор Григоревский говорил о невыносимо тяжелом положении больных в лазарете, особенно наших, советских. В каждом бараке ежедневно умирают многие десятки человек. Немцы урезали и без того жалкий паек. Вместо трехсот, выдают двести граммов хлеба в день. Задача номер один: спасать людей от голодной смерти. — Что ты конкретно предлагаешь? — перебил его Никитин. — Конкретно? Ты, Петрович и Индри Коталь должны использовать все свои связи в верхнем лагере для усиления помощи нашим. Нужны продукты, люди гибнут от истощения… «Нужны продукты!» Мы понимали, как трудно выкроить лишнюю порцию баланды. Знали, что за лишние сто граммов хлеба немцы могут казнить десять человек. И все же мы — партийная организация санитарного лагеря — вынесли решение, которым обязали Петровича, Никитина и Коталя сделать все зависящее от них, чтобы добыть продовольствие. Были названы десятки имен тех, кому требовалась немедленная помощь. Например, Виктор Логинов. Дайте ему каждый день хотя бы порцию хлеба с маргарином, и парень выдержит! Алексей Костылев. Этот прибыл к нам недавно как связной от центральной организации верхнего лагеря. Наши люди прислали его под видом больного, на самом же деле Костылев до крайности истощен. Бывший футболист, мастер спорта. Ничего не осталось от железных бицепсов. Надо спасать человека. — Ничего, поставим парня на ноги, — заверил Петрович. Сообща пришли к заключению, что борьба за спасение людей очень важна, но нельзя все сводить только к этому. Слишком узко. Нужно поднять моральный дух людей, организовать их в боевые дружины на случай, если гитлеровцы захотят уничтожить заключенных при приближении Красной Армии. Зная повадки своих тиранов, мы понимали, что они способны на это. Обменялись мнениями о том, как практически усилить распространение сводок Совинформбюро. — Странно, — заметил Никитин, — но сводки с Западного фронта в лагере знают лучше, чем с Восточного. Создается впечатление, что кое-кто стремится приуменьшить роль Красной Армии в разгроме фашизма. Петрович рассказал о своем разговоре с двумя заключенными поляками из верхнего лагеря. Это было 18 января, на второй день после освобождения Варшавы. — Понимаете, — выразил свою обиду Петрович, — они задели меня за живое. Говорят, что Армия Крайова, которой руководят лондонские эмигранты, сама могла освободить Варшаву. — И что ты им ответил? — спросил Григоревский. — Ничего не ответил. Показал кукиш! — Вот этого и не следовало делать! — вмешался я, помня советы генерала Зотова. — В лагере есть немало националистов, людей, враждебно настроенных к нам. Устраивать драчки с ними — глупо. Не время и не место. Надо терпеливо разъяснять людям правду. Григоревский и Никитин поддержали мою мысль: надо сплачивать силы. Все заключенные — и французы, и поляки, и немцы, и испанцы — ненавидят фашизм. И когда последует сигнал, они пойдут за нами. А после войны разберутся, кто больше пролил крови в борьбе с Гитлером. Во всяком случае, уже теперь ясно: мир будет вечно благодарен советскому народу за избавление от фашистского рабства. Решили, что Петрович и Индри Коталь, которые чаще всех бывают в верхнем лагере, будут ежедневно добывать сводки Совинформбюро. Коталь часто встречается со своими земляками и с немецкими товарищами, работающими в главной канцелярии лагеря. Они, конечно, осведомлены о положении на советско-германском фронте. Наша обязанность — передавать эти сведения наиболее проверенным товарищам, разъяснять ход событий. А дальше, мы не сомневались, стоустая молва немедленно разнесет радостные вести по баракам. Григоревский взял на себя обязанности связного между нами и иностранными подпольными группами. Мы с радостью встретили инициативу Саши. Он хорошо знает немецкий язык и как врач имеет доступ в верхний лагерь, где сосредоточены основные силы подпольщиков. Пора и оставлять темный закут, слишком затянулось наше первое партийное собрание. Все мы основательно промерзли в наших арестантских одеждах. У меня возникла еще одна мысль, и я жестом остановил товарищей: — Мы организуемся для самозащиты, для спасения людей, это хорошо и нужно. Ну, а если нам первым придется выступать? Как тогда? Никитин предложил, чтобы я изложил свои соображения на этот счет. Как человек военный, он любил точные и ясные формулировки и совершенно не терпел туманных фраз. — Пожалуйста, — ответил я. — Говорят, наша армия уже ведет бои за Будапешт. Затем последуют Вена и Прага — это как дважды два. Придет черед и Маутхаузена. Все, кто доживет до того дня, наверняка не захотят сидеть сложа руки. Поэтому нужно уже сейчас готовиться: думать об оружии, наметить и изучить возможные огневые точки, направление основных ударов, словом, знать все, что потребуется для прорыва и развития успеха. Это предложение пришлось товарищам по вкусу. Трем военным — Никитину, Логинову и мне предложено разработать конкретный план действий. В бараке готовились к отбою, блокового не было, и мы легко вздохнули. Я думал, что наше собрание продолжалось по меньшей мере часа полтора, но оказалось — всего пятнадцать минут, ровно столько, сколько требуется четырем мужчинам для того, чтобы выкурить по одной сигаретке.
Глава 28. Подготовка восстания

Внешне спокойный и уравновешенный Никитин моментально преображался, когда ему поручали какое-нибудь задание. Это человек с большим внутренним жаром, азартный, нетерпеливый, смелый, но в то же время достаточно выдержанный, осторожный и хитрый. Благодаря этим своим качествам Никитин сумел проникнуть в сердцевину подпольной русской организации верхнего лагеря, связался с некоторыми из ее руководителей, информировал их о состоянии дел в лазарете. Там давно искали пути для контактов с нами, посылали к нам связных. Но этого недостаточно, действенный контакт пока не налажен. Слишком мало лиц имеет возможность курсировать между нижним и верхним лагерем, и за всеми ими эсэсовцы следят в оба. Стоит вызвать малейшее подозрение, и рабский труд в каменоломне обеспечен. И то — это в лучшем случае! Но Никитин все же нашел тропку. Остановившись однажды возле моей нары, он побарабанил сухими костяшками пальцев по шершавой доске. — Есть новость, загляни после вечернего аппеля… Я с нетерпением ожидал наступления ночи. Однако встреча не состоялась. Как раз в эти дни в Маутхаузен прибывали один за другим транспорты с заключенными. Подавляющее большинство новоприбывших были дистрофики, обмороженные, больные. Вся эта масса еле копошившихся существ направлялась в санитарный лагерь для сортировки. Вечером блоковый повел меня в числе других санитаров принимать очередной транспорт, прибывший из Германии. Невозможно было глядеть на больных, изможденных людей. С ними нельзя было говорить, у них не осталось силдля этого. Люди только шевелили губами и глядели печальными угасающими глазами. Подвал, где велась обработка новоприбывших, был битком набит грязными, завшивленными людьми. Лежали прямо на цементном полу, едва ворочая тяжелыми стрижеными головами. Я по обязанности санитара помог человеку подняться на ноги и пройти в душ, но он уставился на меня, что-то шепча. Кажется, он произнес мою фамилию. — Кто вы? — спросил его. — Че-ре-дни-ков… — Вася Чередников? Из Заксенхаузена? В ответ он кивнул головой. Надо срочно принять меры, чтобы спасти Чередникова. Утром я сообщил Григоревскому, что наш товарищ находится в опасности, не сегодня-завтра он может оказаться в газовой камере. Саша — к Зденеку Штыху, тот — к Казимиру Русинеку. Поляк Русинек работал в канцелярии санитарного лагеря. Благодаря ему у многих советских заключенных, которых эсэсовцы собирались уничтожить, оказывались другие номера. Под видом выздоравливающего Василия Чередникова перетащили к нам на блок, доктора подлечили его. Петрович, Никитин и Индри Коталь добывали ему дополнительные порции хлеба и баланды, пока поставили парня на ноги. Когда он немного пришел в себя, я спросил его о судьбе товарищей из Заксенхаузена. Чередников грустно качал головой. — Немцы напали на след организации, всех без разбора хватают. Одних — в крематорий, а меня вот привезли сюда, в Австрию. Но тут я вижу такую же трубу и так же воняет горелым мясом. Я поспешил осведомиться о генерале Зотове. — Зотова не трогали, но теперь… Может быть, и его уже нет. Чередников рассказал о гибели Козловского. Однажды, равняя строй, эсэсовец ударил его палкой. Парень не сдержался, набросился на фашиста, вцепился ему в горло. Примеру Козловского последовали остальные заключенные. Они захватили у конвоиров оружие, нескольких застрелили. В лагере поднялась тревога. Восставших покосили из автоматов и немедленно отправили в крематорий. Многие из них были еще живые, раненые. Из рассказа Чередникова мне стало известно также об участи большой группы немецких антифашистов, с которыми я сидел на 58-м блоке в октябре сорок четвертого года. Среди них: Эрих Больтцев, Гейнц Барч, Ганс Ротбард, Матиас Тессен, редактор коммунистической газеты «Роте фане» Эрнст Шнеллер — всего двадцать семь человек. Всех их казнили тогда же. Лишь на третий или четвертый день мы возвратились к нашему разговору с Никитиным. — Есть контакт с польскими патриотами, — сообщил он мне. — Сегодня тебя ждет Кази. Кази — это и есть Казимир Русинек, которого мне довелось видеть два-три раза при случайных обстоятельствах, но о котором я знал много хорошего. Казимир — наш верный друг и товарищ. Я прежде всего поблагодарил Русинека за его нелегкую работу, но он не желал слушать никаких похвал. Сразу же предложил начать разговор о деле. — Перво-наперво, мы не должны с вами видеться, — сказал он. — Договариваться будем через Григоревского и Никитина. Мне приходится быть чрезвычайно осторожным. Шпики следят за всяким, кто встречается с русскими. — Хорошо! Но раз мы уже здесь, надо договориться. Вы согласны с тем, что нам следует действовать вместе? В случае восстания можете вы выставить боевые вооруженные группы? Внимательно выслушав меня, Русинек горячо произнес: — Драться только вместе. Французы, испанцы, чехи, мы и вы. Иначе нас раздавят поодиночке. Что касается боевых групп, то посоветуюсь и через Григоревского сообщу. Русинек информировал меня о последних новостях. Советская Армия стремительно наступает, приближается день расплаты над гитлеровцами. Вероятнее всего, они попытаются замести следы своих черных дел. — Они постараются всех нас уничтожить, — кивком головы он показал в сторону крематория. — И поляков, и русских, и всех. Но мы не допустим, мы будем сражаться. Когда я рассказал товарищам о разговоре с Русинеком, о его настроении, ребята еще больше воспрянули духом. Вот это настоящий поляк! Виктор Логинов и Алеша Костылев рвались в бой. Никитин подтрунивал над Петровичем: — Слыхал! А ты говорил! Нет, брат, поляки разные бывают… Вслед за встречей с Русинеком у меня состоялось свидание с представителем чешской группы Иржи Гендрихом. Этот спокойный, вдумчивый человек произвел на меня большое впечатление. Его главная мысль заключалась в том, что во время восстания основной массой, на которую следует опираться, должны быть люди рабочих команд из верхнего лагеря. Здесь, в лазарете, способных к боевым действиям очень мало. Люди больные, ослабевшие от голода вряд ли смогут долго продержаться. Я с ним полностью согласился. Наши взоры невольно обратились наверх, к центральной подпольной организации лагеря. Надо обязательно проинформировать верхних товарищей о наших возможностях, обязательно условиться о совместных действиях. План атаки нами разработан неплохо, тщательно продуман, но силы, силы… их не только мало, их явно недостаточно. Наш арсенал состоит из припрятанных железных прутьев, булыжников и… огнетушителей. Вся надежда на внезапность нападения и захват оружия у часовых на вышках. Дальнейшее будет зависеть от умелой перегруппировки и создания превосходства на решающем участке боя. Петрович ходит хмурый. Он недоволен и самой обстановкой, и невозможностью дополнительно добывать продовольствие. Зато Лешка Костылев не унывает, глаза его то и дело загораются в предвкушении предстоящих схваток. Он часто сравнивает игру в футбол с военным искусством — та же мгновенная оценка обстановки, принятие решения, создание перевеса, прорыв и… — Гол! — шутливо заключает Петрович. Однажды, закончив выполнение своих утренних обязанностей санитара, я присел отдохнуть. Ко мне подошел Никитин и тронул за плечо. — Андрей, тебя ждут у Саши. У доктора на койке сидел голубоглазый парень лет двадцати пяти. Он улыбнулся мне, протянул руку. — Сахаров Валентин. Эта фамилия уже была мне знакома. Я знал, что Сахаров — один из руководителей русской подпольной организации верхнего лагеря. К нам он пришел под видом больного, нуждающегося в неотложной медицинской помощи. Разговаривать с Валентином легко и приятно. Живой, энергичный, он быстрым взглядом своих необычайно голубых глаз тотчас привлекал собеседника. У меня к Сахарову уйма вопросов: надо узнать, что у них там делается и как связать в единую цепь наши усилия. Однако Валентин опытный конспиратор, то и дело подает мне знаки не увлекаться. Мы ведем речь об уборке барака, о лекарствах и питании, а когда вблизи никого нет, Сахаров коротко сообщает нужные мне сведения. Из его отрывистых фраз мне становится ясно, что наверху тоже идет кропотливая подготовка к восстанию. Никто не намерен стоять в стороне от борьбы, ибо каждому ясно, что гитлеровцы обязательно попытаются истребить заключенных всех до одного. Я объяснил Сахарову, что в санитарном лагере очень мало людей, способных держать в руках оружие. Из тысячи таких найдется тридцать, от силы пятьдесят. — А как у вас?.. — указательным пальцем Сахаров имитировал спуск курка. — Кое-что имеем. Раздобыли в аптеке нитроглицерин и решили организовать изготовление гранат. — Это здорово! — сразу же оценил Сахаров. Гость спешил. Прощаясь, он сообщил, что мне обязательно надо повидаться с одним человеком. Фамилия Кондаков. Зовут Иваном Михайловичем. О Кондакове мы знаем, что там, наверху, он начальник подпольного штаба, к нему идут нити от многих организаций. Мне предстоит связаться с майором Кондаковым, доложить ему обстановку, получить указания. На дворе метет. От крайнего барака, который упирается в южную стену, к нам движется процессия: несколько человек тянут за дышло тележку, нагруженную как попало трупами. За ней под охраной идут двенадцать полосатых скелетов. Идут ко всему равнодушные и безучастные. И те, что на тележке, и эти бредущие — одно и то же. Через двадцать минут всех их бросят в печь крематория. Вон его труба полыхает зловещим огнем. Возвращаемся в барак. Перед глазами неотступно стоят тени в полосатых халатах, бредущие за повозкой. Сколько раз наблюдали мы такие картины! Но сейчас приходится оценивать факты по-иному: такие же люди, голодные и обессиленные, должны стать нашими бойцами. Им предстоит идти на штурм фашистских бастионов, предстоит буквально зубами рвать колючую проволоку. Им предстоит сражаться. — Пойдут такие за нами? — спрашивает Никитин, как бы догадываясь о моих мыслях. — Пойдут! Все, у кого движутся ноги и видят глаза. Все, даже мертвые! На утреннюю поверку я поднялся с тяжелой головой. Всю ночь беспокоила мысль: как поскорее организовать мой визит наверх. Наконец, от Сахарова через связных поступил сигнал: меня сегодня ждут. Никитин снарядил повозку. Меня впрягли пристяжным, и мы вчетвером тронулись в путь за продуктами. Зная, что эсэсовцы всегда требуют от заключенных быстрых движений, Петрович в воротах делано-бодрым голосом стал понукивать: — Шнель, шнель, чего плететесь!.. Эсэсовцы критически оглядели нас, казалось, вот-вот остановят, но все обошлось благополучно. Вскоре мы оказались на аппель-плаце верхнего лагеря. Издали заметил фигуру Валентина Сахарова. «Где-то мои дружки по Заксенхаузену: Борис Винников, Петр Щукин, Иван Сиренко?» — думал я, глядя на знакомый барак. Не единожды пытался я связаться с ребятами и все безуспешно. Живы ли они? Удастся ли снова встретиться с ними? Товарищи оставили меня возле повозки, а сами отправились в кладовую. Валентин прошел мимо и на ходу успел сообщить, что за бараками меня ждет Кондаков. Как только Петрович возвратился, я поспешил вслед за Сахаровым. Валентин отвечал на мои вопросы, но чувствовалось — не все ему ясно. — Иван Михайлович объяснит вам. У него есть подробный план действий. Кондаков подошел тихо и незаметно, я даже не сообразил, с какой стороны он появился. Окинул меня взглядом слегка прищуренных глаз. — Ты и есть Пирогов? — Да, я. — Вот что, дорогой товарищ, — начал он. — Решением интернационального комитета ты введен в его состав. Не возражаешь? — Благодарю, — ответил я. — Буду делать все, что в моих силах. Затем Иван Михайлович стал информировать меня о замыслах комитета. Теперь уже абсолютно ясно: эсэсовцам дан приказ убить всех узников, как только приблизится фронт. Об этом стало известно из достоверных источников. Необходимо упредить их, подняв вооруженное восстание. Другого выхода нет: лучше погибнуть в бою, чем быть сожженными там… — Кондаков кивнул в сторону крематория. Я подробно рассказал ему о степени боеспособности санитарного лагеря. Мы пришли к единодушному заключению, что нужно координировать наши действия. — Общий план усовершенствуем, — сказал Иван Михайлович, — у нас есть великолепные специалисты с академическим образованием — полковники Шамшеев и Иванов, подполковник Коток. Предложение насчет ослепления часовых огнетушителями интересно, мы продумаем его в деталях. Тебя переведем в верхний лагерь, такое мнение интернационального комитета. Об этом побеспокоится Сахаров. Наша беседа внезапно прервалась. Заключенный, обеспечивавший безопасность нашего свидания, прошмыгнул в сторону барака, что означало тревогу. На аппель-плаце показался рапортфюрер. Кондаков скрылся столь же незаметно, как и появился, а я выждал, пока рапортфюрер зайдет в барак, и вернулся к своим. Петрович уже ждал меня и ворчал, его успокаивал Никитин: — Не бойся, наш русский Иван любого фрица обведет вокруг пальца.
Глава 29. Расправа

В эту холодную февральскую ночь обитатели санитарного лагеря внезапно были разбужены ружейной и пулеметной стрельбой, доносившейся со стороны верхнего лагеря. Я вскочил и посмотрел в окно. Стрельба то затихала, то снова разгоралась. У меня молнией сверкнула тревожная мысль: — Неужели начали без нас?! Вскочили Петрович, Никитин, Костылев, Чередников, Логинов. У всех на лицах застыл вопрос: «Что бы это могло означать?» Блоковый передал распоряжение: из барака не выходить, иначе часовые на вышках откроют огонь без предупреждения. Наверху погас свет, и теперь, вместо ровных очертаний лагерных строений, мы видели одну сплошную темную громаду, похожую на средневековую крепость. Нетерпение особенно проявляли связные, которых у нас было десять человек. Ребята столпились вокруг меня, ожидая распоряжений. В глазах у каждого и тревога и проблески радости. А вдруг это наши десантники захватили лагерь, и мы сейчас увидим людей с красными звездочками на шапках?! Никитин отослал их на нары: — Потерпите, всему свой черед. Возбужденный барак не мог уже спать. Проклинали «нашу гидру» — блокового, который мучил нас неведением. В последнее время блоковый резко переменился, перестал зверствовать, редко показывается на глаза, часами сидит в своей конуре. Видимо, почуял близкую расплату. — Товарищ майор! — прямо-таки по уставу обратился ко мне Алексей Костылев. — А что если они в самом деле выступили самостоятельно? Возможно, сложилась обстановка, назрел момент, нельзя было ждать. Нам бы поддержать их! — просительно заключил он свою мысль. Горячий, нетерпеливый Лешка рвался в смертельную драку. Он готов был, пренебрегая опасностью, выскочить сейчас на плац и бежать туда, наверх. Мы знали — это не игра в храбрость, а заветная мечта действительно отважного человека. Какие-то едва уловимые признаки убеждали меня — это еще не то, что мы сообща готовим гитлеровцам. Допустим, это вынужденное восстание, тогда стрельба была бы намного активнее, работали б пулеметы, слышались бы крики атакующих. Нет, это что-то другое. Но что именно? Нужна выдержка, приходится ждать. А пока нас всех гнетет неизвестность. Выстрелы становились все реже и реже. Наконец, совсем прекратились. Вновь в верхнем лагере вспыхнул свет. «Что же это все-таки было? Неужели восстание, которое, по всему видать, провалилось?» — терялись мы в догадках. Утром наша тройка — Никитин, Петрович, Коталь — поехала за продуктами и, возвратясь, привезла скупые сведения о ночной стрельбе: из лагеря совершили побег заключенные двадцатого блока. Ничего больше сообщить они не могли. Однако днем все подробности этого происшествия вполне прояснились. Двадцатый блок или, как его еще называли, «изолирблок» одно время был обычным карантинным бараком. Позже в нем помещался лазарет, а когда возвели специальный санитарный лагерь, то его предназначили для смертников, обреченных на удушение в газовых камерах. Тот, кто попадал в двадцатый блок, назад не возвращался, отсюда дорога вела только в печи крематория. Правда, в последнее время крематорий, несмотря на круглосуточную работу, не справлялся с загрузкой, и охрана лагеря стала набивать трупами огромные траншеи, вырытые в леску по соседству с лагерем. В ночь на третье февраля 1945 года узники двадцатого блока бесшумно уничтожили блокового и его помощников, после чего люди стали вытаскивать из помещения разные вещи. Кричали, шумели, стучали. Часовые привыкли к этому и считали, что проходит обычная уборка. Поставив столы вплотную к стене, люди сняли огнетушители и по сигналу одновременно ударили мощными струями по часовым. Немцы растерялись, они были ослеплены, затем — смяты и обезоружены. Тем временем другие группы рвали проволоку, забрасывали ее матрацами. Взбирались на стены, становясь кто на стол, кто товарищам на плечи, прыгали с трехметровой стены, зарываясь в снег. Больные, голодные и раздетые, они ринулись в запорошенные снегом долины. Карабкались по склонам холмов, прятались в кустарниках, убегали тропами. Побег смертников всполошил немцев. Команды эсэсовцев ринулись преследовать беглецов. Настигнуть их оказалось не так уж трудно. Люди были обессилены, беспомощны, но все они оказывали ожесточенное сопротивление, ни один не сдался на милость врагу. Уже к вечеру третьего февраля в лагерь начали прибывать грузовики, наполненные обезображенными телами. Комендант Бахмайер приказал беглецов живыми не брать. Их расстреливали на месте, затравливали собаками, добивали прикладами, кололи штыками. В облаве эсэсовцам помогали местные фольксштурмовцы. Никто не знал имен организаторов восстания, поговаривали, что это были русские летчики, привезенные сюда несколько дней назад. Расправа над узниками двадцатого блока всколыхнула лагерь. Мы стали еще молчаливее, еще скупее на слова. Разговаривали жестами, взглядами, намеками. Но у нас прибавилось решимости. Мы давали клятву отомстить врагу, готовились к битве. Долгое время из верхнего лагеря не приходило никаких вестей. Но связи постепенно восстанавливались. Снова на аппель-плаце я встретился с Иржи Гендрихом. Мы стояли, удивленно рассматривая друг друга, будто не виделись сто лет. Его трудно узнать: осунулся, глаза запали. Предупреждает: — В санитарном лагере опять будут урезать паек, мы должны быть готовы. И еще новость — радостная: Красная Армия освободила Будапешт. На очереди Вена… Скоро, совсем скоро нас ожидает свобода. Конечно, если выживем к тому времени. Уходя, Гендрих настоятельно рекомендует мне подумать о своем здоровье. — Выглядишь ты неважно, — замечает Иржи. — Я попрошу наших ребят, чтобы тебе передали кое-что. — Прибереги лучше для себя, — говорю я. — Твой вид тоже не внушает доверия. Чувствуется, что сливочное масло и колбаса отсутствуют в твоем пайке. Гендрих легко хлопает меня по плечу: — Все равно я принесу тебе хлеб, возможно, еще кое-что достану. И ты не откажешься, дружище. Мы вам хлеб, а вы нам — большее. Вы, русские, даете нам уверенность в победе. Действительно, на почве голода я чувствую себя с каждым днем все хуже и хуже. Опухли ноги, в сердце перебои. Мне трудно ходить, и я вынужден как можно чаще отдыхать. Притащу пустые носилки со двора и уже не могу больше ничего делать. А тут что ни день — новые тяжести. 19 февраля 1945 года рано утром из верхнего лагеря принесли известия о чудовищной казни русского генерала. Кто был этот генерал, мы узнали позже: Карбышев, Дмитрий Михайлович. Инспектор инженерных войск Красной Армии, крупный ученый. Карбышев три года провел в концлагерях Флосенбург, Заксенхаузен, Освенцим. Немцы склоняли его перейти к ним на службу, но в ответ слышали гордые слова: «Я — советский солдат, предателем никогда не был и не буду». В Маутхаузен генерала привезли ночью. Продержали предварительно в горячей душевой, потом полураздетого вывели на аппель. Стоял двенадцатиградусный мороз, с гор дул сухой колючий ветер. Из брандспойта ударила мощная водяная струя. Карбышева обливали холодной водой, пока он не превратился в сплошную ледяную глыбу. Слушая рассказ Петровича, Лешка то и дело восклицал: — Ах, подлецы, ах, мерзавцы! Припомним мы им, за все припомним! Никитин вертелся рядом, по всему было видно, хочет говорить со мной наедине. Костылев понял, что ему лучше оставить нас. — Пойду к доктору, — сказал он, ни на кого не глядя, — посоветуюсь, как глину превращать в хлеб… Делал же когда-то Иисус Христос из воды вино. И Лешка скрылся в глубине барака. Петрович в сторонке завел разговор с испанцем, а сам то и дело косился по сторонам, чтобы просигналить нам в случае опасности. — Давай, выкладывай, — говорю Никитину. — Тебя требуют наверх, — коротко, по-военному доложил он. — Сегодня в обед потащим тележку. Гляди только — фрицы злы, как осы, каждого мало-мальски подозрительного задерживают на воротах. Вторично отправился с командой пищеблока в верхний лагерь. Эсэсовцы и впрямь шныряют на каждом шагу, но мы проскользнули удачно. План у нас разработан: ребята уходят за грузом, а я стою возле тележки; потом они подтягивают возок ближе к складу, я тем временем исчезаю. Место свидания старое — тыльная сторона бараков, куда редко заглядывает начальство. Ждать долго не пришлось, с разных сторон появились Сахаров и Кондаков. Стараясь выглядеть как можно более торжественным, Сахаров здесь же выпалил одним духом: — Ты уже знаешь, что интернациональный комитет ввел тебя в свой состав. Теперь комитет принял решение возложить на тебя обязанности по подготовке и руководству восстанием. Сообщив это, Сахаров выжидающе взглянул мне в глаза. Признаюсь, идя на свидание, я ожидал чего угодно, только не такой новости. — Это окончательное решение? — спросил я Ивана Михайловича. — Сахаров во главе русской подпольной организации, — ответил Кондаков. — Раз он сказал, значит так и есть. — И, пожимая мне руку, добавил: — Поздравляю с доверием товарищей. И, если ты не возражаешь, я твой начштаба… — Раз это окончательно решено, я требую немедленного перевода в верхний лагерь, — сказал я. Сахаров кивнул головой в знак согласия, обещал сегодня же доложить об этом комитету. Я остался с Иваном Михайловичем. Кондаков стал докладывать обстановку. Несмотря на усилившийся террор, создаются боевые группы во главе с надежными товарищами. Каждая группа знает свои исходные позиции, имеет оружие, хотя и в очень малом количестве. Кроме нескольких пистолетов и гранат, ничего нет. Все надежды на трофеи. — Скажи, — спросил я Кондакова, — есть договоренность с национальными группами? Как чехи, поляки, испанцы? — Чехи полностью солидарны с нами. Ими руководит замечательный человек, коммунист Антонин Новотный. Товарищи берегут его, он редко показывается, но курс своей организации дает правильный. У тебя ведь был их товарищ. — Верно, приходил Иржи Гендрих. Сказал — действовать будем только вместе. — Вот и порядок. С поляками договариваемся, испанцы ждут сигнала. Их не так уж много, но они тоже крепко сколочены. Я был плохо знаком с планом лагеря и попросил Ивана Михайловича срочно составить хотя бы приблизительную схему, пользуясь зашифрованными знаками. Ведь всего в голове не удержишь, а без точного представления о расположении огневых точек противника, путей подхода к ним, без знания, где находятся склады оружия, мы слепы. Вблизи раздался тихий свист. Сигналили «маяки». Не простившись, мы разошлись в разные стороны.
Глава 30. Смотр сил

Алексей Костылев прибежал ко мне встревоженный, шепчет что-то бледными губами, руки трясутся. — Что случилось, Леша, успокойся, сядь и расскажи. Он потянул меня во двор. — Гляньте, товарищ майор, какая мерзость. За колючей проволокой, которой накануне был обнесен соседний с нами барак, бродили грязные, остриженные наголо женщины. Один вид этих несчастных существ вызывал и невыразимую жалость к ним и жгучую ненависть к их мучителям. Вместо одежды на женщинах висели жалкие лохмотья. Головы у многих покрыты струпьями. Обнаженные части тела усеяны ранами, которые гноятся. Женщин сотни: старые, молодые, совсем юные. Это те, кто выразил открыто протест против гитлеровского режима, не соглашался, чтобы над их головой висел флаг с черной свастикой. Немцы посадили женщин в концлагери, разбросанные по всей Германии. А теперь, когда с востока и запада приближалось возмездие, когда стальное кольцо вокруг проклятого райха сжималось все туже, узниц эвакуировали в Маутхаузен для уничтожения. Гневно сцепив челюсти, молча наблюдали мы за копающимся живым муравейником. Пригревало весеннее солнце, зеленела трава. Но нам казалось, что мы находимся сейчас не на своей планете, а где-то в аду, среди фантастических существ. За три года пребывания в плену я насмотрелся всякого, но такого еще не приходилось видеть. Лешку расстроил не только вид женщин, но и то, что творилось возле колючей ограды. «Зеленые» терлись рядом, точно голодные шакалы, почуявшие добычу. Они подзывали к себе девушек, разыгрывали отвратительные сцены, изощрялись в похоти. «Зеленые» — все до одного здоровые верзилы, эсэсовцы подкармливали эту братию, так что нам дать им отпор было тяжело. Но времена изменились. Сейчас весна сорок пятого года. — Пугнем их! — предложил Лешка. Заложив пальцы в рот, он пронзительно свистнул. Мы группой направились к «зеленым». Бандиты нехотя стали расходиться, посылая угрозы в наш адрес. — Заткнитесь! — гаркнул на них Костылев. — Ваша песенка уже спета. Женщины удивленно рассматривали нас, некоторые тут же устраивались погреться на солнце. Попробовали заговорить с ними. Русских среди них очень мало. Все больше немки, польки, француженки и чешки. Пока интернациональный комитет изыскивал способ, чтобы перевести меня наверх, связные от Сахарова все время держали меня в курсе лагерных событий. Особенно встревожило сообщение о том, что лагерное начальство приступило к реализации общего плана уничтожения всех заключенных. Прежде всего Бахмайер приказал вывести всех инвалидов из санитарной части, погрузить на баржи и куда-то отправить вверх до Дунаю. «Зачем? — невольно спросил я себя и тут же ответил: Топить! Топить, как щенят. Ни один инвалид и минуты не продержится на воде». Вечером поочередно навестил своих иностранных друзей. С интернациональным комитетом связаться не представлялось возможным, очень рискованно появляться наверху. Меня настрого предупредили об этом и просили подождать. Казимир Русинек и Иржи Гендрих, выслушав мои соображения, согласились с тем, что надо послать с инвалидами, а их в лагере сотни, нашего крепкого человека, чтобы он в удобный момент поднял людей и любой ценой воспрепятствовал осуществлению преступного замысла. — Иного выхода нет! — сказали они. — Что-либо предпринять здесь на месте мы не в силах. Немцы сотрут с лица земли все живое и мертвое. Доктор Зденек Штых тоже одобрил эту мысль. — Но кого вы пошлете? — вопросительно посмотрел он на меня сквозь свои очки. — Дело чрезвычайно рискованное. Чтобы наметить кандидатуру, собрали партийную группу. Единодушно сошлись на мнении: послать Сашу Игошкина. Игошкин — политрук, боец испытанный и закаленный, к тому же молод, силенки у него кое-какие сохранились. Когда я вызвал парня и объяснил ему задание, Игошкин только сдвинул плечами: — Есть, товарищ майор, приказ товарищей для меня закон! На следующий день во двор санитарного лагеря прибыло несколько грузовиков. Инвалидов выводили из бараков и усаживали в кузов по двадцать-тридцать человек. Воспользовавшись суматохой, мы пихнули Игошкина в одну из машин. На прощание он помахал нам рукой. Вскоре меня, как «выздоравливающего», перевели в верхний лагерь и зачислили в рабочую команду. По требованию интернационального комитета перевод устроили Немецкие товарищи, работавшие в главной канцелярии. Поселили в 11-ом бараке. Ни в какую рабочую команду я не иду и сразу после утреннего аппеля возвращаюсь в помещение. В самом дальнем углу для меня устроен удобный уголок. Рядом со мной почти постоянно находятся Кондаков и кто-нибудь из боевых троек. Вокруг барака тоже расставлена наша охрана. По разработанной системе сигнализации нас оповещают об опасности, предупреждают о появлении эсэсовца, рапортфюрера, «зеленого». Тогда я прячу бумажки под нары и начинаю шваброй усиленно тереть пол. Дело в том, что заключенный, занятый любой работой, обычно не вызывает подозрения у немцев. Но если застанут без дела, беде не миновать. День проходит в напряженной работе. На план нанесены все детали: вот оружейный склад, эсэсовские казармы, вот комендатура, главная канцелярия, главные ворота, башни. Куда наносить основной удар? Какими силами? Ведь людей и оружия явно мало. Обо всем этом мне предстоит доложить интернациональному комитету в лице его председателя австрийца Дюрмайера, которого мне еще не пришлось повидать. Вечерняя поверка закончилась, как обычно, в восемь часов, до отбоя есть время кое-что обсудить. Я ожидал прихода Сахарова или Кондакова, но ни того, ни другого не видно, зато рядом со мной оказался пожилой человек, довольно плотный, ниже меня ростом. Его пропустили наши постовые. Значит свой. — Франц Далем, — тихо назвался он. Гость дал мне сигарету. Об этом немецком коммунисте товарищи мне уже рассказывали. Много лет сидит он в тюрьмах и концлагерях, но гитлеровцы не в силах сломить его непреклонной воли. Он член ЦК Германской компартии, близкий друг и соратник Тельмана. Крепко затянувшись сигаретой, Далем спросил: — Можете вы кратко изложить разработанный штабом план? Мне поручил узнать товарищ Дюрмайер. — В самых общих чертах доложить могу. Намечаются два главных направления: казармы СС и комендатура — это раз. Их надо мгновенно окружить и уничтожить живую силу. Второе направление — оружейные склады. У нас крайне мало оружия и боеприпасов. Захватив склады, мы сможем вооружить дополнительные отряды из резервов. Одновременно уничтожаем часовых на вышках и внутри лагеря. Франц Далем высказал уверенность, что уже первый успех привлечет на нашу сторону колеблющихся. А их в лагере немало. Он легонько обнял меня: — Как говорится, из искры возгорится пламя… Предупредив, что завтра мне надо будет лично докладывать председателю комитета, Далем в знак приветствия поднял над головой кулак и поспешил к выходу. На следующий вечер после поверки меня представили председателю интернационального комитета Хейнцу Дюрмайеру. Я увидел перед собой мужественное, волевое лицо, которое покоряло своим спокойствием. Первый вопрос: как я себя чувствую, достаточно ли у меня физических сил, чтобы справиться с возложенными на меня обязанностями. Дальше — о плане. Моя информация не вызвала возражений. Мы сразу же сошлись на том, что успех задуманной операции будет всецело зависеть от внезапности и стремительности наших действий. — Я полагаю, — сказал Дюрмайер, — что восстание должно с первых же минут приобрести ярко выраженный наступательный характер. — Надо не давать им опомниться, развивать наступление на город. Мнение некоторых товарищей — захватить лагерь и лишь обороняться за его стенами, считаю гибельным, — заявил я, помня опыт Аджимушкая. — Очень правильно! — согласился Дюрмайер. Он стал перечислять наши силы. Их явно мало, но если удачно начнем, добьемся первого успеха, нас поддержат все заключенные. — Я уже вел разговор с польским руководителем Юзефом Циранкевичем, — продолжал Дюрмайер, — и он обещал сообщить в ближайшие дни о количестве их боевых групп и вооруженности. Кстати, с Циранкевичем вас на днях познакомят. Интересный человек, среди поляков пользуется непоколебимым авторитетом. Беседа с Дюрмайером длилась минут пять. На прощание он предупредил, чтобы я был готов докладывать комитету. Я вернулся в барак. Вскоре ко мне на нары подсел Кондаков. Вокруг разнесся запах чего-то приятного, в носу защекотало, слюна залила рот. Иван Михайлович протянул мне котелок, полный еще теплой вареной картошки. — Возьми подкрепись. Пока я торопливо ел, Кондаков докладывал о готовности боевых групп. — Ты понимаешь, о чем я толкую? — шутил Иван Михайлович. — Или, может, вся энергия уходит на картошку? — Не волнуйся, еще три-четыре таких порции, и твой командующий будет в полной боевой. Доклад начальника штаба не внес существенных изменений в мое представление о наших силах. Беспокоило не только то, что ряды наши жидковаты. Ведь побеждают не числом, а умением. Тревожило другое: мы плохо знаем людей, по крайней мере это касается лично меня, поскольку жил я в санитарном лагере. — Хватит ли у наших бойцов хладнокровия, мужества, выдержки, наконец, обычной организованности, чтобы выполнить до конца задачу? — поставил я вопрос Кондакову. Иван Михайлович замялся: — Боевые тройки и пятерки подбираются из людей проверенных. — Допустим, они абсолютно надежны. Ну, а готовы ли мы после выполнения первой части нашего плана, когда действовать будут небольшие группы, перестроиться в роты, батальоны, чтобы вести дальнейшее наступление? Будут ли бойцы знать своих командиров и подчиняться им? — Дело в самих командирах, — заключил Иван Михайлович. — Совершенно верно! Тогда давай проведем смотр наших сил, чтобы люди увидели друг друга. Это поднимет у всех боевой дух. Всю ночь ворочался я на жестких нарах, обдумывая план осмотра боевых сил нашей подпольной армии. Советская организация полностью поддержала наше с Кондаковым предложение. Поставили об этом в известность Дюрмайера. Он тоже одобрил идею проведения смотра, но предупредил быть очень осторожными. Эсэсовцы могут смекнуть, в чем дело. А эти подлецы и сейчас еще уверены, что вот-вот свершится какое-то чудо и Советская Армия вновь покатится на восток. Они готовы на любое зверство. Наступил долгожданный вечер. После проверки, когда заключенные имели в своем распоряжении час и могли походить по аппель-плацу, мы с Иваном Михайловичем стояли на углу барака и вели мирную обстоятельную беседу. А в это время по кругу прохаживались тройками и пятерками будущие бойцы и командиры. Расстояние между группами — пятнадцать-двадцать метров. В центре каждой группы — командир. Кондаков называл имена: Юрий Цуркан, Сергей Розанов, Семен Подорожный, Павел Лелякин, Юрий Пиляр, Иван Панфилов, Михаил Шинкаренко, Георгий Арапов. — Этот мне знаком, — сказал я. — Храбрый человек. Работает в оружейных мастерских. Снабжает нас пистолетами. Иван Михайлович продолжал называть новые имена: Бурлаченко, Федор Бадылевский, Иван Дорошенко, Михаил Журин, Николай Рассадников, Александр Шлыков, Андрей Коток, Усольцев, Иванов, Ермольцев, Белозеров, Петров, Амалицкий, Зубков… — Ну как? Что скажешь? — довольный полученным эффектом спросил Кондаков, когда последняя пятерка удалилась от нас. — Здорово! Я полностью находился под впечатлением только что виденного. Несомненно — смотр заставил людей еще больше подтянуться. Дисциплина — мать победы. Люди посерьезнели, почувствовали: то, к чему они себя готовят, начнется очень скоро. Не успел я расположиться в своей берлоге, как связной вызвал меня и Кондакова на выход. В тусклом свете фонаря я увидел высокого крепко сбитого человека. Иван Михайлович представил: — Юзеф Циранкевич, руководитель польских групп. Нам надо условиться о совместных действиях с польскими товарищами. Мы обменялись рукопожатиями. Циранкевич говорил не спеша, легко подбирая русские слова: — Будем действовать вместе. У нас сильная группа. Только вместе!
Глава 31. Навстречу свободе

Из окна барака, как на ладони, виден притихший каменный аппель-плац. Вот шагают к комендатуре два эсэсовца. Одеты они в новенькую форму, сапоги отсвечивают на солнце, но походка у них вялая, неуверенная. Не те стали эсэсовцы, как-то сразу присмирели, сошла с них наглая самоуверенность. Некоторые даже пробуют заигрывать со своими соотечественниками, заключенными, высказывают сомнение в победе Гитлера. Но порядки в лагере остаются прежними. Еще ярче полыхает пламя над крематорием, день и ночь валит из его трубы черный дым, наполняя воздух смрадом паленого человеческого мяса. Прислонясь лбом к холодному стеклу, я гляжу на площадь и вижу ту же картину, которую наблюдали мы и вчера, и позавчера, и много дней назад. Длинная вереница людей-скелетов, человек двести, под охраной десятка солдат СС и нескольких овчарок направляется туда, откуда тянет горелым мясом. Задние путаются в собственных ногах, валятся на камень, их поднимают товарищи, подталкивают немцы. Мне слышен резкий голос охранника: «Schnell, schnell!..» Куда он торопит их? За плечами у меня кто-то учащенно дышит. Это Валентин Сахаров. Энергия и неутомимость бесстрашного парня поражала. За день он успевал побывать во многих бараках, встретиться с членами комитета, добыть важную информацию. — Есть новости? Валентин торопливо сообщил мне то, о чем мы догадывались раньше: комендант Цирайс получил от Гиммлера секретный приказ о немедленном уничтожении всех заключенных в Маутхаузене и его филиалах. — Приказ передан через гаулейтера Эйгрубера, — говорил Сахаров, — и предусматривает три варианта: первый — загнать всех заключенных в штольни, пустить туда газ, а входы взорвать. Вариант второй: положить в пищу узникам сильно действующий яд. В-третьих, уничтожить лагерь со всем живым и мертвым при помощи авиации и артиллерии. — Нельзя больше откладывать выступление, — после минутного молчания произнес Валентин. — Люди рвутся в бой. Сейчас, когда так близка свобода и так угрожает смерть, каждый будет сражаться за троих. Это были последние дни апреля сорок пятого года. Уже шли бои за Берлин. Наши войска находились западнее Вены. Американцы подходили в Линцу. Лагерное начальство Маутхаузена металось, точно стадо крыс, загнанных в клетку. Срочно было созвано заседание интернационального комитета. Собрались в старом, полутемном бараке. У окна на голых нарах расположились Хейнц Дюрмайер, рядом — француз Октав Рабатэ, немец Франц Далем, чех Гофман, напротив них сидели Юзеф Циранкевич, итальянец Жулиано Пайетта, испанец Мануэль Рацола и еще несколько человек, представлявших свои национальные организации. Вокруг барака в отдалении были выставлены «маяки». Иван Михайлович Кондаков обеспечивал безопасность. Дюрмайер сосредоточенно хмурил брови. — Майор Пирогов, доложите окончательный вариант плана. Мне пришлось повторить то, что я уже докладывал лично Дюрмайеру: сколько у нас людей, вооружения, как расставлены силы. Картина вырисовывалась не такой уж благополучной. Десять штурмовых групп — это слишком мало для того, чтобы одолеть эсэсовцев. Их очень много в лагере. Пожалуй, на каждых десять заключенных один эсэсовец. Главный расчет на внезапность и решительность действий и на то, что удастся в бою захватить оружие гитлеровцев. По нашему плану русские, чешские и испанские группы, как самые многочисленные и лучше вооруженные, действуют на наиболее трудных участках. Остальные им помогают. Комитет с этим согласился. Последовали вопросы: есть ли у нас резервы? Обеспечена ли санитарная служба? Намечены ли пути отхода? — Таких путей нет! — бросил реплику Франц Далем. Он вопросительно посмотрел на меня, как бы требуя подтверждения своих слов. — Нет! — решительно поддержал его испанец Мануэль Рацола. Затем к членам комитета обратился Дюрмайер. — Я думаю, — говорил он негромко, — что есть полный смысл разделить руководство предстоящей операцией таким образом: майору Пирогову поручить внешнюю оборону лагеря, а моему земляку полковнику Кодрэ — внутреннюю… Возражений не последовало, и члены комитета стали высказывать свои мнения по главному вопросу: начинать восстание немедленно или ждать более благоприятной обстановки. Разговор шел на французском, немецком, польском и русском языках, но все отлично понимали друг друга. Горячий испанец Рацола размахивал руками, итальянец Пайетта бил себя кулаком в грудь: — Довольно жертв! Пора рассчитаться с наци… Председателю пришлось напомнить членам комитета, что мы все еще узники, а за стеной — эсэсовцы. Он просил тишины и спокойствия, да и время заканчивать — заседание продолжалось уже целых полчаса. По одному покидали мы полутемный барак. Решение было принято единогласно — перевести подпольные вооруженные силы на положение готовности № 1. Это означало — в любую минуту мог поступить сигнал о начале атаки. Сахаров, связанный с немецкими товарищами, работавшими в главной канцелярии, держал нас в курсе последних событий. Вот самая свежая новость: эсэсштандартфюрер Цирайс и штурмбанфюрер Бахмайер выступили из лагеря с большими подразделениями. По обеим берегам Дуная создаются опорные пункты сопротивления частям Советской Армии. — Видно, дело у них швах, раз охрану лагеря на фронт забирают, — радовался Сахаров. — Они уже даже «зеленых» подчищают. Одевают их в солдатскую форму — и шагом марш на передовую. Воры, рецидивисты и убийцы — защитники «великой Германии». Не от хорошей жизни! Стремительно развивающиеся события торопят нас. Мы по нескольку раз на день собираем штаб, чтобы обсудить создающееся положение, уточнить детали атаки. Обстановка зреет, но она не так уж благоприятна. Хотя значительная часть эсэсовцев ушла на фронт, в лагере их еще полно, куда ни сунься — везде наставлены на тебя дула автоматов и пулеметов. Среди связных много иностранцев, поэтому ко мне приставили переводчика Юрия Пиляра. Несмотря на свою молодость, Юрий — опытный подпольщик и конспиратор, знает ходы и выходы в лагере, как свои пять пальцев. Такой человек — неоценимый клад, и мы с первых минут привязываемся друг к другу. Спать ложились, не раздеваясь, днем на чердаки бараков выставляли наблюдателей. Иван Михайлович как-то отвел меня в коридор и сунул в руку что-то холодное и скользкое. — Спрячь! Вальтер и запасные обоймы к нему. Утром лагерь облетела сенсация: за медлительность и нерешительность Цирайс снят с поста коменданта лагеря, его место занял прибывший из Вены некий Керн. — Что за птица этот Керн? — спрашиваю Юрия. — Такой же подлец, как и его предшественник. Пожалуй, еще хуже! Ясно, что Гиммлер неспроста прислал этого палача. Теперь план уничтожения узников Маутхаузена начнет разворачиваться полным ходом. На экстренном заседании интернационального комитета было решено направить к Керну уполномоченных и от имени всех узников заявить ультиматум: вся власть в лагере передается самоуправлению, избранному заключенными, вход эсэсовцам во внутрь лагеря запретить. К коменданту отправились председатель комитета Хейнц Дюрмайер и Ганс Маршалек — австрийский коммунист, лагерный писарь, через которого к нам поступала многочисленная секретная информация. Явившись прямо в кабинет Керна, уполномоченные изложили наши требования. Комендант сначала растерялся, потом вспыхнул и, схватившись за кобуру пистолета, стал угрожать: — Всех до единого уничтожу! Вон отсюда, негодяи! — Спокойно! — невозмутимо возразил Дюрмайер, показывая в сторону бараков. — Вы можете застрелить нас здесь, однако учтите — за нами тысячи заключенных… Керн вынужден был принять ультиматум. В бараке Дюрмайера и Маршалека окружили десятки товарищей. Теперь уже открыто, не оглядываясь, узники ругали фашистов. Раздавались угрозы по адресу коменданта. Все понимали — его уступка вовсе не снимает нависшей угрозы уничтожения заключенных. Ночь прошла тревожно. Все время ожидали какого-нибудь подвоха. Полученные от интернационального комитета полномочия позволяли мне, не согласовывая ни с кем, дать сигнал атаки. Юрий Пилярсо связными не отходил от меня ни на шаг. Поступили сведения, что эсэсовцы собираются схватить Франца Далема. Решаем с Кондаковым, что больше жертв нести не будем и если придут за Далемом, то это и послужит сигналом для выступления. Боевым группам приказано ложиться отдыхать, не раздеваясь, со своим оружием. Нервы у меня были чрезвычайно напряжены. Казалось, я впитывал малейшие звуки, повсюду меня неотступно преследовала мысль: не пропустить решающего момента. Однако все обошлось без происшествий. Наступило утро пятого мая. День выдался солнечный, теплый. С Иваном Михайловичем мы проверяли готовность боевых групп. Вдруг он замер, прислушался. С востока донеслись до нас еле уловимые звуки артиллерийской канонады. Ее услышали все заключенные. Лагерь буквально замер, прислушиваясь. — Наши! — радостно закричал Кондаков. — Ей-богу, наши. Но тут ко мне подбежал Юрий Пиляр. — Товарищ майор, с запада в направлении лагеря движется танк. — Кто видел? — Наблюдатели сообщают. Мы с Кондаковым секунду глядим в глаза друг другу. Рядом командиры групп — Белозеров, Панфилов, Петров. Они тоже понимают: момент наступил. Эсэсовцы невольно отвлекут часть своих сил, чтобы отбить атаку неизвестного танка. Надо не медлить. Надо сию минуту начинать. Рука сама потянулась к кобуре. — Атака! — еле слыша свой голос, крикнул я Кондакову и выпустил обойму из вальтера. Сигнал был услышан. На колючую проволоку тотчас полетели мокрые одеяла, матрацы. Послышались разрывы гранат. В ответ — редкое, неуверенное тарахкание немецких пулеметов. Пока я и Кондаков с группой бойцов вырвались за браму,[22] чтобы захватить комендатуру, группы Петрова и Белозерова успели преодолеть проволочное заграждение и уже вели бой с поспешно отступавшими эсэсовцами. Мгновенно были захвачены оружейные склады и эсэсовские казармы. Люди спешно вооружались трофейным оружием. Часовые, дежурившие на башнях, побросали посты, но были настигнуты нашими бойцами. Ворвались в здание комендатуры. Держа пистолет на изготовке, я рывком открыл дверь. В комнате пусто. Ящики в столах открыты, стулья перевернуты. Видны следы поспешного бегства, пол устлан множеством плотных карточек с учетными данными на заключенных. — Все сохранить! — приказал ребятам. — Пригодится для суда над Гитлером. Вторая, третья, четвертая комнаты. Всюду хаос, кое-где тлеют кипы бумаги. Кондаков отдал распоряжение осмотреть все помещение, предупредить возможность возникновения пожара. — Удрали гады! — огорченно бросил на ходу Иван Михайлович, который, я знаю, лелеял мысль лично расквитаться с комендантом и его ближайшими подручными, особенно с Бахмайером. В это время из-за шкафа высунулась голова эсэсовца. Глядя на нас белесыми, выкатившимися из орбит глазами, он целился из пистолета. Но прежде чем немец успел поднять дрожащую руку, выстрелил Кондаков. Эсэсовец схватился за живот и грохнулся на пол. — Спасибо, Ваня, — обнял я Кондакова. — Я твой должник! Иван Михайлович молча нагнулся и поднял с пола парабеллум. По коридору носились связные. Вбежал Усольцев, начальник связи штаба. Вытирая рукавом пот с широкого бледного лица, он предложил: — Товарищ майор, прошу сюда… Входим в небольшую комнату. Стены обиты светлым шелком, на полах дорогие ковры. Кожаные кресла, мягкий диван с откидной спинкой. Это — кабинет Цирайса, а позже Керна, удравшего после первых же выстрелов. Здесь узел связи. Мигая красными лампочками, мелодично позванивали телефоны. Усольцев поднял трубку: — Алло! В трубке послышалась торопливая немецкая речь. Усольцев улыбнулся, потом его скуластое лицо стало суровым: — Подожди, подлюга, и до тебя доберусь… У входа в кабинет Кондаков поставил часового. Дежурили и в аппаратной. Здесь, в кабинете коменданта, решили расположить штаб восстания. Не прошло и десяти минут, как переселившийся штаб заработал по всем законам воинской жизни. Выслушав донесения связных, прибывших от боевых групп, и отдав необходимые распоряжения, я вышел во двор. Огромная толпа заключенных запрудила все. Двое русских, испанец и немец потащили меня по лестнице на галерею. Приблизившись к барьеру, я впервые с высоты увидел весь аппель-плац, трубу крематория, приземистые деревянные бараки. Над всем этим уже трепыхало красное полотнище. Тысячи людей в полосатом глядели в нашу сторону, бурно приветствуя выступавшего оратора. Выступал кто-то из немецких товарищей. Он закончил свою речь призывом сражаться за свободу. Затем слово предоставили мне. Горло будто заклинило, потребовалось усилие, чтобы заставить себя произнести несколько первых коротких фраз. Я понимал, что собравшиеся внизу ждали не красноречия, а твердого слова, гарантировавшего им жизнь. Со стороны города Маутхаузена донеслись редкие разрывы, а затем — торопливое татаканье пулеметов. Мое место сейчас не здесь, но и уходить не годится. Люди могут это по-разному воспринять, а их нужно ободрить, вселить в них веру в победу, призвать к организованности, борьбе с анархией, которая кое-где уже стала проявляться. Так, на почве голода некоторые пытались разгромить продовольственный склад лагеря, другие чинили самосуд над ненавистными эсэсовцами и над нашими недавними мучителями — «зелеными». Уже дано указание об улучшении питания людей. Словом, дел — непочатый край. А главное, надо обеспечить безопасность лагеря, закрепить и развить первый боевой успех. Кратко изложив все это, я закончил свое выступление словами: — Товарищи, братья, друзья! Мы вырвали у врага желанную свободу, но пока еще рано торжествовать победу. Эсэсовцы не уничтожены, они попытаются мстить. Все, кто способен сражаться, идите в свои национальные комитеты, получайте оружие, становитесь в строй! Опять меня позвал Усольцев. Когда мы вошли в аппаратную, Кондаков яростно выкрикивал в трубку: — Белозеров! Белозеров! Ты меня слышишь? Резервов у нас пока нет. Скоро будут, но сейчас нет. Рядом с тобой испанцы, они подчиняются тебе… Закончив разговор, Иван Михайлович доложил мне обстановку. Дела наши не ахти как хороши. Немецкие подразделения, завидев танк, который оказался американским, начали было пятиться. Этим воспользовался майор Белозеров и повел свой батальон в наступление. Но затем ситуация резко изменилась. Американские танкисты запросили по радио свой штаб, как быть, и получили строгое указание ни в какие бои не ввязываться, помощи нам не оказывать, продолжать разведку. Командир танка козырнул Белозерову, рванул машину и скрылся на полной скорости. Тогда эсэсовцы подняли голову. Они начали наседать. Для наших бойцов создалась очень тяжелая обстановка. Взяв трубку и выслушав торопливый доклад Белозерова, я порекомендовал ему не ввязываться в уличные бои, чтобы не попасть в окружение, тем более, что карты города у нас нет, как нет и других необходимых данных о противнике, который ведет интенсивный огонь из строений и вдоль улиц. — Не лезь в авантюру, — кричу я в трубку, — но и от противника не отрывайся. Понимаю твои опасения за фланги и тыл. Как только полковник Кодрэ сформирует новый отряд, пришлю подкрепление… Батальону Петрова, который вел бой севернее лагеря, поначалу было легче, чем Белозерову, но к ночи и здесь обстановка усложнилась. По данным разведки, с севера подходит дивизия СС Дитриха. Следовало срочно принять меры, иначе батальон Петрова будет раздавлен. Его боевое охранение уже вступило в бой — к нам доносится все усиливающаяся стрельба. Неважны дела и в филиалах концлагеря — Гузене, Мельхе и других. В Гузене восставшие не смогли самостоятельно закрепиться. На помощь им послана сильная интернациональная группа. Я решил отправиться на огневые позиции. Город от лагеря находится в четырех километрах. Быстро отыскал командный пункт Белозерова. Городская больница принимает наших раненых. Недавние узники, вооруженные автоматами, винтовками, гранатами, заставили фашистов полностью оставить город. В рядах сражающихся — русские, немцы, французы, итальянцы, чехи, сербы. — Понимают они тебя? — спрашиваю Белозерова. — Еще как! — улыбается майор. — Знают одно волшебное слово и достаточно. — Какое слово? — Вперед! В мое отсутствие полковник Кодрэ, полковник Шамшеев и Иван Михайлович Кондаков успели навести порядок внутри лагеря. Поставлена охрана у вещевых и продовольственных складов, обеспечено нормальное снабжение лагеря водой, электроэнергией, вылавливаются и отправляются в бункер притаившиеся кое-где эсэсовцы и «зеленые». Все недавние узники объявлены мобилизованными и выполняют указания штаба восстания. Санитарный лагерь поставил боевые дружины, оказывает помощь раненым. В общем, дел хватает. Невероятно напряженный день заканчивался. К ночи готовились серьезно. Бойцам на позиции отправили еду и одеяла — погода стояла сырая. С позиций непрерывно звонили, передавали сводки. Вдруг меня срочно вызвали к посту у брамы. Здесь я застал Дюрмайера, который вместо убитого рапортфюрера докладывал кому-то по телефону, что в лагере все спокойно. Увидев меня, Дюрмайер прикрыл ладонью микрофон и шепнул: — Бахмайер! У меня аж дух захватило от желания схватить этого матерого палача. — Заманывай его в лагерь! Любыми средствами! Скажи, срочно необходимо его присутствие, чтобы предотвратить некоторые события, — предложил я. Дюрмайер с завидным спокойствием все это передал. Телефон выключился, и мы остались в неведении: клюнуло или нет. На всякий случай я распорядился усилить посты, повысить их бдительность. Далеко за полночь у Петрова опять заработали пулеметы. Противник прощупывал. Значит, перед рассветом может броситься в атаку. От Петрова и Белозерова поступили доклады о каких-то подозрительных перегруппировках противника. Оставив в штабе Ивана Михайловича, я снова отправился к Белозерову, а полковника Шамшеева послал к Петрову, чтобы на месте уточнить обстановку. Молодец Белозеров! По всем правилам фортификации отрыл блиндаж, проложил к нему линии связи, раздобыл где-то туристскую карту района. Встретив меня, он спокойно доложил о том, что эсэсовцы, по-видимому, намереваются форсировать Дунай по мосту и проводят сейчас отвлекающие маневры. Мост пристрелян испанцами, все готово, чтобы отразить атаку. Эсэсовцы пошли в наступление неожиданно. На своем правом фланге выше моста они открыли сплошной огонь, рассчитывая такой демонстрацией отвлечь нас от моста. Взметнувшаяся вверх ракета осветила мост, и нам хорошо было видно, как по нему бегут фигурки эсэсовцев и как они, словно споткнувшись, падают, сраженные огнем наших пулеметов. Атака захлебнулась. — Четвертый раз мы им даем прикурить, — улыбаясь сказал Белозеров. Невольно ловлю себя на мысли: до чего ж изменилось лицо этого человека, глаза усталые, но глядит орлом, в голосе вновь зазвучали командирские нотки, а главное, спокойствие и хладнокровие поразительные. До пленения майор Белозеров командовал полком и теперь очень пригодился его опыт. Вернувшись в лагерь, я наткнулся на Дюрмайера. Он взял меня под руку и повел к штабу. — В чем дело? — поинтересовался я. — Сюрприз, — коротко ответил он. И здесь же рассказал, что одна наша группа окружила возле леска отряд эсэсовцев и после ожесточенной перестрелки уничтожила его. Среди убитых опознан труп Бахмайера. Собаке — собачья смерть. Скорей бы возмездие настигло и остальных палачей. Два дня продолжались тяжелые кровопролитные бои. Наконец, Белозеров доложил в штаб: противник, потеряв надежду пробиться через мост, уходит в неизвестном направлении. Я положил трубку и прикорнул в мягком кожаном кресле. Не знаю, сколько дремал. Вдруг слышу: будит начальник связи: — Срочно просит лейтенант Петров. — Слушаю тебя, Петров, — произнес я в трубку. — Товарищ Пирогов! Мое боевое охранение вошло в соприкосновение с передовыми подразделениями Советской Армии. Сон у меня как рукой сняло. — Повтори еще раз, черт побери, повтори так, чтобы весь мир слышал… Он повторяет, а я толкаю Кондакова: — Иван, подымайся, дружище. Да здравствует свобода! Штаб поднят на ноги, а вслед за ним гудит и клокочет лагерь. У главных ворот уже трепыхается на древке квадратный кусочек кумача, кем-то припасенный специально для такого торжественного дня. — Красная Армия близко! Скоро придет Красная Армия! В лагерь явилась делегация жителей города. Ее руководитель, пожилой немец, обратился к нам с просьбой установить власть. Мы вежливо объяснили, что это не входит в наши обязанности и полномочия. До прихода войск необходимо самим жителям избрать самоуправление, которое несло бы ответственность за порядок в городе. Не успели мы проводить эту делегацию, как Усольцев сообщил: — Американские офицеры просят руководителей восстания к выходу. Захватив переводчика, Дюрмайер, я и еще несколько членов интернационального комитета вышли во двор. У ворот лагеря стоял запыленный «Виллис». Трое молодых парней в форме цвета хаки встретили нас приветливо, стали угощать сигаретами. Старший объяснил, что Маутхаузен вошел в американскую зону оккупации, поэтому сегодня сюда прибудет американский полковник, назначенный комендантом лагеря. Вся власть будет сосредоточена в его руках. К этому времени бои фактически уже прекратились. Немецкие части, отступавшие по левому берегу Дуная, а также остатки дивизии СС «Мертвая голова», ушли на запад и без боя сдались американцам. Наши подразделения по распоряжению штаба возвратились в лагерь. На интернациональный комитет сразу свалилось множество забот. Надо было похоронить убитых и умерших, а главное, позаботиться о живых. Особые затруднения возникли с питанием. Возле ворот лагеря меня познакомили с немецкими коммунистами Генрихом Рау и Якобом Буланже. Генрих Рау предложил свои услуги по обеспечению лагеря мукой. Он хорошо знал, где можно достать продовольствие. Американский комендант пожаловал седьмого мая к семи часам вечера. Весь лагерь оцепили американские солдаты. Вызвав к себе представителей интернационального комитета, комендант начал без предисловия: предлагается сдать все оружие, боевые формирования распустить, за всякое нарушение порядка в лагере персональную ответственность несет майор Пирогов… Возвращались мы обескураженные. — Не ожидал такой встречи, — высказал общее мнение Дюрмайер. — Американец разговаривал с нами, будто он судья, а мы обвиняемые. Особенно недружелюбно американский комендант отнесся к советским людям. Утром следующего дня по лагерной радиотрансляции было объявлено: — Майору Пирогову явиться на аппель-плац! Мы как раз собрали после длительного перерыва партийное собрание. Никитин съязвил: — Отправляйся, раз начальство требует. На площади моим глазам предстала такая картина: до трехсот наших советских сидят на корточках перед американским танком. Орудие и пулеметы танка направлены на толпу. Здесь же находится и комендант лагеря. Через переводчика я выразил гневный протест американскому полковнику. Приказал людям встать. Комендант даже не попытался объяснить, чем был вызван этот унизительный акт по отношению к советским людям. — Мною отдано распоряжение, — говорил он, важно прохаживаясь и попыхивая сигаретой, — всех русских поселить в двадцать первый блок во избежание возможных недоразумений. — Но ведь это оскорбление, — решительно возражал я, — двадцать первый блок — по сути карцер. Он был предназначен для смертников. Вы что, считаете нас смертниками? Пока мы вели перепалку, солдаты загоняли советских за колючую проволоку. Протест интернационального комитета также ни к чему не привел. Вокруг злополучного блока стали американские часовые. Срочно созвав партийную группу, мы решили немедленно послать письмо командованию наших частей, сообщить им о возмутительном отношении союзников к советским пленным, о том, что мы ждем немедленного освобождения из проклятого концлагеря. Выбраться за стены Маутхаузена не легче, чем при немцах. Выходы строго охраняются. И все же нашлась четверка смельчаков, которая прорвалась сквозь кордон. Это были лучшие наши боевые товарищи: Белозеров, Панфилов, Лелякин и Журин. Ждем их день, второй. Солнечным ранним утром на двадцать первый блок пришел посыльный. Меня требуют в комендатуру. Посыльный, молодой чех, одетый в клетчатый, непомерно длинный пиджак и цветастые брюки, семенит впереди. Спрашиваю, что случилось, зачем я понадобился коменданту в такой ранний час. — Э-э, товарищ майор, — нараспев отвечает он. — Причем тут комендант? К чертям коменданта! Вас ждет, знаете кто? Майор. Советский майор по фамилии Машкин. Приехал репатриировать советских людей. Скоро будете дома… Вглядываюсь, где же этот человек, которого мы ждем столько лет, который прошел тысячи километров по своей и чужой земле, сквозь огонь и пламя, — пришел, чтобы освободить нас и вернуть Отчизне. Кажется, вот и он. Вышел из комендатуры с группой офицеров. На нем ладно сидит защитная гимнастерка с непривычными для нас погонами. На них по серебряной звездочке. Лицо простое, улыбка добрая и ясная. Остановился я в двадцати шагах, не пойму, что со мной происходит. Был все время спокоен, а тут ноги подкашиваются, все во мне дрожит. — Ну, иди же, майор, иди живее! — зовет он, широко расставив руки и направляясь ко мне. — Это мы, свои, советские… Я срываюсь с места и бегу навстречу свободе. … Через несколько дней весь лагерь торжественно провожал бывших русских заключенных. Все русские сведены в полк. Радостная встреча произошла у меня с друзьями по Заксенхаузену — Сиренко, Винниковым и Щукиным. Значит, живы! Значит, не помрем! К нашему полку присоединяются многие немецкие коммунисты — Генрих Рау, Якоб Буланже и другие, а также чешские и польские товарищи. Прямо как в русской пословице, — нашего полку прибыло. На аппель-плаце выросла высокая трибуна, обтянутая кумачом. Висят лозунги на русском и других языках. Иностранные товарищи выстроились шпалерами, наши — в походной колонне. Под хватающие за душу звуки траурного марша Усольцев, Кондаков и еще несколько товарищей вынесли из крематория урну с прахом погибших. Чтобы всегда о них помнить, никогда не забыть. Я с майором Машкиным на трибуне. Рядом с нами представители всех национальных групп. Каждый, выступая, говорит не столько о прошедшем, сколько о будущем. И все как один клянемся, что до конца будем бороться с фашизмом, против попыток его возрождения, против войны и ужасов, которые пришлось нам пережить. Чтобы никто на земле — ни наши внуки, ни правнуки — не шел друг на друга в кровавой схватке, чтобы мир и дружба между различными странами и народами украшала нашу матушку-Землю. Я выступаю последним. От лица всех моих товарищей обнимаю и горячо целую председателя интернационального комитета Хейнца Дюрмайера. На виду у всех он торжественно спарывает с моей арестантской куртки номер узника. — На память. Для музея, — объясняет он. Наша колонна под приветственные возгласы бывших узников Маутхаузена тронулась в путь. Выйдя за ворота, последний раз оглянулся на место, полное самых трагичных воспоминаний. Солнце по-весеннему весело светило в небе. Все вокруг зеленело. Жизнь во всей ее красоте ярко расцвела. — Итак, вперед! К своим! На Родину!

Послесловие
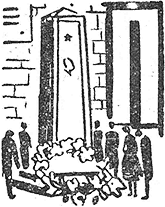
Поводом для написания этой книги послужило одно обстоятельство. 4-го июля 1960 года дома, в Одессе, меня разбудил телефонный звонок. Извинившись за беспокойство, мой заводской товарищ предложил не медля включить радиоприемник. — Что-нибудь экстренное? — спросил у него. — Сам узнаешь. Включил радио. Сначала передали краткий репортаж о пребывании Советской правительственной делегации в Австрийской республике. Потом диктор объявил: — Слушайте речь товарища Никиты Сергеевича Хрущева на митинге в Маутхаузене. Надолго врезались мне в память слова Главы нашего правительства: «Нет, мы не можем забыть прошлого, — камни Маутхаузена, как и других таких же лагерей, напоминают о страшных злодеяниях гитлеровских извергов…» Я долго ходил по комнате, и думы не давали мне покоя. Как это верно сказано: «Мы не можем забыть!» Взяв лист бумаги и авторучку, написал: «Этого забыть нельзя». Из ящиков были извлечены записки, которые я вел вскоре после окончания Великой Отечественной войны и освобождения из заключения, блокноты, старые газеты и журналы, письма товарищей. Писем у меня несколько сотен. В марте 1957 года газета «Правда» на своих страницах поместила фотографию группы участников подполья в Маутхаузене. С того дня ко мне идут весточки из многих городов и сел страны. Пишут боевые друзья, вспоминают пережитое в неволе, нашу совместную борьбу. Помните эпизод, когда эсэсовцы забирают из санитарного лагеря инвалидов, погружают их на баржи, чтобы утопить в реке? Партийная организация тогда решила тайком направить вместе с инвалидами подпольщика Александра Игошкина. Игошкин с честью выполнил данное ему поручение. Несколько охранников было уничтожено, а люди спасены. И вот передо мной письмо: «Вы, наверное, не забыли Сашку со второго блока, которого по решению подпольного комитета послали с инвалидами на Дунай. Я должен был возглавить восстание военнопленных на баржах». Конечно, не забыл, дорогой Саша, разве такое забывается! Сейчас Игошкин работает фрезеровщиком, живет на станции Иноземцево, Ставропольского края. Читателю, вероятно, небезынтересна судьба и других товарищей, о которых идет речь в повествовании. К великому сожалению, о многих из них, которых я знал лишь по именам, порой ненастоящим, ничего конкретного сказать не могу. Надеюсь, что, прочтя книгу, они откликнутся, пришлют весточку о себе, о наших общих друзьях-товарищах. Не знаю, остались ли живы мои друзья по аджимушкайским каменоломням — старший лейтенант Лэнь и капитан Качурин. Лэнь на несколько дней раньше меня ушел из подземелья в разведку. Ушел и больше не возвращался. Чудесный был парень, как большинство украинцев, жизнерадостный, любил шутку и песню, никогда не падал духом. С Качуриным мы расстались во Владимир-Волынском. Вместе с ним находился и майор Заремба, участник обороны Севастополя, человек железной закалки и большого мужества. Володьку, о котором речь идет в первых главах, я потерял в Ченстохове, на формировочном пункте. Долго потом я вспоминал этого замечательного паренька. Поскольку он был летчиком, то его отправили в специальный лагерь. Точно помню, что он из Грозного, там у него остались мать и кто-то из младших — братишка или сестренка. В Штаргардте подпольем руководил «дядя Степа», фамилия его так и осталась неизвестной. Но мы все хорошо знали, что под этим простым именем скрывается незаурядный человек. В Заксенхаузене до меня доходили слухи, что плотник Степан продолжает в Штаргардте свое дело. Для меня было бы невыразимой радостью узнать о дальнейшей судьбе «дяди Степы», узнать его настоящее имя. Говоря о людях Заксенхаузена, назову прежде всего генерала Александра Степановича Зотова. К счастью, он вышел из концлагеря цел и невредим, возвратился к себе домой, в Саратов. В 1958 году Зотов умер, оставив большую рукопись, посвященную борьбе узников Заксенхаузена с гитлеровскими палачами. В Москве работает журналистом Марк Телевич, там же проживает доктор Николай Шеклаков, который спас от крематория многих советских патриотов. Петр Щукин, Борис Винников, Иван Сиренко также живы и здравствуют. Первый заведует отделением совхоза в Ульяновской области, второй учительствует в Белоруссии. Сиренко — шофер, живет и работает в Харькове. По-разному сложились судьбы некоторых участников восстания в Маутхаузене. Иван Михайлович Кондаков демобилизовался из армии в 1946 году, приехал на родину в Волосовский район, Ленинградской области. Тяжелые вести ждали его дома. Родители умерли во время блокады, жена обзавелась другой семьей. Иван Михайлович весь отдался работе. Его избрали председателем колхоза. По соседству с начальником штаба восстания, в самом Ленинграде, живут Семен Подорожный и Сергей Розанов. Весной нынешнего года я встретился с Розановым в Москве. Узнав, что я готовлю книгу воспоминаний, он и москвич Виктор Логинов выразили готовность сделать для нее художественное оформление. Один из организаторов русского подполья Валентин Сахаров — ныне главный инженер Крымской конторы облсельпроекта. Недавно он издал свои воспоминания «В застенках Маутхаузена». Юрий Пиляр — писатель. Его книга «Все это было» хорошо известна советскому читателю. Она переведена на иностранные языки. Павел Лелякин, Александр Шлыков, Георгий Арапов — инженеры, работают на предприятиях Москвы. Полковник Митрофан Шамшеев проживает в Херсоне, Белозеров трудится на приисках Сибири, Павел Усольцев — на Урале, Михаил Бурлаченко — ныне кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник туберкулезного института в столице Молдавии. Врачом работает и Василий Чередников. Живет он в г. Поворино. Александр Григоревский — «доктор Саша» — это Александр Моисеевич Иоселевич, ныне главный врач больницы в г. Лозовая, Харьковской области. Георгий Никитин в Туле. «Петрович» — Николай Петрович Дейниченко — в Средней Азии. Трудная жизнь сложилась у Александра Ивановича Панфилова. Панфилов — бывший летчик, участник боев в Испании. В войну геройски сражался с фашистскими «ассами». Был сбит в воздушном бою, попал в концлагерь. В дни восстания в Маутхаузене Александр Иванович командовал штурмовой группой. Потом в числе бесстрашной четверки прорвался через американские кордоны и ушел с донесением в наши части. Тем обиднее было для Панфилова, когда он встретил дома холодный прием. Клеветники бросили ему обвинение, будто он разгласил врагу военную тайну. Досужие канцеляристы намекали ему: мол, другие летчики убегали из плена, а ты не сумел. Однако чуткие советские люди помогли Панфилову доказать всю нелепость обвинения. Сейчас он живет и работает в г. Щекино, Тульской области. Читателей, конечно, интересует история восстания заключенных 20-го блока, о которой рассказывается в 29-й главе. Неужели все участники этого беспримерного подвига погибли? Неужели из восьмисот узников никому не удалось спастись? В последнее время стали известны имена организаторов этого восстания. Вот они: полковник Александр Филиппович Исупов, до плена командовал штурмовой авиационной дивизией; Кирилл Моисеевич Чубченков, тоже командовал авиационной дивизией, член партии с 1931 года, бывший тракторист; подполковник Николай Иванович Власов, Герой Советского Союза, летчик-инспектор по технике пилотирования, родом из Ленинграда. Этих троих фашисты схватили и расстреляли накануне восстания, после чего руководство принял на себя летчик майор Леонов. В 20-ом блоке было около 200 летчиков, им принадлежала и сама идея побега из лагеря. Стали известны имена и других участников восстания в 20-м блоке: это — капитан Геннадий Мордовцев, старший лейтенант Усманов, лейтенант Павел Богданов, старший лейтенант Володин, капитан Жариков, младшие лейтенанты Иван Писарев, Николай Фурцев и другие. Некоторым участникам этого героического подвига удалось спастись. Среди них — Виктор Украинцев, ныне мастер станкостроительного завода в Новочеркасске, Иван Битюков, инженер вагоноремонтного завода на станции Попасная в Донбассе, электросварщик Владимир Дорофеев из Константиновки, бывший летчик Владимир Шепетя из Полтавы. Их укрыли от преследования советские военнопленные, работавшие батраками в поместьях, расположенных вокруг Маутхаузена. В книге называются имена многих зарубежных антифашистов, переносивших с нами все муки заключения и сражавшихся рука об руку с нами в дни восстания. Где они? Какова их судьба? Всем известно, что Антонин Новотный — ныне Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии, Президент ЧССР. Юзеф Циранкевич — Председатель Совета Министров Польской Народной Республики. Иржи Гендрих — член Политбюро и секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии. Хейнц Дюрмайер и Ганс Маршалек живут у себя на родине в Вене. Зденек Штых и Индри Коталь — в Праге, Казимир Русинек — в Варшаве, Якоб Буланже и Франц Далем — в Берлине. Как бы хотелось пожать всем им руку! Впрочем, с некоторыми из иностранных товарищей — бывших узников Маутхаузена, мне посчастливилось повидаться в мае 1961 года. Как делегат Советского комитета ветеранов войны я вместе с Валентином Ивановичем Сахаровым — постоянным представителем нашей страны в международном комитете бывших заключенных концлагеря Маутхаузена, отправился в Австрию. Трудно передать мое волнение. Сахаров тоже заметно волновался, но ему все же было легче — он после войны бывал в Маутхаузене. В ожидании взлета нашего сверкающего на солнце красавца ТУ-104 мы снова, в который раз, вспоминали день, когда покинули аппель-плац лагеря, поклявшись отдать все свои силы борьбе против возрождения фашизма, укреплению мира и дружбы между народами. С тех пор прошло шестнадцать лет — срок немалый в жизни человека. Самолет незаметно отрывается от земли и, сделав прощальный круг над Москвой, ложится на курс. Мы сидим в удобных креслах и беседуем о предстоящей встрече. Узнают ли меня австрийские товарищи? Сахарова, конечно, узнают, поэтому договариваемся, что сначала выйду из самолета я, а он последует за мной. Точно по расписанию самолет идет на посадку в Вене. В красивом здании аэровокзала, сделанном из стали и алюминия, навстречу мне спешит седой мужчина в сером костюме. Улыбается, широко расставив руки для объятия. Это Хейнц Дюрмайер, известный венский юрист. И хотя он не в полосатой куртке узника, я узнаю его сразу. — Так вот ты какой: помолодел, отлично выглядишь, — говорит он, хлопая меня по плечу. — А ты, Хейнц, совсем юноша, — в тон отвечаю я, — только голову посеребрило… Подошел Сахаров. Снова следуют крепкие мужские объятия. Да, ни бои в Испании в рядах Интернациональной бригады, ни годы, проведенные в фашистском застенке, ни последние шестнадцать лет не изменили Дюрмайера, не уменьшили доброты и задорного блеска в его глазах. Наша переводчица скромно стоит в сторонке. Нам и без ее помощи все ясно, все понятно. Коммунист доктор Дюрмайер — ныне Генеральный секретарь международного комитета бывших политзаключенных концлагеря Маутхаузен. Он объявляет нам, что завтра мы отправляемся на место бывшего концлагеря для участия в традиционной манифестации и возложения венков. И вот вместе с советским послом в Австрии мы направляемся в Маутхаузен. Машина мчится на большой скорости по шоссе, и мы, кажется, не успеваем обменяться несколькими фразами, как впереди вырастает город. Узкие улочки, покрытые булыжником. Аккуратные домики самых различных цветов и оттенков. Осматриваюсь по сторонам. Не здесь ли в мае сорок пятого года наши отряды дрались с фашистами? Не эти ли камни обагрены кровью наших бойцов? Дорога, по краям густо обсаженная деревьями, круто подымается вверх. И снова передо мной всплывает прошлое: не по этой ли дороге эсэсовцы гнали нас галопом в лагерь? Сколько узников полегло здесь! Последний поворот — и перед нами открывается широкая площадь, вся заставленная разноцветными автобусами и легковыми автомобилями. Прямо перед нами высятся некогда страшные стены концлагеря — молчаливые свидетели преступлений, которые свершались варварами двадцатого века. Стены потемнели, в расщелинах гранита пробивается зеленая трава. Многое осталось здесь, как было тогда. Поверх стен в несколько рядов колючая проволока на изоляторах. Сторожевые вышки. Массивное здание комендатуры, где в последние дни войны находился штаб восстания узников. Правда, многие бараки снесены, осталось всего три. Снесен и двадцатый блок, откуда в феврале сорок пятого года совершили героический побег восемьсот заключенных. Остались и бункеры, и труба крематория подпирает небо, напоминая людям об ужасах минувшей войны. Подойдя к главным воротам, мы сразу же оказались в крепких объятиях. Вот француз Эмиль Валле — веселый, жизнерадостный. Вот чех Индри Коталь, австриец Ганс Маршалек… И еще, и еще. Имена некоторых товарищей позабыты, но лица узнаем сразу. Обмениваемся рукопожатиями, громко приветствуем друг друга на разных языках. Слышатся звуки траурной мелодии. Мы собираемся на митинг. И тут неожиданно начинается дождь. Природа как бы скорбит вместе с нами о тысячах замученных людей. Однако никто не покидает площади. В строгом молчании мы возлагаем венки у памятника советским людям, погибшим в лагере смерти, у памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Д. Карбышеву, чье имя стало символом мужества и верности воинскому долгу. Открыв митинг, Ганс Маршалек первое слово предоставляет мне. Как и шестнадцать лет назад, я очень волнуюсь. Подхожу к микрофону. Невольно уста мои повторяют слова клятвы, которую бывшие узники дали здесь в мае сорок пятого года: — Клянемся отдать все свои силы борьбе за мир во всем мире! И снова, в ответ несется многотысячный рефрен: — Клянемся! Митинг длится недолго. Тучи быстро рассеиваются, над нами — чистое голубое небо. Но многие не расходятся, о чем-то оживленно толкуя. Что их волнует? Разговор идет о предстоящем приезде в Вену Никиты Сергеевича Хрущева для встречи с президентом США Джоном Кеннеди… Шесть дней я и Сахаров пробыли в Австрии, и где бы мы не появлялись, везде слышали слова: Москва, Хрущев, мир… Люди хотят мира, они ненавидят войну. И я хотел бы, чтобы тот, кто прочитал эти записки, сказал: — Вечное проклятье войне! Никогда мы не простим, фашистским палачам Освенцима, Майданека, Дахау, Заксенхаузена, Маутхаузена, где были загублены миллионы человеческих жизней. Только в одном концлагере Маутхаузен, по официальным данным, нашли мученическую смерть 32 тысячи советских граждан. А сколько погибло их в других лагерях! Но они не безропотно сложили головы. Они мужественно, до последнего вздоха сражались. Будем же всегда помнить о них. Будем бдительны!
А. И. Пирогов и его книга
За последние годы вышло немало книг, посвященных мужественной борьбе советских военнопленных против гитлеровских палачей в годы второй мировой войны. К списку этой литературы прибавилась еще одна книга — Андрея Иоанникиевича Пирогова «Этого забыть нельзя». Миллионы людей нашей планеты, все те, кто видел и пережил ужасы войны, повторяют и будут повторять короткие выразительные слова: этого забыть нельзя. Н. С. Хрущев, выступая на митинге в Маутхаузене в июле 1960 года, говорил: «Нет, мы не можем забыть прошлого, — камни Маутхаузена, как и других таких же лагерей, напоминают о страшных злодеяниях гитлеровских извергов». Книга А. И. Пирогова воскрешает в памяти мрачные картины кровавого разбоя германского фашизма. Каждая ее строка — это гневное обличение злодеяний, совершенных гитлеровскими извергами, это напоминание о том, что люди должны быть бдительны к проискам поджигателей новой мировой войны, к безрассудным действиям тех, кто сейчас размахивает водородной бомбой. Кто такой А. И. Пирогов? Кадровый офицер, участник гражданской и Великой Отечественной войны, коммунист. В мае 1942 года, в дни тяжелых боев на Крымском полуострове, он оказался в числе героических защитников керченских каменоломен. Во время одной из боевых вылазок был тяжело ранен и попал в плен. Начались годы нечеловеческих испытаний. Пирогов бежал из плена, но был пойман, сидел в фашистской тюрьме, потом в лагерях смерти Заксенхаузен и Маутхаузен. На территории Германии и оккупированных ею стран к концу войны действовало 1100 концентрационных лагерей, в которых, по далеко не полным данным, было истреблено 11 миллионов человек. «Вина» их заключалась в том, что они страстно любили свободу и ненавидели нацизм с его «новым порядком» и манией мирового господства. Трудно поверить, что это могло случиться. Трудно найти такие слова, чтобы выразить ненависть народов проклятым убийцам. Одиннадцать миллионов истребленных человеческих жизней — в этом нашла свое выражение чудовищная звериная сущность фашизма с его человеконенавистнической идеологией и программой истребления славянских и других народов. Заксенхаузен, Маутхаузен, Освенцим, Майданек, Дахау, Бухенвальд и другие лагеря смерти были неотъемлемой частью этой программы, «индустрией смерти» с усовершенствованной технологией уничтожения, притом уничтожения расчетливого, поставленного, так сказать, на «научную» почву. В лагере Дахау, например, продолжительность жизни обреченного узника была спланирована эсэсовцами в 9 месяцев. После того, как от человека получали все, что можно было взять, его хладнокровно уничтожали. Все ужасы вымышленного Данте ада меркнут и бледнеют по сравнению с тем настоящим адом, который был создан на земле гитлеровскими палачами. Одним из самых страшных фашистских лагерей смерти был Маутхаузен, расположенный на территории Австрии. Это объяснялось тем, что в лагере преимущественно содержались наиболее ненавистные фашистскому режиму лица — антифашисты, вывезенные из оккупированных гитлеровцами стран Европы. Каменистая почва Маутхаузена напоена кровью 32 тысяч замученных советских граждан. Здесь сложили голову многие тысячи патриотов Чехословакии, Польши, Югославии, Австрии, Франции, Италии, Норвегии. Однако даже по далеко не полной статистике, которую вели гитлеровские палачи, видно, что больше всего погибло здесь советских людей. И это не случайно. Читая гневную, правдивую книгу А. И. Пирогова, мы видим во всем страшном облике рожденный фашизмом мир истребления, мир человеконенавистничества, но мы видим и другое: мужественную борьбу беззащитных людей, истощенных голодом и пытками, но не склонивших головы перед палачами. Они противопоставляют режиму голода и газовых камер свою непреклонную волю к свободе, свою неистребимую ненависть к палачам. Казалось, есть только один выход из этого мира смерти — «станции Z», как именовали палачи никогда не перестававшие дымить крематории. Однако обреченные отвергали обреченность и, презирая пытки и смерть, вступали в неравный поединок со своими мучителями. Весь нацистский режим с его политикой выжженных пустынь и душегубок оказался бессильным сломить волю народов к борьбе за свое освобождение. В книге А. И. Пирогова правдиво описывается жизнь и борьба советских людей не только в лагерях смерти, но в обычных лагерях военнопленных и рабочих командах. Он убедительно показывает, что, вопреки элементарным нормам международного права, гитлеровцы особо выделяли советских военнопленных, создавали для них поистине каторжные условия: морили голодом, истязали, заставляли выполнять непосильную работу, использовали их на военных заводах и т. д. Но где бы ни был советский патриот, в каких бы условиях он ни находился, он всегда чувствовал себя солдатом, бойцом и боролся доступными ему средствами. В каменных мешках концлагерей ни на день не прекращалась борьба военнопленных. Сюда проникали добрые вести с фронтов Великой Отечественной войны Советского Союза, сведения о патриотической борьбе и освободительном движении в странах Европы. Эти радостные и волнующие вести укрепляли волю политических заключенных и военнопленных, поднимали их на тысячи зримых и незримых героических подвигов. Книга А. И. Пирогова воздает справедливую почесть этим героям — живым и мертвым, как известным, так и тем, чьи имена вместе с совершенными ими подвигами остаются неизвестными. Это они умирали на виселицах и в газовых камерах. Это их травили собаками и добивали палками, умертвляли на холоде, топили в бочках с водой, это они падали под тяжестью непосильного каторжного труда. Мужество, стойкость, бесстрашие советских людей восхищали и изумляли всех заключенных. Никогда не забудется подвиг генерала Карбышева Д. М., который принял мученическую смерть под струями воды на леденящем морозе, но не изменил своему воинскому долгу. Один из активных организаторов подпольной борьбы в лагере Заксенхаузене генерал А. С. Зотов в своих записках о фашистском плене рассказывает про бесстрашие двадцатилетнего русского узника, который дважды бежал из фашистской неволи, но оба раза был пойман. Второй его побег из Заксенхаузена в июне 1943 года был настолько невероятным, что комендант лагеря не без умысла предложил повторить его, пообещав не применять к беглецу ожидавшую его смертную казнь. И юноша на глазах у изумленных эсэсовцев босыми ногами прошел по изоляторам, на которых висели провода под током высокого напряжения. Так сильна была в советском человеке воля к свободе, так велика была любовь к Родине… В первых рядах отважных борцов находились сыны коммунистических партий. Бесстрашные, мужественные, непокоренные. Это против них, прежде всего, направлял свой удар фашизм. Коммунисты были и остаются самыми верными, бесстрашными и последовательными борцами за счастье народов. Они создавали в лагерях смерти антифашистское подполье, связывали его с теми, кто вел борьбу внутри гитлеровской Германии и на оккупированных ею территориях. В борьбе против фашизма русское подполье утверждало дух интернационализма и братской солидарности с патриотами других стран. Советские подпольщики шли рука об руку с немецкими антифашистами, представителями братских народов Польши, Чехословакии, Югославии, народов Голландии, Норвегии, Франции. У них был один враг — кровавый гитлеровский режим, и они сплачивались для борьбы против фашизма. Первые «Комитеты борьбы», возглавившие подпольную антифашистскую деятельность в гитлеровских лагерях, были созданы русскими коммунистами и патриотами. В лагерях, о которых рассказывается в книге, в центре подпольной борьбы находились коммунисты Макс Рейман, Антонин Новотвый, Франц Далем, Генрих Рау, Хейнц Дюрмайер, Ганс Маршалек и другие стойкие революционеры. Под руководством интернациональных комитетов подпольное движение в тюремных камерах и лагерных блоках сливалось в единый антифашистский фронт, становясь частью общей борьбы народов Европы против гитлеровского режима. Эта борьба росла тем сильнее, чем стремительнее наступала Советская Армия на фронтах Великой Отечественной войны. Пламенный советский патриотизм русских и ненависть к фашизму всех участниковСопротивления делали то, что казалось совершенно невозможным в мире бесправия и произвола, каким были нацистские тюрьмы и лагеря смерти. Подпольные комитеты готовили и осуществляли диверсии и акты саботажа, принявшие особенно широкий размах после разгрома гитлеровцев под Сталинградом. Узники концлагерей выводили из строя заводское оборудование, портили станки и машины, уничтожали готовую продукцию. В августе 1944 года в результате саботажа узников Заксенхаузена был остановлен на несколько дней крупный военный завод «Хейнкель», изготовлявший самолеты. В условиях полной изоляции заключенных от мира и дикого террора эсэсовцев подобный акт кажется чуть ли не фантастическим. Тем не менее это факт. Героические подпольщики, и прежде всего коммунисты, вели большую агитационную и пропагандистскую работу: распространяли сводки с фронтов, разоблачали утверждение фашистской пропаганды о непобедимости германской армии, несли в массы узников веру в неизбежность разгрома фашизма, срывали планы гитлеровского командования по вербовке военнопленных в так называемые «освободительные» дивизии предателей, организовывали побеги. Только в нейтральную Швейцарию из немецких лагерей бежало более 9 тысяч советских военнопленных. В начале февраля 1945 года несколько сот русских под руководством офицеров-летчиков совершили побег из «блока № 20», в котором содержались смертники лагеря Маутхаузен. Те, кому удавалось вырваться из фашистского плена, становились стойкими бойцами партизанского подполья и освободительного движения народов Европы. И здесь среди французских маки, итальянских гарибальдийцев, неуловимых норвежских партизан советские люди, вызволясь от фашистской каторги, показывали чудеса храбрости, ратными подвигами прославляли свою социалистическую Отчизну. К 1944―1945 гг. подпольное движение в фашистских лагерях стало грозной силой, которая сковывала крупные соединения гитлеровской армии. Клика Гитлера была в постоянном страхе перед угрозой восстания. Через антифашистские силы внутри Германии организованное в лагерях подполье разлагающе действовало на империю бесноватого фюрера и ее союзников. Из документов «третьего райха» известно, что ставка верховного главнокомандования гитлеровских вооруженных сил предусматривала немедленное объявление общего осадного положения в Германии и оккупированных ею странах в двух случаях: во-первых, при катастрофическом прорыве фронта и, во-вторых, при восстании военнопленных (т. н. план «Валькирия»). Гитлеровские заправилы порядочно трусили даже перед безоружными и голодными узниками, видя в них грозную и всесокрушающую силу. И вот, когда орды захватчиков под ударами советских войск покатились на Запад, терпя поражение за поражением, антифашистские подпольные организации в концентрационных лагерях взялись за подготовку вооруженного восстания. Гитлеровцы поняли — их ждет возмездие. Они ожесточенно сопротивлялись. Пытаясь замести следы своих злодеяний, они стремились уничтожить всех узников. Обер-палач Гиммлер так и сказал: ни один заключенный не должен попасть живым в руки врага. Эсэсовским частям предписывалось смести с лица земли все лагеря смерти вместе с теми, кто выстоял в неравной борьбе за жизнь и свободу. В этой обстановке только вооруженное восстание узников могло сорвать преступные замыслы фашистов, спасти от уничтожения сотни тысяч людей. В первые дни мая 1945 года узники Маутхаузена, руководимые подпольным Интернациональным комитетом, поднялись на последний смертный бой. Вооруженную борьбу заключенных с эсэсовцами по заданию комитета возглавили пленный советский майор А. И. Пирогов и австрийский политзаключенный полковник Кодрэ. До этого А. И. Пирогов был членом руководящего комитета объединенных подпольных групп советских военнопленных, осуществлял связь с подпольной лагерной интернациональной организацией, с патриотическими группами чехов и поляков. Пятое мая 1945 года было днем решительной схватки, в которой изможденные, почти безоружные бойцы Сопротивления сокрушили своих палачей и тем самым сорвали осуществление людоедского приказа Гиммлера. В этот день тысячи бывших заключенных вышли с оружием в руках на аппель-плацы, на этот раз навстречу свободе, которую несла им с востока Советская Армия. Обо всем этом подробно и убедительно рассказывается в воспоминаниях А. И. Пирогова. Характерная особенность книги — ее оптимизм, вера в неминуемый разгром фашистской Германии. Даже в самые тяжелые минуты, когда жизнь людей висит на волоске, — они не теряют присутствия духа, продолжают свое благородное дело. Такими мы видим генерала Зотова, «дядю Степу», И. Кондакова, В. Логинова, А. Григоревского и многих других мужественных подпольщиков. Книга А. И. Пирогова не только изобличает фашистских каннибалов, развязавших вторую мировую войну и истребивших миллионы невинных жертв. Она напоминает нам о том, что опасность новой, еще более страшной войны не миновала, что многие убийцы, создатели Маутхаузенов и Освенцимов, не только живы, — они на свободе и мечтают о возрождении фашизма, о реванше. Более того, преступные замыслы этих гитлеровских последышей встречают сочувствие и поддержку правящих кругов западногерманского государства и стоящих за ним империалистов Соединенных Штатов Америки. Отвести угрозу фашизма, не допустить новой агрессии, не забыть страшных злодеяний гитлеровских палачей, помнить омытые кровью камни Маутхаузена и других лагерей смерти, — в страстном призыве к этому заключается смысл и большое значение подобной литературы. Не случайно на памятнике жертвам Маутхаузена начертаны проникновенные слова чешского патриота-коммуниста Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!» К этому призывает и книга А. И. Пирогова — быть бдительными, никогда не предавать забвению страдания уничтоженных германским фашизмом миллионов людей, неустанно бороться за мир и счастье на земле. Генерал-майор А. Куварзин

Последние комментарии
3 часов 35 минут назад
3 часов 38 минут назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 16 часов назад
2 дней 17 часов назад