Тихое утро [Юрий Павлович Казаков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Юрий Казаков ТИХОЕ УТРО
Рассказы

Юрий Павлович Казаков
(1927–1982)
Автор этой книги, Ю. П. Казаков, — отличный мастер слова. Его язык богат, точен и поэтичен. Читатели найдут в его рассказах близкое и понятное, то, что они чувствуют, но не умеют сказать. Для этого и существуют поэты — чтобы найти слова, которые ты хотел бы, но не можешь найти. Как и каждый подлинный писатель, Юрий Казаков, конечно, поэт. Как и у каждого настоящего писателя, его проза имеет свою характерную интонацию, она льётся как мелодия. Читать её надо медленно, может быть, даже вслух. Его рассказы, даже грустные, оставляют ощущение полноты и счастья жизни. Они учат любить жизнь, любить человека. С особой нежностью рисует Ю. Казаков природу северного края, которая раскрывает людям тайны «своей немой души», и жителей этого края — людей суровых, сильных и талантливых.Арктур — гончий пёс
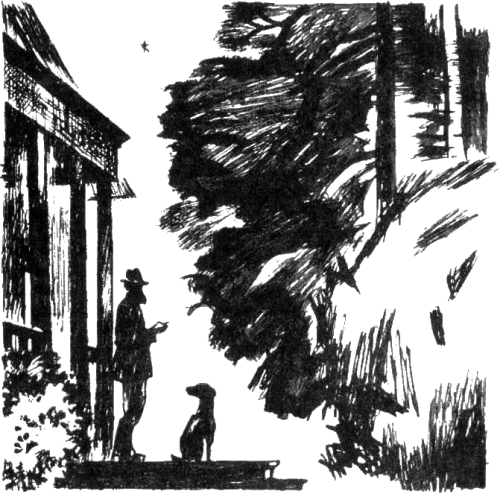 История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришёл весной откуда-то и стал жить.
Говорили, что его бросили проезжавшие цыгане.
Странные люди — цыгане. Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие — на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам в телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются, — смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уж никогда не увидать их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.
Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.
Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, чёрный, среди белоголубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «Клинк-кланк!»
Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «клинк-кланк», люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.
Шурша и глухо лопаясь, шёл по реке лёд, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.
Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьёв и запахом коры, он остался жить в городе.
О его прошлом можно только догадываться. Наверно, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить своё великое дело втайне. Её звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей…
Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к тёплому животу, ещё напряжённому в родовых схватках. И пока он лежал, привыкая дышать, у него всё прибавлялись братья и сёстры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить — такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро всё кончилось, все нашли по соску и затихли: раздавалось только сопенье, чмоканье и тяжёлое дыхание матери. Так началась их жизнь.
В своё время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир, ещё более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть свет. Он был слеп, бельма толстой серой плёнкой закрывали его зрачки.
Для него настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.
Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его.
У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нём, как о своём друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с такими же бездомными и голодными собаками.
Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Всё время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жёсткому. Когда он дрался с другими собаками — а дрался он множество раз на своём веку, — он не видел своих врагов, он кусал и бросался, ориентируясь на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую.
Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, — для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушёл бы или сдох где-нибудь в овраге, но в судьбу его вмешался человек, и всё переменилось.
История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришёл весной откуда-то и стал жить.
Говорили, что его бросили проезжавшие цыгане.
Странные люди — цыгане. Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие — на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам в телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются, — смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уж никогда не увидать их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.
Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.
Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, чёрный, среди белоголубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «Клинк-кланк!»
Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «клинк-кланк», люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.
Шурша и глухо лопаясь, шёл по реке лёд, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.
Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьёв и запахом коры, он остался жить в городе.
О его прошлом можно только догадываться. Наверно, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить своё великое дело втайне. Её звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей…
Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к тёплому животу, ещё напряжённому в родовых схватках. И пока он лежал, привыкая дышать, у него всё прибавлялись братья и сёстры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить — такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро всё кончилось, все нашли по соску и затихли: раздавалось только сопенье, чмоканье и тяжёлое дыхание матери. Так началась их жизнь.
В своё время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир, ещё более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть свет. Он был слеп, бельма толстой серой плёнкой закрывали его зрачки.
Для него настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.
Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его.
У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нём, как о своём друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с такими же бездомными и голодными собаками.
Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Всё время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жёсткому. Когда он дрался с другими собаками — а дрался он множество раз на своём веку, — он не видел своих врагов, он кусал и бросался, ориентируясь на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую.
Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, — для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушёл бы или сдох где-нибудь в овраге, но в судьбу его вмешался человек, и всё переменилось.
2
В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы с запачканными чёрной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да командировочные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод. Вокруг города по низким, пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными старыми соснами по берегам. Сосны всё время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный, влажный ветер, нагоняя тучи, сосны грозно гудели и роняли шишки, которые крепко стукались о землю. Я снял комнату на окраине, на верху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьёй, но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, и доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшей фистулой[1] он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями. Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину — доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Ещё в сад забредали коты и, затаившись возле лопухов, следили за воробьями. Я жил в городе уже недели две, но всё никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами с прорастающей меж досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам. Это был необычный город. Почти всё лето стояли в нём белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчётливый дробный стук — это шли рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюблённых всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей. Ночью наш сад пах смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: «Ду-ду-ду…» Однажды в доме появился ещё один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком верёвки на шее он сидел, забившись между брёвнами, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за верёвку и потащил слепого к себе домой. Дома доктор вымыл его тёплой водой с мылом и накормил. По привычке пёс вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами. — Ну, теперь ступай! — сказал доктор, когда пёс наелся, и подтолкнул его с террасы. Пёс упёрся и задрожал. — Гм!.. — произнёс доктор и сел в качалку. Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звёзды. Гончий пёс улёгся на террасе и задремал. Он был худ, рёбра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мёртвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза. А доктор растерянно рассматривал его и ёрзал в качалке, придумывая ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака? Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда. — Арктур… — пробормотал доктор. Пёс шевельнул ушами и открыл глаза. — Арктур! — снова сказал доктор с забившимся сердцем. Пёс поднял голову и неуверенно замотал хвостом. — Арктур! Иди сюда, Арктур! — уже властно и радостно позвал доктор. Пёс встал, подошёл и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться. Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стоиков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца. У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном — запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлёбываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым, воркующим смехом, что это было за наслаждение! Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, и Арктуру казалось, что всё это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда.3
В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного. Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой, с крепкими ногами, чёрной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряжённость. И ещё морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твёрдо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком — многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали через канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по лугу да по террасе нашего дома… Но если животные и люди были ещё понятны ему и он, наверно, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нём огромное любопытство на первых порах. И лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолётами. Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нём. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашёл дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все они звучали, как музыка, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему: одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать, и он сразу же ощущал свалки и помойки, дома, каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц так ясно, как будто видел всё это. Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. В его трещинах и порах задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность. И ещё он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие вёрсты[2] вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой брёвен в запани[3] около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины[4] — кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе не ведомая и не слышная нам, но знакомая и понятная ему. И ещё была у него одна особенность: он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему. Однажды я шёл по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали на дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие, протяжные крики, хлопанье кнутов: с лугов гнали стадо. Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряжённому и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит? — подумал было я и заметил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение. Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врождёнными. И вот, увидев бегущую навстречу тёмную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперёд протиснулся приземистый палевый[5] бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дёргая кожей, выкатывая кровяные белки. — Гришка! — закричал кто-то сзади. — Бежи скорея вперёд, коровы ста-али! Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал ещё несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Чёрный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлёпнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперёд, всё смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но его не было. Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его. — Ах, собака! — закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом. Арктур не взвизгнул, он только вздрогнул, повернув на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал. Бык стоял поперёк дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул и его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепёхи, тронулось дальше. Я подошёл к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык, рёбра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Всё его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.4
И всё-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл. Случилось это так. Я пошёл утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнётся скорое увядание. За мною увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание. Лес ошеломил Арктура. В городе всё ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему незнакомые предметы: высокая, жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые ёлочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорилось прогнать из леса. И потом — запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган. — Ах, Арктур! — тихонько говорил я ему. — Бедный ты пёс! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зелёные по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов — белых, жёлтых, голубых и красных — и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звёзды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади, и собаки, и кошки — все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, и зелёными, и просто серыми и как сильно блестят стёкла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлёбываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке — охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пёс! Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я всё дальше уходил в лес. Арктур мало-помалу успокаивался и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь он, увлечённый своим важным делом, уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывал в мою сторону мёртвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним, потом опять принимался кружить по лесу. Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами[6]. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал… «Кого-то причуял!» — подумал я и остановился. «Гам! — звонко и неуверенно раздалось в кустах. — Гам, гам!» — Арктур! — в беспокойстве позвал я. Но в этот момент что-то случилось. Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся в глубь кустов. Вой его быстро перешёл в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился наперехват, громко окликая его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застревая в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую, спустился в лощину, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но тем не менее гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлёбываясь, срываясь на тонкий щенячий голос. — Арктур! — крикнул я. Он сбился с хода. Я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле: видимо, он всё-таки ударился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так был он возбуждён, что и не почувствовал этих ушибов.5
С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины. Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Он, наверно, чувствовал всё-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, которые так необходимы каждой гончей собаке. Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы! Лес был ему молчаливым врагом, лес стегал его по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах доставался ему, только один след среди тысячи других вёл его всё вперёд и вперёд. Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грёз? Какое чувство пространства и топографии[7], какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много вёрст в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дому! Каждой гончей собаке необходимо одобрение человека. Собака гонит зверя и забывает всё, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лазам её хозяин-охотник и что, когда придёт пора, его выстрел решит всё. В такие минуты голос хозяина дичает и заражает собаку. Он тоже лазит по кустам, бегает, хрипло порскает[8], помогает собаке распутать след. А когда всё кончено, хозяин бросает собаке пазанки[9], смотрит на неё хмельными глазами, кричит с восторгом: «Но, ты! Мил-лая!» — и треплет за уши. Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нём с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном своего хозяина и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и, если доктор, проснувшись в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал: «Арктур!» — что тогда выделывал этот пёс! Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подёргивающимся горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам. Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почёсывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая всё большие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши и наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле трусящим своей ровной, несколько напряжённой и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу.6
Как-то раз я шёл с ружьём по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много, в низинах часто попадались бекасы, охота была лёгкой и радостной. Выбрав пень поудобней, я присел отдохнуть, и, когда стих набежавший перед тем лёгкий ветерок и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот тёплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая всё на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай, доносившийся с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далёк. Иногда он пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного ближе и громче. Я сидел на пне, посматривал кругом на жёлтые, засквозившие уже берёзы, на поседевший мох и далеко видные на нём багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева, и берёзы, и тесные зелёные ёлки, и озеро внизу, и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур. Так вот когда пришлось мне услышать его! Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, потерял след и замолчал. Долгие минуты длилось его молчание, лес сразу стал пустым и мёртвым. Я как бы видел, как кружит пёс, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий? Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему, ни один не пройдёт мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую, бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, и вслушалась в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула в овраг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шёл немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел в овраг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол. Как в странном театре, промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далёким лаем.
7
Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далёкой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нём говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нём спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода. К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам — они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости и других охотничьих статях[10]. Они Выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорчённые, и на смену им приходили другие. Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквозила, на голове был мятый треух, на ногах — сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскрёб голову и посмотрел на небо. — Погоды-то ныне, погоды… — неопределённо начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил: — Не за собачкой ли пришли? — Да и как же! — оживился он и надел шапку. — Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему, а мне вот как нужна собачка! Скоро охоты и всё такое… У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох: дурак, след не держит и голосу никакого. А ведь это что? Сляпой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает! Царская собака, вот те крест святой! Я посоветовал ему поговорить с хозяином. Он повздыхал, высморкался и ушёл в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал. Потом нахмурился. — Что ж, отказали вам? — спросил я, заранее зная ответ. — И не говори! — огорчённо воскликнул он. — Ну что ты скажешь! Я с малолетства охотник — во, вишь, глаз потерял, — и сыновья у меня тоже, и всё такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для де-ела! Нет, не даёт… Пятьдесят рублей сулил — цена-то какова, а? — и не подходи, не даёт! Чуть не заревил[11], а? Это мне ревить надо! Охоты подходют — собаки нет! Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее. — Она где же помещается у вас? — как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом. — Уж не украсть ли собачку хотите? — спросил я. Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня. — Прости господи! — сказал он и засмеялся. — Ведь так с вами и до греха дойдёшь. А ты думал! Ну на что ему собака? Скажи ты вот! Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня: — А голос-то, го-олос! Понимаешь ты — голос! Чистый ключ, я тебе говорю! Потом вернулся, подошёл ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома: — Погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник… Продаст он мне её. Святой крест, продаст! До покрова-то[12] далеко, чего-нибудь удумаем. А ты говоришь… Эх! Едва старик ушёл, в сад быстро вышел доктор. — Что он тут вам говорил? — волновался он. — Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке? Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услыхав голос своего хозяина, выполз из-под террасы и, прихрамывая, подошёл к нам. — Арктур! — сказал доктор. — Ты ведь мне никогда не изменишь? Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло книзу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пёс уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес.8
Август подошёл к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушёл в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни ещё через день. Когда друг, который жил с тобой, которого ты видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания. И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий, несколько боком, бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюблённость в хозяина, даже запах чистой, здоровой собаки… Я вспоминал всё это и жалел, что это был не мой пёс, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много вёрст. Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока наконец не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал. Мало того, вызвался искать его вместе с нами. Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слышал в лесу его лай… Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по десять раз в день наведывались к доктору узнать, не пришёл ли, не нашёлся ли чудесный гончий пёс. Я не искал Арктура. Мне не верилось, чтобы он мог заблудиться, — для этого у него было слишком хорошее чутьё. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб… Но как? Где? Этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть! А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнел и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо, коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду, камень возле реки никто не обнюхивал больше. Бесполезный, он уныло торчал над землёй и чернел от дождей, запахи его никому не были нужны. В день моего отъезда мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что смолоду не стал охотником.9
Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетёной мебели. Дом молчал, и в комнатах так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями. Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор тончайшим фальцетом[13] распевал свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась, куда хватал глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным «клинк-кланк», гнусаво сигналили юркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело! На другой день по приезде я пошёл на тягу[14]. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахла, и сколько было других запахов — осиновой коры, гниющего дерева, сырого листа, — всех их перебил сильный и резкий запах земли. Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальдшнепы[15] летели густо. Я убил четырёх и еле отыскал их на тёмном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло и высыпали первые звёзды, я тихо пошёл домой по знакомой наезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо, и голые берёзы, и звёзды. Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие вразброс немногие кости собаки. Сердце моё глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой… Да, это были останки Арктура. Разобравшись внимательно во всём, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У нестарой ещё, но сухой ёлки был отдельный нижний сук. Он, как и всё дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока наконец не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил уже, не знал ничего, кроме этого зовущего всё вперёд, всё вперёд следа. В полной темноте я пошёл дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле, и на дорогу, но мыслью всё возвращался туда, на маленькую гривку с сухой, обломанной елью. У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имён не встретишь среди охотничьих собак! Есть тут и Дианы, и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы… Но наверно, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды!Никишкины тайны
Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать — остановились испуганные, сбились в кучу, глядят заворожённо на море… Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идёт человек — далеко слышно. Приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: семгу ли несет, с пестерем[16] ли в лес идёт или так… Ночью, белой, странной, погонится парень за девушкой, и опять слышно всё, и знают все, кто погнался и за кем. Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, строены крепко, у каждой век долгий — всё помнят, всё знают. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревня его тёмный широкий парус, знает: на тоню[17] к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе[18] с глубьевого лова — знает деревня и про них, с чем пришли и как ловилось. Помрёт старик древний, отмолят его по-своему, отчитают по древним книгам, повалят на песчаном угрюмом кладбище, и опять всё видит деревня и чутко принимает вопли жёнок. Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как все, — тихий, ласковый, а ребята в деревне все «зуйки»[19], настырные, насмешники. Лет ему восемь, на голове вихор белый, лицо бледное, в веснушках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Глянет — и вот младенец несмышлёный, а другой раз глянет — вроде старик мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать, сам говорит редко, и то вопросами: «А это что?», «А это почто?» С отцом только разговорчив да с матерью. Голос у него тонкий, приятный, как свирель, а смеётся басом, будто немой: «Гы-гы-гы!» Ребята дразнят его. Как чуть что — бегут, кричат: «Никишка-молчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка, обидно ему. Прячется в поветь[20], сидит там один, качается, шепчет что-то. А в повети хорошо: темно, не заходит никто, подумать о разном можно, и пахнет крепко сеном, да дёгтем, да водорослями сухими. Стоит конь, осёдланный возле Никиткиного крыльца. Грызёт плетень, щепает крупным жёлтым зубом; надоело ему, глаза закрыл, голову свесил, осел, ногу заднюю поджал, только вздохнёт другой раз глубоко, ноздри разымутся. Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: собрался Никитка к отцу на тоню ехать, за двадцать вёрст, по сухой воде, мимо гор и мимо леса. Выходит Никитка с матерью на крыльцо. Через плечо — киса[21], на ногах — сапоги, на голове — шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно уже, на дворе октябрь. — Ступай всё берегом, всё берегом, — говорит мать. — В стороны не сворачивай. Будут тебе по пути горы. Проедешь ты эти горы, а там тебе тропа сама покажет. Тут близко, не заблукай[22] гляди-дак… Двадцать вёрст всего, близко! Никишка молчит, сопит, мать плохо слушает, на коня лезет. Взбирается в седло, ноги — в стремя, бровки сдвигает: — Но-о! Тронулся конь, просыпается на ходу, уши назад насторчил, хочет понять, что за седок на нём нынче. Закачались мимо избы, подковы по мосткам затукали: тук-ток. Кончились избы, высыпали навстречу бани. Много бань — у каждого двора своя, — и все разные: хозяин хорош — и банька хороша, плох хозяин — и банька похуже. Но вот и бани кончились, и огороды с овсом прошли, блеснуло слева море. Конь по песку захрупал, по сырым водорослям. На море косится, глаз выворачивает — не любит моря, хочет всё правее забрать, подальше от воды. Но Никишка знай себе подёргивает за левый повод, знай пятками по бокам коня колотит. Покоряется конь, по самому краю воды бежит, шею согнул, пофыркивает. Недалеко от берега — камни. Их много, обнажённых отливом; они черны и мокры. Там, возле камней, разбиваются в пену волны, вскипают белыми бурунами[23], глухо, бессильно рокочут. Здесь, возле берега, совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры перламутровых раковин и пропадают. Прозрачная волна лижет песок. Сидят на камнях чайки, сонно смотрят в море. Потихоньку слетают, когда Никишка близко подъедет, скользят стремительно над самой водой и вдруг — крылья вверх, хвост веером! — садятся на воду. Сильно светит низкое солнце, блестит под ним море и кажется выпуклым. Длинные мысы плавают впереди, в голубой дымке, будто висят над морем. Смотрит Никишка вокруг, сияет разноглазьем, в улыбку губы распускает. Глядит на солнце, навыпуклое, огненное море, смеётся: — Солнышко! Гы-гы-гы!.. Перелетают вдоль берега кулички[24], кричат печально и стеклянно. Качаются на высоких ножках у моря, бегают у самой воды: волна отойдёт — они по мокрому за ней, волна обратно — и они назад. — Кули-кули… — лопочет Никишка, останавливает лошадь, смотрит, какие они подбористые, с клювами, как шило. А чего только нет на песке у моря! Вон оставшиеся после отлива красные мокрые медузы, похожие на окровавленную печёнку. Есть медузы другие — с четырьмя фиолетовыми колечками посередине. Есть и звёзды морские с пупырчатыми, искривлёнными лучами, а ещё — следы чаек, долгие, запутанные, и тут же — помёт их сиреневобелый. Лежат грудами водоросли, тронутые тлением, тяжело и влажно пахнут. А то ещё след босой ноги тянется у самой воды, сворачивает к лесу, топчется возле странной вросшей в песок тёмной коряги. Кто это шёл? Куда шёл и зачем? Весело Никишке. А конь всё копытами хрупает да фыркает. Ступит иногда с маху на медузу — разбрызгается она по песку, как редкий драгоценный камень. Пусто впереди, пусто назади, пусто слева, пусто справа. Слева море, справа лес. А в лесу что? В лесу вереск да сосны кривые, маленькие, злые, да берёзы такие же. Ещё в лесу ягоды есть сладкие: брусника да черника. И грибы: маслята липкие, рыжики крепкие, сыроежки с плёночкой, с торчащими на шляпках сосновыми иглами. Медведи в лесу ходят и другие звери, а птицы совсем нет, рябки[25] одни тонко перекликаются. Дед Созон говорит: «Отлетела чегой-то птица. Бывало, побежишь с пестерём-то в лес, полон пестерь, набьёшь-дак. А ныне отлетела чегой-то птица, бог с ней, совсем ушла!» Выбегают из лесу в море реки, большие и маленькие. Через большие реки мосты положены. Нюхает конь брёвна, слушает, как внизу вода вызванивает. Ступнёт шаг, шею выгнет, назад оглядывается. — Но! — скажет Никишка потихоньку. Конь ещё шагнёт. А звук на таких мостах глухой, и вода внизу тёмная, будто крепкий чай. Все реки из болот выбегают, нету чистой воды, вся такая, и море возле впадения рек швыряет на песок жёлтую пену. А то чёрное что-то в песок вросло, коряга там или, может, камень тёмный, бугристый. Конь издали ещё заметит, насторчит уши, голову задерёт и вот вбок норовит, боится. — Ты ужо вбок не ныряй, — говорит коню Никишка. — Это ничего. Это так, дерево росло, да сгнило, да в песок устряло. Вишь, коряга? Вишь, это тебе ничего. Конь слушает внимательно, кожей передёргивает, фыркает и несёт Никишку дальше, всё вперёд и вперёд. Слушается он Никишку. Его все звери слушаются. Вот и горы пошли. Высокие, чёрные, стеной в море обрываются. На обрывах сосенки да берёзки корявые лепятся, смотрят в море, ждут горя. А внизу осыпь каменная: камень воду лезет пить. Много камня, громоздко очень. Конь всё осторожнее идёт, принюхивается, выбирает, куда ногу поставить. Шёл, шёл и упёрся, стал, ни вперёд, ни назад, ни вбок — никуда. Слезает долой[26] Никишка, коня берёт за повод, шагает по мокрым камням. Вытягивает конь шею, прижимает уши, скачет за Никишкой, приседает, щёлкают подковы, дрожат ноги. А под ноги ему накатываются со звоном волны. «Шшшшу!» — набегают. «Сесс!» — откатываются. «Шшшшу!» — снова набегают… Нет, не может идти конь! Чудится[27] ему: разверзается слева водяная бездна, приливает море, шумит, а под ногами камни — не уйти, не убежать! Останавливается он в ужасе, храпит, скалит жёлтые зубы. Сердится Никишка, дёргает, тянет изо всех сил за повод. «Но-о!» — кричит. Не идёт конь, глядит на Никишку фиолетово-дымчатыми дрожащими глазами. Стыдно становится Никишке, подходит он, гладит коня по щеке, шепчет ему что-то ласковое, тихое. Слушает конь Никишкин шёпот, звон моря слушает, дышит тяжело, носит боками. Куда идти? Слева море, справа горы, сзади камень и спереди камень. Набирается конь решимости, снова скачет вперёд, и снова щёлкают подковы. Наконец выбрался из осыпей, подвёл Никишка коня к большому камню, забрался в седло, и опять захрупали копыта по песку, по водорослям. А земля впереди всё мысы в море выставляет, будто длинные, жадные пальцы. Едет Никишка, впереди — далёкий голубой мыс. Доезжает до него — любопытно: а что там, за ним? А за ним новый мыс, ещё дальше выпяченный в море, там ещё и ещё, и так без конца.
Началась незаметная тропа, конь сам на неё свернул. Никишка задумался, смотрит вокруг, хочет тайну такую понять, чтобы всё, что видит, разом открылось ему. Да не понять этой тайны, смотри только с тоской, впитывай глазами, слушай ушами да нюхай. И смотрит Никишка зачарованный, думает, а тропа всё дальше от моря уходит, лесом идёт. Становится тихо, золотисто. Под ногами коня языки — жёлтые, красные, оранжевые. Пахнет мохом, грибами, янтарные рыжики везде, румяные волнушки. Весь лес горит, ёлочки только зелёные, да вереск стелется приплюснутыми островками. Красен лес, а из-под земли камни обомшелые, тёмные и бурые, выпирают, да стоят особняком серые, изуродованные, скрученные ёлки и берёзы, странно похожие на яблоню. Попался бы кто-нибудь навстречу! Но никто не попадается, один Никишка в безмолвном лесу. Скоро ли жильё? Не у кого спросить, молчат сосны и ёлки, загадочно смотрят на Никишку камни из-под земли. И вдруг среди этого безмолвия, мёртвой тишины, звуков неживых — песня! И слышно — топором кто-то постукивает, слышно — дымком попахивает. Конь уши торчком, заржал звонко, рысью, рысью вперёд — жильё чует. Выезжает Никишка из лесу, перед ним избушка — тоня отцовская. Всё новое, всё крепко и ладно, из трубы дымок курится, на длинном шесте — антенна ёжиком, на вешалах[28] сети сушатся, рыбой пахнет, на катках карбас[29] лежит, чёрным боком маслится. На пороге отец сидит, топором постукивает, кормовое весло ладит да песню поёт.
2
Увидел Никишку, встал отец — огромный, бородатый, в высоких сапогах, с ножом на поясе, в брезентовой робе. Руки у него красные, лицо бурое, борода светлая, а глаза резкие, пристальные, под густыми бровями. — Сынок приехал! — говорит радостно отец. — То-то сон мне снился… Ну, как же дома у нас там? Все ли живы? — Живы! — отвечает Никишка, слезает с коня, качается, ногами топает. — Председатель коня дяде Ивану дал, мамка меня послала, я и поехал… Ехал-ехал, весь заболел, спину больно. — Ах ты, молодец у меня! — ласкает отец Никишку, волосёнки льняные ручищей своей гладит. — А я слышу: топ какой-то, а кто такое, и не толкую. А это вон Никишка! Не боялся ехать-то? — Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конём говорил. Конь-то умный. На вот тебе, мамка наклала, — снимает Никишка кису. — А почто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось ночью-то переваливаются кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь! — Камни-то? — задумывается отец. — Камни, они, надо думать, тоже живые. Всё живое! — А ты понимаешь, об чём берёзы говорят? — Дак они по-своему, по-берёзьи, небось говорят! Надо язык ихний знать. А то где понять! — А дядя Иван где? — Дядя Иван на соседнюю тоню поехал, на Керженку. Давеча рыбаки туда бежали на доре[30], так и его взяли — баня у них там. У нас-то нету её, вот дядя Иван и поехал. — А в деревню когда он поедет? — В деревню завтра поедет, полечится. Ноги-то, вишь, совсем у него разломило. На лошади и поедет по сухой воде. — А я как же? — Ты со мной останешься. Останешься? Сёмгу[31] будем ловить. — Останусь! — Ну вот! Пойду лошадь расседлаю… Пошёл отец, коня поймал, расседлал, потом верёвку вынес, привязал коня к берёзе, чтобы в лес не ушёл. А Никишка в избу заходит: сильно пахнет рыбой, в печке угли тлеют, на столе хлеб, миски да ложки. Стены плакатами оклеены, на полке газеты ворохом лежат, чисто в избе, подметено, на верёвке рукавицы, портянки да штаны сохнут. Выходит Никишка, обходит избу вокруг, в сарай заглядывает. Сарай открыт, не запирается, — не от кого запирать. Только хотел было Никишка в сарай забраться, посидеть, подумать о сегодняшнем, вдруг что-то живое в сарае показалось, тёмно-рыжее, будто тусклый пламень. Глазами светит, в глазах блеск красноватый вспыхивает, как солнце предзакатное. Собака! Большая, лохматая… Сел Никишка на корточки, смотрит во все глаза на собаку, оглянулся — отец не видит, заговорил с ней: — Адя… Уууурр! Гу-гуррр… Гам! Собака молчит, нюхает, голову набок склонила, одно ухо вверх, другое повисло, хвостом молотит — нравится ей Никишка. Наговорившись, выходит Никишка из сарая, собака за ним бежит, будто век его знает. Смотрит Никишка на отца, какой он большой, красный, солнцем освещённый, как царь лесной. — Ну, сынок, — весело говорит отец, — поедем сейчас за сёмгой! Только постой, весло доделаю.
Отходит Никишка немного, ложится на тёплый песок, собака подбегает, рядом ложится тоже, дышит часто. Закрывает глаза Никишка. Качает его, всё кажется — на коне едет и чайки бесконечно над морем взлетают, а мимо горы, да леса, да кресты чёрные. И песню кто-то тонко поёт, голос то распухнет, то утончится, баюкает, солнышко светит, а море всё: «Шшшшу!» — накатывает, «Сссс!» — отходит. Тлеющие водоросли крепко пахнут, дурманит голову, а кулики стеклянно кричат: «Пи-пии! Пи-пии!» Лежит Никишка, ни спит, ни дремлет… Песок тёплый, собака тёплая, смотрит на Никишку огненными глазами, говорит: «Пойдём, Никишка, в лес!» — «Я в море пойду, сёмгу стеречь!» — отвечает Никишка. А собака своё: «Пойдём в лес, я тебе тайны открою! Об чём берёзы шепчут, послушаем, что камни думают, узнаем». Любопытно Никишке! Сомневается он уже: то ли в море идти, то ли в лес, но тут отец как раз подошёл с веслом новым в руке: — Вставай сынок, поедем! Встал Никишка, идёт с отцом на берег. А море радуется: вспыхнет, заиграет, заголубеет, так и манит, так и расстилается. Налёг отец грудью на карбас, столкнул в воду. Никишку посадил в корму[32], сам сапогами по йоде[33] бухает. Но вот и сам в карбас залез, на вёслах умостился. Никишке кормовое дал, от берега отвалили, развернулись, и пошло качать-покачивать — вверх-вниз, вверх-вниз. Берег качается, собака на берегу качается… А отец шибко гребёт, волна по скулам карбаса шлёпает, взлетает брызгами вверх. Подплывают осторожно к ловушке, привязывают карбас к жерди, встаёт отец, чутко вниз глядит, в тайник, — нет ничего! — Пусто, — шепчет отец и садится спокойный. Оглядывается Никишка. Тихо кругом, ни звука, ветерок лёгкий ровно дует, солнце светит, слепит глаза море, а берег далеко, тёмный, в обе стороны уходит. И кажется Никишке — был он здесь, сидел давно, годами, сёмгу ждал, думал о чём-то. Или снилось ему это? — Прилив начался, — говорит отец. — Вода пошла, прибывает. — Светла погода, — тихонько откликается Никишка. — Хорошо! Донушко видать… — А как же! Она донушко светлое любит. Ей камни там или водоросли не надобны. Любит она по дну идти, в полводы. Полная вода или сухая вода — это ей неподходяще, не любит она этого, а идёт, говорю, в полводы. — А это колотушка? — Это? Колотушка, сынок. Её бить. Она здоровая, сильная, так не вытащишь, упаришься, вот и бьём мы её колотушкой. — А если она выскочит? — Но! У нас ведь ловушка на то. Вишь полотно-то? Сеть то есть. Это вот стенки на кольях с оттягами, а внизу… Глянь-ко, глянь! Свешивается Никишка за борт, руками глаза свои разноцветные огородил, смотрит в воду, в глубину, видит блики зеленоватые на дне, тонкие ячейки сети видит. — Вишь? Вишь, внизу тоже сеть — это доно. Стенки да доно — это вот тайник, а там ворота, эвон где жерди две рядом торчат, ворота там… Она идёт, в ворота зайдёт — и в тайник, а в тайнике мы её бьём. От ворот заезжам, выход загораживам, доно подымаем и бьём. — Знаю, — говорит Никишка, вспомнив что-то. — Я и то говорю, знаешь, — соглашается отец. — Ты у меня всё знаешь! — А почто меня ребята дразнют? — Они дурачки, не слушай их. Озорники они, всё им баловство, а ты хороший, смирный да умный, вот они и дразнют. Не слушай их, ты всех умней. — Это потому, что я думаю много. — А ты много не думай и мало не думай, а так: захочется — думай, не захочется — не думай. — А я думаю вот: куда это вода в море отливает, а после обратно приливает? Реки — те в море утекают, а море куда утекает? — Море? Гм!.. — скребёт отец бороду, на горизонт глядит, соображает. — Море, надо думать, в горло уходит, в Ледовитый океан. А из океана ещё и в другие океаны переливается. — А много других океанов? — Много, сынок. И стран всяких много на земле. — А ты был там? — Был! В Италии и во Франции был, в Норвеге, когда моряком ходил. — А какая Италия? — Италия-то? Италия, сынок, хорошая. Жарко там, солнца много, фрукты всякие растут, сладкие да вкусные. Все там чёрные от солнца ходят, раздетые, а зимы вовсе нет. — Как нет? — А так. Снегу нет, морозу нет, ничего. Солнце круглый год. — Хорошо! — вздыхает Никишка. — Пожить бы там! — И поживёшь, — говорит отец. — Вырастешь, на капитана пойдёшь учиться, дадут тебе пароход большой в Архангельске, и побежишь ты мимо Норвеги, вокруг земли, прямо в Средиземное море. — А ты капитаном был? — Нет, я был матросом. Всем я был: лесорубом, охотником, рыбаком, зверобоем… — Ой, глянь-ко, что это? — Где? — Эвон кажется… — А! То тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть. — Знаю. А где он живёт? — В море живёт. Днём рыбу промышляет, а ночью к берегу плывёт, на камнях спит, в местах глухих, на съёмных коргах[34]. — А почто его бьют? Его ведь не едят. — Шкура у него хороша и жиру много. Его легко бить, глупый он; подкрадаются и бьют из винтовки. А ходим за ним всяко: другой раз на карбасах, другой раз на ледоколе. Теперь-то всё больше на ледоколе. — А если темна погода, страшно на карбасе? — Ой, страшно! Вот вырастешь, возьму я тебя на зверобойку, порато[35] узнаешь тогда наше северное морюшко. Эвон там, где блёстки, — показывает отец рукой, — где солнушко стоит, там островок есть махонький, Жижгин называется. Тюлени там стадятся. На Жижгине этом поморы всегда промышляют. Стоит там избушка зверобойная на корге, прибегают туда поморы на карбасах, живут, хлеб жуют, поветрия ждут, погоды, значит. В хорошую погоду в море бегут, тюлешков стреляют, ночью на льдине спят. Быват, падёт темна погода, так уж понесёт, так понесёт — заревишь на голос, с жизнью простишься. Кто посчастливей, того и отпустит скоро, ветер напеременку пойдёт, утихнет, а кого и в горло вынесет, мимо Канина Носа пронесёт да в океан… А там, только если с самолёта заметят, спасут, а так… — Сёмга! — шепчет вдруг Никишка. — Но! — Встал отец на носу на коленки, наклонился над тайником. — А и верно! Ну, господи благослови, я буду доно подымать, а ты карбас сдерживай…

Быстро отвязывает отец карбас, гребёт по борту в объезд ловушки, к воротам. Заходят со стороны ворот, нагибается отец, руки в воду опускает. Никишка за жердь держится. А в глубине что-то беззвучно мечется — огромное, сильное, живое, — вздрагивают жерди, как струны дрожат оттяги. Шуршит капроновая сеть, подтягивает её отец к карбасу; Никишка шею вытянул, смотрит вниз. Вот всё меньше сёмге места остаётся, вот она уже два раза поверху хлестнула, держит отец одной рукой подобранное дно, другой колотушку шарит. Нашёл, руку вымахнул, ждёт, когда ударить можно, а сёмга бьётся всё яростней, всё сильнее, гулко по дну карбаса стукает, не даётся, водой рыбаков окатывает. Вот уже вся она на виду, как в чаше пенной. Могла бы кричать — закричала бы от ужаса. Бьёт её отец с размаху по голове, и сразу всё обрывается, обмякает сёмга, заваливается набок. Хватает отец её за жабры, с усилием втягивает в карбас, шлёпает вниз, под ноги Никишке. Смотрит Никишка на неё остановившимися глазами, а она ещё жива, ещё жабры вздрагивают, чешуя ещё сжимается — огромная серебристая рыба с тёмной спиной, с загнутой вверх нижней челюстью, с дымчатым крупным глазом. Опускает отец дно, выталкивает карбас из ловушки, рукавом лицо вытирает и руки, рыбой пахнущие, вытирает о штаны, весело смотрит на сёмгу, на Никишку: — Вот как мы её! Никишка бледен, поражён, опомниться не может. И опять привязан карбас к жерди, качается на волне вверх-вниз, молчит отец, сложив на коленях могучие красные кисти рук, отдыхает. А Никишка, привыкнув немного к сёмге, вспоминает отцовские слова о тюленях. — Не, я лучше капитаном буду! Не хочу тюленей бить: они смирные… — Можно и капитаном, — соглашается отец и смотрит на небо: — Глянь, тучи натягиват, солнушко скрыват. Скоро домой поедем… Можно капитаном, а можно инженером тоже… — А почто инженером? — Как — почто? Строить чего-нибудь будешь, это тоже дело! Да вот хоть бы у нас: выстроишь дорогу по берегу асфальтовую, причалов настроишь, огни гореть будут, машины гудеть… Никишка задумывается, глядит на далёкий берег: какой он тёмный, безлюдный… — Ладно, — решает, — буду инженером. — Ну вот! Посидим ещё — и домой. Там у меня рыбка есть, давеча утром рюжу[36] осматривал по сухой воде, так рыбки немного попало. Ухи мы с тобой наварим да чай скипятим, оно и хорошо спать-то будет. А теперь давай-ко помолчим-дак… Сёмгу надо сторожить. Молчит всё: молчит море, карбас беззвучно качает, молчит берег, не доносится оттуда ни звука. Низкое уже солнце скрылось в облаках, потемнело всё кругом, запечалилось. И никого нигде нет! Пусто везде, безлюдье, летают редкие чайки, на берегу в лесу рябки притаились, да качаются в карбасе два рыбака и с ними заснувшая сёмга.
3
Гудит печка, потрескивает. Тепло в избушке, за окошками сумерки. Зажёг отец лампу, между ног ведро поставил с водой, шкерает на уху пятнистую тресочку[37], тёмную, горбатую рявшу[38], тонкую навагу[39]. А Никишка дремлет. Наговорился за день, нагляделся, наслушался, накачался, устал — дремлется ему, думается бог знает о чём! Круто меняется погода. Дует верховой обедник[40], шумит море, всё зеленеет и зеленеет на западе, просинь открывается, воздух стекленеет: настаёт вечер необыкновенной чистоты, со звёздами и с мутным небесным светом. Лежит рыжий пёс у печки, спит, подрагивает во сне. Никишка встрепенётся, слушает вполуха — отец чего-то говорит мирное, давно знакомое, родное: о рыбе говорит, о море, о ботах, о деревне, о ветрах— полуношнике, побережнике, шалоннике, обеднике… Большой отец, склонился низко над ведром, волосы, как у Никишки, белёсые на глаза свесились, борода распушилась, сам неподвижен, руки только двигаются, нож сверкает, рыба в ведро с плеском падает, тень отцовская на стене вздрагивает. Говорит, говорит отец низким голосом. Никишка глаза закроет, видит землю родную с морем, лесами, озёрами, солнце видит, птиц молчаливых, зверей странных. Кажется ему — вот-вот тайну какую-то узнает, никому не ведомую, слово заветное произнесёт, и нарушится молчание, заговорят все с Никишкой, всё ему разом понятным станет. Но нет слова, не раскрыта тайна, слышит Никишка ровный отцовский голос, и ещё многое видит он и слышит. Видит он, что псу рыжему снится. Лес ему снится, звери страшные, неизвестные со всех сторон кидаются. Бежит пёс, лает от страха, одно ему спасение — Никишка. Слышит — камни шептаться начинают, море шумит, деревья в лесу шевелятся, крикнет кто-то… Видит — вот отец в шторм на льдине качается, ревит; ещё видит — сёмга огромная, сердитая бережает[41], по дну плывёт, по чистому донушку, а за ней другие — тайник отцов ищут. Гудят в печке дрова, потрескивают… Отец из избы выходит воду вылить из ведра; слышно, за стенкой ходит, дрова собирает, потом в избу входит, грохает дрова у печки. Вскакивает пёс рыжий, вздрагивает Никишка, глаза открывает. — Спишь, сынок? — наклоняется к нему отец. — На воле-то не видал, что делается? Ясень[42] какой! Глянь-ко, глянь поди… Выходит Никишка — темно, холодно, ветер сырой дует. Солнце давно село, леса не видно, а вверху, меж звёзд, жемчужно светится продолговатое пятнышко. Будто облачко плывёт на страшной высоте, озарено последним светом солнца. Но вот облачко медленно, неуверенно вытягивается в длину, пухнет в середине, выгибается мостом-радугой между западом и востоком. Смотрит Никишка, закинув голову. Дверь хлопает, подбегает к Никишке пёс, за псом отец выходит, тоже голову поднимает. Неясные тени начинают ходить по облаку, цвета меняются, всё синеют, всё густеют — от молочного к синему. Кажется Никишке, напрягается облако, силится рубиновым огнём загореться, заполыхать вместо ушедшего солнца. Всё сильнее мерцают краски, всё больше света сверху льётся, но напрасны усилия: всё гаснет, и опять большие смутные тени передвигаются печально по световому мосту. Смотрит Никишка, смотрит отец и молчит, пёс смотрит и тоже молчит, молчит и лошадь, заснула возле берёзы, — всё молчит, одно море светлеет от небесного огня и шумит, шумит… Вот совсем гаснет свет. Идёт Никишка в тёплую избу, забирается на кровать с ногами, пёс у печки ложится, ставит отец уху на огонь и чайник ставит. Скоро Никишка спать ляжет, и приснятся ему необыкновенные сны. Обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес подойдёт, камни и горы, конь явится, пёс рыжий, чайки прилетят, сбегутся кулики на тонких ножках, сёмга из моря выйдет — все к Никишке сойдутся, смотреть на него станут и, бессловесные, будут ждать заветного слова Никиткиного, чтобы разом открыть ему все тайны немой своей души.Тихое утро
Ещё только-только прокричали сонные петухи, ещё темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка. Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху. Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были ещё видны, дальние едва проглядывали тёмными пятнами, а ещё дальше, к реке, уже ничего не было видно, и, казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте… Всё исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба. Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: один погромче, другой потише. Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге[43]. У риги он вытащил из-под доски ржавый косарь[44] и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка всё-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень[45] и задами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель — Володя. Яшка заложил в рот испачканные землёй пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо. — Володька! — позвал он. — Вставай! Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого, в волосы набилась сенная труха, она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он всё дергал тонкой шеей, поводил плечами и почёсывал спину. — А не рано? — сипло спросил он, зевнул и, покачнувшись, схватился рукой за лестницу. Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил… а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого… заморыша — хотел места рыбные ему показать, — и вот вместо благодарности и восхищения — «рано»! — Для кого рано, а для кого не рано! — зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног. Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена. — Ты что, в ботинках пойдёшь? — презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. — А галоши наденешь? Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок. — Ну да, — меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене, — у вас там, в Москве, небось босиком не ходют… — Ну и что? — Володя снизу посмотрел в широкое насмешливо-злое лицо Яшки. — Да ничего… Забежи домой — пальто возьми… — Ну и забегу! — сквозь зубы ответил Володя и ещё больше покраснел. Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом… На что уж Колька да Женька Воронковы рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыбалова во всём колхозе. Только отведи на место да покажи — яблоками засыплют! А этот… пришёл вчера, вежливый: «Пожалуйста, пожалуйста»… Дать ему по шее, что ли? Надо было связаться с этим москвичом, который, наверно, и рыбы в глаза не видал! Идёт на рыбалку в ботинках!.. — А ты галстук надень, — съязвил Яшка и хрипло засмеялся. — У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суёшься. Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая всё новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы… Будто скупой хозяин, он показывал всё это только на минуту и потом снова плотно смыкался сзади. Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и, чтобы хоть как-нибудь заглушить это неприятное чувство, он думал, ожесточаясь: «Ладно, пусть… Пускай издевается. Они меня ещё узнают, я не позволю им смеяться! Подумаешь, велика важность босиком идти! Воображалы какие!» Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал и Яшкиному загару, и той особенной походке, при которой шевелятся плечи и лопатки и даже уши и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком. Проходили мимо колодца со старым, поросшим зеленью срубом.
— Стой! — сказал хмуро Яшка. — Попьём! Он подошёл к колодцу, загремел цепью и, вытащив тяжёлую бадью с водой, жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил её с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их, но всё пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша. — На, пей! — сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы. Володе тоже не хотелось пить, но, чтобы ещё больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке. Ну, как водичка? — самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошёл от колодца. — Законная! — отозвался Володя и поёжился. — Небось в Москве такой нету? — ядовито прищурился Яшка. Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряюще улыбнулся. — Ты ловил ли рыбу-то? — спросил Яшка. — Нет… Только на Москве-реке видел, как ловят, — упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку. Это признание несколько смягчило Яшку, и он, пощупав банку с червями, сказал как бы между прочим: — Вчера наш завклубом в Плешанском бочаге сома видал… У Володи заблестели глаза: — Большой? — А ты думал! Метра два… А может, и все три — в темноте не разобрать. Наш завклубом аж перепугался, думал — крокодил. Не веришь? — Врёшь! — восторженно выдохнул Володя и подёрнул плечами; по его глазам видно, что верит он всему безусловно. Яшка изумился: — Я вру? Хочешь, айда вечером сегодня ловить! Ну? — А можно? — с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели. — А чего… — Яшка сплюнул, вытер нос рукавом. — Снасть у меня есть. Лягвы[46], вьюнов[47] наловим… Выползков[48] захватим — там голавли[49] ещё водятся — и на две зари! Ночью костёр запалим… Пойдёшь? Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга! Что это так странно звякнуло там, сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз за разом по натянутой тугой струне, ясно и мелодически прокричал в лугах? Где это было с ним? А может, и не было? Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья? Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл? Володя вопросительно посмотрел на Яшку. — Трактор! — ответил важно Яшка. — Трактор? Но почему же он трещит? — Это он заводится. Скоро заведётся… Слушай. Во-во… Слыхал? Загудел! Ну, теперь пойдёт… Это Федя Костылёв. Всю ночь пахал с фарами, чуток поспал и опять пошёл… Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил: — Туманы у вас всегда такие? — Не… Когда чисто, а когда — попоздней, к сентябрю поближе, — глядишь, и инеем вдарит. А вообще в туман рыба берёт — успевай таскать! — А какая у вас рыба? — Рыба-то? Рыба всякая… И караси на плёсах есть, щука, ну, потом эти… окунь, плотва, лещ… Ещё линь[50]. Знаешь линя? Как поросёнок. То-олстый! Я первый раз поймал — рот разинул. — А много можно поймать? — Гм!.. Всяко бывает. Другой раз кило пять, а другой раз так только… кошке. — Что это свистит? — Володя остановился, поднял голову. — Это? Это ути летят… Чирочки[51]. — Ага! Знаю… А это что? — Дрозды звенят. На рябину прилетели к тёте Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда? — Никогда не ловил. — У Мишки Каюнёнка сетка есть… Вот погоди, пойдём ловить. Они, дрозды-то, жаднющие. По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку полезут… Потешные они; не все, правда, но есть толковые… У меня один всю зиму жил, так по-всякому умел: и как паровоз, и как пила… Деревня скоро осталась позади. Бесконечно потянулся низкорослый овёс, впереди еле проглядывала тёмная полоса леса. — Долго ещё идти? — спрашивал Володя. — Скоро… Вот рядом. Пошли ходчее, — каждый раз отвечал Яшка. Вышли на бугор, свернули вправо, лощиной спустились вниз, прошли тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река. Она была небольшая, густо поросла ракитником, ветлой[52] по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими, мрачными омутами. Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело всё вокруг; ещё отчётливей стала видна седая роса на ёлках и кустах, а туман пришёл в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, тёмные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла. В омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга[53] тихонько покачивалась. Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шёл всё дальше берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шёпотом сказал: «Здесь!» — и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же, невидимые, закрякали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянулись над рекой, пропадая в тумане. Яшка съёжился и зашипел, как гусь. Володя облизнул пересохшие губы и спрыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной и тиной, вода была чёрная, вётлы в буйном росте почти закрыли всё небо, и, несмотря на то что верхушки их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь, у воды, было сыро, угрюмо и холодно. — Тут знаешь глубина какая? — Яшка округлил глаза. — Тут и дна нету… Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба. — В этом бочаге[54] у нас никто не купается… — Почему? — слабым голосом спросил Володя. — Засасывает… Как ноги опустил вниз, так всё… Вода — как лёд и вниз утягивает. Мишка Каюнёнок говорил — там осьминоги на дне лежат. — Осьминоги только… в море, — неуверенно сказал Володя и ещё отодвинулся. — «В море»!.. Сам знаю! А Мишка видал! Пошёл на рыбалку, идёт мимо, глядит — из воды щуп и вот по берегу шарит… Ну? Мишка аж до самой деревни бёг! Хотя, наверно, он врёт, я его знаю, — несколько неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки. Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его принимало напряжённо-страдальческое выражение. Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показал место, где ловить. Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилища, нетерпеливо уставился на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилищем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шёпотом, а когда перевёл взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только лёгкие расходящиеся круги. Яшка тотчас с силой подсек, плавно повёл рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине упруго заходила рыба, но напряжение лески вдруг ослабло, и из воды, чмокнув, выскочил пустой крючок. Яшка задрожал от ярости. — Ушла, а? Ушла… — пришепётывал он, надевая мокрыми руками нового червя на крючок. Снова забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилища, неотрывно смотрел на поплавок, ожидая поклёвки. Но поклёвки не было, и даже всплесков не стало слышно. Рука у Яшки скоро устала, и он осторожно воткнул удилище в мягкий берег. Володя посмотрел на Яшку и тоже воткнул своё удилище. Солнце, поднимаясь всё выше, заглянуло наконец и в этот мрачный омут. Вода сразу ослепительно засверкала, и загорелись капли росы на листьях, на траве и на цветах. Володя, жмурясь, посмотрел на свой поплавок, потом оглянулся и неуверенно спросил: — А что, может рыба в другой бочаг уйти? — Ясное дело! — злобно ответил Яшка. — Та сорвалась и всех распугала. А здоровая, верно, была… Я как дёрнул, так у меня руку сразу вниз потащило! Может, на кило потянуло бы. Яшке немного стыдно было, что он упустил рыбу, но, как часто бывает, вину свою он склонен был приписать Володе. «Тоже мне рыбак! — думал он. — Сидит раскорякой… Один ловишь или с настоящим рыбаком — только успевай таскать…» Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но вдруг схватился за удочку: поплавок чуть шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с корнем вырывая, он медленно вытащил удочку из земли и, держа её на весу, чуть приподнял вверх. Поплавок снова качнулся, лёг набок, чуть подержался в таком положении и опять выпрямился. Яшка перевёл дыхание, скосил глаза и увидел, как Володя, побледнев, медленно приподнимается. Яшке стало жарко, пот мелкими капельками выступил у него на носу и верхней губе. Поплавок опять вздрогнул, пошёл в сторону, погрузился наполовину и наконец исчез, оставив после себя едва заметный завиток воды. Яшка, как и в прошлый раз, мягко подсек и сразу подался вперёд, стараясь выпрямить удилище. Леска с дрожащим на ней поплавком вычертила кривую, Яшка привстал, перехватил удочку другой рукой и, чувствуя сильные и частые рывки, опять плавно повёл руками вправо. Володя подскочил к Яшке и, блестя отчаянными круглыми глазами, закричал тонким голосом:

— Давай, давай, дава-ай!.. — Уйди! — просипел Яшка, пятясь, часто переступая ногами. На мгновение рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холодную глубину. Но Яшка, уперев комель удилища в живот, всё пятился и кричал: — Врёшь, не уйдё-ошь!.. Наконец он подвёл упирающуюся рыбу к берегу, рывком выбросил её на траву и сейчас же упал на неё животом. У Володи пересохло горло, сердце неистово колотилось… — Что у тебя? — присев на корточки, спрашивал он. — Покажи, что у тебя? — Ле-ещ! — с упоением выговорил Яшка. Он осторожно вытащил из-под живота большого холодного леща, повернул к Володе своё счастливое широкое лицо, сипло засмеялся было, но улыбка его внезапно пропала, глаза испуганно уставились на что-то за спиной Володи, он съёжился, ахнул: — Удочка-то… Глянь-ка! Володя обернулся и увидел, что его удочка, отвалив ком земли, медленно сползает в воду и что-то сильно дёргает леску. Он вскочил, споткнулся и, на коленях подтянувшись к удочке, успел схватить её. Удилище сильно согнулось, Володя повернул к Яшке круглое бледное лицо… — Держи! — крикнул Яшка. Но в этот момент земля под ногами у Володи зашевелилась, подалась, он потерял равновесие, выпустил удочку, нелепо, будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко крикнул: «Ааа!..» — и упал в воду. — Дурак! — сипло закричал Яшка, злобно и страдальчески искривив лицо. — Недотёпа чёртова!.. Рыбу распуга-ал… Он вскочил, схватил ком земли с травой, готовясь швырнуть в лицо Володе, как только он вынырнет. Но, взглянув в воду, он замер, и у него появилось то томительное чувство, которое испытываешь во сне, когда вялое тело не подчиняется сознанию: Володя в трёх метрах от берега бил, шлёпал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлёбывался и, окунаясь в воду, всё силился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало и получалось: «Уаа… Уа…» «Тонет! — с ужасом подумал Яшка. — Утягивает!» Бросил комок земли, которым хотел ударить Володю, и, вытирая липкую руку о штаны, не отрывая глаз от него и чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. На ум ему сразу пришёл рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага, в груди и животе стало холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил осьминог… Земля сыпалась у него из-под ног, он упирался трясущимися руками и, совсем как во сне, неповоротливо и тяжело лез вверх. Наконец, подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, Яшка выскочил на луг и кинулся к деревне, но, не пробежав и десяти шагов, остановился, будто споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя. Поблизости не было никого, и некому было крикнуть о помощи… Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бечёвки и, не найдя ничего, бледный, стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное и в то же время надеясь, что всё как-то обошлось, и опять увидел Володю. Володя теперь уже не бился, он почти весь скрылся под водой, только макушка с торчащими волосами была ещё видна… Она скрывалась и опять показывалась, скрывалась и показывалась… Яшка, не отрывая взгляда от этой макушки, начал расстёгивать штаны, потом вскрикнул и скатился вниз. Высвободившись из штанов, он, как был, в рубашке и с сумкой через плечо, прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку. Володя сразу же вцепился в Яшку, быстро-быстро стал перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, наваливаться на него, по-прежнему выдавливая из себя нечеловеческие, страшные звуки: «Уаа… Уааа…» Вода хлынула Яшке в рот. Чувствуя у себя на шее мёртвую хватку, он попытался выставить из воды своё лицо, но Володя, дрожа мелкой дрожью, всё карабкался на него, наваливался всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, глотая воду, и тогда дикий, небывалый ужас охватил его, в глазах с ослепительной силой вспыхнули красные и жёлтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть, дёрнулся из последних сил, забарахтался, закричал так же нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад, ударил Володю ногой в живот, вынырнул и сквозь бегущую с волос воду увидел яркий сплющенный шар солнца. Чувствуя ещё на себе тяжесть Володи, он оторвал, сбросил его с себя, замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены, в ужасе бросился к берегу. И только ухватившись рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на её поверхности. Из глубины весело выскочило несколько пузырьков воздуха, и у Яшки застучали зубы. Он оглянулся: ярко светило солнце, и листья кустов и ветлы блестели, радужно светилась паутина между цветами, и трясогузка сидела вверху, на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку, и всё было так же, как и всегда, всё дышало покоем и тишиной, и стояло над землёй тихое утро, а между тем вот только сейчас, совсем недавно, случилось небывалое — только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его… Яшка моргнул, отпустил осоку, повёл плечами под мокрой рубашкой, глубоко с перерывами вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не мог сначала ничего разобрать: кругом дрожали неясные желтоватые и зеленоватые блики и какие-то травы, освещённые солнцем. Но свет солнца не проникал туда, в глубину… Яшка опустился ещё ниже, проплыл немного, задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на боку, одна нога его запуталась в траве, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется и нарочно покачивает рукой, чтоон следит за ним, чтобы схватить, как только он дотронется до него. Чувствуя, что сейчас задохнётся, Яшка рванулся к Володе, схватил его за руку, зажмурился, торопливо дёрнул тело Володи вверх и удивился, как легко и послушно Володя последовал за ним. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему ничего не нужно и неважно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь раз за разом наполняется удивительно чистым и сладким воздухом. Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело. Почувствовав дно под ногами, Яшка положил Володю грудью на берег, лицом в траву, тяжело вылез сам и вытащил Володю. Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мёртвое, неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным… Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был всё такой же белый и холодный. «Помер?» — с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страшно. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица! Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватило сил, вверх и, побагровев от натуги, начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалялись от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, окончательно обессилев и упав духом, хотел бросить всё и бежать куда глаза глядят, — в этот самый момент изо рта Володи хлынула вода, он застонал, и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл глаза и сел на землю. Володя опёрся слабыми руками, привстал, точно собираясь немедленно куда-то бежать, но снова повалился, снова зашёлся судорожным кашлем, брызгаясь водой и корчась на сырой траве. Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая, влюбленная улыбка светилась в глазах Яшки, с нежностью смотрел он на Володю и бессмысленно спрашивал: — Ну как? А? Ну как?.. Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и незнакомым, хриплым голосом с заметным усилием, заикаясь, выговорил: — Как я… то-нул… Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слёзы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слёз. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что всё хорошо кончилось, что Мишка Каюнёнок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет… Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся, с испугом и недоумением смотрел он на Яшку. — Ты… что? — выдавил он из себя. — Да-а… — выговорил Яшка, что есть силы стараясь не плакать и вытирая глаза штанами, — ты уто-о… утопать… а мне тебя спа-а… спаса-а-ать… И он заревел ещё отчаянней и громче. Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, сердце его дрогнуло, он всё вспомнил… — Ка… как я тону-ул!.. — будто удивляясь, сказал он и тоже заплакал, дёргая худыми плечами, беспомощно опустив голову и отворачиваясь от своего спасителя. Вода в омуте давно успокоилась, рыба с Володиной удочки сорвалась, удочка прибилась к берегу… Светило солнце, пылали кусты, обрызганные росой, и только вода в омуте оставалась всё такой же чёрной. Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его тёплых струях. Издали, с полей, с другой стороны реки, вместе с порывами тёплого ветра летели запахи сена и сладкого клевера. Запахи эти, смешиваясь с более дальними, но острыми запахами леса, и этот лёгкий тёплый ветер были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлому дню.
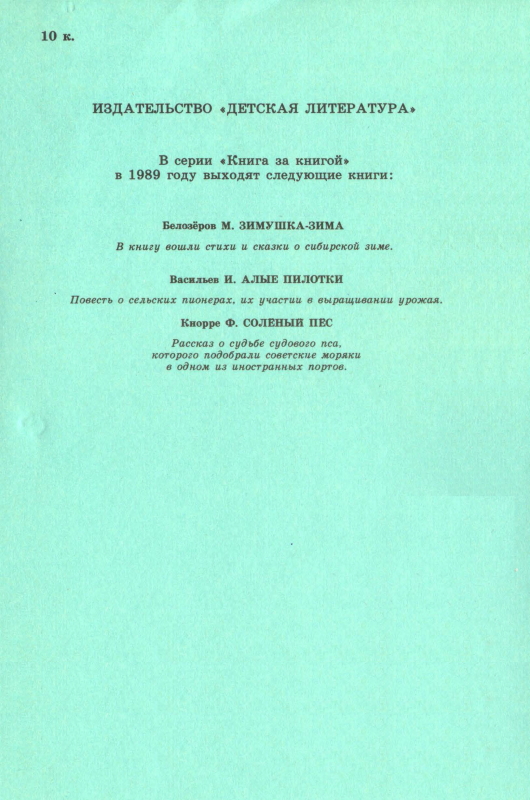
Примечания
1
Фистула — отверстие в теле, здесь: высокий мужской голос, фальцет. (прим. от OMu4'а) (обратно)2
Верста — русская единица измерения расстояния, равная 1066,8 метра. (прим. от OMu4'а) (обратно)3
Запань — заводь, речной залив. (обратно)4
Уключина (оключина) — элемент лодки для подвижного крепления весла к борту. (прим. от OMu4'а) (обратно)5
Палевый - бледно-желтый с розоватым оттенком. (прим. от OMu4'а) (обратно)6
Мелочь - здесь: кусты на границе леса и луга. (прим. от OMu4'а) (обратно)7
Топография - здесь: местность. (прим. от OMu4'а) (обратно)8
Порскать - здесь: издавать фыркающие, прерывистые звуки. (обратно)9
Пазанки — часть ноги животного между коленом и лапой. (прим. от OMu4'а) (обратно)10
Стать (животного) – отдельная наружная часть тела. (прим. от OMu4'а) (обратно)11
Заревил — заревел (поморск.). (обратно)12
Покров — здесь: выпадение снега, что помогает охотнику по следу выслеживать зверя. (прим. от OMu4'а) (обратно)13
Фальцет — самый высокий мужской голос. (прим. от OMu4'а) (обратно)14
Тяга — токовище (место сбора) вальдшнепов-самцов, чем и пользуются охотники. (прим. от OMu4'а) (обратно)15
Вальдшнеп — вид птиц семейства бекасовых (фото), объект охоты. (прим. от OMu4'а)
(обратно)
16
Пестерь - корзина, кузов. (прим. от OMu4'а) (обратно)17
Тоня — место на реке или водоёме, на котором производится лов рыбы неводом или другими рыболовными снастями. (прим. от OMu4'а) (обратно)18
Мотобот - небольшое судно с мотором. (обратно)19
«Зуйки» — так называют у поморов ребят, помогающих взрослым рыбакам. (обратно)20
Поветь - помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения сена, хозяйственного инвентаря и т. п. (прим. от OMu4'а) (обратно)21
Киса — сумка из тюленьей кожи. (обратно)22
Заблукать - заблудиться. (обратно)23
Бурун — пенистая масса воды на гребне волны. (прим. от OMu4'а) (обратно)24
Кулики — водные и околоводные птицы (фото). (прим. от OMu4'а)
(обратно)
25
Рябок - птица, напоминающая внешним видом голубя и обитающая в степях, полупустынях и пустынях (фото). (прим. от OMu4'а)
(обратно)
26
Долой - (разг.) прочь, вон, здесь: с (предлог). (прим. от OMu4'а) (обратно)27
Чудится - здесь: кажется. (прим. от OMu4'а) (обратно)28
Вешала - столбы или жерди с поперечными перекладинами, предназначенные для развешивания и сушки чего-либо (снопов, сетей, рыбы и др.). (прим. от OMu4'а) (обратно)29
Карбас — парусно-гребное промысловое и транспортное судно среднего размера, одно из основных у поморов. (прим. от OMu4'а) (обратно)30
Дора (мотодора) — моторный карбас. (обратно)31
Сёмга — исконно русское название благородного лосося (фото). (прим. от OMu4'а)
(обратно)
32
Корма — задняя часть корпуса лодки. (прим. от OMu4'а) (обратно)33
Йода - здесь: прибрежное мелководье. (прим. от OMu4'а) (обратно)34
Корга — песчаная коса, намытая водой, не заливаемая приливом (поморск.). (обратно)35
Порато — очень (поморск.). (обратно)36
Рюжа (рюза) — рыболовная снасть для ловли сигов и другой мелкой рыбы. (прим. от OMu4'а) (обратно)37
Треска — вид лучепёрых рыб семейства тресковых (фото). (прим. от OMu4'а)
(обратно)
38
Рявша (ревяк) - (поморск.) бычок (фото). (прим. от OMu4'а)
(обратно)
39
Навага – небольшая пятнистая рыба оливкового цвета (фото). (прим. от OMu4'а)
(обратно)
40
Обедник — теплый и сухой дневной юго-восточный ветер на Кольском полуострове и в Заволжье. (прим. от OMu4'а) (обратно)41
Бережает — приближается к берегу (поморск.). (обратно)42
Ясень - здесь: ясная тихая погода. (прим. от OMu4'а) (обратно)43
Рига - постройка для сушки снопов с местом для обмолота. (прим. от OMu4'а) (обратно)44
Косарь — большой русский хозяйственный нож с широким и иногда толстым клинком, используемый для различных хозяйственных работ, в том числе и при вырубке мелкого леса. (прим. от OMu4'а) (обратно)45
Плетень - изгородь из сплетённых прутьев, ветвей. (прим. от OMu4'а) (обратно)46
Лягва, то же, что: лягушка. (прим. от OMu4'а) (обратно)47
Вьюн - пресноводная небольшая, очень подвижная рыбка, родственная карпу, с вытянутым червеобразным телом и мелкой чешуей (фото). (прим. от OMu4'а)
(обратно)
48
Выползком называют крупного земляного червя размером до 30 сантиметров. (прим. от OMu4'а) (обратно)49
Голавль — широко распространенная рыба средних размеров из семейства карповых. Характерным признаком голавля является его крупная, приплюснутая сверху, с широким и плоским лбом голова, за которую он и получил свое название (фото). (прим. от OMu4'а)
(обратно)
50
Линь – малоподвижная донная рыба. Водится во многих реках, озёрах, предпочитая травянистые участки с илистым дном (фото). (прим. от OMu4'а)
(обратно)
51
Чирок – маленькая утка (фото). (прим. от OMu4'а)
(обратно)

Последние комментарии
15 часов 1 минута назад
23 часов 52 минут назад
23 часов 55 минут назад
3 дней 6 часов назад
3 дней 10 часов назад
3 дней 12 часов назад